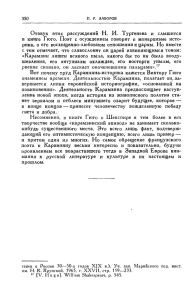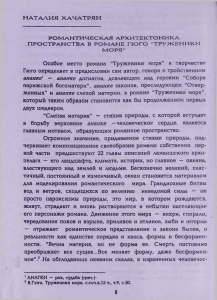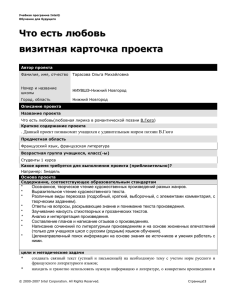С.Брахман о романе "Собор Парижской богоматери" Виктора
реклама

С.Брахман о романе "Собор Парижской богоматери" Виктора Гюго Роман “Собор Парижской богоматери”, принадлежащий перу великого французского писателя Виктора Гюго (1802—1885), вот уже более полутора веков с увлечением читается во всех концах земли. Яркие картины жизни далекого прошлого, захватывающая фабула, драматические судьбы героев, а главное, гуманизм, страстная защита человека от зла и несправедливости, приближающая книгу к нашим дням,—все это делает неувядаемым шедевр Гюго, созданный им в молодые годы. Именно на этом романе и на знаменитом романе “Отверженные” основывается мировая слава Гюго. Виктор Гюго был необычайно плодовитым писателем: его поэтические произведения, снискавшие ему имя первого поэта Франции, едва умещаются в двух десятках томов; его драматургия составила этап в развитии французского театра; романы пользовались необычайной популярностью; блестящая публицистика, речи и памфлеты сыграли видную роль в борьбе против политической реакции его времени. Свою музу, всю свою долгую жизнь Гюго посвятил общественному служению, он был поборником демократии, проповедником добра и справедливости, защитником обездоленных, обличителем угнетения и насилия; он создал художественные ценности, которые делают его творчество одной из вершин в духовном развитии человечества. Жизнь Виктора Гюго охватила почти целый век. Он родился, когда еще не догорело зарево Великой французской революции и только укреплялся новый, капиталистический общественный уклад, и дожил до того исторического периода, когда буржуазное общество пошло под уклон и в нем все явственнее начали проступать черты кризиса и упадка. Творчество Гюго, которое он сам назвал “звонким эхом своего времени”, откликнулось на важнейшие проблемы бурного XIX века, отразило его конфликты и идеалы, иллюзии и надежды. Писатель был свидетелем частой смены политических у кладов, побед и поражений народных масс Франции в борьбе за республику, за свои социальные права; освободительной борьбы других народов против реакционных правлений и иноземных угнетателей; первых рабочих восстаний 1830-х годов и первой попытки утвердить власть пролетариата в дни Парижской коммуны 1871 года; он видел борьбу американских негров против расового угнетения и сопротивление колониальных народов первым агрессивным войнам, предпринятым империалистическими державами. И всегда он был на стороне демократии против реакции, на стороне народов против их тиранов. Сын наполеоновского генерала и убежденной сторонницы свергнутых революцией “законных” королей, Гюго пятнадцатилетним подростком выступил в литературе с монархическими одами в традиционном стиле классицизма, написанными под влиянием матери и обратившими на юного стихотворца благосклонное внимание властей (собраны в книге “Оды”, 1822). То были годы реставрации во Франции дворянской монархии Бурбонов, годы все растущей освободительной борьбы народов Европы против реакционного Священного союза. В этот период Гюго стремительно мужал, освобождаясь от монархических иллюзий, и накануне революции 1830 года пришел к решительному протесту против режима Реставрации и к демократическим идеям. Эволюция политических воззрений Гюго была тесно связана с развитием его эстетических взглядов. Молодой поэт разочаровался в искусстве классицизма, в то время уже эпигонского и официозного, и стал сторонником, а вскоре признанным вождем и пророком “лохматого и бородатого племени” — нового поколения французских романтиков. Уже как прославленный поэт и теоретик нового искусства встретил он восторженным гимном “три славных дня июля”, а в годы Июльской монархии в драматургии, стихах и прозе встал на защиту социально угнетенных. Яркой страницей в жизни Гюго стала революция 1848 года, в которой он принимал участие как депутат Учредительного, затем Законодательного собрания, левый республиканец, а в особенности в дни бонапартистского государственного переворота 1851 года, когда политический авантюрист Луи Бонапарт при попустительстве буржуазии, напуганной пролетарским восстанием июня 1848 года, удушил республику и объявил себя императором Франции под именем Наполеона III. Если Виктор Гюго не понял исторического значения июньских дней, сочтя выступление рабочих против буржуазно-республиканского правительства “заблуждением”, то теперь он яростно ринулся на защиту демократии. “2 декабря 1851 года он встал во весь рост,—писал о Гюго А.И.Герцен в “Былом и думах”,—он в виду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию; под пулями он протестовал против coup d'etat [государственного переворота.—С. Б.] и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать”. Преследуемый правительством Наполеона III, Гюго покинул родину и девятнадцать лет провел в изгнании, ни на день не прекращая борьбы своим пламенным пером против ненавистного узурпатора. По всей Европе прогремел его памфлет “Наполеон Малый” (1852), с уважением отмеченный Карлом Марксом; огромное впечатление на современников произвела сатирическая поэма “Возмездие” (1853), нелегально ввозившаяся во Францию, где Гюго заклеймил Луи Бонапарта и его клику. По воспоминанию Н.К.Крупской, В.И.Ленин ощущал в этой поэме “веяние революции”. С затерянного в море острова Гернсей, одного из островов Ламаншского архипелага, Гюго откликался на все освободительные движения мира; он был инициатором и председателем первых антивоенных конгрессов в Европе; переписывался с десятками выдающихся политических деятелей, от Герцена до Гарибальди. В изгнании были написаны романы Гюго “Отверженные” (1862), “Труженики моря” (1866), “Человек который смеется” (1869), была создана его наиболее совершенная лирика и грандиозный лиро-эпический цикл “Легенда веков”, составивший впоследствии три книги (1859— 1883). Отвергнув амнистию, предложенную Наполеоном III, Гюго с достоинством заявил: “Я вернусь, когда вернется свобода”,—и сдержал слово: на родную землю он ступил лишь глубоким стариком, в 1870 году, после падения II Империи, в тяжкий для Франции час испытаний, которые он пожелал разделить со своим народом. Провал военной авантюры Наполеона III, нашествие прусских войск, осада Парижа, голод, народный патриотизм и предательство буржуазных политиков, героическая эпопея Парижской коммуны—все это прошло на глазах у Гюго и вылилось в пламенные стихи цикла “Грозный год” (1870— 1871), своеобразного поэтического дневника событий, где Гюго прославил защитников Парижа, воспел героизм коммунаров и заклеймил версальских палачей. Уроками Коммуны был вызван к жизни и последний роман Гюго “Девяносто третий год” (1874), в котором на материале революционного прошлого Франции писатель пытался разрешить животрепещущие проблемы современной народной борьбы. После падения Коммуны Гюго целых десять лет мужественно боролся за амнистию ее участникам. Последние годы жизни Гюго провел окруженный славой, хотя и в стороне от литературной борьбы во Франции,—она шла вокруг иных художественных направлений, чем романтизм, которому Гюго оста- i вался верен до конца дней. Его 80-летний юбилей праздновался с большой пышностью. Скончался писатель 22 мая 1885 года; в этот день был объявлен национальный траур. Ветераны Коммуны возложили на его гроб венок; в похоронной процессии участвовало около миллиона человек. Гюго был похоронен в Пантеоне, усыпальнице великих людей Франции. Гюго вошел в историю литературы как крупнейшая фигура французского романтизма. Романтизм как направление в искусстве был порожден грандиозной исторической ломкой на рубеже XVIII и XIX веков и вылился в особое мироощущение, охватившее многие страны Европы. Французские романтики выразили острое разочарование в результатах Великой французской революции, обманувшей надежды просветителей XVIII века, так много сделавших для ее подготовки,—ведь вместо вожделенного царства свободы и разума установилось царство буржуазии. Романтики решительно отвергли - новый общественный порядок. Они выдвинули своего, “романтического героя”—исключительную, духовно богатую личность, которая чувствовала "себя одинокой и неприкаянной в возникающем буржуазном мире, меркантильном и враждебном человеку. Романтические герои то в отчаянии отворачивались от реальности, то бунтовали против нее, мучительно ощущая разрыв между идеалом и действительностью, бессильные изменить окружающую жизнь, но предпочитающие погибнуть, чем с ней примириться. Жизнь буржуазного общества казалась романтикам настолько пошлой и прозаичной, что они иногда вообще отказывались изображать ее и расцвечивали мир своей фантазией; только реализм начал исследовать реальную действительность и обнаружил в ней глубокий драматизм. Прежде всего это проявилось в творчестве Бальзака. Наряду с усиленным вниманием к личности характерной чертой романтизма было чувство движения истории и причастности к ней человека. Ощущение неустойчивостиизменчивости мира, сложности и противоречивости человеческой души определило драматическое, порою и трагическое восприятие жизни романтиками. Исторические потрясения всеевропейского масштаба, произошедшие на глазах одного поколения, естественно приковывали внимание французских романтиков к истории и наталкивали на исторические обобщения и сопоставления с современностью. В прошлом искали ключ к сегодняшнему дню. Неудивительно, что молодые романтики, выступившие в период Реставрации, в том числе Виктор Гюго, питали пристрастие к исторической теме. В эти годы происходит бурный расцвет всех исторических жанров. Появляется больше сотни исторических романов, одна за другой создаются исторические драмы, образы прошлого и размышления на исторические темы проникают в поэзию, в живопись “Смерть Сарданапала”, 1827 — картина крупнейшего художника французского романтизма Эжена Делакруа), в музыку (оперы Россини и Мейербера, работавших в Париже); выступает ряд ученых историков (О.Тьерри, Ф. Гизо и др.), которые выдвигают в своих трудах идею исторической закономерности, непрерывного развития человеческого общества;историю они понимали как состояние борьбы и уже пришли к понятию общественных классов. Историки времен Реставрации были одновременно и теоретиками литературы и приняли участие в выработке романтической эстетики. Решающее влияние на историческую мысль во Франции оказало творчество Вальтера Скотта, которое стало известно здесь с 1816 года. Уже в 1823 году юноша Гюго публикует восторженную статью о только что вышедшем романе Вальтера Скотта “Квентин Дорвард”. Главное открытие английского романиста состояло в том, что он впервые в литературе показал связь характера и судьбы человека с народом, к которому он принадлежит, с эпохой, в которую он живет, то есть установил зависимость человека от породившей его и окружающей социально-исторической среды. Поэтому В. Г. Белинский называет Вальтера Скотта “отцом исторического романа”. По словам Белинского, “Вальтер Скотт своими романами решил задачу связи исторической жизни общества с частною” . Это оказалось чрезвычайно плодотворно для французской литературы, так как открывало ей путь сочетания художественного вымысла с правдой истории. В центре исторических произведений французских романтиков стоят обычно, как и у Вальтера Скотта, рядом с историческими лицами вымышленные персонажи, на которых сосредоточен главный интерес, наряду с подлинными историческими событиями изображаются происшествия частной жизни героев, которая, однако, всегда связана с общенациональной жизнью. Так обстоит дело в первом значительном историческом романе французского романтизма “Сен-Мар” (1826) Альфреда де Виньи, где юный герой, добиваясь руки любимой женщины, ввязывается в заговор аристократов против всемогущего герцога-кардинала Ришелье и гибнет на плахе, преданный и королем Людовиком XIII и своей возлюбленной; и в “Хронике времен Карла IX” Проспера Мериме (1829), где судьба героев неотделима от религиозных распрей во Франции XVI века; и в “Шуанах” молодого Бальзака, и в историко-приключенческих романах А. Дюма, и в романтических драмах В. Гюго, А. Дюма и в произведениях других авторов эпохи романтизма. От Вальтера Скотта восприняли французские романтики понятие “эпохи” как некоего социально-политического и культурного единства, решающего определенную историческую задачу и обладающую своим “местным колоритом”, который выражается в нравах, особенностях быта, орудий труда, одежде, обычаях и жизненных представлениях. В статье о “Квентине Дорварде” юный Гюго восхищается тем, что английский романист, “рисуя лики столетий”, “не покрывает... людей минувших времен нашим лаком, не гримирует их нашими румянами”, а изображает их “со всеми страстями, пороками и преступлениями”, ибо “для воображения нашего предрассудки дедов... так же любопытны, как их крепкие латы и пышные султаны на шлемах”. В “местном колорите” прошлых эпох, так же как в странах излюбленного романтизмом Востока, Италии, Испании, нашло себе богатую пищу тяготение романтиков к экзотике и живописности, ярким страстям и необычным характерам, по которым они тосковали в обстановке буржуазной повседневности. Пластическое воскрешение прошлого, воссоздание “местного колорита” стало характернейшей чертой французского исторического романа 1820-х годов и возникшей в середине этого десятилетия романтической драмы. В исторических сочинениях романтиков эпоха представала не в статике, а в движении и борьбе, они стремились разобраться в существе исторических конфликтов— причинах этого движения. Недавние бурные события революции и последующих лет делали для них особенно внятным, что активной силой истории являются народные массы; история в их понимании и есть жизнь народа, а не отдельных выдающихся деятелей. Народные персонажи, массовые народные сцены имеются почти в каждом историческом романе, а в драмах присутствие народа, хотя бы и за кулисами, нередко определяет развязку (как в драме Гюго “Мария Тюдор”, 1833), хотя каждый автор толковал историю в зависимости от своих политических симпатий. Разрыв юного Гюго с официальной литературой классицизма ознаменовался романтическими балладами (“Оды и баллады”, 1826), которые поразили первых читателей своей новизной и оригинальностью. Здесь вовсю буйствует “местный колорит”, возникают пестрые и красочные картины средневековья—феодальные замки, пограничные башни, рыцарские турниры, дамы, трубадуры, в баллады вплетаются мотивы народных сказок и преданий,—словом, встает та эпоха, которую Гюго через несколько лет с таким блеском воссоздаст в “Соборе Парижской богоматери”. Отказавшись от традиционного стиха и строгой лексики классицистской поэзии, молодой поэт использует вольные размеры и ритмы, ошеломляюще дерзкие рифмы, разговорные интонации, вызывающе свободный словарь. Он как бы воскрешает в балладах национальную поэтическую традицию средних веков и Возрождения, на целых два столетия прерванную во Франции безраздельным господством классицизма, знавшего только одну эпоху и один идеал красоты—греческую и римскую античность. Но не только живописность и любовь к национальной культуре отличают раннюю лирику Гюго; в “Одах и балладах” .голосу поэта постоянно аккомпанирует гул движущейся истории. Он ощущает “марш нескончаемый народов и племен”, “зим, весен, осеней и лет живую связь”. Идея исторического развития легла также в основу программного предисловия Гюго к драме “Кромвель” (1827). Поскольку твердыней классицизма во Франции начиная с XVII века была театральная сцена, главный бой романтики дали именно здесь. Победу им принесла постановка в феврале 1830 года в театре “Комеди Франсез” драмы Гюго “Эрнани”, премьера которой вылилась в настоящее сражение между новой и старой школами. Но уже в “Предисловии к “Кромвелю”, значение которого выходит далеко за пределы театра, дается фактически широкое теоретическое обоснование романтического искусства. Как ни прекрасно искусство античной древности, новая литература не может ограничиться подражанием ему—вот одна из главных мыслей “Предисловия”. Искусство меняется и развивается вместе с развитием человечества, и так как оно отражает жизнь, то каждой эпохе соответствует свое искусство. Прошлым эпохам соответствовали библейские легенды и античный эпос, новая эпоха породила драму; вершиной искусства нового времени Гюго объявляет творчество Шекспира, разумея под словом “драма” не только театральный жанр, но и вообще искусство, отражающее драматический характер эпохи. В “Предисловии” Гюго отвергает характерное для классицизма деление героев на “благородных” и “неблагородных”, жанры и сюжеты на “высокие” и “низкие”; он требует расширить границы искусства, свободно сочетать в нем возвышенно-прекрасное и низменно-безобразное (“гротескное”), как это происходит в самой жизни. Наконец, он ратует за соблюдение в искусстве исторического правдоподобия (“местного колорита”). Все эти положения легли в основу исторических драм Гюго, а также созданного одновременно с ними “Собора Парижской богоматери”, который стал вершиной французского исторического романа эпохи романтизма. Как истый романтик, Гюго до конца дней не потерял интереса к истории. Знаменательно, что три из пяти его больших романов являются историческими, и даже “Отверженные”, где открыто поставлены кричащие социальные проблемы современности, полны исторических отступлений, раздумий о смысле истории, судьбах человечества, отношениях между народом и правителями; исторические "образы и размышления пронизывают лирику Гюго, даже самую злободневную, а в “Легенде веков” перед читателем проходит, облеченная в форму романтических легенд, притч и мифов, вся история человечества. Романтическое чувство историзма и противоречие между идеалом и действительностью своеобразно преломилось в миропонимании и творчестве Гюго. Жизнь видится ему полной конфликтов и диссонансов, потому что в ней идет постоянная борьба двух вечных нравственных начал—Добра и Зла. И передать эту борьбу призваны кричащие “антитезы” (контрасты)—главный художественный принцип писателя, провозглашенный еще в “Предисловии к “Кромвелю”,—в которых противопоставляются образы прекрасного и безобразного, рисует ли . он картины природы, душу человека или жизнь человечества. В истории бушует стихия Зла, “гротеска”, через все творчество Гюго проходят образы крушения цивилизаций, борьбы народов против кровавых деспотов, картины страданий, бедствий и несправедливости. И все же с годами Гюго все более укреплялся в понимании истории как неукоснительного движения от Зла к Добру, от мрака к свету, от рабства и насилия к справедливости и свободе. Этот исторический оптимизм в отличие от большинства романтикой Гюго унаследовал от просветителей XVIII века, а позднее к их урокам прибавилось влияние утопического социализма и уроки народной борьбы. Гюго имел весьма туманное представление о реальных факторах исторического развития, и его общественные идеалы навсегда остались романтически расплывчатыми. Общество своего времени он делил не по классовому, а по моральному признаку—на добрых и злых; но искренний демократизм писателя привел к тому, что грань между злыми и добрыми совпадает у него с границей, отделяющей верхи общества от низов, богатых от бедных. “Народ” для него— носитель нравственного идеала, Добра, а эксплуататорские классы—носители Зла. Для зрелого Гюго смысл истории заключается в нравственном прогрессе или, пользуясь его романтической терминологией, в постепенном переходе от гротеска к возвышенному, в преодолении Зла и конечной победе Добра. Ход истории создает как бы фон действия во всех произведениях Гюго, любой, мельчайший факт, любой образ существует в соотнесении с ней, и это придает творениям Гюго зрелого периода эпическое величие. Такое миропонимание делало неразрывным в глазах писателя прошлое, настоящее и будущее: его исторические произведения оказывались по своим идеям жгуче актуальными. Это относится и к “Собору Парижской богоматери”. Роман был задуман в конце 1820-х годов. Возможно, что толчком к замыслу был роман Вальтера Скотта “Квентин Дорвард”, где действие происходит во Франции в ту же эпоху, что и в будущем “Соборе”. Однако молодой автор подошел к своей задаче иначе, чем его знаменитый современник. Еще в статье 1823 года Гюго писал, что “после живописного, но прозаического романа Вальтера Скотта предстоит создать еще другой роман, который будет одновременно и драмой и эпопеей, живописным, но также и поэтическим, наполненным реальностью, но вместе с тем идеальным, правдивым, но, кроме того, возвышенным, как бы включит Вальтера Скотта и Гомера”. Именно это и пытался осуществить автор “Собора Парижской богоматери”. Прежде чем взяться за перо, Гюго” провел тщательную работу над историческими источниками. Он изучал и использовал в романе научные исследования, труды историков средневековой архитектуры, хроники XV века, архивные материалы. Стремясь достигнуть впечатления достоверности, он на страницах романа то и дело ссылается на средневековых авторов, на свидетельства очевидцев событий, даже приводит латинские цитаты; он не забывает сразу же уведомить читателя, что действие романа начинается 6 января 1482 года, высчитывает возраст вымышленных героев, постоянно упоминает о политических событиях того времени и в авторской речи и в разговорах персонажей. Даже имена действующих лиц, от главных героев до проходных фигур, выбраны на основании исторических источников. Прекрасное знание эпохи позволило юному Гюго еще в 1823 году почтительно указать Вальтеру Скотту на несколько ошибок в исторических деталях в его романе. В 1828 году создается план-сценарий “Собора Парижской богоматери”, в котором намечены образы цыганки Эсмеральды, влюбленных в нее поэта Гренгуара и священника Клода Фролло. Поэт спасал Эсмеральду, брошенную в железную клетку по приказу короля, и шел вместо нее на виселицу, но священник, разыскав бежавшую девушку в цыганском таборе, отдавал ее в руки палачей. О капитане Фебе де Шатопер впервые упоминается лишь в заметках на полях этого плана в начале 1830 года. Первоначальный план романа создавался в то же время, что и драма “Марион Делорм” (1829), запрещенная цензурой Реставрации, где тоже священник, кардинал Ришелье, губит безродных молодых героев, а также повесть “Последний день приговоренного к смерти” (1828), открывшая собою долголетнюю борьбу Гюго против смертной казни. В окончательном виде роман усложнился, появились новые ответвления сюжета, новые персонажи и эпизоды, изменившие его звучание. К написанию романа Гюго приступил, как свидетельствуют его записи, 25 июля 1830 года. Через два дня, 27 июля, во Франции началась революция. В результате героических боев парижского народа пала монархия Бурбонов; плодами народной победы воспользовалась финансовая буржуазия, навязавшая стране новую, буржуазную монархию Луи-Филиппа Орлеанского. Народные волнения не прекращались в течение всей осени и зимы. В тревожные дни холерных бунтов и разгрома народом Парижа епископского дворца и церкви Сен-Жермен 16 марта 1831 года выходит в свет “Собор Парижской богоматери”. Накаленная общественная атмосфера, бурные политические события определили характер романа, который, как и драмы Гюго, оставаясь историческим по форме, наполнился глубоко современными идеями. Французское средневековье воссоздано в романе с поразительной силой воображения. Париж конца XV века, увиденный днем и ночью, то с набережной Сены, то с высоты птичьего полета,—высокие готические кровли, колокольни, башенки и шпили бесчисленных церквей, мрачные королевские замки, тесные улочки и просторные площади, где шумит народная вольница во время празднеств, бунтов и казней” Колоритные фигуры людей из всех слоев средневекового города: сеньоры и купцы, монахи и школяры, знатные дамы в конусообразных головных уборах и разряженные горожанки в полосатых бархатных юбках, королевские ратники в сверкающих латах, бродяги и нищие в живописных лохмотьях, с настоящими или поддельными увечьями,—весь этот мир, столь притягательный для романтиков своей необычностью и красочностью, в романе Гюго предстает словно в пышных расписных декорациях, освещенный лучом театрального прожектора. Преемственность от Вальтера Скотта ясно ощущается: на первом плане картины жизни народной массы, решающей силы истории, на втором плане—исторические персонажи, правители и полководцы (хотя эта группа персонажей в “Соборе” еще дальше оттеснена от главного русла повествования). Но столь же очевидно и своеобразие Гюго как исторического романиста. Автора “Квентина Дорварда” прежде всего интересовал основной исторический конфликт во Франции XV века — эпохи, когда обострилась борьба между старым феодальным укладом и новой культурой городов, когда французская монархия в лице Людовика XI (1461—1483) проводила политику централизации государства и собирала земли под своей эгидой, ломая сопротивление могущественной родовой знати, опираясь на города, на среднее и мелкое дворянство, используя в своих целях недовольство народа феодальным гнетом. Поэтому в его романе занимает большое место борьба короля Людовика XI с его главным соперником, бургундским герцогом Карлом Смелым. У Гюго об этой борьбе упоминается по ходу действия; в одном эпизоде в соответствии с исторической правдой показано, как король радуется бунту парижской черни, ошибочно думая, что она направлена против феодальных господ. Но главный интерес для Гюго в другом: он стремится выделить “моральную сторону истории”, смотрит на прошлое сквозь призму гуманистических идей XIX века, романтически преображая его. Для автора “Собора Парижской богоматери” важна не историческая правота Людовик-”. XI или герцога Бургундского, а нравственная неправота и королей и феодалов перед народом. Поэтому он спорит с историкоммонархистом Филиппом де Комином, который изображал Людовика XI “королем простого люда”, и рисует этого монарха хитрым, лицемерным, не знающим жалости; за королем, как тень, ходит зловещий палач Тристан Отшельник (тоже историческое лицо). В любой исторической эпохе, сквозь все ее разнообразные противоречия Гюго различает борьбу двух главных нравственных начал. Его герои—и в “Соборе Парижской богоматери” и еще больше в поздних романах. Это не только яркие, живые характеры, социально и исторически окрашенные; их образы перерастают в романтические символы, становятся носителями социальных категорий, отвлеченных понятий, в конечном счете идей Добра и Зла. В “Соборе Парижской богоматери”, сплошь построенном, на эффектных “антитезах”, отражающих конфликты переходной эпохи, главная антитеза—это мир добра и мир зла, мир угнетенных и мир угнетателей: с одной стороны, королевский замок Бастилия—пристанище кровавого и коварного тирана, дворянский дом Гонде-лорье—обиталище “изящных и бесчеловечных” дам и кавалеров, с другой—парижские площади и трущобы “Двора чудес”; где живут обездоленные. Драматический конфликт строится не на борьбе королевской власти и феодалов, а на отношениях между народными героями и их угнетателями. Королевская власть и ее опора, католическая церковь, показаны в романе как враждебная народу сила. Этим определяется образ расчетливо-жестокого короля Людовика XI, очень близкого к галерее коронованных преступников из драм Гюго, и образ мрачного изувера архидьякона Клода Фролло, созданного вслед за образом кардинала-палача из “Марион Делорм”. Внешне блестящее, а на самом деле пустое и бессердечное дворянское общество воплощено в образе капитана Феба де Шатопер, ничтожного фата и грубого солдафона, который только влюбленному взгляду Эсмеральды может казаться рыцарем и героем; как и архидьякон, Феб не способен на бескорыстное и самоотверженное чувство. Душевное величие и высокая человечность присущи лишь отверженным людя^из низов общества, именно они подлинные герои романа. Уличная плясунья Эсмеральда символизирует нравственную красоту народа, глухой и безобразный звонарь Квазимодо—уродливость социальной судьбы угнетенных. В образе Квазимодо наиболее ярко выразился художественный принцип гротеска: внешнее безобразие скрывает в нем душевную красоту; искривленный, горбатый и одноглазый—настоящее романтическое - чудовище—он кажется “ожившей химерой”, люди ненавидят его за уродство, а он платит им озлоблением; и никому, даже Эсмеральде, не дано разгадать его прекрасную душу, недаром он горестно шепчет вслед счастливому сопернику: “Значит, вот -каким надо быть! Красивым снаружи!” Народные герои “Собора”, как и герои драм, одетые то в экзотический костюм равбойника, то в блузу рабочего или даже лакейскую ливрею, остаются романтическими героями, то есть личностями исключительными, необыкновенными по своему душевному складу, для них нет места в мире несправедливости. Позднее, в романе “Отверженные”, рисуя современную жизнь без романтических иносказаний, Гюго покажет, как нелепое устройство буржуазного общества ставит в положение отверженных весь народ. В период, когда писался “Собор Парижской богоматери”, еще только складывались представления Гюго о нравственном смысле истории. В романе царит романтический рок, таинственный “Ананке”, грозно встающий на первой же странице, которому подчиняются все неожиданные повороты в судьбах героев, неумолимо влекущие их к гибели. Роковые совпадения, недоразумения, узнавания, скрещение любви и ненависти, стремительные переходы от счастья к смертельной опасности, от надежды к отчаянию—так развивается действие, построенное скорее по законам мелодрамы—одного из демократических жанров романтизма, близких творчеству Гюго. Как и в драмах Гюго, которые поднимают над мелодрамой могучий лиризм и великолепные стихи, герои “Собора Парижской богоматери” произносят длинные патетические монологи, порой неправдоподобные при данных обстоятельствах (как речь затворницы Гудулы, узнавшей в Эсмеральде свою похищенную дочь, или объяснение в любви Клода Фролло), по стилю не отличающиеся от сверкающего метафорами и гиперболами авторского повествования и полные взволнованного лиризма. Словом, говоря словами самого Гюго, “Собор Парижской богоматери” —это и есть новый “драматический роман”, исполненный той поэзии — которой молодому "французскому романтику так не хватало у Вальтера Скотта. Однако нетрудно заметить, что, как и в драмах Гюго, рок воплощен здесь во враждебных человеку социальных силах: деспотизм короля, феодальный произвол, изуверство церкви—вот истинные виновники трагедии Эсмеральды и Квазимодо. Через много лет Гюго задним числом стал рассматривать “Собор Парижской богоматери” как первую часть трилогии, вторую часть которой составляют “Отверженные”, а третью — “Труженики моря”; по мысли автора, в этой трилогии показана борьба человека с судьбой в ее тройном обличье: со стихией суеверий, социальной стихией и стихией природы. На протяжении всей жизни в сочинениях разных жанров Гюго не прекращал борьбы против католической церкви. Официальному католическому культу он противопоставлял некоего доброго народного бога в духе учения великого просветителя XVIII века Жан-Жака Руссо. В этом плане значительным образом “Собора Парижской богоматери” является архидьякон Клод Фролло. Созданием этого персонажа Гюго откликнулся на усилившееся в период Реставрации влияние иезуитов (с которыми в те же годы воевал своими песнями Беранже), но вместе с тем Клод Фролло—один из наиболее исторически убедительных характеров романа. Это яркая индивидуальность переходной предвозрожденческой поры, соединяющая “ум возвышенный, могучий и властный” с сильным и страстным характером. Но принадлежность к церкви загубила его жизнь. Клод Фролло—зловещая и трагическая фигура; все его чувства чудовищно извращена религиозным фанатизмом; любовь, отеческая привязанность, жажда знания оборачиваются у него эгоизмом и ненавистью. Он отгородился от народной жизни стенами собора и своей лаборатории алхимика, и потому душа его во власти темных и злых страстей. Облик Клода Фролло дополняется главой, носящей выразительное название “Нелюбовь народа”. От Клода Фролло, отдавшего любимую девушку в руки палачей, тянется нить к поздней драме Гюго “Торквемада” (1883), в которой великий инквизитор, желая отплатить добром за добро, посылает на костер спасшую его от смерти молодую пару. Образ Клода Фролло окутан мрачной поэзией, сближающей его с многочисленными романтическими злодеями, населявшими литературу начала XIX века. В раннем историческом романе Гюго уже отчетливо звучит важнейшая для всего его творчества мысль о красоте человечности и милосердия, о братстве простых людей перед лицом неправедного общественного устройства. Символический характер приобретает сцена, где Эсмеральда дает напиться Квазимодо, безвинно прикованному к позорному столбу и осыпаемому оскорблениями темной толпы. В центре романа—собор Парижской богоматери, символ духовной жизни французского народа. Собор построен руками сотен безымянных мастеров, религиозный остов в нем теряется за буйной народной фантазией. Описание собора становится проводом для вдохновенной поэмы в прозе о французском национальном зодчестве. Гюго восхищается своеобразием “дивных произведений искусства средневековья”, далеких от подражания античной архитектуре, и горячо встает на их защиту от варварских разрушений и искажений позднейших времен. В творениях национального зодчества не только выразился вкус и талант народа; готические церкви, по определению, писателя,— это “каменные книги средневековья”, по их скульптурам и барельефам неграмотный люд читал священное писание. Церкви) станут не нужны, когда распространится просвещение, печатная книга победит религиозное сознание—“Вот это убьет то”, как гласит название одной из глав романа. Собор дает приют народным героям Гюго, с ним тесно связана их судьба, вокруг собора живой и борющийся народ. Вместе с тем собор—символ порабощения народа, символ феодального гнета, темных суеверий и предрассудков, которые держат в плену души людей. Недаром во мраке собора, под его сводами, сливаясь с причудливыми мраморными химерами, оглушенный гулов олоколов, в чдиночестве живет Квазимодо, “душа собора”, чей гротескный образ олицетворяет средневековье. В противоположность ему прелестный образ Эсмеральды воплощает радость и красоту земной жизни, гармонию тела и души, то есть идеалы эпохи Возрождения, которая шла на смену средневековью. Плясунья Эсмеральда живет среди парижской толпы, которая считает ее своей сестрой, она полностью погружена в народную жизнь и дарит простому люду свое искусство, веселье и доброту. Как говорилось, Гюго в исторических сочинениях перекидывал мост от прошлого к настоящему, в историческом романе он вел борьбу против политической реакции и социальной несправедливости своего времени. В “Соборе” имеются даже прямые намеки на современность. Так, незадачливый автор мистерии, разыгранной в честь наследника престола, дофина, в парижском Дворце правосудия, нищий поэт Гренгуар — вполне типичная для позднего средневековья фигура—обрисован вместе с тем как рационалист и скептик, полный эгоизма и лишенный сильных страстей; его жизненная философия золотой середины иронически сопоставляется с “эклектической” философской системой буржуазно-либерального мыслителя Виктора Кузена, читавшего курс лекций в Сорбонне в 1820-х годах. Не менее ироническое освещение капитана Феба де Шатопер метит не только в , средневековье, но и в современных Гюго светских щеголей без гроша в кармане, охотников за богатыми невестами, каких не раз изображали французские писатели первой половины XIX века. Но дело не в частных сопоставлениях—весь роман озарен отблесками народного подъема, революционных событий, современных его созданию. Это отразилось и на изображении народа в “Соборе Парижской богоматери”. В понимании автора романа народ—не просто темная невежественная масса, пассивная жертва угнетателей: он полон творческих сил и воли к борьбе, ему принадлежит будущее. Пока он еще не проснулся, еще задавлен феодальным гнетом, “его час еще не пробил”. Но штурм собора парижским народом, столь ярко изображенный в романе,—это лишь прелюдия к штурму Бастилии в 1789 году (не случайно король Людовик XI обитает именно в этом замке), к революции, которая сокрушит феодализм. Этот “час народный” недвусмысленно предсказывает королю посланец свободной Фландрии, “любимый народом гентский чулочник Клоппинель”: “Когда с этой вышки понесутся звуки набата, когда загрохочут пушки, когда с адским грохотом рухнет башня, когда солдаты и горожане с рычанием бросятся друг на друга в смертельной схватке, вот тогда и пробьет этот час”. При всей пестроте и живописности картин народной жизни в “Соборе Парижской богоматери” Гюго не идеализировал средневековье, как делали многие писатели романтизма, он правдиво показал темные стороны феодального прошлого. Вместе с тем его книга глубоко поэтична, полна горячей патриотической любви к Франции, к ее истории, ее искусству, в котором, по убеждению писателя, живет свободолюбивый дух французского народа. Можно смело сказать, что ни одно из монументальных архитектурных сооружений средневековья не известно так широко во всем мире, как собор Парижской богоматери, прославленный романом Гюго. В истории французской культуры древний памятник народного зодчества и замечательное литературное произведение первой трети XIX века как бы слились в единое целое. Под сводами собора навсегда поселились тени прекрасной цыганки Эсмеральды, в лохмотьях, усеянных блестками, с ее неразлучной ученой козочкой Джали, и несчастного глухого урода Квазимодо. Герои Гюго так жизненны и ярки, что сами просятся на палитру художника, на сцену; на сюжет “Собора Парижской богоматери” ставятся драматические спектакли, балеты, снимаются кинофильмы. Созданная воображением Виктора Гюго трагическая история, разыгравшаяся в далеком прошлом, до сих пор волнует человеческие сердца, потому что настоящее искусство не стареет. C.Брахман Е.Евнина о творчестве Виктора Гюго “Человечеству для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собой на вершинах славные примеры мужества. Подвиги храбрости заливают историю ослепительным блеском... Пытаться, упорствовать, не покоряться, быть верным самому себе, вступать в единоборство с судьбой, обезоруживать опасность бесстрашием, бить по несправедливой власти, клеймить захмелевшую победу, крепко стоять, стойко держаться — вот уроки, нужные народам, вот свет, их воодушевляющий”,—так писал Виктор Гюго в романе “Отверженные”, и его неукротимый воинствующий гений, взывающий к мужеству и отваге, и его вера в будущее, которое нужно завоевать, и постоянная обращенность к народам мира — прекрасно выражены в этих пламенных строках. Виктор Гюго прожил большую, бурную, творчески насыщенную жизнь, тесно связанную с той знаменательной эпохой (французской истории, которая началась буржуазной революцией 1789 года и через последовавшие затем революции и народные восстания 1830—183'i и 1848 годов пришла к первой пролетарской революции — Парижской коммуне 1871 года. Вместе со своим веком Гюго проделал столь же знаменательную политическую эволюцию от роялистских заблуждений paнней юности к либерализму и республиканизму, в котором он окончательно утвердился после революции 1848 года. Это ознаменовало одновременное сближение с утопическим социализмом и решительную поддержку обездоленных народных масс, которым писатель остался верен до конца своей жизни. Гюго был подлинным новатором во всех областях французской литературы: поэзии, прозе, драматургии. Это новаторство, идущее в русле общеевропейского движения романтизма, захватившего не только литературу, но и изобразительное искусство, и музыку, и театр, было тесно связано с обновлением духовных сил европейского общества — обновлением, которое наступило вслед за Великой французской революцией конца XVIII века. 1 Гюго родился в 1802 году. Его отец, Жозеф-Леопольд-Сигизбер Гюго был офицером наполеоновской армии, который выдвинулся из низов в годы французской революции, завербовавшись в республиканскую армию в пятнадцатилетнем возрасте, а при Наполеоне дослужился до чина бригадного генерала; именно через него будущий писатель самым непосредственным образом соприкоснулся с пафосом революции 1789 — 1793 годов и последовавших за нею наполеоновских походов (долгое время он продолжал считать Наполеона прямым наследником революционных идей). Первые поэтические произведения юного Гюго, во многом еще подражательного характера (его кумиром был тогда Шатобриан), появились в начале 20-х годов. Политический подъём на подступах к июльской революции 1830 года, а затем республиканские восстания 1832 — 1834 годов вдохнули в него мощный прилив энтузиазма, повлекли за собою целый перепорот в его эстетике и художественной практике. (“Революция литературная и революция политическая нашли во мне свое соединение”,— напишет он позднее.) Именно тогда, возглавив молодое романтическое движение, Гюго провозглашает новые художественные принципы, яростно ниспровергая старую систему классицизма, выпуская одну за другой книги стихов, создавая свой первый роман, с боем внедряя на сцену новую романтическую драму. При этом он вводит в художественную литературу новые — прежде запретные для нее — темы и образы, ярчайшие краски, бурную эмоциональность, драматизм резких жизненных контрастов, освобождение словаря и синтаксиса от условностей классицистской эстетики, которая превратилась к этому времени в закостенелую догму, нацеленную на сохранение старого режима как в политической, так и в художественной жизни. Бок о бок с Гюго выступают молодые поэты и писатели романтического направления — Альфред до Мюссе, Шарль Нодье, Проспер Мериме, Теофиль Готье, Александр Дюма-отец и другие, объединившиеся в 1826 -1827 годах в кружок, который вошел в историю литературы под именем “Сенакль”. 30-е годы были воинствующим теоретическим периодом французского романтизма, вырабатывавшего в борьбе и полемике свой новый художественный критерий правды в искусстве. Два противоположных отношения к миру столкнулись в этой борьбе романтизма и классицизма. Классицистское видение, которое в эпоху молодого Гюго воплощали в своих произведениях жалкие эпигоны некогда блистательной школы Корнеля и Расина, держалось строгого порядка, требовало ясности и стабильности, — в то время как романтическое, прошедшее через революцию, через смену династий, через социальные и идейные сдвиги в общественной практике и сознании людей, стремилось к движению и решительному обновлению всех форм поэзии, всех средств художественного отражения многообразной, на глазах меняющейся жизни. В 1827 году Гюго создает историческую драму “Кромвель”, и предисловие к этой драме становится манифестом французских романтиков. Остро ощущая движение и развитие, происходящее в природе и в искусстве, Гюго провозгласил, что человечество переживает равные возрасты, каждому из которых соответствует своя форма искусства (лирическая, эпическая и драматическая). Он выдвинул, кроме того, новое понимание человека как существа двойственного, обладающего телом и душою, то есть началом животным и духовным, низменным и возвышенным одновременно. Отсюда н последовала романтическая теория гротеска, уродливого или шутовского, выступающего в искусстве резким контрастом по отношению к возвышенному и прекрасному. В противоположность строгому делению классицистского искусства на “высокий” жанр трагедии и “низкий” жанр комедии, новая романтическая драма, по мысли Гюго, должна была соединить в себе оба противоположных полюса, отобразить “ежеминутную борьбу двух враждующих начал, которые всегда противостоят друг другу в жизни”. О соответствии с этим положением вершиной поэзии был объявлен Шекспир, который “сплавляет в одном дыхании гротескное и возвышенное, ужасное и шутовское, трагедию и комедию”. Возражая против устранения безобразного и уродливого из сферы высокого искусства, Гюго протестует против такого канона классицизма, как правило “двух единств” (единство места и единство времени). Он справедливо считает, что “действие, искусственно ограниченное двадцатью четырьмя часами, столь же нелепо, как и действие, ограниченное прихожей”. Главный пафос Предисловия-манифеста Гюго состоит, таким образом, в протесте против всякой насильственной регламентации искусства, в яростном ниспровержении всех устаревших догм:“Итак, скажем смело: время настало!.. Ударим молотом по теориям, по этикам и системам. Собьем старую штукатурку, скрывающую фасад искусства! Нот ни правил, ни образцов, или, вернее, нет иных правил кроме общих законов природы...” Ниспровергающий пафос Предисловия дополняется созидающим пафосом поэзии Гюго, в которой он стремится на практике реализовать свою романтическую программу. Гюго — один из величайших поэтов французского XIX века, но, к сожалению, именно как поэт он наименее у нас известен. Между тем множество сюжетов, идей и эмоций, знакомых нам по его романам и драмам, прошли сначала через его поэзию, получили в его поэтическом слове свое первое художественное воплощение. В поэзии наиболее ясно выразилась эволюция мысли и художественного метода Гюго: каждым из его поэтических сборников — “Оды и баллады”, “Восточные мотивы”, четыре сборника 30-х годов, затем “Возмездие”, “Созерцания”, “Грозный год”, трехтомная “Легенда веков” — представляет собой определенный этап его творческого пути. Уже в предисловии к “Одам и балладам” 1826 года Гюго намечает новые принципы романтической поэзии, противопоставляя “естественность” первобытного леса “выравненному”, “подстриженному”, “выметенному и посыпанному песочком” королевскому парку в Версале, как он образно представляет устаревшую поэтику классицизма. Однако первым по-настоящему новаторским словом в поэзии Гюго явился сборник “Восточных мотивов”, созданный в 1828 году на той же волне энтузиазма в преддверии революции 1830 года, что и предисловие к “Кромвелю”. Причем самая тема Востока, с его причудливыми образами и экзотическими красками, была определенной реакцией на эллинистическую гармонию и ясность, которые воспевались поэтами классицизма. Именно в этом сборнике начинает осуществляться переход от поэзии интеллектуальной и ораторской, какой была по преимуществу классицистская поэзия (например, стихотворения Буало), к поэзии эмоций, к которой тяготеют романтики. Отсюда берут свое начало поиски наи- более ярких поэтических средств, воздействующих не столько на мысль, сколько на чувства. Отсюда и чисто романтическая драматичность, представленная в необычайно зримых картинах: пылающие турецкие корабли, сожженные греческим патриотом Канарисом; зашитые в мешки тела, выбрасываемые темной ночью из женского сераля (“Лунный свет”); четыре брата, закалывающие сестру за то, что она приподняла чадру перед гяуром; движение зловещей черной тучи, ниспосланной богом для разрушения порочных городов Содома и Гоморры и извергающей на них ярко-красное пламя (“Небесный огонь”). Это насыщение поэзии интенсивными красками, динамизмом, драматическим и эмоциональным накалом идет об руку с героической темой освободительной войны греческих патриотов против турецкого ига (стихотворения “Энтузиазм”, “Дитя”, “Канарис”, “Головы в серале” и другие). Шедевр живописной и динамической поэзии, сборник “Восточные мотивы” был своего рода открытием чувственного и красочного мира; последующие поэтические книги Гюго, создаваемые, на протяжении 30-х годов,—“Осенние листья” (1831), “Песни сумерек” (1835), “Внутренние голоса” (1837), “Лучи и тени” (1840), — идут по пути более глубокого постижения жизни, выдают постоянное стремление поэта вникнуть в законы мироздания и человеческой судьбы. Здесь отразились и философские, и политические, и нравственные искания времени. Недаром в первом же стихотворении “Осенних листьев” Гюго говорит, что его душа поставлена “в центр” вселенной и откликается на все, как “звучное эхо”. Лирический герой Гюго из сборников 30-х годов постоянно всматривается, вслушивается, вдумывается во все окружающее. Наблюдая картины чудесных закатов, он не просто любуется ими, но пытается за чувственным великолепием красок и форм найти “ключ к тайне” бытия. Он поднимается на гору, где слушает величественный и гармоничный гимн, который создается природой, и скорбный, режущий ухо крик, исходящий от человечества, внимает в полном одиночестве звукам ночи, устремляется дерзкой мыслью в древние времена или в морскую пучину. Раздумья о судьбах людей, об их бедах и горестях, об их прошлом и будущем, которое теряется во мраке, постоянно волнуют поэта: “чистого” созерцания, “чистой” природы для него не существует. Вдохновленный идеями Сен-Симона и Фурье, он уже в это время настойчиво поднимает социальную тему бедности и богатства (“Для бедных”, “Бал в ратуше”, “Не смейте осуждать ту женщину, что пала”). Чутко улавливая подземные толчки, предвещающие революционную ломку, поэт еще до июльской революции (в мае 1830 г.) пишет стихотворение “Размышление прохожего о королях”, где советует королям прислушаться к голосу народа, который волнуется у подножия их трона подобно грозному океану. Народокеан, грозный для коронованных владык,— сквозной образ, проходящий через все творчество Гюго. Еще одна тема 30-х годов "предвещает позднего Гюго: это тема политическая и тираноборческая, которая ведет поэта к выходу в широкий мир, к сочувствию всем угнетенным народам. В стихотворении “Друзья, скажу еще два слова” (1831) он говорит, что глубоко ненавидит угнетение, в каком бы уголке земли оно ни возникало, и что отныне он вставляет в свою лиру “медную струну”. В этом же стихотворении намечается характерное для Гюго понимание гражданской миссии поэта (“Да, муза посвятить себя должна народу!”), которое найдет более полное выражение в программном стихотворении “Призвание поэта” (1839) из сборника “Лучи и тени”. Мир, созданный Гюго в поэзии 30-х годов, предстает перед нами в резких контрастах: гармонический гимн, выражающий природу,— и горестный вопль человечества; ничтожные и близорукие короли — и волнующиеся пароды; пышные празднества богачей—и нищета бедняков; пьяная оргия баловней судьбы — и зловещий призрак смерти, похищающей свои жертвы прямо из-за пиршественного стола; даже на дне человеческой души поэт различает и ясную лазурь, и черную тину, где копошатся злобные змеи. Столь же красочное и динамическое изображение жизни, как в сборнике “Восточные мотивы”, умение запечатлеть даже душевные движения и раздумья в необычайно конкретных, зримых образах дополняется в 30-е годы введением драматических эффектов света и течи. От многоцветной феерии “Восточных мотивов” Гюго переходит к более концентрированным и сгущенным комбинациям белого и черного цветов, которые соответствуют его контрастному видению мира. Этому мировосприятию отвечает поэтика и первого романа Гюго — “Собор Парижской богоматери”, созданного на гребне июльской революции 1830 года. Гюго задумал роман как “картину Парижа XV века” и в то же время как подлинно романтическое произведение “воображения, каприза и фантазии”. Революция, захватившая Гюго политическими страстями, прервала было его работу над романом, но затем, как рассказывают его близкие, он замкнул на ключ свою одежду, чтобы не выходить из дому, и через пять месяцев, в начале 1831 года, пришел к издателю с готовым произведением. В “Соборе” нашла применение его теория гротеска, которая делает необычайно зримым как внешнее уродство, так и внутреннюю красоту горбатого Квазимодо, в противоположность показному благочестию и глубокой внутренней порочности архидиакона Клода Фролло. Здесь еще более ярко, чем в поэзии, обозначились поиски новых моральных ценностей, которые писатель находит, как правило, не в стане богачей и власть имущих, а в стане обездоленных и презираемых бедняков. Все лучшие чувства—доброта, чистосердечие, самоотверженная преданность — отданы им подкидышу Квазимодо и цыганке Эсмеральде, которые являются подлинными героями романа, в то время как антиподы, стоящие у кормила светской или духовной власти, подобно королю Людовику XI или тому же архидиакону Фролло, отличаются жестокостью, изуверством, равнодушном к страданиям людей. Знаменательно, что именно эту—нравственную—идею первого романа Гюго высоко оценил Ф. М. Достоевский. Предлагая “Собор Парижской богоматери” к переводу на русский язык, он писал в предисловии, напечатанном в 1862 году в журнале “Время”, что мыслью этого произведения является “восстановление погибшего человека, задавленного несправедливым гнетом обстоятельств... Эта мысль — оправдание униженных и всеми отверженных парий общества”. “Кому не придет в голову,— писал далее Достоевский,— что Квазимодо есть олицетворение угнетенного и презираемого средневекового народа... в котором просыпается наконец любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и еще непочатых бесконечных сил своих”. 3 Роман Гюго, благодаря своей необычайной живописности и увлекательности, сразу получил признание публики. Зато вокруг романтического театра, создаваемого писателем в те же годы, разгорелись ожесточенные бои. Пьесы Гюго следовали на протяжении десятилетия одна за другой: “Марион Делорм” (1829), “Эрнани” (1830), “Король забавляется” (1832), “Лукреция Борджа” (1833), “Мария Тюдор” (1833), “Анджело — тиран падуанский” (1835), “Рюи Блаз” (1838). В этом жанре, больше чем в каком-либо другом, видно, что Гюго стремится продолжать в искусстве революционные традиции 1789 года; атакуя прославленную цитадель классической трагедии — театр “Комеди Франсез”, он выдвигает на смену свой новый — революционный и народный театр, “...литературная свобода — дочь свободы политической. Этот принцип есть принцип века, и он восторжествует,— говорит он с присущим ему полемическим задором в предисловии к драме “Эрнани” (март 1830 г.).— После стольких подвигов, совершенных нашими отцами... мы освободились от старой социальной формы; как же нам не освободиться и от старой поэтической формы? Новому народу нужно новое искусство... Пусть на смену придворной литературе явится литература народная”. Завоевание театра романтиками носило, таким образом, не только эстетический, но и явственно политический характер. Защитники ложноклассической трагедии были одновременно убежденными монархистами, приверженцами старого политического режима. Молодежь, поддерживавшая романтическую драму, тяготела, напротив, к либерализму и республике. Этим и объясняется необычайный накал страстей вокруг почти каждой пьесы Гюго. Первая драма, “Марион Делорм”, созданная им еще до июльской революции, последовательно запрещалась двумя министрами — Мартиньяком и Полиньяком и была опубликована только после революции, в августе 1831 года. Драма “Король забавляется”, появившаяся вслед за июньским республиканским восстанием 1832 года, также подверглась запрету — уже правительством Июльской монархии — после первого же представления (она вернулась на французскую сцену лишь через пятьдесят лет—22 ноября 1882 года). Первой драмой Гюго, не только поставленной, но и выдержавшей много представлений, была “Эрнани”; вокруг нее и разразились главные бои “романтиков” и “классиков”, сопровождавшиеся состязанием свистков, угрожающих выкриков и аплодисментов, которые не утихали па протяжении всех девяти месяцев, пока “Эрнани” не сходила со сцены. Чтобы отстоять свою пьесу, автору приходилось не только самому присутствовать на каждом ее представлении, но и приводить с собой друзей и единомышленников, которые взяли на себя ее воинственную защиту. Среди “банды” Гюго, как их тогда называли противники, особенно выделялся молодой Теофиль Готье, шокировавший респектабельную публику своим розовым жилетом. В реакционных газетах говорилось в это время, что романтическая драма презрела все правила Аристотелевой эстетики, но самое главное, что она “оскорбляет королей” и, если полиция не предпримет серьезных мер, зал театра, в котором происходят представления “Эрпани”, может стать ареной , побоища, где мирные люди будут отданы на произвол “диких зверей”. Известны также слова хроникера одной ультрамонархической газеты по поводу единственного (22 ноября 1832 г.) представления пьесы “Король забавляется”: “Я буду всю жизнь помнить партер театра, битком набитый публикой... спустившейся сюда из предместий Сент-Антуан и Сен-Виктор, вопящей во всю глотку гимны 93-го года и сопровождающей их бранью и угрозами по адресу тех, кто неодобрительно относится к пьесе...” Страх и ненависть, которую французские реакционеры испытывали к романтической драме, были не случайно связаны с призраком революции и ее вершиной—93-м годом. Органическая связь театра Гюго с идеями и драматической реальностью Великой французской революции неоспорима. Об этом говорит прежде всего типично “третьесословное” понимание общественной борьбы как борьбы всего народа в целом против дворянского сословия и аристократов всех мастей, выдвинутое революцией 1789 года. Именно из этого контрастного противопоставления двух сил — деспотической знати, которая держит в своих руках ; богатство и власть, и бесправного народа, “у которого есть будущее, но нет настоящего” (слова Гюго из предисловия к драме “Рюи Блаз”), исходит и сюжетный конфликт, и характеры героев романтической драмы. Конечно, великий реалист Бальзак, который в те же 30-е годы XIX столетия внимательно прослеживал социальную дифференциацию внутри третьего сословия, описывая восхождение класса буржуазии,— был прозорливее, видел глубже. Но заслуга Гюго состоит в том, что, художественно воплотив самые высокие демократические идеи революции, он придал им небывалый резонанс. В основе сюжетного конфликта во всех драмах Гюго лежит жестокий поединок между титулованным деспотом и бесправным плебеем. Таково столкновение безвестного юноши Дидье и его подруги Марион со всесильным министром Ришелье в драме “Марион Делорм” или изгнанника Эрнани с испанским королем доном Карлосом в “Эрнани”. Иногда подобное столкновение доведено до гротескной заостренности, как в драме “Король забавляется”, где конфликт разыгрывается между баловнем судьбы, облеченным властью,— красавцем и бессердечным эгоистом королем Франциском, и обиженным богом и людьми горбатым уродом — шутом Трибуле. Само выдвижение на первый план героев-простолюдинов, типа подкидыша Дидье, шута Трибуле или лакея Рюи Блаза, которым отдается подлинное благородство души, способность по-настоящему любить и активно отстаивать свои чувства, а порой и убеждения,— было великим новшеством романтической драмы. И ее величайшее значение в том, что она привлекает сердца зрителей именно к этим угнетенным, гонимым, но любящим и благородным героям, делая их моральными победителями в конфликте со всесильными деспотами и коронованными владыками даже в том случае, когда эти герои терпят поражение и должны погибнуть. В драме “Рюи Блаз” автор наградил своего героя из народа не только пламенным сердцем и благородной душою — обычные качества романтического героя, — но и патриотическим чувством и государственным умом, которые позволяют ему (в знаменитой речи на совете министров) жестоко посрамить высокородных испанских грандов, бесстыдно расхищающих агонизирующее королевство. Гневное красноречие Рюи Блаза, неумолимого к внутренним врагам отечества, обвиняющего их с позиций народных масс, звучит словно с трибуны Конвента: “За эти двадцать лет несчастный наш народ... Он выжал из себя почти пятьсот миллионов на ваши празднества, на женщин, на разврат. И все еще его и грабят и теснят!” Язык этого обвинения — неистовый, темпераментный, оснащенный гиперболами и метафорами — также является плотью от плоти ораторского пафоса французской революции. Романтическая драма Гюго — это острополитическая и тираноборческая драма, далекая от камерного спектакля, замкнутого в рамках частной и семейной жизни. Ее действие выносится на широкую арену. выходит из домашней обстановки во дворцы вельмож и королей, порою на улицу и на площадь. Саму историю она делает плацдармом для выведения на сцену крупных политических и моральных коллизий, используемых автором в самых злободневных целях (недаром в предисловии к драме “Мария Тюдор” Гюго говорит о “прошлом, воскрешённом на пользу настоящему”). Характерен знаменитый монолог дона Карлоса в час избрания его императором, когда из легкомысленного повесы он становится мудрым государем (в “Эрнани”); создавая этот монолог накануне июльской революции, когда передовые силы нации возлагали надежду на смену прогнившей династии Бурбонов, Гюго как бы поучает и предостерегает королей, напоминая им о народе, который является “опорой нации” и ...терпя обиды, Выносит на плечах всю тяжесть пирамиды,— народе, похожем па океан, который уже поглотил и может поглотить с своих волнах не одно королевство и но одну династию. Гюго, таким образом, постоянно пытается активно воздействовать на мысль современников своим художественным словом: он дерзает поучать монархов, как они должны править государством; он яростно клеймит деспотизм королей, министров, вельмож, испанских грандов или итальянских тиранов; он стремится раскрыть глаза народу па его попранные права и на возможность революционного выступления против тирании. Отголоски народных мятежей и революций чувствуются не только в раздумье дона Карлоса о народе - океане из “Эрнани”, по еще более непосредственно в “Марии Тюдор”, где народный гнев проtиb фаворита королевы как бы выплескивается на сцену, играя существенную роль в ходе действия: народная масса осаждает дворец и в конце концов добивается казни ненавистного Фабиани. Романтическая драма Гюго преследует, однако, не только политические, но и нравственные задачи. В этом отношении она идет еще дальше, чем роман “Собор Парижской богоматери”. “Забота о человеческой душе — тоже дело поэта. Нельзя, чтобы толпа разошлась из театра и не унесла с собой домой какой-либо суровой и глубокой нравственной истины”,— заявляет автор в предисловии к “Лукреции Борд-жа”, а в предисловии к “Марии Тюдор” добавляет, что драма рассматривается им как урок и поучение, что театр призван просвещать, разъяснять, “руководить сердцами”, то есть посредством сильных эмоций впутать народу определенные моральные принципы. Вот почему для драмы Гюго характерна интенсивность, подчеркнутость, гипертрофированность чувств. Его герои — Дидье, Эрнанн, Рюи Блаз или Трибуле — обладают замечательной цельностью, бескомпромиссностью, большими страстями, полностью захватывающими человека; они не знают половинчатости, раздвоенности, колебаний; если любовь, то до гроба, если оскорбление — то дуэль и смерть, если мщение, то мщение до последнего предела, хотя бы это стоило собственной жизни. Подруги романтических героев — Марчон или донья Соль — но уступают им в своей преданности и бесстрашии, готовности бороться за свою любовь и, если надо, идти за нее на смерть, как это сделала в драме “Король забавляется” несчастная Плати. И эта сила женской или мужской или отцовской любви, и эта самоотверженность и великодушная самоотдача — все эти поистине высокие и благородные эмоции, воплощаемые романтической драмой с необыкновенной патетической сплои, находят отклик в самой широкой демократической аудитории, к которой Гюго и обращался в своем новом театре. Этому содействует и ловко завязанная интрига, и увлекательность сюжета, стремительные и неожиданные повороты в развитии действия и в судьбах героев. Романтическая драма, таким образом, достигает того морального эффекта, на который она рассчитывает, и вносит большой вклад в искусство своего времени. Однако самая неистовость и преувеличенная патетика в изображении демонических страстей, довольно далеких от прозаических будней буржуазной монархии Луи-Филиппа, исключительность и порой малая вероятность ситуаций (например, лакей, влюбленный в королеву — ситуация Рюи Блаза, которую никак не мог простить Виктору Гюго Бальзак, в целом очень высоко оценивавший его искусство), а кроме того, нагромождение мелодраматических эффектов или ужасов всякого рода (шествие к эшафоту, яды, кинжалы, убийства из-за угла, присутствующие в целом ряде пьес) — привели в конце концов к известному вырождению и кризису романтической драмы, который особенно резко обозначился в провале драмы “Бургграфы” (1843). Кризис захватил в 40-х годах не только драму, но и все творчество Гюго. Однако во вторую половину века ему суждено было вновь - развернуться с неожиданной силой. 4 Революционные события 1848 года, а затем контрреволюционный государственный переворот 2 декабря 1851 года открыли собою новый этап в мировоззрении и творчестве Гюго. После февральской революции 48-го года, сбросившей Июльскую монархию, Гюго выставил свою кандидатуру в парламент и, получив 86965 голосов, стал депутатом Учредительного, а затем Законодательного собрания. Когда разразилось июньское восстание парижского пролетариата, впервые осознавшего свои собственные классовые интересы, противоположные интересам буржуазии, Гюго вначале не понял истинного смысла событий и был в числе тех депутатов, которые отправились на баррикады, чтобы уговорить рабочих прекратить безнадежную борьбу. Он исходил из старого третьесословного понимания народа, будто бы единого в своих устремлениях (“Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия — это просто-напросто удовлетворенная часть народа”, — говорит он в романе “Отверженные”), поэтому июньское восстание казалось ему бессмысленным “восстанием народа против самого себя”. Однако кровавое подавление восставших рабочих правительством буржуазной республики возмутило писателя и положило начало решительной эволюции его взглядов. Современный французский поэт, романист и литературовед Жан Руссело, выпустивший в 1961 году биографию Виктора Гюго, с полным основанном утверждает, что по отношению к рабочему классу — “Гюго чувствовал себя все более и более солидарным с его судьбой”. На заседаниях парламента Гюго начинает выступать с резкими речами в защиту неимущих: “Я из тех, кто думает и утверждает, что можно уничтожить нищету... Вы создали законы против анархии, создайте же теперь законы против нищеты”,— заявил он 9 июня 1849 года. Эта речь, как и многие другие речи Гюго, вызвала аплодисменты левых депутатов, но зато и неистовую ярость правых. Гюго освистывали, ему угрожали. Но он продолжал упрямо отстаивать свои убеждения на парламентской трибуне вплоть до государственного переворота Луи Бонапарта. Здесь-то и открывается самый замечательный, подлинно героический период в жизни Виктора Гюго. Еще 17 июля 1851 года, за несколько месяцев до декабрьских событий в одном из своих публичных выступлений он метко назвал авантюриста Бонапарта, рвущегося к власти, “Наполеоном малым” соотносительно с его дядей, Наполеоном великим. Когда 2 декабря этот Наполеон малый, поддержанный крупной и мелкой буржуазией, с помощью шантажа, подкупа и кровавого террора все-таки захватил власть, Гюго встал во главе республиканского сопротивления и в течение нескольких дней в контакте с рабочими организациями вел самую ожесточенную борьбу за республику. Скрываясь в разных кварталах Парижа, он знал, что его разыскивают агенты Бонапарта и что его голова оценена в 25 тысяч франков. Позднее ему рассказали, что разгневанный узурпатор дал приказ о его расстреле, если он будет схвачен. Только тогда, когда стало ясно, что дело республики потеряно, Гюго покинул Францию и переехал в столицу Бельгии — Брюссель, а затем на англо-нормандский остров Джерси, затем Гернсей, откуда он продолжал разить новоявленного императора и его приспешников яростными памфлетами (“Наполеон малый”, “История одного преступления”) и громовыми стихами, которые составили сборник “Возмездие”. Годы изгнания и одиночества лицом к лицу с океаном были нелегким испытанием для поэта. “Изгнание — это суровая страна”,— сказал он однажды. Но он был последователен в своем отказе. Даже когда его семья — жена, сыновья, дочь, уставшие от жизни на чужбине, один за другим покинули острова, Гюго остался непоколебимым. Когда в 1859 году императором была провозглашена амнистия и многие изгнанники вернулись на родину, он сказал ставшие знаменитыми слова:“Я вернусь во Францию только тогда, когда туда вернется свобода”. И он действительно возвратился только после падения империи в 1870 году. Девятнадцатилетний период изгнания оказался для Гюго необычайно плодотворным. По накалу страстей, по огромной творческой мощи Гюго этих лет не без основания сравнивают с Бетховеном или Вагнером. За это время им были созданы подлинные шедевры как в поэзии, так и в жанре романа. За это же время его политическая деятельность приобрела поистине международный характер (выступления в защиту американца Джона Брауна, итальянца Гарибальди, мексиканских республиканцев, критских патриотов, испанских революционеров, председательство на международном конгрессе мира и т. д.), благодаря чему он стал знаменем для всех тех, кто боролся за свои попранные национальные и социальные права. Когда 5 сентября 1870 года, в разгар франко-прусской войны, на другой день после падения империи, Гюго приехал на родину, в Париже его встречали овациями толпы народа с криками “Да здравствует республика!”, “Да здравствует Виктор Гюго!”. Старый поэт пережил со своими соотечественниками осаду Парижа прусскими войсками, рождение и падение Коммуны, разгул свирепой реакции и ужасы “кровавой недели”; с поразительной энергией откликнулся он на эти исторические события пламенными воззваниями, стихотворениями “Грозного года”, многолетней и целеустремленной борьбой против французской и мировой реакции за амнистию коммунарам, за братство народов, за мир во всем мире,— борьбой, которая продолжалась до самой смерти поэта в 1885 году. Из этой духовно и политически напряженной жизни и проистекает новый характер или перевооружение романтизма Гюго второй половины XIX века, после известного кризиса, через который он прошел в 40-е годы. Своеобразие второго периода Гюго, пережившего расцвет критического реализма Бальзака и Стендаля и являвшегося современником Золя, заключается в том, что поэт вобрал в свое творчество многие черты и приемы реалистического искусства (изображение социальной среды, вкус к документу, реализм детали, интерес к воспроизведению народного языка и другие), но при этом остался настоящим романтиком в самом лучшем значении этого слова. Причем романтизм второго периода связан уже не с анархическими бунтарями-одиночками 30-х годов, а "С массовыми народными движениями, с проблемой восстаний я революций, которыми обогатился опыт политического изгнанника, международного борца и трибуна. Отсюда не только сатирический, но и эпический размах, который приобретает отныне романтическое творчество Гюго. Новый характер романтизма второй половины река сказывается у Гюго прежде всего в поэзии, когда были созданы замечательные поэтические книги “Возмездие” (1853), “Созерцания” (1856), “Грозный год” (1872), три тома “Легенды веков” (1859, 1877, 1883) и другие. Начиная со сборника “Возмездие”, поэзия эта принимает ярко выраженный воинствующий и подчеркнуто демократический характер. Мастер поэтической формы, Гюго и раньше никогда не вдохновлялся теорией “искусства для искусства”; теперь же его понимание гражданской миссии поэта, подготавливаемое на протяжении 30-х годов, достигает своего подлинного апогея: слово поэта должно “караты, “будить”, поднимать народы, звать человечество к высоким моральным образцам. Вот почему в поэме “Nox”, помещенной в качестве введения к сборнику “Возмездие”, он взывает к музе ненависти, вдохновившей некогда великих эпических поэтов Ювенала и Данте, чтобы она теперь помогла ему “вбить позорный столб” в империю Наполеона III. Вот почему он заранее предупреждает своего издателя Этцеля о том, что он будет “неистов” в своей поэзии, как были неистовы Данте, Тацит и даже Христос, с кнутом в руке изгнавший из храма торгашей. И сила его неистового возмущения и яростного обличения, в котором он видит свой долг поэта и гражданина, действительно такова, что она позволяет ему разить политического противника — императора и его банду — необычайно энергичными, негодующими словами, не стесняясь в выражениях, внося в высокую поэзию нарочитые вульгаризмы, самые резкие презрительные клички и бранные эпитеты. Энергия и неистовость языка сопрягается в стихотворениях “Возмездия” с сатирическим снижением, с искусством карикатуры, которым Гюго овладевает в этот период в совершенстве. Декабрьский переворот 1851 года рисуется в том же “Nox” в виде бандитского налета, Луп Бонапарт — в образе вора, с ножом за пазухой влезающего в полночь на < трон Франции. Вторая империя появляется перед читателем то в образе балагана с большим барабаном, в который заставляют бить державную тень Наполеона I, то в виде “луврской харчевни”, где идет шумный пир и распоясавшиеся победители, хохоча, предлагают тосты: один кричит “всех резать”, другой—“грабить” и т. д. Постоянное использование реалистической детали в этих нарочито сниженных, окарикатуренных образах Второй империи позволяет увидеть источники сатиры Гюго не только в литературных традициях (Ювенала, Данте, Агриппы Д'0бинье), но и в политической карикатуре изобразительного искусства, которая была чрезвычайно распространена во Франции Июльской монархии и особенно республики I848—1851 годов. Однако даже в сборнике “Возмездие” Гюго не ограничивается прямой сатирой. По аналогии с живописью можно было бы сказать, что с карикатурой Домье здесь сочетаются полные революционно-романтического пафоса полотна Делакруа. Особенность сатирической поэзии Гюго состоит в том, что политическая карикатура самым тесным образом связана у него с пророчеством, с оптимистической концепцией исторического процесса. Политические взгляды Гюго приходят в это время в единство с его философско-религиозной концепцией мира. Он не придерживается официальной религии и решительно отказывается от католических догм, навлекая на себя негодование клерикалов. Но он понимает бога как благое начало, которое через испытания, катастрофы и революции ведет человечество по пути прогресса. Ненавистные поэту институты — монархии и деспотии всех видов — представляются ему косностью, неподвижностью, абсолютным злом, которое препятствует этому движению, задерживает человечество в его восхождении к свету. Гюго, таким образом, глубоко ощущает драматизм развития человеческой истории, но никогда не теряет оптимистической уверенности в преодолении зла и конечном торжестве светлого начала. Это, несомненно, идеалистическое, по динамическое и революционное мировоззрение проникает собою все его творчество второго периода. Как бы ни была страшна или низменна картина действительности, воссозданная сатирическим гением Гюго, он всегда стремится подняться над данным, фактическим, настоящим, что бы прозреть движение к идеалу, к грядущему, которое придет на смену сегодняшнему позору. Недаром яростная сатира поэмы “Сдаётся на ночь” заканчивается знаменательными словами о том, что, пока императорская банда гуляет с невероятным шумом, где-то ночной тропой “спешит божий посланец—будущее”. В концовке стихотворения “Карта Европы”, где говорится о порабощении и угнетении многих европейских народов, об их слезах и муках, поэт снова обращается к грядущему: “Ждет будущее нас! И вот, крутясь и воя, сметая королей, несется гул прибоя...” Знаменательно, что пришествие желанного будущего представляется поэту отнюдь не идиллически. Это будущее надо завоевать в страшной битве (вспомним динамические образы прибоя, гремящей полны, бури, постоянные в поэзии Гюго), и в этой битве главная роль отводится народам, к которым обращается поэт; это их зовет трубный глас “с четырех концов неба”, это им вечность велит “вставать”. Постоянная вера в народ, обращенность к народу, мысль о народе и революции — характернейшая черта поэзии Гюго второго периода. Мысли и образы, связанные с народом, проходят через “Возмездие”, “Грозный год” и через “Легенду веков”. Народу посвящено в “Возмездии” несколько спецпальных стихотворений. В одном из них, построенном на характерных романтических контрастах, поэт развертывает свой старый излюбленный образ народа-океана, одновременно и кроткого и грозного, таящего в себе неизвестные глубины, бывающего и страшным и нежным, могущего расколоть утес и пощадить травинку (“Народу”). В поэме “Караван” народ предстает в образе могучего льва, появляющегося среди хищных зверей мирным и величавым, идущим всегда той же дорогой, “которой он приходил вчера и придет завтра-), — так поэт подчеркивает неотвратимость этого прихода, который заставит мгновенно смолкнуть неистовое рычание, вой и визг хищников из лесной чащи. Период исторических событий, связанных с франко-прусской войной и Парижской коммуной, когда создавались стихотворения “Грозного года”, обогатил Гюго еще более актуальными примерами народного мужества и героизма. Он воспевает народный Париж как доблестный “город-мученик” и “город-воин”, стойко сопротивляющийся врагу; он полон признательности к “необъятной нежности” величественного народа, когда 18 марта — в день провозглашения Парижской коммуны ее бойцы разбирали баррикады, чтобы пропустить похоронную процессию, в которой сам Виктор Гюго, удрученный и подавленный, шел за гробом внезапно скончавшегося сына; он поражен героизмом коммунаров, когда во время зверской расправы, которую учинили над ними версальские палачи, они шли на смерть с гордо поднятой головой. В стихотворениях “Суд над революцией” и “Во мраке” Гюго создает подлинную апологию революции, говоря о ней как о “заре” и о предрассветном “луче”, который сражается с тьмой, рисуя драматическую картину борьбы старого мира, безуспешно пытающегося остановить “потоп” революции. Революционно-романтическая патетика Гюго с излюбленными им образами вздымающейся с грохотом волны и кипящего водоворота, в котором исчезают мрачные призраки старого мира, достигает здесь особенно большого накала. Стихотворение “Во мраке”, помещенное в сборнике “Грозный год” в качестве эпилога, было создано еще в 1853 году, то есть во времена “Возмездия”, — еще одно подтверждение того факта, что мысль о революции является одной из сквозных тем, проходящих через поэзию Гюго второго периода на протяжении десятилетий. Романтической поэзии Гюго свойственно при этом глубокое личное чувство; оно наполняет почти все его поэтические сборники. Лирический образ поэта-изгнанника, удалившегося на берег океана, побежденного, но не сломленного, отказывающегося принять бесчестие родины и взывающего во мраке к “сонным душам”,—постоянно присутствует в стихотворениях “Возмездия”: Изгнанник, стану я у моря, Как черный призрак на скале, И, с гулом волн прибрежных споря, Мой голос зазвучит во мгле...— говорит поэт в первом же стихотворении этой книги. Необычайно богата эмоциональная палитра сборника “Созерцания”, который поэт составил из стихотворений, созданных им на протяжении двадцатипятилетнего периода. Примечательна искренность интонации, с которой Гюго говорит о своих радостях и печалях, при необычайной зримости и материальности художественного образа, с помощью которого, он раскрывает глубоко личные чувства. Лирическое неотделимо в поэзии Гюго от эпического, личные чувства и переживания поэта всегда сплетены с напряженной мыслью о вселенной, со стремлением охватить внутренним взором необъятный человеческий и даже космический мир. Многолетнее одиночество изгнания, постоянное созерцание бушующих стихий на берегу океана особенно расположили Гюго к подобным раздумьям о катаклизмах, происходящих и в природе, и в человеческом обществе. “Я вижу реальные очертания всего того, что люди называют деяниями, историей, событиями, успехами, катастрофами, необъятную механику Провидения”,— записал он однажды в своем дневнике джерсийского периода, подытоживая опыт трехлетнего изгнания. Уже в сатирическом “Возмездии” Гюго уделяет большое место исторической фреске, походам Наполеона и “солдат 1802 года”, обрисованных в величавых гомеровских традициях, чтобы самим величием этих походов подчеркнуть мизерность и смехотворность современной ему империи во главе с недостойным племянником Наполеона I. Картины битвы при Ватерлоо, отступления из Москвы, острова Св. Елены, где умирает бывший властелин мира (“Искупление”), созданы в настоящей эпической манере. Не случайно известный французский исследователь литературы Брюнетьер назвал эту поэму Гюго примером “эпической сатиры”. Однако до высот подлинного эпоса поэзия Гюго поднимается в громадном цикле “Легенда веков”, где поэт задумал “запечатлеть человечество в некоей циклической эпопее, изобразить его последовательно и одновременно во всех аспектах истории, легенды, философии, религии, науки, сливающихся в одном грандиозном движении к свету”,— как он пишет в предисловии к первой части. Толкование человеческой истории как постоянного восхождения к добру и свету подвигает автора на. особый отбор событий, образов и сюжетов, которые берутся не столько из действительной истории, сколько из легендарной. Не нужно искать здесь исторической точности: Гюго преследует иные — нравственно-назидательные задачи. Для этого он вовлекает в изображение человеческой драмы античных богов, библейских мудрецов, легендарных и исторических королей и героев. Эпическое повествование в его “Легенде” связано с символом, который стоит почти за каждым из ее эпизодов. Нравственное назидание Гюго дано в необычайно ярких и сильных образах. Вот Каин, бегущий после убийства брата на край света, прячась от божьего гнева за высокими стенами башен или в подземной келье. И везде он видит все тот же зоркий глаз в суровых небесах (“Совесть”). Вот тень прославленного в древние времена короля Канута, который пришел к трону, убив престарелого отца, и теперь блуждает в залитом кровью саване, не решаясь предстать перед высшим судом (“Отцеубийца”). Вот кровожадный феодал Тифаин, убивший ребенка вопреки мольбам старца и женщины-матери и жестоко терзаемый за это орлом, слетевшим с его железной каски (“Орел с каски”). Характерно, что поэт не только раскрывает преступление, по тут же сурово наказывает преступника, творя, как и в “Возмездии”, правый суд своим карающим словом. Недаром, прежде чем убить своего свирепого господина, орел обращается за свидетельством ко всей вселенной: “Звездное небо, горы, одетые белой невинностью снегов, о цветы, о леса, кедры, ели, клены. Я беру вас в свидетели, что этот человек зол!” Недаром целым раздел средневековой истории из второй книги “Легенды”, куда и входит поэма “Орел с каски”, носит красноречивое название “Предупреждения и возмездия”. С темой зла и возмездия связан общий тираноборческий дух “Легенды веков”. Образы королей, монархов, легендарных пли исторических деспотов, проходящих через всю “Легенду” от древних времен до современности поэта, от испанского Филиппа II или итальянского Козимо Медичи до французского Наполеона III, раскрываются как галерея чудовищ, которые попирают и топчут жизни народов, бросая их в войну, угрожая им эшафотом. Им противостоят носители героического, благородного начала: бродячие рыцари средневековья, которые готовы и любой момент на подвиг ради добра или наказания злодея, защитники своего народа легендарные герои Сид или Роланд или, наконец, бедные люди, воплощающие подлинную человечность, скромность и доброту. Таким образом, не пассивное и планомерное восхождение к свету, но жестокий конфликт между мощью зла и героической защитой добра положен поэтом в основу “Легенды”, которая представляет собой единую но мысли эпопею, слагающуюся из множества разнообразных эпизодов, нравственных коллизий, героических актов и живописнейших картин. Характерная черта романтической поэзии, которая так ярко сказалась в “Легенде веков”, состоит в том, что здесь дано не прямое изображение, а, скорее, преображение повседневной действительности, представление человеческой истории и политической борьбы в раздвинутых порою космических и мифологических рамках. Показательна поэма “Сатир”, в которой рассказывается, как Геркулес, схватив за ухо маленького сатира, привел его с собою на Олимп, где живут античные боги. Сначала они потешаются над уродливым гостем, но затем ему дают лиру, и он начинает петь им о Земле, о рождении души, о человеке и его многострадальной истории. Постепенно на глазах изумленных богов он вырастает до необыкновенных размеров: вот он пост уже о сияющем будущем, о любви и гармонии, о свободе и жизни, торжествующей над разрушенной догмой. Он необъятно велик, он олицетворяет собою могучую природу — Пана и заставляет пасть на колени языческого бога — Юпитера. Исследователи творчества Гюго не раз подчеркивали полную согласованность философской мысли поэта с ее воплощением в зримые поэтические образы, его умение живописать даже самые абстрактные понятия, ибо вокруг его мысли или чувства всегда свободно рождаются конкретные пейзажи или символические картины. В “Легенде веков” автор добился небывалого роскошества живописных образов, блистающих феерических картин и пылающих красок. “Художник, скульптор и музыкант, он создавал зримую и слышимую философию”,— справедливо сказал о Гюго его современник Бодлер. 5 То же эпическое дыхание, которое ощущается в “Возмездии” и “Легенде веков”,— широта исторического и художественного видения, масштабность замыслов, постоянная озабоченность судьбами отдельных людей и целых народов, — вдохновили Гюго на создание романов второго периода. Это “Отверженные” (1862), “Труженики моря” (1866). “Человек, который смеется” (1869) и “Девяносто третий год” (I874). Они являются подлинными эпопеями—многоплановыми постройками, в которых за романической интригой стоит широкий исторический план, общественная жизнь целой эпохи. В особенности громадный роман “Отверженные” — подлинная энциклопедия XIX века — представляет собой полифоническое произведение со многими планами, сюжетными линиями, мотивами и проблемами. Оно включает и социальную проблему нищеты и бесправия низших классов, и обширный историко-политический план, охватывающий целый комплекс вопросов французской революции, империи Наполеона I, битвы при Ватерлоо, Реставрации, Июньской монархии, республиканского восстания 1832 года; здесь поднимаются насущные вопросы государственного управления и законодательства, вопросы детской беспризорности и преступного мира; здесь ставится проблема нравственного совершенства (образ епископа Мириэля и затем Жана Вальжана) и раскрывается духовная эволюция поколения Гюго (история Мариуса). Здесь звучит и чистейшая лирика (любопь Мариуса и Козетты), и острая политическая характеристика рабочего предместья Сент-Литуан как “пороховницы страдания и мысли”, поместившейся у ворот Парижа, и патетика баррикадной войны, мечты о светлом будущем, которое революция несет человечеству (“горизонт, открывающийся с высоты баррикады”, в речи республиканца Анжольраса). Романтические герои Гюго это всегда люди значительной судьбы. Или это отверженные обществом бедняки, как Жан Вальжан, укравший булку для голодных детей своей сестры и отправленный за это на каторгу, которая наложила страшное клеймо на всю его дальнейшую жизнь (“Отверженные”). Или же это жертва преступления короля — проданный и изуродованный в раннем детстве Гуинплен, с его (чудовищной маской смеха, олицетворяющий страдающее человечество, обезображенное преступной общественной системой (“Человек, который смеется”). Романтическая масштабность, гипербола, максимальная выразительность, гротеск человеческого страдания ясно чувствуется в построении этих характеров (маска Гуинплена недаром превосходит все возможные уродства, являясь настоящей “пародией на человеческий образ”). В противоположность натуралистическому описанию, соразмерному с действительными масштабами событий и не отрывающемуся от повседневных фактов и явлений, Гюго в споем описании выделяет значительное, внушительное и грандиозное, обозначающее не только видимое, но и спрятанную за ним духовную сущность вещей. Из описания Гюго всегда вытекают далеко идущие выводы, порою целые философские концепции. Характерно, например, описание бушующего моря в “Человеке, который смеется”, когда море, словно намеренно, преследует (и наконец поглощает в своих глубинах преступных компрачикосов, изуродовавших и бросивших маленького Гуинплена, а затем в течение многих лот бережно носит на своих волнах флягу, содержащую тайну его судьбы. По мысли Гюго, за этой бушующей стихией скрывается божественное возмездие за преступление и защита несправедливо обиженного ребенка. Такое провиденциальное толкование мироздания касается и человеческой истории, в которой Гюго также отводит решающее значение року, судьбе, воле провидения. Зато в другом пункте он судит об исторических событиях, например о войнах, более трезво, чем буржуазные историки. Победителями исторических битв и сражений являются, согласно его мысли, не великие полководцы, а безвестные люди, простые солдаты, сам народ, доблесть которого он не устает славить во всех своих романах. Романы Гюго открыто тенденциозны. Автор сам говорит в “Отверженных”, что его книга не простая зарисовка событий, что она включает в себя определенную тенденцию. Видя мир в резких контрастах, в постоянном движении от злого к доброму, он пытается не только запечатлеть, но и проповедовать это движение, активно содействовать ему своим словом. Поэтому он прямо и резко выявляет свое авторское отношение к событиям и персонажам. У него действуют абсолютные праведники, типа епископа Мириэля из “Отверженных”, или абсолютные злодеи, типа Баркильфодро из “Человека, который смеется”. Как и “Легенда веков”, его романы представляют собой жестокое сражение добрых и злых сил, и не только во внешнем мире, но и в душах героев. Романическая фабула “Отверженных” в большой своей части построена на именно такой грандиозной борьбе в душе Жана Вальжана, борьбе, которая сравнивается с ураганом, землетрясением, поединком гигантов. Жан Вальжан не только выигрывает эту битву со своей совестью, но становится своего рода гротеском величия (“Все, что есть на свете мужественного, добродетельного, героического, святого, —все в нем”, — объявляет Мариус, который лишь в конце романа познаёт величие души этого человека из народа, бывшего каторжника, ставшего “святым”). Романы Гюго — это всегда романы больших и благородных чувств и великодушных поступков, как поступки того же Жана Вальжана, или подвиг маленького Гавроша на революционной баррикаде, или мужественное поведение Гуинплена, брошенного в ледяной пустыне и спасающего при этом жизнь еще более беспомощного младенца — Деи. Таким образом, гуманист Гюго и проповедует добро, великодушие, истину, как он ее понимает, в самой сюжетной ткани своих романов. Он, кроме того, свободно врывается в эту сюжетную ткань с авторскими отступлениями, добавлениями, оценками, суждениями, вопросами и ответами “вслух”. В этом смысле его авторская манера откровенно лирична и публицистична. Он высказывает по ходу дела свою оценку Великой французской революции, которую он считает могучим и благороднейшим движением, “исполненным доброты”. Он со страстью отстаивает на примере Жана Вальжана свои нравственные воззрения, состоящие в том, что в душе человека есть божественная основа, искра, которую добро может воспламенить и превратить в лучезарное сияние. Подобные патетические, философские, исторические и политические отступления составляют одну из достопримечательностей романов Гюго, их несомненное богатство. В последнем романе, “Девяносто третий год”, получает свое самое полное воплощение проблема революции, постоянно стоящая в творчестве Гюго. Девяносто третий год, что бы ни говорила о нем официальная историография, заклеймившая эту вершину французской революции как год гильотины, террора и ужаса, для Гюго — “памятная година героических битв”. Охватывая своим сюжетом самый драматический узел событий (Вандея, восставшая против республики, грозная коалиция европейских монархов, англичане, готовые вступить на французскую землю, внутренняя и внешняя контрреволюция, подстерегающая момент, чтобы вонзить нож в сердце революционного Конвента), великий гуманист Гюго, не закрывая глаз на необходимость революционного насилия, на вынужденную жестокость гражданской войны, хочет показать величие и человечность революции. И эта грандиозная задача решается им с помощью столь же грандиозных средств: укрупненных характеров и ситуаций, контрастных и гиперболических построений, патетических я драматических сцен, каждая из которых раскрывает новую грань или новый аспект революционного сознания, формирующегося с разгаре битв. Знаменательно изображение Конвента как “высочайшей из вершин” революции, которую Гюго сравнивает с Гималаями. Революция и ее детище Конвент предстают в романе как великое массовое движение, теснейшим образом связанное с улицей, с самыми широкими слоями народа. Очень важно, что художник увидел и подчеркнул созидающую роль Конвента, который в страшной обстановке войны, окруженный врагами, обдумывал в то же время проект народного просвещения, создавал начальные школы, занимался вопросом улучшения больниц. Но самая примечательная особенность романа заключается в том, что при зарисовке этих исторически-масштабных событий — войн, революции, решения ею громадной важности политических и идеологических задач — художник ни на одну минуту не упускает из виду индивидуально-человеческой драмы, которая развертывается на фоне этих событий. Соединение высокого эпоса и интимной лирики, которое характерно для поэзии Гюго, сказывается не менее явственно и в его романе. Об этом говорят первые же эпизоды “Девяносто третьего года” — встреча парижского батальона “Красный колпак” с несчастной крестьянкой, вдовой, матерью, прячущейся с детьми в чаще вандейских лесов, диалог между нею и сержантом Радубом (“Кто ты?.. Какой партии ты сочувствуешь?.. Ты синяя? Белая? С кем ты?” — “С детьми...”), и слеза сурового воина революции, и его предложение усыновить сирот, сделав их детьми батальона. Как увязать материнство, детство, любовь, милосердие с грозной поступью революции, очищающей землю во имя сияющего будущего? Такова важнейшая проблема, которую ставит Гюго в своем романе. Главные герои Гюго олицетворяют собою силы революции и контрреволюции, столкнувшиеся в жесточайшем поединке. Бесчеловечность старого мира, использующего в борьбе против революции неграмотность, суеверия, рабскую привычку к послушанию простого народа, в особенности темной крестьянской массы, — воплощена художником в образе маркиза де Лантенака — беспощадно-жестокого, решительного, деятельного вождя восставшей Вандеи, который объявляет о себе кровавыми экзекуциями, поголовными расстрелами и поджогами мирных деревень, принявших республику (примечательно, что враги революции у Гюго не менее масштабны, чем она сама, иначе но была бы так тяжка, так драматична ее борьба со старым миром). Другая, контрастирующая между собой, пара героев Гюго принадлежит лагерю революции. Бывший священник, ставший революционером, Симурдэн и его воспитанник, молодой полководец республики, Говэн служат одному и тому же великому делу защиты республики, ни они, по мысли Гюго, воплощают две противоположные тенденции революции. Суровый и непреклонный Симурдэн опирается на насилие, с помощью которого республика должна одолеть своих врагов. Любимый горой Гюго Говэн соединяет воинскую отвагу с милосердием. Противоположные позиции Спмурдэна и Говэна резко сталкиваются вокруг поступка маркиза Лантенака, который спасает из горящей башни маленьких заложников — усыновленных детей батальона “Красный колпак” и добровольно отдается в плен республиканцам. Поtom кульминационном моменте остро проявляется постоянная романтическая тенденция Гюго, стремящегося доказать, что поступками люден должна управлять высшая человечность, что добро может победить даже в душе самого злобного человека. (“Человечность победила бесчеловечность. С помощью чего была одержана эта победа?.. Как удалось сразить этого колосса злобы и ненависти? Какое оружие было употреблено против него? Пушка, ружья? Нет, колыбель”.) Но великодушный поступок маркиза де Лантенака .вызывает ответную реакцию в душе Говэна — страстный спор, который он ведет с собственной совестью: должно ли ответить благородством на благородство и освободить Лантенака? Но как же Франция?.. Поступок Говэна, который освобождает Лантенака, никак не может быть оправдан с точки зрения реальных задач революции и родины. Речь Говэна перед революционным трибуналом доказывает, что он сам это прекрасно понял и сам осудил себя на смерть (“Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленных... я забыл о Франции, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен”). Так воплощается трагическое противоречие между гуманной целью и вынужденно жестокими средствами революции. Противоречие между благородным великодушием ее бойцов и суровой необходимостью ограждать революцию от ее врагов. Недаром именно в уста Говзна (во время его последней беседы с Симурдэном в ночь перед казнью) Гюго вкладывает свою утопическую программу, свое понимание революции в ее грозном настоящем и прекрасном будущем, которое она несет людям. Говэн без колебаний оправдывает настоящий момент революции как очистительную бурю, которая должна оздоровить общество (“Зная. Как ужасны миазмы, я понимаю ярость урагана”). Но при этом, отнюдь не отступая от своих гуманистических устремлений, Говен (Гюго) ждет от революции не только всеобщего равенства и равноправия, за которые ратует суровый Симурдэн, но и расцвета высочайших человеческих чувств — милосердия, преданности, взаимного великодушия и любви; он мечтает о “республике духа”, которая позволит человеку “возвыситься над природой”; он верит в вечное дерзание и беспредельное развитие человеческого гения. Таков был ответ старого гуманиста, человеколюбца Гюго многочисленным врагам и клеветникам, которые с особенной яростью обрушились на революцию после дерзновенной попытки Парижской коммуны. * * * В 1952 году, когда весь мир праздновал стопятидесятилетний юбилей Виктора Гюго, у нас много говорилось о сближении Гюго с реализмом — высшим художественным методом XIX столетия. Иногда с извинительной интонацией писали, что, “вопреки” романтизму, Гюго отразил подлинную действительность своего времени, особенно в таких шедеврах, как “Возмездие” или “Отверженные”. Однако за двадцать лет, прошедшие с тех пор, советское литературоведение немало сделало для изучения романтизма, показав, что и этот метод художественном литературы XIX века имел свои громадные завоевания, и сегодня нет никакой необходимости “оправдывать” Гюго в его романтизме. На самом деле вся эстетика (равно, как и этика и философия) Гюго остается глубоко романтической по своему духу, что вовсе не означает, что писатель “уходит” от действительности или извращает ее в своем творчестве. Напротив, романтический метод Гюго в ряде случаев позволяет ему более масштабно поставить некоторые политические и нравственные проблемы (проблемы народа и революции, например), позволяет порою подняться над непосредственно видимыми событиями сегодняшнего дня, чтобы увидеть за ними невидимые величественные процессы, увидеть будущее, о котором говорит в своем предсмертном прозрении Говэн. Вся этика и эстетика Гюго основаны на преодолении настоящего, на возвышении над повседневностью и порыве к нравственному идеалу. В противоположность натуралистическому методу, который сознательно но отрывался от повседневности, для Гюго характерны сила и размах воображения, создание образов на грани реального и фантастического (как чудовищная маска Гуинплена, символизирующая общую изуродованность человека в бесчеловечном мире). Это эстетика чрезмерности и контраста, нарочитого укрупнения — вплоть до гротеска — как героев, так и событий, как добродетели, так и порока, эстетика постоянных антитез: черного и белого, злого и доброго, не только сосуществующих, но и постоянно сражающихся между собой во всей вселенной и в душе человека. Это, наконец, чисто романтическая тенденциозность: сознательное преобладание нравоучительной цели над задачами создания типического характера (вот почему нельзя упрекать Гюго с точки зрения реалистической эстетики за “неоправданность” неожиданно великодушного поступка маркиза Лантенака). Таковы особенности художественно-романтического воссоздания мира в творчестве Гюго, с помощью которых он ярко выражает свою гуманистическую оценку событий и привлекает сердца людей к обездоленным против богачей и аристократов, к народным массам и революции против тирании, к милосердию и духовному величию против жестокости, подлости и низости всякого рода. Книги Гюго, благодаря своей человечности и благородству, благодаря блестящей фантазии, увлекательности, мечте, продолжают волновать взрослых и юных читателей всех стран мира. Е.Евнина http://www.library.tver.ru/gugo/evnina.htm М.В.Толмачёв о Викторе Гюго "Свидетель века" Личность Гюго поражает своей разносторонностью. Один из самых читаемых в мире французских прозаиков, для своих соотечественников он прежде всего великий национальный поэт, реформатор французского стиха, драматургии, а также публицист-патриот, политик-демократ. Знатокам он известен как незаурядный мастер графики, неутомимый рисовальщик фантазий на темы собственных произведений, в которых он соперничает с Тернером и предвосхищает Одилона Редона. Но есть основное, что определяет эту многогранную личность и одушевляет ее деятельность, - это любовь к человеку, сострадание к обездоленным, призыв к милосердию и братству. В памяти благодарного человечества Гюго стоит рядом с великими человеколюбцами XIX века Диккенсом, Достоевским, Толстым, достойно представляя свою родину в великом походе литературы прошлого века за права “униженных и оскорбленных”. Некоторые стороны творческого наследия Гюго уже принадлежат прошлому: сегодня кажутся старомодными его ораторско-декламационный пафос, многословное велеречие, склонность к эффектным антитезам мысли и образов. Однако Гюго - демократ, враг тирании и насилия над личностью, благородный защитник жертв общественной и политической несправедливости, - наш современник и будет вызывать отклик в сердцах еще многих и многих поколений читателей. Человечество не забудет того, кто перед смертью, подводя итог своей деятельности, с полным основанием сказал: “Я в своих книгах, драмах, прозе и стихах заступался за малых и несчастных, умолял могучих и неумолимых. Я восстановил в правах человека шута, лакея, каторжника и проститутку”. Путь Гюго к проповеди активного гуманизма был непростым. Ему пришлось преодолеть многие предрассудки и заблуждения, порожденные средой и происхождением, преодолеть соблазны тщеславия и славолюбия, чтобы стать совестью Франции, олицетворением неподкупности и несгибаемости перед лицом зла, устремленности к духовному возрождению человечества и его светлому будущему. Виктор Мари Гюго родился 7 вантоза Х года Республики по революционному календарю (26 февраля 1802 года) в Безансоне, куда его отец Жозеф Леопольд Сижисбер Гюго был незадолго до того назначен командовать 20-й армейской полубригадой. Ко времени рождения будущего писателя его родители (мать урожденная Софи Франсуаз Требюше) были женаты пять лет, и у них уже было двое сыновей - Абель и Эжен. Отца, выходца из лотарингских крестьян, выдвинувшегося во время революции по военной линии и дослужившегося при империи до генерала, это заботило мало, но мать, в роду которой были бретонские мореходы и судейские чиновники, привила сыну тот традиционный пиетет к церкви и монархии, который так громко заявил о себе у Гюго в начале его творческого пути. Вообще же от отца Гюго передался жизненный напор, активность, от матери - чувствительность, мечтательность, не исключавшие известной рассудительности и хладнокровия. Вскоре после рождения Виктора между его родителями начался разлад, приведший их к раздельной жизни и к фактическим новым бракам (спутником Софи Гюго стал генерал Виктор Лагори, сподвижник знаменитого Моро, вставшего на пути Бонапарта к безраздельной власти). Детство Гюго проходило то с отцом, то с матерью, то, с 1811 по 1814 год, в пансионе, куда его определили по настоянию отца, дабы придать систематический характер его обучению и ослабить материнское влияние. Кочевая жизнь началась сразу с рождения. В конце 1802 года майор Гюго получает новое назначение, отсылает жену в Париж, а сам вместе с детьми следует в Марсель, а затем на остров Эльбу. В феврале 1804 года г-жа Гюго забирает детей. Замешанный в этом же году в заговор Кадудаля и Пишегрю, Лагори переходит на нелегальное положение и скрывается от полиции у своей подруги г-жи Гюго вплоть до декабря 1807 года, когда покидает Париж. После его бегства г-жа Гюго, оставив старших сыновей пансионерами в парижском Коллеж руаяль, отправляется вместе с Виктором в Италию, где ее муж, ставший в 1803 году полковником, был назначен комендантом города Авеллино, близ Неаполя, в Неаполитанском королевстве, только что созданном Наполеоном для своего брата Жозефа. Супруги живут по-прежнему раздельно (Леопольд в Авеллино, Софи в Неаполе), а Виктор, воспользовавшись неожиданными каникулами, проводит время в необременительных домашних занятиях и прогулках на лоне дивной итальянской природы вместе с отцом или дядей капитаном Луи Гюго. В июле 1808 года полковник Гюго следует за Жозефом Бонапартом, посаженным на испанский трон, в Испанию, но уже в конце этого года г-жа Гюго вместе с Виктором возвращается в Париж. Около двух лет они живут на улице Фельянтинок, во флигеле упраздненного во время революции монастыря фельянтинок; это жилище привлекло г-жу Гюго своим садом и уединенностью, позволявшей прятать Лагори, вернувшегося в Париж. Виктору было здесь хорошо: игры с братьями и с девочкой, дочерью друзей семьи Аделью Фуше (будущей женой) чередовались с занятиями с бывшим аббатом Ларивьером и таинственным “крестным” Лагори. В декабре 1810 года Лагори был арестован, и г-же Гюго пришлось снова отправиться в Испанию к мужу, теперь уже генералу. Путь на этот раз занял три месяца: приходилось делать длительные остановки, дороги были неспокойны, шла партизанская война. В Мадриде братьев Гюго помещают пансионерами в коллеж Сан Антонио Абад, и Виктору впервые приходится испытать на себе строгость школьного режима. От нового пребывания в Испании остались знание испанского языка (единственный иностранный язык, которым владел Гюго) и яркие впечатления, давшие пищу воображению будущего автора “Эрнани” и “Рюи Бласа”. Новая ссора родителей приводит к тому, что мать с Эженом и Виктором возвращается в марте 1812 года в Париж, в дом на улице Фельянтинок, и обучение детей опять поручается Ларивьеру, от которого Виктор приобретает основательные знания латинского языка и римской литературы. Вступление союзников во Францию, падение империи, реставрация совпадают с окончательным разрывом родителей Гюго, ускоренным казнью Лагори по приговору наполеоновского суда; пока длится бракоразводный процесс, детей передают отцу, и с 1815 по 1818 год они находятся в пансионе Кордье в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре (к матери они вернулись в 1818 году). Ко времени пребывания в пансионе относятся первые поэтические опыты Гюго, поддержанные молодым преподавателем по фамилии Бискарра, который был старше своего ученика всего на семь лет. Впоследствии Гюго назовет “глупостями” свои ранние литературные опыты, относя начало своего творческого пути к 20-летнему возрасту, ко времени сочинения сборника “Оды”. Первые шаги Гюго во многом несамостоятельны. Это стихотворные переводы римских поэтов Горация, Лукиана, Вергилия, элегии в манере французского классициста Делиля, трагедии и комедии, берущие за образец аналогичные жанры XVII - XVIII веков. В них нет своеобразия, однако уже в 14 лет Гюго обнаруживает уверенное владение александрийским стихом, умение находить для каждого произведения свой стиль литературной речи, способность искусно подбирать эпитеты. Юный поэт достаточно честолюбив и уже в 1816 году заявляет о своем желании сравниться с Шатобрианом, ведущим писателем Франции того времени: “Я хочу быть Шатобрианом или ничем”. Первые его шаги на литературном поприще приносят ему успех: в 1817 году он удостаивается поощрительного отзыва Французской академии, в 1819 году награды Академии цветочных игр в Тулузе. Эти успехи производят впечатление на отца Гюго, и он отказывается от желания видеть сына непременно студентом Политехнической школы, а затем не настаивает на продолжении им занятий правом, начатых в 1818 и брошенных в 1821 году. По окончании коллежа Гюго живет с братьями у матери, поддерживающей его литературные наклонности и помогающей своими советами делать первые шаги на избранном пути. В декабре 1819 года Гюго начинает выпускать журнал “Литературный консерватор” (“Лё Консерватёр литтерер”). Его название, взятое в подражание “Консерватору” Шатобриана, говорило как о политической, так и о литературной направленности издания. Публикуемые здесь произведения свидетельствуют о роялистских, монархических симпатиях Гюго. В феврале 1820 года в журнале появляется ода “На смерть герцога Беррийского”, снискавшая начинающему поэту благоволение двора, что побудило его к новым опытам в области официальной поэзии, вошедшим затем в первую книгу стихов Гюго “Оды”. На страницах “Литературного консерватора”, который просуществовал до марта 1821 года, Гюго выступает не только как поэт, но и как литературный, театральный и художественный критик, а также романист (первая редакция романа “Бюг Жаргаль”, июнь 1820 года). Молодой поэт завязывает литературные знакомства, становится вхож во влиятельные салоны, в частности в салон Эмиля Дешана, где много говорят о новом литературном течении - романтизме. В это же время Гюго охвачен сильным чувством к Адели Фуше, дочери старых друзей его семьи, но браку противятся как мать Гюго, которая не может забыть участия отца Адели, по долгу службы, в процессе Лагори, так и семья Фуше, с точки зрения которой у молодого человека нет прочного положения в обществе. После смерти матери (в июне 1821 года), причинившей Гюго большое горе, и назначения ему ежемесячной пенсии от двора в 1000 франков по выходе в свет в июне 1822 года книги “Оды” препятствий к женитьбе не стало и 12 октября 1822 года состоялось его бракосочетание в парижской церкви Сен-Сюльпис. Книга “Оды” (полное название - “Оды и Различные стихотворения”) принесла Гюго королевскую пенсию, но отнюдь не общественное признание. Даже роялистская пресса хранила долгое время молчание в связи с выходом сборника: настолько неубедительны и внутренне холодны были славословия династии Вурбонов, к которым сводится содержание большинства од (в книге, кроме политической, были представлены историческая и личная темы, а также размышления о поэзии и дань моде - фантастика). Стихотворения сборника проникнуты неприятием просветительской философии XVIII века и подготовленной ею революции, в них воспевается контрреволюционное Вандейское движение, в резко отрицательном свете дается фигура Наполеона (“Он лишь палач, он не герой”). Подобно остальным реакционным романтикам, Гюго здесь прославляет и идеализирует средневековье, дореволюционную феодальную Францию (стихотворение “Траурная перевязь”). К литературным дебютам Гюго относятся и два его ранних романа - “Бюг Жаргаль” (1820) и “Ган Исландец” (1823). Роман “Бюг Жаргаль” впервые был опубликован в журнале “Литературный консерватор” в 1820 году, а в 1826 году выпущен отдельным изданием в переработанном виде. В нем проявились как роялистские, так и гуманистические симпатии молодого писателя. Действие романа происходит в 1791 году на острове Сан-Доминго, бывшем в то время французской колонией. Здесь вспыхивает восстание чернокожих, во главе которого стоят кровожадный и вероломный Жан Биассу и благородный, великодушный Бюг Жаргаль, невольник королевской крови. Вюг Жаргаль любит дочь своего господина, но приносит себя в жертву, спасая ее жениха Леопольда д'Овернье. Роман насыщен различными невероятными ситуациями и ужасами в духе “готического” романа, в нем дает о себе знать отрицательное отношение юного Гюго к французской революции, однако ощутимы и его симпатии к угнетенным неграм, сочувствие к их страданиям. Интересен в романе и образ слуги Леопольда Габибры как первая наметка проходящего через творчество Гюго образа урода (Ган в “Гане Исландце”, Квазимодо в “Соборе Парижской Богоматери”, Гуинплен в “Человеке, который смеется”); правда, в отличие от последующих модификаций образа Габибра уродлив не только внешне, но и внутренне; это закоренелый злодей, ненавидящий своего хозяина и стремящийся убить его. Следующий ранний роман Гюго “Ган Исландец” был написан в духе самой “неистовой” романтической фантастики. Намеченная уже в “Одах” (стихотворения “Летучая мышь” и “Кошмар”) фантастическая струя творчества Гюго находит в романе наиболее полное выражение. В “Гане Исландце” Гюго продолжает линию, начатую во Франции Шарлем Нодье в таких его произведениях, как “Жан Сбогар” (1818) и “Смарра” (1821), который перенес на французскую почву приемы английского “черного”, “готического” романа Мэтьюрина, Льюиса и А. Радклиф. Однако Гюго пошел гораздо дальше Нодье в освоении нового жанра и создал настоящий “роман ужасов”. Действие “Гана Исландца” происходит в конце XVII столетия в Норвегии, которая принадлежала тогда Дании, и связано с происшедшим в это время восстанием рудокопов, но историзм романа весьма условен, ибо едва ли не главное, что интересует Гюго, - это нагромождение различных кошмаров, связанных с личностью чудовищного разбойника, кровопийцы Гана. Впоследствии Гюго скажет об этом романе, что в нем “только любовь молодого человека прочувствована, а вытекает из наблюдений только любовь девушки”. Тем не менее роман имел успех у современников, удостоился одобрительного отзыва Нодье и был издан на английском языке с гравюрами знаменитого Крукшенка. В середине 1820-х годов в творческом развитии Гюго происходит перелом, вызванный нарастанием общественной борьбы против монархии Бурбонов. Гюго пересматривает свои взгляды, отказывается от монархических иллюзий и переходит в оппозиционный, либеральнодемократический лагерь. В 1826 году он возглавляет кружок прогрессивно настроенных романтиков “Сенакль”, объединяющий Сент-Бёва, Мюссе, Мериме, Дюма-отца и других начинающих прозаиков и поэтов. Происходит идейное и творческое становление Гюго - об этом он замечательно скажет в предисловии к переизданию в 1853 году своих “Од”, дополненных “Балладами”: “Из всех лестниц, ведущих из мрака к свету, самая достойнейшая и самая трудная для восхождения - это следующая: родиться аристократом и роялистом и стать демократом. Подняться из лавочки во дворец - это редко и прекрасно; подняться от заблуждений к истине - это еще реже и еще прекрасней”. Творчество Гюго становится необычайно продуктивным и многообразным. Он выступает с расширенным изданием своего первого сборника стихотворений (“Оды и баллады” издания 1826 я 1828 годов); с новаторским по форме и содержанию поэтическим сборником “Восточные мотивы” (1829), публикует повесть "Последний день приговоренного к смерти” (1829), создает драмы “Кромвель” (1827), “Марион Делорм” (1829), “Эрнани” (1830). Сборник “Восточные мотивы”, куда вошли стихотворения 1825 - 1828 годов, буквально ошеломил читателей своей новизной. Уже в предисловии к нему Гюго дерзко заявил о праве поэта на полную свободу, на независимость его от каких-либо догм или стеснительных регламентации: “Пространство и время принадлежит поэту. Пусть поэт идет, куда он хочет, делает то, что ему нравится. Это закон. Пусть он верит в бога или богов или ни во что не верит... пусть он пишет в стихах или прозе, пусть он идет на Юг, Север, Запад или Восток...” Право поэта иметь свою точку зрения, свое видение мира, а читателя - следовать им. Гюго-поэт решительно порывает с вековыми традициями французского стихосложения, революционизирует форму стиха, его размер (стихотворение “Джинны”), последовательно проводит принцип музыкальности. Содержание “Восточных мотивов” отдавало заметную дань традиционному романтическому любованию восточной экзотикой, хотя в своей поэтической палитре Гюго нашел для нее совершенно новые, свежие краски; однако не в меньшей степени лицо сборника определяли стихотворения, выражавшие сочувствие национально-освободительной борьбе греков против турок. Поэт прославляет греческих патриотов (“Наварин”, “Головы в серале”, “Канари”), клеймит зверства турецких угнетателей (“Взятый город”, “Дитя”), призывает оказать помощь греческому народу в его борьбе (“Энтузиазм”). Все это сообщало его поэзии гражданственную, демократическую направленность, которой не было в его технически совершенных, но внутренне холодных одах и балладах. Обозначив своими “Восточными мотивами” окончательную победу романтизма во французской поэзии, Гюго устремляется на штурм последнего оплота литературного классицизма драматургии. Здесь позиции поклонников старины были особенно прочными, поскольку они апеллировали к великой традиции французского национального театра Корнеля, Расина, Мольера, Вольтера, хотя традиция эта давно выродилась и измельчала. Французская драматургия переживала серьезнейший кризис, и великий трагик французского театра Тальма имел все основания пожаловаться Гюго во время их встречи в 1826 году на то, что ему нечего играть. Развивая свою точку зрения на трагедию, Тальма услышал в ответ от Гюго: “Именно то, что вы хотите сыграть, я хочу написать”. Появившаяся в 1827 году драма в прозе “Кромвель” на сюжет из истории английской революции XVII века была первой попыткой утвердить романтизм на французской сцене. Попытка эта оказалась неудачной, драма получилась растянутой и несценичной, но в историю литературы она вошла благодаря авторскому предисловию к ней, которое стало манифестом демократически настроенных французских романтиков. Это программный документ, в котором выражена эстетическая позиция Гюго, которой он, в общем, придерживался до конца жизни. Гюго начинает свое предисловие с изложения собственной концепции истории литературы в зависимости от истории общества. Первая большая эпоха в истории цивилизации, согласно Гюго, - это первобытная эпоха, когда человек впервые в своем сознании отделяет себя от вселенной, начинает понимать, как она прекрасна, и благодарит творца, создавшего ее. Свой восторг перед мирозданием человек выражает в лирической поэзии, господствующем жанре первобытной эпохи. Высочайшим образцом этого жанра Гюго называет Библию, Ветхий Завет. Своеобразие второй эпохи, античной, Гюго видит в том, что в это время человек начинает творить историю, создает общество, осознает себя через связи с другими людьми. Поэтому в античную эпоху ведущим видом литературы становится эпос, повествовательный род литературы, выдвинувший своего величайшего представителя Гомера. Эпический характер носит в античную эпоху, согласно Гюго, и драма, достигающая в это время высокого уровня развития. Со средневековья начинается, говорит Гюго, новая эпоха, стоящая под знаком нового миросозерцания - христианства, которое видит в человеке постоянную борьбу двух начал, земного и небесного, тленного и бессмертного, животного и божественного. Человек как бы состоит из двух существ: “одно - бренное, другое - бессмертное, одно - плотское, другое бесплотное, одно - скованное вожделениями, потребностями и страстями, другое - взлетающее на крыльях восторга и мечты”. Борьба этих двух начал человеческой души драматична по самому своему существу: “...что такое драма, как не это еже дневное противоречие, ежеминутная борьба двух враждующих начал, всегда противостоящих друг другу в жизни и оспаривающих друг у друга человека с колыбели до могилы?” Поэтому третьему периоду в истории человечества соответствует литературный род драмы, а величайшим поэтом этой эпохи является Шекспир. При всей субъективности и спорности этой историко-литературной концепции она интересна прежде всего тем, что Гюго пытался обусловить развитие литературных родов исторически. Далее, для понимания творческих принципов Гюго .весьма существенна даваемая им характеристика литературы новой эпохи. По мнению Гюго, поэзия нового времени отражает правду жизни: “Лирика воспевает вечность, эпопея прославляет историю, драма рисует жизнь; характер первобытной поэзии - наивность, античной - простота, новой - истина”. Все существующее в природе и в обществе может быть отражено в искусстве. Искусство ничем не должно себя ограничивать, по самому своему существу оно должно быть правдиво. Однако это требование правды в искусстве у Гюго было довольно условным, характерным для писателя-романтика. Провозглашая, с одной стороны, что драма - это зеркало, отражающее жизнь, он настаивает на особом характере этого зеркала; надо, говорит Гюго, чтобы оно “собирало, сгущало бы световые лучи, из отблеска делало свет, из света - пламя!” Правда жизни подлежит сильному преображению, преувеличению в воображении художника. Поэтому требование правды сочетается у Гюго с требованием полной свободы творчества, причем гений художника, его вдохновение, его субъективная правда для Гюго едва ли не выше правды объективной: “Поэт должен советоваться... с природой, истиной и своим вдохновением, которое также есть истина и природа”. Воображение художника призвано романтизировать действительность, за ее будничной оболочкой показать извечную схватку двух полярных начал добра и зла. Отсюда вытекает другое положение: сгущая, усиливая, преображая действительность, художник показывает не обыкновенное, а исключительное, рисует крайности, контрасты. Только так он сможет выявить животное и божественное начала, заключенные в человеке. Этот призыв изображать крайности является одним из краеугольных камней эстетики Гюго. В своем творчестве Гюго постоянно прибегает к контрасту, к преувеличению, к гротескному сопоставлению безобразного и прекрасного, смешного и трагического. Существенным положением “романтического манифеста”, как часто называют предисловие к “Кромвелю”, является требование местного колорита, couleur locale. Упрекая классицистов за то, что они изображают своих героев вне эпохи и вне национальной среды, Гюго требует передачи конкретного своеобразия того или иного времени или народа. Он придавал огромное значение исторической детали - особенностям языка, одежды, обстановки, хотя в его творчестве, надо сказать, правдоподобие “местного колорита” иногда вступало в противоречие с неправдоподобием тех моральных уроков, которые он стремился извлечь из истории; “правдасправедливость” была для Гюго выше исторической правды. Наконец, поскольку предисловие Гюго было написано к пьесе и направлено против классицистов, то много внимания он уделяет знаменитым трем единствам классицистического театра. Единство времени и единство места Гюго требует упразднить, как совершенно искусственные и неправдоподобные для современного зрителя. Единство действия, согласно Гюго, должно быть сохранено, ибо зрителю трудно сконцентрироваться более чем на одной линии действия. Принципы, сформулированные Гюго в его “романтическом манифесте”, нашли свое практическое воплощение прежде всего в его драматургии, хотя ими в значительной степени обусловливается характер всего его творчества. После неудачной попытки с “Кромвелем” Гюго пытается взять реванш новой, стихотворной драмой “Марион Делорм” (1829). Пьеса могла бы иметь успех благодаря остроте сюжета, неожиданности его поворотов, красочной эффектности главных героев, но, несмотря на свой исторический сюжет, была запрещена к постановке цензурой, усмотревшей в образе безвольного короля Людовика XIII, руководимого жестоким кардиналом Ришелье, черты правившего короля Карла X, подпавшего под безраздельное влияние реакционного министерства. В центре пьесы образ куртизанки Марион Делорм, которую сила любви к незаконнорожденному Дидье нравственно возвышает и перерождает, делает способной на беззаветную преданность и любовь. В ответ на запрещение “Марион Делорм” Гюго за короткий срок пишет драму “Эрнани”, премьера которой 25 февраля 1830 года, как и последующие представления, проходила в обстановке жарких схваток между поклонниками романтизма и адептами классицизма. Эта “битва” завершилась победой Гюго и утверждением во французском театре романтической драмы. Появившаяся на сцене в канун Июльской революции драма “Эрнани” была проникнута антимонархическими, свободолюбивыми настроениями. Ее героем является благородный разбойник Эрнани, объявленный испанским королем Дон Карлосом вне закона. Это человек небывалого благородства, верный своему слову, даже если это ведет его к гибели. Современницами Гюго образ Эрнани воспринимался как олицетворение бунтарства, вольнолюбивой непокорности власти. Впоследствии Гюго скажет по поводу своей драмы: “...литературная свобода - дочь свободы политической”. Канун революции сказывается в творчестве Гюго не только ростом политической сознательности, но и пробуждением гуманистических настроений. В феврале 1829 года он публикует повесть “Последний день приговоренного к смерти” - свое первое прозаическое произведение о современности. Вместе с тем это и первое выступление Гюго против смертной казни, борьбе с которой он посвятил всю свою жизнь. Протест против смертной казни как преступления против человечности возник у Гюго не под воздействием умозрительных филантропических доктрин, хотя он был знаком со взглядами знаменитого итальянского юриста Беккариа по этому вопросу, а в результате впечатлений от ряда публичных казней, на которых ему довелось присутствовать. Юношей Гюго видел, как везли на казнь Лувеля, убийцу наследника французского престола герцога Беррийского. Несмотря на то, что Гюго в это время был ревностным приверженцем монархии Бурбонов, ничего, кроме жалости и сострадания к Лувелю, он не почувствовал. В другой раз, несколько лет спустя, Гюго наблюдал казнь отцеубийцы Жана Мартена; он не смог вынести зрелища до конца. Еще более потрясла его третья казнь, казнь старика. Пораженный внезапно открывшейся ему произвольностью права одного человека лишать жизни другого, Гюго пишет свой “Последний день приговоренного к смерти”. Единственный довод этой обвинительной речи против смертной казни - несоизмеримость мук, испытываемых осужденными в ожидании исполнения приговора, с любым преступлением. Не случайно в своей повести Гюго обходит вопрос о том, какая была вина осужденного. Повесть написана в форме дневника героя, из которого, как уверяет издатель (т. е. автор), была утрачена страница с его биографией. История преступления Гюго не интересует, все его внимание сосредоточено на мучительных переживаниях человека, ждущего исполнения выпасенного ему смертного приговора. Форма дневника предоставила Гюго большие возможности эмоционального воздействия на читателя, хотя местами (там, где герой описывал свое состояние по пути на казнь и на эшафот) становилась чисто условной и разрушающей иллюзию правдоподобия. Напечатанная первым изданием анонимно, повесть имела большой общественный резонанс и свидетельствовала о полном переходе Гюго на передовые общественные позиции. Июльская революция 1830 года, свергнувшая монархию Бурбонов, нашла в Гюго горячего сторонника. Памяти героев, погибших на баррикадах, прославленных участников революции он посвящает поэму “К молодой Франции” (1830), стихотворение “Гимн” (1831). Несомненно также, что и в первом значительном романе Гюго “Собор Парижской Богоматери”, начатом в июле 1830 и законченном в феврале 1831 года, также нашла отражение атмосфера общественного подъема, вызванного революцией. Жена Гюго Адель писала в этой связи в своих воспоминаниях: “Великие политические события не могут не оставлять глубокого следа в чуткой душе поэта. Виктор Гюго, только что поднявший восстание и воздвигший свои баррикады в театре, понял теперь лучше, чем когда-либо, что все проявления прогресса тесно связаны между собой, что, оставаясь последовательным, он должен принять и в политике то, чего добивался в литературе”. Еще в большей степени, чем в драмах, в “Соборе Парижской Богоматери” нашли воплощение принципы передовой литературы, сформулированные в предисловии к “Кромвелю”. Начатый под гром революционных событий, роман Гюго окончательно закрепил победу демократического романтизма во французской литературе. Как и в драмах, Гюго обращается в “Соборе Парижской Богоматери” к истории; на этот раз его внимание привлекло позднее французское средневековье, Париж конца XV века. Интерес романтиков к средним векам во многом возник как реакция на классицистическую сосредоточенность на античности. Свою роль здесь играло и желание преодолеть пренебрежительное отношение к средневековью, распространившееся благодаря писателямпросветителям XVIII века, для которых это время было царством мрака и невежества, бесполезным в истории поступательного развития человечества. И, наконец, едва ли не главным образом, средние века привлекали романтиков своей необычностью, как противоположность прозе буржуазной жизни, тусклому обыденному существованию. Здесь можно было встретиться, считали романтики, с цельными, большими характерами, сильными страстями, подвигами и мученичеством во имя убеждений. Все это воспринималось еще в ореоле некоей таинственности, связанной с недостаточной изученностью средних веков, которая восполнялась обращением к народным преданиям и легендам, имевшим для писателейромантиков особое значение. Впоследствии в предисловии к собранию своих исторических поэм “Легенда веков” Гюго парадоксально заявит, что легенда должна быть уравнена в правах с историей: “Род человеческий может быть рассмотрен с двух точек зрения: с исторической и легендарной. Вторая не менее правдива, чем первая. Первая не менее гадательна, чем вторая”. Средневековье и предстает в романе Гюго в виде истории-легенды на фоне мастерски воссозданного исторического колорита. Основу, сердцевину этой легенды составляет в общем неизменный для всего творческого пути зрелого Гюго взгляд на исторический процесс как на вечное противоборство двух мировых начал - добра и зла, милосердия и жестокости, сострадания и нетерпимости, чувства и рассудка. Поле этой битвы и разные эпохи и привлекает внимание Гюго в неизмеримо большей степени, чем анализ конкретной исторической ситуации. Отсюда известный надысторизм, символичность героев Гюго, вневременной характер его психологизма. Гюго и сам откровенно признавался в том, что история как таковая не интересовала его в романе: “У книги нет никаких притязаний на историю, разве что на описание с известным знанием и известным тщанием, но лишь обзорно и урывками, состояния нравов, верований, законов, искусств, наконец, цивилизации в пятнадцатом веке. Впрочем, это в книге не главное. Если у нее и есть одно достоинство, то оно в том, что она - произведение, созданное воображением, причудой и фантазией”. Известно, что для описаний собора и Парижа в XV веке, изображения нравов эпохи Гюго изучил немалый исторический материал и позволил себе блеснуть его знанием, как делал это и в других своих романах. Исследователи средневековья придирчиво проверили “документацию” Гюго и не смогли найти в ней сколько-нибудь серьезных погрешностей, несмотря на то, что писатель не всегда черпал свои сведения из первоисточников. Корифей романтической историографии Мишле высоко отзывался о воссоздании картин прошлого у Гюго. И тем не менее основное в книге, если пользоваться терминологией Гюго, это “причуда и фантазия”, т. е. то, что целиком было создано его воображением и весьма в малой степени может быть связано с историей. Широчайшую популярность роману обеспечивают поставленные в нем вечные этические проблемы и вымышленные персонажи первого плана, давно уже перешедшие (прежде всего Квазимодо) в разряд литературных типов. Роман построен по драматургическому принципу, использованному Гюго в драмах “Эрнани”, “Марион Делорм”, “Рюи Блас”: трое мужчин добиваются любви одной женщины; цыганку Эсмеральду любят архидиакон Собора Парижской Богоматери Клод Фролло, звонарь собора горбун Квазимодо и поэт Пьер Гренгуар, хотя основное соперничество возникает между Фролло и Квазимодо. В то же время цыганка отдает свое чувство красивому, но пустому дворянчику Фебу де Шатоперу. С присущей ему склонностью к антитезам Гюго показывает различное воздействие любви на души Фролло и его воспитанника Квазимодо. Озлобленного на весь мир, ожесточившегося урода Квазимодо любовь преображает, пробуждая в нем доброе, человеческое начало. В Клоде Фролло любовь, напротив, будит зверя. Противопоставление этих двух персонажей и определяет идейное звучание романа. По замыслу Гюго, они воплощают два основных человеческих типа. Священнослужитель Клод, аскет и ученый-алхимик, олицетворяет холодный рационалистический ум, торжествующий над всеми человеческими чувствами, радостями, привязанностями. Этот ум, берущий верх над сердцем, недоступный жалости и состраданию, является для Гюго злой силой. Средоточие противостоящего ей доброго начала в романе испытывающее потребность в любви сердце Квазимодо. И Квазимодо, и проявившая к нему сострадание Эсмеральда являются полными антиподами Клода Фролло, поскольку в своих поступках руководствуются зовом сердца, неосознанным стремлением к любви и добру. Даже этот стихийный порыв делает их неизмеримо выше искусившего свой ум всеми соблазнами средневековой учености Клода Фролло. Если в Клоде влечение к Эсмеральде пробуждает лишь чувственное начало, приводит его к преступлению и гибели, воспринимаемой как возмездие за совершенное им зло, то любовь Квазимодо становится решающей для его духовного пробуждения и развития; гибель Квазимодо в финале романа в отличие от гибели Клода воспринимается как своего рода апофеоз: это преодоление уродства телесного и торжество красоты духа. Таким образом, источник драмы в романе (а Гюго называл “Собор Парижской Богоматери” “драматическим романом”) кроется в столкновении отвлеченных идей, положенных в основу его персонажей: уродство и доброта Квазимодо, аскетизм и чувственность Фролло, красота и ничтожество Феба. Судьбы персонажей “Собора” направляются роком, о котором заявляется в самом начале произведения, однако в отличие от неясного романтического фатума, тяготевшего над героями “Эрнани” и “Марион Делорм”, здесь рок символизируется и персонифицируется в образе Собора, к которому так или иначе сходятся все нити действия. Можно считать, что Собор символизирует роль церкви и шире: догматическое миросозерцание в средние века; это миросозерцание подчиняет себе человека так же, как Собор поглощает судьбы отдельных действующих лиц. Тем самым Гюго передает одну из характерных черт эпохи, в которую разворачивается действие романа. В то же время на примере судьбы Клода Фролло Гюго стремится показать несостоятельность церковного догматизма и аскетизма, их неминуемый крах в преддверии Возрождения, каким для Франции был конец XV века, изображенный в “Соборе”. Поэтому нельзя сказать, что роман Гюго лишен внутреннего историзма, что он ограничивается передачей внешнего, хотя и мастерски воссозданного исторического колорита. Некоторые существенные конфликты эпохи, некоторые типические ее характеры (прежде всего король Людовик XI) изображены им в полном соответствии с исторической истиной. Успех романа у современников и у последующих поколений был во многом обусловлен его необычайной пластичностью, живописностью. Не отличаясь глубиной психологического анализа, “Собор” впечатлял эффектностью противопоставления персонажей, красочностью описаний, мелодраматизмом ситуаций. Несмотря на сдержанность или враждебность прессы, книга была восторженно встречена читателями. 1831 год обозначает начало нового периода в жизненном и творческом пути Гюго. Писатель многого достиг - им одержаны внушительные победы в области лирической поэзии, драматургии, прозы. Произошел весьма заметный сдвиг влево в его политических убеждениях. Можно сказать, что его литературная молодость окончилась. В это же время дает трещину семейная жизнь Гюго: его жена Адель увлекается начинающим литератором Сент-Бёвом, после чего отношения супругов Гюго становятся чисто номинальными; в 1833 году поэт сближается с актрисой Жюльеттой Друэ, и она остается спутницей его жизни вплоть до своей кончины в 1883. году. Ради Гюго Друэ оставляет сцену и живет в уединении, занимаясь перепиской рукописей поэта. Свое убежище она покидает только для совместных летних путешествий - в Бретань (1834), Пикардию и Нормандию (1835), Бретань и Нормандию (1836), Бельгию (1837), Шампань (1838), по берегам Рейна, Роны и :' Швейцарию (1839-1840), в Пиренеи и Испанию (1843). Эти путешествия расширили кругозор Гюго, обогатили его новыми впечатлениями. Гюго делает многочисленные зарисовки (он был превосходным рисовальщиком) пейзажей, памятников архитектуры и старины. Письма к жене и друзьям свидетельствуют о более углубленном, философском взгляде на мир, что вскоре проявилось и в его творчестве. Творческая продукция Гюго в 1830-х годах весьма обильна. Прежде всего это четыре сборника стихотворений - “Осенние листья” (1831), “Песни сумерек” (1835), “Внутренние голоса” (1837), “Лучи тени” (1840); затем драма в стихах “Король забавляется (1832) и три драмы в прозе - “Лукреция Борджиа” (1833 “Мария Тюдор” (1833), “Анджело, тиран Падуанский” (1835). После некоторого перерыва - новая драма в стихах “Рю Блас” (1838). Кроме того, в марте 1834 года Гюго объедини статьи и этюды в сборник “Литературная и философская смесь! а в октябре того же года сначала в журнале, затем отдельным изданием он публикует повесть “Клод Гё”. Наконец Гюго намеревается издать письма о двух своих путешествия в Германию, которые составят книгу “Рейн” (1842). Все эти произведения характеризуются возросшей творческой зрелостью писателя, что было отмечено Сент-Бёвом уж в связи с выходом в свет сборника “Осенние листья”. Сент-Бёв писал, что “новой у поэта является скорее суть, чем манера”. Лирика Гюго приобретает более личный, более углубленный характер. В ней меньше бьющего на внешний эффект нет тяготения к экзотике далеких стран или эпох. Исчезает идеализация средневековья, католицизма. Увлечение готически” искусством уступает место интересу к Возрождению, к поэзии! Плеяды. Как бы вослед некоторым из участников этого своеобразнейшего объединения во французской поэзии XVI века уходившим в свой внутренний мир от потрясений гражданских междоусобиц, Гюго в предисловии к сборнику “Осенние листья” заявляет о своем желании основное место уделить в нем стихотворениям “безмятежным и мирным”, воспевающим радости семейной жизни, домашнего очага, самосозерцания. Стихотворения политического характера, говорит Гюго, войдут в другой сборник, уже подготовленный к изданию (им стал сборник “Песни сумерек”). Однако о своей верности свободолюбивым идеям Гюго считает нужным сказать и в предисловии к “Осенним листьям”, и в ряде включенных в сборник стихотворений. Так, в заключающем “Осенние листья” стихотворении под номером ХL поэт отрекается от монархических иллюзий юности и свидетельствует свою верность единственному культу “святой отчизны и святой свободы”. С воодушевлением говорит он о своей солидарности с народами Европы, изнывающими под игом тирании, о готовности отдать им “медную струну своей лиры”. В следующем сборнике - “Песни сумерек” - доминирует чувство тревоги, беспокойства. Источник этой тревоги в новой большой страсти, охватившей душу поэта, в отходе от религии, разочаровании результатами революции 1830 года, не принесшей народу свободы и благоденствия. В смятении поэт устремляет свой взор в будущее, пытаясь угадать, чем закончатся сумерки - мраком отчаяния или зарей надежды (“Прелюдия”). Воспевая народ, сбросивший реакционный режим Реставрации, в стихотворениях “Гимн” и “Писано после июля 1830 года”, Гюго в то же время отдает дань бонапартистским иллюзиям: бесславному режиму Луи Филиппа он противопоставляет величие Империи (“Ода Колонне”, “Наполеон II”). Сборник “Внутренние голоса” относится к числу наивысших достижений поэта. Созерцательность “Осенних листьев” и сатирические интонации “Песен сумерек” сливаются здесь в одно целое. Гюго осознает, что борьба за свободу и цивилизацию - такова миссия поэта в обществе; он сам должен показывать своим современникам путь к лучшему будущему. В любовных стихотворениях Гюго является певцом земного и в то же время одухотворенного чувства, основанного на внутренней общности и взаимопонимании. Продолжая линию трех предыдущих сборников, в новом сборнике “Лучи и тени” Гюго разрабатывает такие постоянные гемы своей лирики, как детство, любовь, природа. Ребенок для поэта не только воплощение невинной прелести, но и вечной тайны жизни. Любовь же побудительная сила всякой человеческой деятельности (“Тысяча дорог, цель одна”). Природа, то прекрасная и величественная, то страшная и неумолимая, находится в таинственном соответствии с душевным состоянием поэта: то он сам проецирует на нее свои чувства и переживания (“Oceano nox”), то, напротив, зрелище внешнего мира внушает ему определенное настроение (“Печаль Олимпио”). С новой силой звучит в сборнике “Лучи и тени” тема назначения поэта; по мысли Гюго, поэт - это пророк, путеводная звезда человечества (“Функция поэта”). Его не может оставить равнодушным зрелище человеческих страданий и нищеты (“Взгляд, брошенный в окно мансарды” и “Fiat Voluntas”), обездоленного и беспризорного детства (“Встреча”). В то же время в сборнике и философские размышления о смерти (“На кладбище в...”), о судьбе (“Индийский колодец”) и т. п. В 1830-е годы Гюго испытывает заметное воздействие идей утопического социализма, распространявшихся в это время во Франции учениками и последователями Сен-Симона. Под их влиянием в творчестве Гюго все сильнее начинает звучать социальная тема. В письме от 1 июня 1834 года издателю журнала “Обозрение социального прогресса” Ж. Лешевалье Гюго писал, что пришло время поставить решение вопросов социальных впереди вопросов политических, и выражал готовность содействовать этому. Если в конце 20-х годов интерес писателя к судьбе жертв буржуазной законности в известной степени объяснялся и романтическим тяготением к необычному, то теперь он становится сознательным защитником обездоленных, будучи убежден в том, что истоки преступлений заключены в социальных условиях. Разделяя с сенсимонистами иллюзию об эффективности моральной проповеди, обращенной к правящим классам, Гюго призывает их обратить внимание на судьбу обездоленных, стремится пробудить в них чувство милосердия ради решения социальных конфликтов. Его по-прежнему волнует вопрос смертной казни, судьба заключенных. За посещением парижской тюрьмы Бисетр в 1827 году следуют посещения каторги в Бресте в 1834 году и в Тулоне в 1839 году. Чувство сострадания к изгоям буржуазного общества вызвало к жизни повесть Гюго “Клод Гё” (1834), тематически примыкающую к “Последнему дню приговоренного к смерти”. Замысел повести относится к 1832 году, когда писатель прочитал в “Судебной газете” о процессе рабочего Клода Гё, убившего тюремного надзирателя и приговоренного к смертной казни. Однако написана повесть была лишь в июле 1834 года после второго восстания лионских ткачей в апреле этого года. Восстание лионских ткачей и другие выступления рабочего класса, не удовлетворенного результатами Июльской революции, со всей силой выдвинули перед французским обществом проблему положения пролетариата. Откликаясь на вопросы, поставленные самой жизнью, Гюго сделал героем своей повести рабочего, выражающего протест против социальной несправедливости. История Клода Гё предваряет историю Жана Вальжана в будущем романе “Отверженные”. Гё попал в тюрьму за кражу хлеба для голодающей подруги и ребенка; в тюрьме он убивает надзирателя, который всячески глумился над ним и унижал его человеческое достоинство. Повесть ставит вопрос об антигуманном характере буржуазного общества, толкающего бедняка на преступления; особо заостряет внимание автор на вреде, приносимом официальным правосудием; ни в коей мере не исправляя преступников, оно является орудием социальной мести. Знаменательно, что и сам герой повести отдает себе отчет, какую роль играет несправедливое общественное устройство в его судьбе, и предстает перед судом, исполненный сознания своей невиновности: “Я вор и убийца: я украл и убил. Но почему я украл? Почему я убил? Поставьте оба эти вопроса наряду с другими, господа присяжные”. Отвлеченно-романтический протест против смертной казни в “Последнем дне приговоренного к смерти” сменяется в “Клоде Гё” пониманием антинародной направленности существующего общественного устройства. В соответствии с этим повествование отличается сдержанностью, реалистичностью, хотя свойственная Гюго патетика дает о себе знать и здесь, являясь постоянной чертой его авторского стиля. Надо сказать, что Гюго не проявил последовательности в своих демократических убеждениях в 1830-1840-х годах. Временный спад освободительного движения лишает его правильных политических ориентиров и примиряет с Июльской монархией, осыпающей его официальными почестями (титул графа, звание пэра, членство во Французской академии). Последний раз бунтарские оппозиционные мотивы в полную меру зазвучат в таком произведении этого периода, как драма в стихах “Рюи Влас” (1838), являющаяся высшей точкой достижений Гюго-драматурга (сам поэт назвал ее “Монбланом” своего театра). Пьеса была создана в предельно краткий срок - с 5 июля по 11 августа 1838 года, но, как обычно у Гюго, этому предшествовал длительный период изучения источников и предварительной разработки темы. По утверждению поэта, замысел пьесы возник под воздействием эпизода из “Исповеди” Жан-Жака Руссо, в котором рассказывается о том, как, будучи лакеем в Турине, тот полюбил внучку графа Гувона. Авторитетный исследователь творчества Гюго Жан Батист Баррер указывает на то, что с еще большим основанием можно было указать на роман Леона де Вайи “Анжелика Кауфман”, вышедший в свет в марте 1838 года; в нем шла речь о мести известного английского живописца XVIII века Джошуа Рейнольдса (в романе выведен под именем Шелтона) своей немецкой коллеге Анжелике Кауфман: отвергнутый Анжеликой, он подстроил ее брак с самозваным графом Горном, который в действительности был слугой. Среди других примеров можно назвать использование темы “Смешных жеманниц” Мольера. Однако Гюго, как обычно, максимально парадоксально заостряет ситуацию (лакей, влюбленный в королеву), и действие разворачивается в Испании 1695 года. “Рюи Блас” образует как бы вторую створку диптиха из истории Габсбургской династии в Испании: если “Эрнани” относится к ее славному началу, то “Рюи Блас” являет картину ее упадочного конца. Для создания достоверной картины исторического прошлого Гюго тщательно проштудировал такие сочинения французских авторов, как “Реляция о путешествии в Испанию” г-жи д'Онуа (1691), “Нынешнее состояние Испании” аббата де Вейрака (1718). Эпизод появления дона Цезаря де Басана из каминной трубы взят им из мемуаров писательницы XVIII века г-жи де Креки, где говорится о подобном появлении знаменитого разбойника Картуша в доме г-жи де Бофремон. В обращении с историческим материалом Гюго был довольно свободен; если атмосфера двора испанского короля Карла II передана им достаточно верно, то в ряде случаев он допускает немалые отступления от исторических данных: так, второй жене Карла II Марии Нейбургской в пьесе приданы нежные, меланхолические черты первой жены, Марии Луизы Орлеанской. Главным для Гюго было столкнуть кастовый дух в его крайнем проявлении, какое могло породить дегенерирующее испанское феодальное общество, с чувством всепобеждающей любви. Характеризуя сюжет пьесы, в предисловии к ней Гюго говорит, что речь в ней идет о “мужчине, любящем женщину”. В эти слова вложен особый смысл: и лакей, и королева прежде всего люди; любовь уравнивает их, отменяет, делает призрачными их социальные различия. Структура произведения в соответствии с принципами, выдвинутыми еще в предисловии к “Кромвелю”, строится на антитезах: здесь сопоставляется трагическое и комическое (Рюи Блас и дон Цезарь), возвышенное и низкое (Рюи Блас и дон Саллюстий), презираемое и вознесенное на вершину могущества (Рюи Блас и королева). Интригу пьесы, несмотря на сложность и использование параллельной сюжетной линии, отличает уравновешенность; тональность ее меняется от акта к акту в зависимости от содержания (в первом акте преобладает интрига, во втором элегичность, в третьем политический пафос, в четвертом приключенческое начало, в пятом драматизм). Всеми этими чертами “Рюи Блас” близок к “Эрнани” и “Марион Делорм”. То новое, что здесь появляется, - это социально-политическая проблематика, которая в ранних пьесах была едва намечена. В предисловии к драме Гюго дает характеристику изображенной им эпохи. Это время, “когда монархия близка к развалу”. “Королевство шатается, династия угасает, закон рушится... все ощущают повсюду предсмертную расслабленность...” Всему этому разложению противостоит, по мысли Гюго, одна сила - народ, но не в нынешнем своем угнетенном состоянии, а в своем устремлении к сияющему будущему: “Народ, у которого есть будущее и нет настоящего; народ-сирота, бедный, умный и сильный; стоящий очень низко и стремящийся стать очень высоко... Народ - это Рюи Блас”. Содержание пьесы подтверждает этот автокомментарий. Развал феодальной монархии олицетворяют в ней такие персонажи, как бесчестный интриган и закоренелый злодей дон Саллюстий де Басан и другие представители правящей клики, которых, несмотря на различие индивидуальных особенностей, роднит одна общая черта - предельный эгоизм, хищничество, полное пренебрежение общественным благом. Своей вершины сатира на правящий класс достигает в знаменитом монологе Рюи Бласа из 2-й сцены III действия, где клеймится преступное равнодушие власть имущих к народной доле. В изменении существующего порядка вещей, в озабоченности власти судьбой народа видят спасение Испании и министр-лакей Рюи Блас, и поддерживающая его королева. Слова Гюго о том, что “народ - это Рюи Блас”, конечно, не следует понимать буквально. Благородный мечтатель, талантливый плебей, получивший из милости образование и ставший чем-то средним между слугой и секретарем у могущественного министра (как его однофамилец Жиль Блас в знаменитом и хорошо известном Гюго романе Лесажа),- это народ ч потенции, народ тех больших возможностей, которые не находят применения и которые одни только способны возродить страну. Несомненно, что пером Гюго, когда он писал свою драму, водила тревога за судьбу французского народа, положение которого нисколько не улучшилось после революции 1830 года. Писатель плохо представлял себе выход из создавшейся ситуации, питая определенные илллюзии относительно реформаторских намерений и возможностей правящей Орлеанской династии, с представителями которой, прежде всего с королем Луи Филиппом и его снохой Еленой Мекленбургской, он был близок. Невольное примирение с буржуазной монархией привело Гюго к творческому кризису. Свидетельством его явилась последняя драма Гюго “Бург-графы”, над которой он работал в 1841-1842 годах и премьера которой состоялась в театре Комеди-Франсез 7 марта 1842 года. Идея пьесы возникла во время путешествия по Рейну. По его словам, он хотел “мысленно воссоздать, во всем его размахе и мощи, один из тех замков, где бургграфы, равные принцам, вели почти королевский образ жизни”. В подобном городе-замке Гюго представляет нам четыре поколения бург-графов (властителей средневекового германского города), раздираемые враждой. Этим своевольным феодалам, исполненным сверхчеловеческой мощи и гордыни, противостоит император Фридрих Барбаросса, таинственно воскрешенный после того, как он утонул во время крестового похода. В пьесе иногда возникает социальная тема (инвективы старшего бург-графа Иова и императора Фридриха), но органического слияния этих реальных моментов с романтикой и фантастикой “пред-вагнеровского” толка не получилось, драма вышла тяжеловесной, успеха не имела (в зале раздавался свист) и после тридцати представлений была снята с репертуара. Обескураженный ее провалом Гюго навсегда отказался от драматургии. Личная жизнь Гюго того времени отмечена трагическим событием: 4 сентября 1843 года, когда поэт с Жюльеттой Друэ находился в трехнедельном путешествии по Пиренеям и Испании, его старшая дочь Леопольдина утонула вместе со своим мужем Шарлем Вакери, катаясь в лодке по Сене. Поэт узнал об этом 9 сентября из случайно попавшейся на глаза газеты во время остановки на постоялом дворе по пути в Париж. Горе его было бесконечным. Год спустя, 4 сентября 1844 года, в день гибели “Дидины”, он создает посвященное ее памяти стихотворение “В Виллекье”, являющееся одним из шедевров его лирики (вместе с другими стихотворениями, обращенными к Леопольдине, оно войдет впоследствии в сборник “Созерцания”). Однако вскоре его поглощает политическая деятельность в духе поддержки правящей династии. Беседы с Луи Филиппом становятся все более непринужденными, и нередко “корольгражданин” далеко за полночь провожает своего знаменитого гостя по коридорам Тюильри с факелом в руке. 13 апреля 1845 года король назначает Гюго пэром Франции, что никого не удивляет, но и не приветствуется. Гюго исправно посещает заседания палаты пэров (высшая палата тогдашнего французского парламента). В течение года он присматривается к окружающей обстановке, затем начинает выступать с речами - о милосердии по отношению к Леконту и Анри, судимым за покушение на короля (1846), о Польше, угнетаемой русским царизмом, о разрешении на въезд во Францию изгнанным представителям семьи Бонапартов, о народной нищете. По своим взглядам он либерал и гуманист, но отнюдь не социалист и даже не республиканец. Одно время король подумывает о том, чтобы сделать его премьер-министром. Тем временем общая атмосфера во Франции сгущается. С 1846 года страна находится во власти экономического кризиса, усугубляющегося неурожаями. В деревнях царил голод, нищета рабочих чудовищна. Народная ненависть к режиму финансовой олигархии, каким была монархия Луи Филиппа, все возрастает. В июле 1847 года при разъезде с празднества у герцога де Монпансье Гюго был поражен яростными взглядами и криками, какими толпа провожала гостей. “Когда толпа смотрит на богачей такими глазами, - записал он, - то это уже не мысли, а события”. В сентябре он пишет: “Старая Европа рушится... завтрашний день окутан тьмой, а существование богачей поставлено под вопрос этим веком как существование знати веком прошедшим”. 22 февраля 1848 года власти запрещают один из банкетов, организация которых входила в кампанию либеральной буржуазии в пользу избирательной реформы. Это неожиданно вызывает сильнейшее волнение, и размах демонстраций таков, что Луи Филипп решает уволить в отставку реакционное министерство Гизо. Но уже поздно. Вечером 23 февраля в стычке перед министерством иностранных дел убито шестнадцать манифестантов, всю ночь их тела республиканцы возят на повозке по Парижу, и к утру столица покрывается баррикадами. После перехода национальной гвардии на сторону восставших Луи Филипп отрекается от престола в пользу своего малолетнего внука, графа Парижского. Собравшиеся в палате депутаты готовы поручить регентство его матери Елене Мекленбургской, приятельнице Гюго, и поэт активно поддерживает эту кандидатуру, " по настоянию ворвавшихся в собрание рабочих избирается временное правительство, в которое входят поэт Ламартин, адвокат Ледрю-Роллен, ученый Араго, историк Луи Блан и другие и которое вскоре провозглашает республику. Эти буржуазные и мелкобуржуазные республиканцы не обладали почти никакой реальной властью и не оправдывали ни революционных устремлений масс, ни охранительных надежд буржуазии. В свой актив они могли занести только снятие всяких ограничительных запретов с прессы, которая переживает в это время необычайный подъем. Потеряв звание пэра, отмененное республикой, Гюго становится мэром VIII округа Парижа. В апреле он баллотируется на выборах в Учредительное собрание, но терпит поражение и проходит в депутаты от департамента Сены лишь на дополнительных выборах в июне по списку правых. По иронии судьбы и Учредительном собрании он заседает рядом со своим будущим мергельным врагом Луи Бонапартом, племянником НаполеонаI, получившим то же количество голосов, что и он. Наступают июньские события 1848 года. В феврале под давлением рабочих временное правительство провозглашает право на труд и для обеспечения занятости открывает так называемые “национальные мастерские”. Когда же в июне 1848 года 120000 рабочих было предложено оставить мастерские и выбирать между вступлением в армию или отправкой в провинцию на земляные работы, рабочие, уставшие от бесконечных обещаний улучшить их участь, поднимают восстание. 23 июня предместья Сент-Антуан, Тампль, Сен-Жак, Сен-Дени покрываются баррикадами. Смертельно напуганная буржуазия через Учредительное собрание вручает диктаторские полномочия генералу Кавеньяку, который топит восстание в крови. Национальные мастерские закрываются. Идут массовые ссылки рабочих, восстанавливается сокращенный после революции двенадцатичасовой рабочий день, серьезно урезывается свобода печати. Позиция Гюго во время июньских событий свидетельствует о том, что он недостаточно разобрался в их существе. В своей первой речи в Учредительном собрании 20 июня 1848 года он выступил за закрытие национальных мастерских, не понимая, что искусственная занятость, которую они обеспечивали, была временной, тактической уловкой буржуазии. С болью и негодованием Гюго говорил в своей речи о нищете и страданиях народа, ратуя, однако, за мирное разрешение социальных конфликтов. Во время восстания он обходит баррикады, обращается к рабочим с увещаниями, призывает их сложить оружие, прекратить кровопролитие. В свою очередь, инсургенты врываются в жилище Гюго (в течение трех дней восстания он отрезан от дома) и поджигают его. Тем не менее кровавая бойня, учиненная Кавеньяком, вызвала у него отвращение, а на репрессивные меры генерала-диктатора против свободы печати и оппозиционных писателей он отозвался протестующей речью с трибуны Учредительного собрания. Впоследствии в заметке “Я в 1848 году”, включенной в книгу “Океан”, Гюго так обрисовал свою позицию по отношению к июньскому восстанию: “Либерал, социалист, преданный народу, но еще не республиканец, еще напичканный предрассудками против революции, хотя и полный отвращения к осадному положению, высылкам без суда и Кавеньяком, с его поддельной республикой военных”. Вскоре после переселения Гюго из разгромленной квартиры на площади Вогезов, где он прожил шестнадцать лет и где бывали Ламартин, Нодье, Дюма, Готье, Нерваль, герцог Орлеанский с женой Еленой и многие другие, писателя посещает в его новом жилище на улице Латур-д'0вернь Луи Наполеон Бонапарт и просит поддержать его кандидатуру в качестве президента республики, выборы которого должны состояться в конце года. Гюго мало что знает о своем посетителе, кроме того, что он племянник великого дяди, автор брошюр социалистического толка и неудачливый заговорщик, отбывавший при свергнутом режиме заключение в крепости. Луи Бонапарту удалось, с одной стороны, польстить самолюбию Гюго, говоря о его громадном влиянии на общественное мнение, с другой - уверить его в том, что он стремится к социальной справедливости, порядку и демократии и берет себе за образец не Наполеона, а Вашингтона. Ловкому демагогу и политическому авантюристу удалось обмануть Гюго, и в ноябре 1848 года в основанной им летом вместе с сыновьями газете “Эвенман” (“Событие”) Гюго начинает кампанию в пользу избрания Бонапарта на предстоящих в декабре всеобщих выборах. Отчасти благодаря Гюго принц Луи Наполеон был избран президентом республики. Будучи внутренне независимым, “надпартийным”, Гюго, однако, тяготеет в это время к правым, поскольку поддерживает идею порядка и равновесия. Однако по мере того как “партия порядка” отказывается от проведения обещанных социальных преобразований, Гюго постепенно берет курс на левые круги, которые поначалу относятся к нему с недоверием. 13 мая 1849 года Гюго, числящийся еще среди правых, избирается депутатом от Парижа в Законодательное собрание, сменившее Учредительное собрание. Рассорила его с “партией порядка” речь “По римскому вопросу” (15 октября 1849 года), в которой Гюго потребовал вывода из Рима французских войск, направленных туда Луи Бонапартом для восстановления светской власти папы Пия IX, изгнанного народом. Эта акция была предпринята президентом в целях заручиться поддержкой французских клерикалов. Таковы же были цели законопроекта Фаллу о народном образовании, согласно которому оно ставилось под надзор католической церкви. Гюго яростно обрушился на этот законопроект, обвиняя его сторонников в стремлении “поставить иезуита повсюду, где нет жандарма” (речь “О свободе образования” 15 января 1850 года). Продолжительные аплодисменты левой части Законодательного собрания вызвали заключительные слова его речи: “Вы не желаете прогресса? У вас будут революции!” Неудивительно, что автору подобной речи принц-президент не доверил министерства народного образования, на что Гюго одно время надеялся. В разгар гражданских смут 28 августа 1850 года после тяжелой болезни умирает Бальзак. У гроба величайшего французского прозаика на кладбище Пер-Лашез Гюго произносит речь, в которой склоняется перед его гением и противопоставляет величие ушедшего титана ничтожеству пигмеев, дорвавшихся до власти во Франции: “Человек, сошедший в эту могилу,один из тех, кого провожает скорбь общества. В наше время иллюзий больше нет. Теперь взоры обращены не к тем, кто правит, а к тем, кто мыслит, вот почему, когда один из мыслящих уходит, содрогается вся страна. Смерть человека талантливого - это всеобщий траур, смерть гениального человека - траур всенародный”. Что восхищение Бальзаком было искренним, Гюго доказал многими страницами своего шедевра, “Отверженных”, на которых лежит явная печать воздействия творца “Человеческой комедии”. Между тем политические события во Франции разворачивались в направлении установления авторитарного режима. Почувствовав опасность разветвленного монархического заговора, Гюго все активнее выступает в газете “Эвенман” и в Законодательном собрании против мероприятий, расчищающих дорогу к диктатуре Луи Наполеона. Он обрушивается со всем пылом своего красноречия на избирательный закон, сокративший число избирателей за счет рабочих, на ограничительные установления для печати, на закон о политических ссылках. 17 июня 1851 года Гюго поднимается на трибуну Законодательного собрания, чтобы протестовать против пересмотра статей конституции, запрещающих переизбрание президента республики на второй срок. Пересмотром этих статей бонапартисты старались обеспечить повторное избрание Луи Наполеона. Гюго прямо заявил о существовании монархического заговора и сорвал маску с мнимого защитника республики принца-президента: “Как! Разве после Наполеона Великого нам нужен Наполеон Малый?!” После этой речи парижские рабочие впервые выразили Гюго свою поддержку. Получает он свидетельство симпатии и солидарности от Мадзини и других зарубежных демократов и республиканцев, с которыми у него установились связи на Конгрессе друзей мира, проходившем под его председательством в Париже в августе 1849 года. Включившись в международное движение, Гюго заявляет о своей поддержке борьбы за отмену рабства в США. Отклонение пересмотра конституции Законодательным собранием заставляет Луи Бонапарта лихорадочно готовиться к государственному перевороту до истечения срока своих полномочий в 1852 году. Прежде всего он обрушивается на своих политических врагов. 30 июля арестован сын Гюго Шарль; в сентябре запрещается издание газеты “Эвенман” (начинает затем выходить под новым названием “Авенман дю пёпль” - “Восшествие народа”); в ноябре подвергается аресту другой сын Гюго- Франсуа Виктор. Сам писатель в ожидании ареста держит на своем ночном столике конституцию, он предвидит государственный переворот, который тем не менее застает его врасплох. На рассвете 2 декабря 1851 года, в годовщину коронования Наполеона I и сражения при Аустерлице, Луи Бонапарт насильственно присвоил себе всю полноту власти, декретировал роспуск Законодательного собрания, ввел военное положение, арестовал большинство своих политических противников. Триста депутатов, собравшиеся выразить протест против переворота в мэрии Х округа Парижа, были заключены в казармы. Подобные меры устрашения способны были воздействовать на многих, но не на Гюго. Утром 2 декабря он принимает участие в собрании группы депутатов - левых республиканцев на одной из частных квартир, а затем на улицах Парижа держит речи к народу вместе с депутатом Боденом, которого ждет геройская смерть на баррикаде в Сент-Антуанском предместье. Гюго были написаны прокламации “К армии” и “К народу”, в которых он призывал к отказу от повиновения диктатору. 3 декабря рабочие кварталы начали восстание против Бонапарта. На следующий день баррикадами покрылись бульвары. Но армия не поддержала народ. Сводный брат Луи Наполеона де Морни отдал приказ: “Стрелять без промаха”. Началась настоящая бойня: не щадили ни женщин, ни детей. Уже сломленный неудачами своих выступлений 1848 - 1849 годов, рабочий класс Парижа терпит поражение. 21 декабря плебисцит подавляющим большинством голосов узаконил государственный переворот, а год спустя Луи Бонапарт стал “императором французов” под именем Наполеона III. В течение девятнадцати лет существования бонапартистского режима Гюго вел с ним неустанную борьбу. Некоторое время Гюго находится в Париже на нелегальном положении. Голова поэта оценена в 25000 франков, а позднее он узнает, что Бонапарт дал понять о желательности его расстрела на месте в случае поимки. 11 декабря 1851 года с добытым Жюльеттой Друэ паспортом на имя рабочего Ланвена Гюго покидает Париж и направляется в Брюссель. Декретом от 9 января 1852 года Гюго объявляется в “изгнании”. До обнародования декрета жене Гюго, Адели, оставшейся пока в Париже, удается благодаря влиятельным связям добиться сохранения за поэтом авторских прав и жалованья академика, но помешать распродаже с торгов движимого имущества она не может. Самая бурная, яркая и драматическая глава в биографии Гюго окончилась, таким образом, внешним поражением. Однако поэт удалялся в изгнание с сознанием неизмеримого морального превосходства над временно торжествующим авантюристом, обогащенный опытом политической борьбы и, главное, возрожденный сопричастностью судьбе трудового народа. Как он, записав на полях рукописи “Отверженных”, в 1848 году “прервал работу” пэр Франции, а продолжил “изгой”. Политические события отвлекали Гюго от литературного творчества, хотя и в годы смуты он продолжал работу над будущим сборником “Созерцания” и над “Нищетой”. Но только благодаря событиям 1848 - 1851 годов Гюго стал великим национальным писателем, популярнейшим представителем французской литературы в мире. Гюго с мужеством и достоинством переносит свое новое положение политического изгнанника. “Надо достойно пройти парадом, который может окончиться быстро, но может быть и долгим”, - пишет он 22 февраля 1852 года. Для него и его близких начинается пятилетнее “бивуачное” существование, которое окончится лишь с приобретением Отвиль Хауза на острове Гернси. В Брюсселе Гюго остается в течение семи месяцев. 15 декабря сюда прибывает Жюльетта Друэ, налаживающая его быт (жена пока охраняет его интересы в Париже). Гюго внешне постарел, лицо его изборождено морщинами и складками, он отяжелел, перестал следить за прической, небрежен в одежде, жалуется (не вполне обоснованно) на стесненность в средствах. К умеренности обязывает его, как он считает, и его положение изгнанника. “На мне сосредоточены все взоры, - пишет он жене 19 января.- Я открыто и горестно живу в труде и лишениях”. Гюго рассчитывает в Брюсселе завершить рукопись “Нищеты” (“Отверженных”), привезенную с собой из Парижа, но политические страсти берут верх, и роману еще немало придется ждать своего часа. В конце января к Гюго в Брюссель приезжает выпущенный из тюрьмы сын Шарль, и постепенно вокруг них образуется целая колония французских политэмигрантов. Они обсуждают происшедшие события, делятся воспоминаниями. В этой атмосфере Гюго задумывает детальную историю государственного переворота, которую назовет “История одного преступления”. Законченная в основном в Брюсселе, книга не нашла издателя ввиду крайней резкости своего тона и была опубликована в доработанном виде лишь в 1877 году, когда во Франции республике снова угрожал монархический заговор маршала Мак-Магона. “Действующее лицо, свидетель и судья, я настоящий историк”,- пишет Гюго жене. Относительно последнего Гюго ошибался. “История одного преступления” и выросший из нее памфлет “Наполеон Малый” (1852) - это скорее яростные памфлеты, не щадящие выражений в разоблачении и дискредитации Луи Бонапарта и его приспешников почти исключительно с моральных позиций, вне анализа политической и социальной ситуации во Франции, приведшей к бонапартизму. Карл Маркс писал по этому поводу в предисловии ко второму изданию своей работы “18 брюмера Луи Бонапарта”: “Виктор Гюго ограничивается едкими и остроумными выпадами против ответственного издателя государственного переворота. Самое событие изображается у него, как гром среди ясного неба. Он видит в нем лишь акт насилия со стороны отдельной личности. Он не замечает, что изображает эту личность великой вместо малой, приписывая ей беспримерную во всемирной истории мощь личной инициативы”. Тем не менее пропагандистская роль памфлета “Наполеон Малый” была огромной. Он выдержал десять изданий, тайно ввозился из Бельгии во Францию, будоражил умы, склоняя их к оппозиции режиму, представавшему под пером Гюго воплощением преступности и безнравственности. Гюго понимал, что после публикации “Наполеона Малого” он не сможет оставаться в Бельгии, признавшей режим Луи Бонапарта и принявшей в декабре закон о деятельности иностранцев на своей территории. Он обращает свои взоры в сторону Лондона, центра европейской политэмиграции (там, в частности, находились близкие ему по духу Кошут и Мадзини), а затем избирает франкоязычный английский остров Джерси. До отъезда писатель заключает договор на общедоступное издание своих сочинений с издателями Этцелем и Мареском. 2 августа 1852 года он в Лондоне, где делает трехдневную, не приносящую ему удовлетворения, несмотря на встречи с Мадзини и Кошутом, остановку и 5 числа, в день выхода в Брюсселе “Наполеона Малого”, вместе с сыном Шарлем сходит на берег в Сент-Элье, административном центре острова Джерси. Здесь их встречают заранее прибывшие г-жа Гюго с дочерью Аделью и преданный ученик Вакери (брат погибшего вместе с Леопольдиной). Шестого на остров приезжает Жюльетта Друэ, а затем, по выходе из тюрьмы, второй сын - Франсуа Виктор. Гюго опять испытал сильнейшее потрясение, ему приходилось начинать все как бы заново. Но можно сказать, что на Джерси и начался Гюго “настоящий”, вкладывая в последнее слово понятие подлинности как по отношению к писателю, так и по отношению к реальности (раннего Гюго, отдавая дань его одаренности, считали не в ладу с действительностью и Бальзак, и Гете, и Пушкин). Гюго поселяется в большом белом доме на берегу моря под названием Марин-Террас. Первое время он наслаждается отдыхом, прогулками, морскими купаниями, рыбной ловлей. 3 активную работу принимается в октябре 1852 года. Каждый день писатель запирается в своем кабинете на втором этаж и работает перед окном, обращенным в сторону моря. Он обуреваем яростным, пламенным гневом против виновника государственного переворота и не устает бичевать его как в стихах так и в чрезвычайно возбужденных разговорах. В мыслях о подводит итог большому отрезку жизненного пути, думает наступающей старости, но прежде всего о судьбе Франции оказавшейся под властью ничтожного проходимца, по отношению к которому он считает необходимым совершить акт мести! Этим актом мести явился сборник “Возмездие”, над стихотворениями которого Гюго работал в течение восьми месяце с октября 1852 года, но появился в свет он только 25 ноября 1853 года, причем Этцель выпустил два издания - одно с пропусками наиболее резких мест (на титульном листе сборник местом издания указывался Брюссель) и другое - полное, с вымышленным указанием “Женева и Нью-Йорк, Всемирная типография, Сент-Элье”, дабы обезопасить книгу от судебного преследования бельгийскими властями; это последнее издание отдельными листами тайно ввозилось во Францию и брошюровалось на месте. Успех ее был огромен. После тринадцати лет молчания Гюго заявил о себе как поэт, полностью обновивши если не творческую манеру, то тематику своей поэзии. “Возмездие” считается самой гневной книгой французе” поэзии: в ней более шести тысяч стихотворных строк, и свыше половины из них - это неистовые обвинения, язвительные нападки, грубая, иногда почти площадная брань, подчиненные строгой четкости александрийского размера. “Ювеналов бич” французской поэзии после великого мастера политической сатиры XVI века Агриппы д'Обинье оказался в надежных руках Сборник буквально ошеломил читателей, привыкших к “прежнему” Гюго, и окончательно заявил о переходе Гюго в ряд демократических республиканцев, на позиции активных поборников справедливого политического и общественного устройств В “Возмездии” Гюго впервые рисует картину светлого будущее! человечества (“Ultima Verba”), и впоследствии она не раз будет представать перед его поэтическим взором. Присутствует он в частности, и в следующем за “Возмездием” поэтическом сборнике “ Созерцания ”. “Созерцания” вышли в свет 23 апреля 1856 года одновременно в Брюсселе к Париже (Наполеон III вынужден был держать “открытой” дверь для великого национального писателя; произведения Гюго, кроме содержавших личные выпады против императора, продолжали издаваться во Франции, освещаться критикой в газетах и журналах). Замысел “Созерцаний” возник еще в 1835 - 1838 годах и был вызван к жизни тем мощным подъемом поэтических сил, которые Гюго испытывает в джерсейском уединении. Тогда Гюго намеревался назвать книгу “Созерцания Олимпио” (именем Олимпио Гюго обозначал лирическую сторону своей личности). В 1846 году он собирает, уже под названием “Созерцания”, известное количество “неизданных стихов”. В августе 1852 года он говорит о “томе стихов... который будет готов через два месяца”, а в сентябре о книге, которая объединяла бы гражданскую и личную поэзию и делилась бы на две части - “Некогда” и “Ныне”, как делятся “Созерцания” в своем окончательном виде. Затем перевес политической поэзии побудил Гюго выделить ее в особую книгу - “Возмездие”. Следующую книгу он решил отдать целиком “чистой” поэзии. “После эффекта красным, эффект голубым”,- писал он 21 февраля 1854 года своему ученику Полю Мёрису. В предисловии к сборнику Гюго торжественно заявляет: “...эту книгу надо читать так, словно ее написал человек, которого уже нет в живых. Двадцать пять лет жизни заключено в этих двух томах”. “Созерцания”, являясь как бы интимным дневником, разговором с самим собой, обращены к впечатлениям, размышлениям и воспоминаниям поэта о 1834 - 1855 годах: “Если бы это не звучало несколько претенциозно, их можно было бы назвать “Воспоминания души”. В “Созерцаниях” Гюго сделал большой шаг вперед по пути к классической простоте, к отказу от театральной позы, декламационной приподнятости, искусственности и напыщенности. И здесь, правда, встречаются “антологические” стихотворения или шаблонные общие места, но в целом сборник представляет поэзию Гюго с ее наиболее сильной стороны, в нем содержится большое число его поэтических шедевров. Искренность, неподдельность тона произвели ошеломляющее впечатление на современников Гюго, которых поразила способность поэта к постоянному обновлению. Книга имела исключительный успех. “Созерцания” состоят из шести циклов, делящихся на две части по отношению к дате гибели Леопольдины Гюго (1843) - “Некогда” (стихи 1830-1843 годов) и “Ныне” (стихи 18431856 годов), причем датировки под стихотворениями не всегда обозначают время создания, зачастую лишь соотнося стихотворение с тем или иным событиям жизни Гюго. В первых трех циклах — “Заря”, “Душа в цвету” и “Борьба и мечты” преобладают стихотворения, близкие по своему поэтическому настрою к поэзии 1830-х годов. В цикле “Заря” говорится о юношеской восторженности, о радости открытия мира, о первых литературных успехах. В пространном “Ответе на обвинение” Гюго повествует о той революции, которую он произвел во французской литературе, излагает принципы своей поэтической реформы, суть которой в демократизации поэзии. Цикл “Душа в цвету” воспевает любовь, мечтательность, красоту окружающего мира. В цикле “Борьба и мечты”, хотя он относится еще к части “Некогда”, появляется тема земного зла, тяжелых жизненных испытаний, социальной несправедливости (стихотворение “Melancholia”, навеянное известной картиной Дюрера, изображающей скорбного ангела, исполненного печали за род человеческий). Заключительное стихотворение цикла - “Magnitudo parvi” (“Величие смиренного”) переводит в символический план образ смиренномудрого созерцающего пастуха, которому открыты тайны мироздания и общение с Богом. Отныне эта пантеистическая тема станет одной из ведущих в поэзии Гюго. Четвертый цикл - “Pauca meae” (“Моей крошке”) открывает раздел “Ныне” и целиком посвящен дочери и переживаниям и размышлениям, связанным с ее смертью (“Привычку милую имела с юных лет...”, “Едва займется день, я с утренней зарею...”, “В Виллекье”, “Mors” - “Смерть”). В следующих циклах находит развитие образ поэта-созерцателя, находящегося во власти своих видений. В цикле “В пути” это размышления о жизни (“На дюне”), над ее повседневными картинами (“Нищий”, “Пастухи и стадо”). В цикле “На краю бесконечности” перед нами образ пророка, полного решимости разгадать загадку бытия (стихотворение “Ibo” - “Пойду”). Никогда Гюго не удавалось объединить в одном поэтическом сборнике такое разнообразие поэтического материала, и никогда он не достигал такой глубины в трактовке своих поэтических тем, как в “Созерцаниях”. Поэтическое искусство Гюго в этом сборнике достигает своей вершины. Сборник “Созерцания” принес Гюго большой коммерческий успех. Это было очень кстати, ибо поэту хотелось иметь надежное пристанище для себя и своей семьи. Дело в том, что еще в 1855 году ему пришлось покинуть свое джерсейское убежище. После официального визита Наполеона III в Лондон (шла Крымская война, за событиями которой Гюго следил с большим интересом) английская королева Виктория летом 1855 года отправилась, в свою очередь, во Францию, что привело к публикации в Лондоне французским изгнанником Феликсом Пиа протеста, составленного в самых резких выражениях. Газета эмигрантов, проживавших на Джерси, перепечатала его. Редактор и двое его сотрудников были немедленно высланы. Гюго, не одобрявший форму, в которую Пиа облек протест, тем не менее выразил солидарность с газетой. Результатом была высылка всех французских эмигрантов. 31 октября 1855 года Гюго с семьей отплыл с Джерси на соседний остров Нормандского архипелага Гернси. Здесь он 16 мая 1856 года, после выхода “Созерцаний”, покупает дом № 38 за 24000 франков и называет его Отвиль-Хауз, после некоторых колебаний не назвать ли его Либерти - Хауз (Дом Свободы). В августе он пишет Жюлю Жанену: “От первой балки до последней черепицы “Созерцания” оплатят все. Эта книга дала мне крышу над головой...” Преимущество этого приобретения было в том, что оно затрудняло высылку Гюго, поскольку он становился домовладельцем и налогоплательщиком, неудобство - в том, что оно привязывало писателя к Гернси, хотя надежд на скорое возвращение во Францию у него поубавилось: режим Наполеона III был признан Англией, Крымская война окончилась победой Франции и Англии над Россией и заключением закреплявшего ее Парижского мирного договора 1856 года, императрица Евгения родила Наполеону долгожданного наследника престола. Как бы то ни было, Отвиль-Хауз обеспечивал Гюго независимость и возможность трудиться и стал чем-то вроде французской Ясной Поляны, откуда в течение четырнадцати лет раздавался громовой непокоренный голос поборника свободы и справедливости. Как и на Джерси, Гюго подчиняет свой день строгой дисциплине. Встает он рано, обливается холодной водой, затем ему приносят к завтраку два яйца и черный кофе, после чего он совершает ребяческий по внешности ритуал: посылает воздушные поцелуи в направлении соседнего дома, где живет Жульетта Друэ; знаком для нее, что ночь прошла хорошо, служит белая салфетка, вывешенная на перилах балкона. До полудня Гюго работает в застекленной вышке над домом, откуда в ясную погоду видно нормандское побережье и где он чувствует себя как бы в открытом небе, “посреди вечных материй”. В полдень к столу Гюго, всегда открытому для многочисленных гостей, сходятся французские изгнанники, посетители с материка, многочисленное женское общество, которое он всегда весьма ценит. После второго завтрака Гюго обычно встречается с Жюльеттой Друэ, и они вместе отправляются на прогулку по живописным местам острова. Около трех часов дня Гюго возобновляет работу до обеда и старается к 10 часам вечера быть в постели. Этот режим обеспечивает ему хорошее здоровье и настроение, исключительную работоспособность и удовлетворение результатами своего интенсивного труда. В отличие от Гюго семья его, к которой также присоединилась сестра г-жи Гюго, тяготится пребыванием на острове, но в течение трех лет полностью разделяет изгнание поэта, что дается ей нелегко, ибо гернсейское “общество” держит их на расстоянии." Старший сын Шарль Гюго занят фотографией и любовными интрижками, составляет биографический очерк “Люди изгнания”; младший Франсуа Виктор, уравновешенный и усидчивый, затевает точный прозаический перевод всего Шекспира, который будет выходить в свет с 1859 по 1866 год и принесет ему уважение знатоков. Склонная к меланхолии дочь Адель музицирует на фортепьяно, а в перерывах ведет подробный “Дневник изгнания”, полный жалоб на тоскливое существование. Г-жа Гюго, на основе собственных воспоминаний и “романтизированных” свидетельств мужа, пишет, иногда под его прямую диктовку, известную книгу “Виктор Гюго по рассказам одного из свидетелей его жизни” (опубликована в 1863 году). Ободренный успехом “Созерцаний”, Гюго чувствует себя во власти поэтического вдохновения. По совету своего издателя Этцеля он принимается за активную работу над сборником “маленьких эпопей”, небольших поэм на сюжеты мифологии, Священного писания, житийной литературы и всеобщей истории. Так появилась знаменитая “Легенда веков”, первая серия которой вышла в свет в октябре 1859 года. Выход книги был значительным общественным и литературным событием. С одной стороны, книга заявляла соотечественникам Гюго о том, что их крупнейший национальный поэт находится в изгнании в знак протеста против существующего в стране режима, который вынужден тем не менее считаться с ним, не осмеливаясь даже чинить препятствия к изданию его книг на родине, несмотря на гордый отказ эмигранта вернуться во Францию по всеобщей амнистии 1859 года (18 августа он заявил в своей “Декларации” по поводу этого события: “Я вернусь, когда вернется свобода”). С другой стороны, “Легенда веков” свидетельствовала о том, что не только не потускнели, а во многом приобрели новую яркость краски поэтической палитры Гюго, но и творческие возможности романтизма, принципам которого писатель оставался верен до конца, еще далеко и далеко не исчерпаны. Во Франции сошли со сцены такие поэты-романтики, как Альфред де Мюссе и Жерар де Нерваль, в 1857 году гром ко заявили о себе предтеча символизма Шарль Бодлер со своими “Цветами Зла”, осужденными наполеоновской юстицией предтеча натурализма Гюстав Флобер с “Г-жой Бовари”, едва избегший осуждающего приговора, а гернсейский патриарх извлекал все новые и новые звуки из своей романтической чары, приковывая к себе всеобщее внимание и вызывая удивление. Гюго продолжал работать над “Легендой веков” до конца своей жизни (вторая серия вышла в свет в 1877 году, третья - в 1883 году; при публикации третьей серии Гюго заново перегруппировал весь состав сборника). Основной замысел произведения- показать движение человечества к светлому и счастливому будущему, начиная от первой стадии - “От Евы до Иисуса триста” и до “Двадцатого века”, а затем “Запредельного времени”. В стихотворении “Видение, из которого родилась эта книга” (вторая серия) содержание “Легенды веков” определяется Гюго так: “Это эпопея человечества, горькая, исполинская, вся в руинах”. Показывая историю человечества, его поисков, заблуждений, страданий и обретений через его легенды, Гюго обнаруживает несравненный живописный дар (“Героический христианский цикл”, “Странствующие рыцари”, “Восточные троны”). Философское содержание сборника прекрасно передают такие вещи, как “Сатир”, “Открытие моря”, “Открытое небо”. Любовь, подлинными хранителями которой являются простые люди (“Бедняки”), и сострадание (“Жаба”) предстают в эпопее как залог спасения и искупления человечества. Мощность поэтического дыхания Гюго в “Легенде веков” поразительна, слияние эпического и лирического начал не знает себе равных в мировой поэзии. В ряде случаев он, варьируя темы высочайших вершин мировой словесности, создает равновеликие им произведения (библейская Книга Руфи подвигла его на создание “Спящего Вооза”, вдохновенного и неповторимого гимна союзу мужчины и женщины, в котором внутренний трепет перед этим великим таинством сопровождается чувством несказанной благодарности за дар жить в этом мире, ощущать дивную красоту вселенной, ее гармонию и совершенство). Выпустив в свет первую серию “Легенды веков”, Гюго обращается к работе над начатой ранее поэмой “Конец Сатаны”. Гернсейское уединение способствует продуктивной творческой работе, тем более что Отвиль-Хауз постепенно пустеет. В январе 1858 года г-жа Гюго вместе с дочерью впервые отъезжает в Париж под предлогом поправления здоровья Адели, и затем их отлучки становятся все более частыми. Порываются покинуть отцовский кров и сыновья, упрекающие отца за прижимистость по отношению к семье и щедрость к чужим (треть текущих расходов Гюго идет на подарки и помощь изгнанникам, нуждающимся и нищим). 3 октября 1858 года Гюго заносит в свою записную книжку горькие слова: “Дом твой; тебя оставят в нем одного”. Верной ему до конца останется лишь Жюльетта Друэ. В затихшем Отвиль-Хаузе Гюго творит, по выражению Жюля Мишле, “с энергией сангвинической натуры, постоянно подстегиваемой морским ветром”. Однако поэт чутко прислушивается к тому, что происходит в мире. В декабре 1859 года он поднял голос в защиту борца за освобождение негров в США Джона Брауна, приговоренного к смертной казни. Его обращение к американским властям остается безрезультатным: 16 декабря Браун был повешен. Тогда, обращаясь к мировому общественному мнению, Гюго отдает награвировать собственный рисунок “Повешенный” с датой 2 декабря (дата осуждения Брауна, как и дата государственного переворота во Франции). Ввоз этой гравюры во Францию был немедленно запрещен. Гюго выступает против начавшейся в это время волны колониальной экспансии, жертвами которой становятся Тонкий, Мексика, Китай. Он выражает свою солидарность с такими борцами за демократию и национальное объединение, как Линкольн и Гарибальди, с участниками восстания за независимость Польши, с деятелями русского освободительного движения. Прежнее прекраснодушное возмущение против несправедливости сменяется у Гюго активным вмешательством в общественно-политическую борьбу. Его республиканские убеждения мало-помалу перерастают в социалистические, окрашиваются интернационализмом. Ранней весной 1861 года Гюго совершает поездку на континент в сопровождении Жюльетты Друэ, исполняющей обязанности секретаря; он едет в Бельгию, где поселяется в Мон-СенЖане, неподалеку от поля битвы при Ватерлоо. Цель Гюго- тщательно сверить на месте обстоятельства битвы при Ватерлоо, описание которой в “Отверженных” превратится в монументальное полотно. Гюго обходит деревни, разговаривает с фермерами, расспрашивает последних свидетелей грандиозного боя, собирая точные детали, которые придадут его повествованию выпукло зримый и в то же время напряженно драматический характер, достигающий своей кульминации в сцене атаки конницы Нея, падающей в Оэнский овраг Творчески обогащенный, Гюго возвращается на Гернси. Здесь его ждет большое огорчение: сын Шарль сообщает отцу, что решил не возвращаться на остров и не “играть комедию” ссылки 4 октября поэт изменяет слову, данному издателю Этцелю и заключает договор на издание “Отверженных” с Лакруа, ” поистине царских условиях - за триста тысяч франков. И тут же на Гюго обрушивается еще большая беда: неврастения его дочери Адели переходит в безумие, она преследует молодого англичанина, лейтенанта Пинсона, решив, что он обещал на ней жениться, разыскивает его вплоть до Канады, затем живет на Барбадосе, откуда ее почти в неузнаваемом виде и совершенно невменяемом состоянии привозят в 1872 году на родину; здесь ее ждет лечебница, где она проводит остальную долгую жизнь, скончавшись в 1915 году. С апреля 1862 года в Париже начинают выходить первые тома десятитомного издания “Отверженных”. Роман имеет потрясающий успех, его буквально рвут на части, перед книжной лавкой Лакруа собираются толпы, берущие ее приступом, за несколько недель продано 50 000 экземпляров. Широкий, демократический читатель в восхищении, консервативно или эстетски настроенные критики не скрывают раздражения. Барбе д'Оревильи завистливо злословил: “Массам нет никакого дела до таланта, если только он не вульгарен, как они”. Подобные суждения свидетельствовали лишь о том, что Гюго полностью вышел за рамки, в которых он мог быть, с теми или иными оговорками, приемлем для официального общества своего времени. Отныне он принадлежал народу, который увидел в зеркале этой грандиозной эпопеи свою судьбу, почувствовал, что писатель близко принимал к сердцу страдания народа, оценил его непоколебимую веру в моральное возрождение и конечное торжество “отверженных”. Книга представляет собой сложный сплав разнообразных начал: назидательного, иногда стоящего на самой грани наивности повествования, приключенческого романа, лирической исповеди, реалистического исследования нравов. Подлинное, неформальное единство этому сообщает последовательно исполненный замысел - показать социальное зло и пути его искоренения. “До тех пор, - заявляет Гюго в предисловии к роману, - пока силою законов и нравов будет существовать социальное проклятие, которое среди расцвета цивилизации искусственно создает ад... до тех пор, пока не будут разрешены три основные проблемы нашего века - принижение мужчины вследствие принадлежности его к классу пролетариата, падение женщины вследствие голода, увядание ребенка вследствие мрака невежества... до тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, небесполезными”. Герой эпопеи Жан Вальжан является символом возрождения человечества, пробужденного от векового коснения светом любви и милосердия. Ставший почти святым, этот бывший каторжник воплощает в жизни те начала активного человеколюбия. которые он воспринял от “купившего его душу” преосвященного Мириэля - “Бьенвеню”: помогает Фантине, воспитывает Козетту, спасает Мариуса, щадит Жавера, устраняет себя с пути обожаемой приемной дочери, чтобы не мешать ее семейному счастью. Только в страдающем, отверженном, гонимом народе заключено подлинное величие духа и благородство сердца, только в нем залог спасения мира - таков смысл бессмертного романа Виктора Гюго. Вслед за “Отверженными”, эпопеей о жизни Франции времени его молодости, Гюго написал эпопею о рыбаках Гернсея, острова, приютившего писателя в изгнании. Впервые мысль об этом произведении появилась у Гюго в 1859 году. Посетив соседний с Гернсеем остров Серк, Гюго заинтересовался трудом рыбаков, суровым скалистым прибрежным пейзажем, морскими “чудовищами” - спрутами. В записных книжках и рабочих папках Гюго начала 60-х годов накапливается множество заметок о ветрах, бурях, приливах, отливах, морской флоре и фауне. Все эти материалы предназначались писателем для книги “Жильят-лукавый”, позднее названной им “Труженики моря”. Написание произведения потребовало у Гюго менее года работы(роман был начат 4 июня 1864 года и закончен 29 апреля 1865 года). Гюго писал “Тружеников моря” с увлечением, сопровождал рукопись многочисленными рисунками. Он не собирался сразу издавать ее, но потом уступил настойчивым просьбам издателя Лакруа и продал ему право издания “Тружеников моря” вместе со стихотворным сборником “Песни улиц и лесов”. Роман вышел в свет 12 марта 1866 года и имел большой успех. Молодой Золя, начинавший в эти годы поход против романтизма, дал в газете “Эвенман” весьма благосклонный отзыв о романе: “Здесь поэт предоставляет свободу своему сердцу и воображению. Он больше не проповедник, не участник спора. Перед нами предстает грандиозное видение, созданное этим мощным умом, запечатляющим схватку человека с вечностью”. Золя в общем верно понял замысел автора. “После утеш http://www.library.tver.ru/gugo/tolmachev.htm Ю.Данилин "Гюго -лирик" I Творчество Виктора Гюго (1802—1885)—целый мир, огромный, пестрый, оживленный. Праистория человечества, жизнь космоса, индусские и библейские легенды сменяются здесь живописными реконструкциями средневековья или Возрождения. Бури английской революции XVII века и первой французской буржуазной революции также нашли свой звучный отклик в творчестве Гюго. Но еще более широкие полотна посвятил он изображению современной ему жизни, ее общественным противоречиям и попыткам найти путь к их преодолению. Гюго—большой мастер формы. Последнее особенно следует сказать о его лирике. Разнообразие ритмов, богатейшая рифма, исключительно яркая образность, музыкальность, пластичность—обычные качества поэзии Гюго. От минорного звучания кроткой и ласковой интимной поэзии, от воздушных акварелей, зарисовывающих плавный лет облаков, дыхание моря, шепоты и тайны природы, он умеет свободно и уверенно подниматься на высоту кипучей ораторско-декламационной поэзии, полной страстного митингового пафоса. Величайшего мастерства и вместе с тем революционной вершины своего творчества Гюго достигает именно в гневных сатирах “Возмездия”, где его александрийский стих, теряя свою обычную плавную медлительность, становится грозным, бурлящим, стремительным, металлически-отчеканенным. Однако, если Гюго может быть назван великим писателем, этим он обязан не только своему художественному изобилию и не только мастерству формы. Величие Гюго в том, что этот писатель сделался защитником обездоленных, униженных и угнетенных, и искренне старался бороться за них. Окидывая взором прошлое, Гюго видел там только бесконечные века насилия и крови, только беспрестанную гибель слабых, начиная от рабов, строивших пирамиды, и, кончая страданиями стольких других, чьи безвестные муки он воплотил на свой лад в образах Квазимодо, Эсмеральды и Гуинплена. Но если Гюго знал, что в социальной неправде минувших веков были виновны феодальный общественный строй, деспотизм самодержавия и церковное изуверство, то он видел, что с установлением буржуазно-капиталистических отношений, пришедших на смену феодализму, положение слабых остается тем же. Жан Вальжан, Фантина, Козетта обречены мучиться, бедствовать, страдать, и вместе с ними горько страдает любящее сердце Виктора Гюго. Гюго прошел долгий, трудный, сложный жизненный путь. Он был свидетелем смены многочисленных политических режимов во Франции, и с течением времени все больше и больше превращался в поэта-гражданина, всегда и везде озабоченного судьбою и страданиями широких обездоленных масс. Но он видел, что все его надежды и чаяния на улучшение участи последних неизменно оказывались обреченными на гибель. И в нем все сильнее нарастали неудовлетворенность и разочарование буржуазной действительностью, неизбывная тоска и жажда лучшего социального строя. В этой тоскующей неудовлетворенности, в этих страстных порывах к будущему и заключается настоящее величие Гюго. II В начале своей литературной деятельности Гюго—он начал писать стихи еще ребенком, с четырнадцати лет—пребывал в рядах реакционно-аристократического течения романтической школы. Социально-политическое сознание поэта в эту пору еще не созрело. При Реставрации, до самой середины 20-х годов его творчество являлось в основном отголоском реакционных настроений дворянства и буржуазной аристократии, настроений, обусловленных в первую очередь ненавистью этих классов к минувшей революции. В эту пору молодой Гюго находится под обаянием литературной славы Шатобриана, вождя реакционно-аристократического романтизма, и он выпускает в 1822 году первый сборник стихотворений “Оды и баллады”, сразу завоевавший широкую популярность. Молодой поэт здесь—пленник феодально-католической реакции. Он послушно повторяет за вождями ультрароялистов их проклятия по адресу революции XVIII века и “тирана” Бонапарте, “рожденного от змеи цареубийства”, он восхищается контрреволюционной борьбой вандейцев и даже воспевает вознесение на небо... Людовика XVII (дофина, умершего в тюрьме во время революции). С великим наслаждением выписывает он все титулы высокопоставленных персон и принцев крови: “Ода на рождение его королевского высочества Анри-Шарля-Фердинанда-МариДьедонне д'Артуа, герцога Бордосского, внука Франции”. Наконец, он влюблено воспевает феодальное средневековье, его монастыри и гробницы, его королей, его рыцарские турниры, его суровые, обомшелые замки, овеянные легендами и увитые плющем. Люблю я башни плющ зеленый И трепет колокола в ней, И старый крест, уже склоненный, Где путник дремлет меж ветвей; Люблю я церкви очерк хрупкий, Она, подобная голубке,— Как страж над вечным сном могил; Люблю зубчатый лоб донжона, Раскрывшего настороженно Над долом хищных пару крыл. Ранняя лирика Гюго чрезвычайно пришлась ко двору феодально-католической реакции. Молодой человек с такими здравыми взглядами! Юноша, пылко заявляющий, что “история человечества представляется мне поэтичной только с точки зрения христианских или монархических идей”! Поэт был осыпан милостями. Ему пожаловали ежегодную пенсию из королевской шкатулки, правительство подписалось на часть тиража “Од и баллад”, и чванные аристократические салоны приветливо открыли свои двери перед поэтом-роялистом. Заслуги Гюго перед французской литературой, в частности перед французской поэзией XIX века, весьма велики. Признанный вождь французской романтической школы, он произвел,— конечно, при сотрудничестве многих других романтических поэтов,—значительную реформу в области французского стихосложения, раскрепостив последнее от тех устарелых правил, условностей и “приличий” классицизма, которые отвечали абсолютистской эстетике XVII века, но в XIX веке утратили всякое реальное обоснование. В “Одах и балладах” Гюго уже выказал замечательные возможности своего версификационного дара (“Турнир короля Иоанна”), но к реформе стихосложения и языка он вплотную пока еще не приступал. Реакционно-аристократический романтизм хотя и начал борьбу с классицизмом, но был слишком робок для радикальных мероприятий, слишком склонен к компромиссам. Враждуя с классицизмом, он занял промежуточную позицию, стремясь примирить старые рецепты с новейшими стремлениями романтической поэзии. Гюго не долго оставался в лагере реакции. Он скоро увидел и понял, насколько законен протест широких слоев общества против Реставрации и всего разгула феодально-католической реакции. С середины 20-х годов начинается отход Гюго к лагерю либерализма, где поэт на первых порах становится горячим поклонником Бонапарта и восторженным зрителем национально-освободительной борьбы Греции, борьбы, опоэтизированной смертью Байрона и вызывавшей жаркие рукоплескания со стороны всех европейских либералов и демократов. С этих пор Гюго становится вождем того крупнейшего из течений романтической школы, которое по своей политической функции может быть определено как либеральный романтизм. В сборнике “Восточное” (1828) разрыв Гюго с лагерем реакционно-аристократического романтизма сказывается в наличии новой тематики, но, главное, в ряде тех формальных особенностей, которые определяют Гюго как реформатора французского стихосложения. “Постоянно слышишь,—писал Гюго уже в 1826 году в предисловии к новому изданию “Од и баллад”,—как в связи с литературным творчеством говорят о достоинстве такого-то жанра, о приличиях другого, о границах этого, о вольностях того; трагедия воспрещает то, что разрешает роман, песня терпит то, чего не допускает ода, и т. д. Автор данной книги имеет несчастье ничего в этом не понимать. Он ищет здесь смысл, а находит только слова; ему кажется, что действительно красивое и правдивое—красиво и правдиво везде; что драматичное в романе будет драматично и на сцене, что лиричное в куплете, будет лирично и в строфе”. Приступая к своей реформе, Гюго объявил прежде всего, что рационалистический язык, свойственный классицизму, с его антично-мифологической метафорой, аристократическижеманной перифразой, должен уступить место языку чувства и ощущений. В связи с этим Гюго заявлял, что нет больше слов “благородных” и “низких”, что все слова одинаково предоставлены поэту, что все они свободно применимы в любых жанрах, что словарь поэта должен быть чрезвычайно объемен и включить в себя не только презиравшиеся классицизмом простонародные слова, но даже провинциализмы и технические термины. Отметим в скобках, что по богатству своего словаря, насчитывающего 9000 слов, Гюго уступает только Шекспиру. Наконец Гюго категорически отметает все условности и преграды, которые, по воле Буало, отделяли один жанр от другого, все правила и “приличия”, существовавшие до той поры для каждого из этих жанров. В 1834 году, подводя итог совершенной им реформе, Гюго задорно писал в “Ответе на обвинительный акт” (стихотворение это вошло впоследствии в сборник “Созерцания”): Над Академией, испуганною бабкой, Под юбкой прятавшей цыплячью стаю троп, Над батальонами александрийских стоп— Вихрь революции я засвистать заставил! Колпак фригийский я надел на своды правил. Нет слов-патрициев и нет плебеев-слов! И я провозгласил, что все слова равны, Свободны, радостны... Слова, ному Ресто накладывал на ухо Изящно локоны, таскали .до сих пор Парик Людовика; и парику в упор Вдруг Революция, с высот дозорной башни Сказала:—Изменись! забудь покой вчерашний. Почувствуй душу слов," что ты в плену держал!— II порыжел парте и львиной гривой стал. Затем Гюго переходит к реформам в области просодии. Если излюбленным размером французского стихосложения в те времена являлся александрийский двенадцатисложный стих, то, согласно канонам классицизма, в этом стихе полагалось быть только одной средней цезуре, делившей стих пополам; цезура классиков совпадала при этом и со смысловым членением стиха. Виктор Гюго, сохранив прежнюю “ритмическую”) цезуру в середине стиха, сделал подвижной цезуру смысловую; таким образом, его “неправильная” цезура могла быть в стихе не один, а два или даже три раза, и тем самым способствовала разнообразию и гибкости ритма. У одного критика читаем о значении этой реформы Гюго: “Со средней цезурой невозможно давать оттенки. Тут пишут альфреско, широкими мазками и никогда не возвращаясь к тому, что было смело начато и удалось. С неправильной цезурой можно, напротив, собрать все мельчайшие черточки и легкие касания кисти; накладываешь густые и прозрачные тона, оттенки, полутона: здесь наиболее богатая палитра”. Если свободная цезура явилась только в “Восточном”, то лишь теперь появились и “переносы” (enjambcment): стих разрывал старую, “классическую” выутюженную форму, когда мысль должна была точно укладываться в строку и не смела вытянуть голову в следующую. Наличие “переносов” позволило стиху приобрести гораздо больше ритмических интонаций, а также достигать различных аллитерационных эффектов, связанных, например, с рифмой. Что касается рифмы, то и здесь заслуга Гюго очень велика. Новая рифма во всем своем блеске проявилась опять-таки именно и “Восточном”. В эпоху классицизма богатая рифма была отвергнута в пользу “достаточной”, так как Буало указывал, что рифма должна подчиняться “разуму”. Гюго требовал теперь именно богатой рифмы с рифмовкою опорной согласной. При этом нередко получалось, что погоня за богатой рифмой вступала у него в противоречие со смысловым моментом и последний был приносим ей в жертву; Сент-Бев справедливо укорял Гюго, указывая, что он должен прибегать к выдумыванию метафор, которые позволили бы ему связать концы с концами. Формалистические перехлестывания Гюго в “Восточном” были неизбежны в страстной борьбе романтиков за свержение классицизма. Но если из “Восточного” вышло последующее течение парнасцев, то Гюго, к чести своей, вовсе не превратился в апологета “искусства для искусства”. Чрезвычайно важны в поэтической реформе Гюго его искания новых ритмов. Здесь Гюго обращался к поэтической практике лириков XVI века. Его учителями здесь были преимущественно поэты Плеяды: Ронсар, Майнар, Маро, Дю Беллэ, Малерб. Всевозможные метрические и ритмические достижения этих поэтов Гюго теперь трудолюбиво воскрешал. Кроме того, он искал новизны в различных комбинациях обиходных ритмов. Пользуясь чаще всего александрийским стихом, он нередко употреблял его в самых разнообразных сочетаниях с восьмисложными, шестисложными и другими размерами, что было категорически воспрещено классицизмом. О всем радостном и великолепном блеске ритмических достижений Гюго ярко свидетельствуют замечательные “Джинны”. Такова была в общих чертах реформа Гюго. Она отвечала, в плане социально-политическом, борьбе объединенной демократии с Реставрацией накануне Июльской революции, борьбе, в которую Гюго в эти годы включился рядом своих произведений (“Марион де Лорм”, “Последний день осужденного”). Связь своих литературных требований с социально-политической борьбой Гюго вполне понимал. Немного преувеличивая свои личные заслуги, забывая о множестве своих соратников, он считал, что сокрушил “стиль старого режима”, что “был Дантоном и Робеспьером сразу”, что его реформа представляет собою вторичное взятие Бастилии—но только в области французской литературы. Я взял Бастилию, где рифмы погибали, Я сделал более,—я кандалы разбил, Что тяготили речь; я вызвал из могил Давно казненных слов бесчисленные тени: Я перифраз попрал среди его сплетений, Я сбил и разровнял—среди веселых толп,— Угрюмый алфавит, как Вавилонский столп, И я прекрасно знал, что вместе с словом, разом Рука мятежная освобождает разум! Таким образом, только перейдя в лагерь общественной оппозиции, только включившись в бунтующий поток мелкобуржуазного романтизма, Гюго смог развернуться во всей широте своих реформаторских устремлений. Именно потому так и пестры—порою до крикливости—его стихотворения из “Восточного”, именно потому так богата,— порою грузна богатством,—здесь рифма, именно потому так поражает тут изобилие сложных ритмов, что Гюго создавал “Восточное”” как книгу боевую, как документ задорной борьбы новой школы и ее художественных исканий. Однако революционности формальных достижений “Восточного” не во всем отвечала идейная сторона книги: уж очень часто поэт оказывался здесь любителем бездумного романтического питтореска и стоял на пороге “искусства для искусства”. Гюго сам вскоре понял, что экзотический багаж “Восточного” совершенно не отвечает тем его стремлениям, той, пока еще смутной, неудовлетворенности, которая год из года все сильней забирала его в свое кольцо. Вот почему Гюго быстро расстается с живописным миром “Восточного”. ...Султанши и султаны, Гробницы древние, галеры, капитаны, И кровожадный тигр среди высоких трав, И Джиннов дикий лет, и пляски баядеры, И уносящие арабов дромадеры, И пролетающий, как молния, жираф,— весь этот пестрый блеск растаял для него однажды в сумрачном тумане парижского ноябрьского дня. Будничное, окружающая действительность властно знали к себе поэта. III Литературная жизнь Гюго совпадает на весьма значительном протяжении с эпохой буржуазно-демократических революций во Франции. Со времени разрыва Гюго с реакционноаристо- кратическим романтизмом, весь последующий путь поэта заключается в превращении его в художественного вождя мелкобуржуазной демократии и в связи с этим — в представителя радикально-демократического течения романтизма. Лирика Гюго является первостепенной важности документом для изучения всех основных этапов этого пути поэта. В период Июльской монархии Гюго в общем оставался приверженцем последней, хотя такие факторы, как бурное революционное движение 30-х годов, в котором все большую роль начинал играть поднимающийся пролетариат, не могли не оказать на писателя своего влияния. Если он не перешел на сторону революционного движения и даже пугался его, то, во всяком случае, нападение Гюго на тиранов, врагов свободы, на распутных и кровожадных абсолютных монархов, на феодальное дворянство и придворную челядь приобрело теперь гораздо большую страстность. В эту, эпоху поэт все более начинает задумываться над социальными отношениями буржуазного строя. Расцвет крупной промышленности в 40-х годах резко обостряет классовую борьбу, давит и расслаивает мелкую буржуа-азию, начинающую весьма остро испытывать неудовлетворенность существующим порядком вещей. С печалью осознавая противоречия буржуазной действительности, Гюго считает необходимым “прибавить к своей лире бронзовую струну”—струну жалобы, боли и негодования. Правда, он ограничивается на первых порах лишь грустным констатированием противоречий богатства и бедности. Они кажутся ему вечными, неустранимыми, а поэту хотелось бы, чтобы классовая борьба уступила место любви людей друг к другу. Он обвиняет богатых в эгоистическом пренебрежении к страданиям бедноты. Но он видит бедноту еще только в образе измаянного нищего, но никак не в образе тех революционных борцов 1832 года, которые оживут впоследствии на страницах “Отверженных”. Годы Июльской монархии—время зарождения пацифистского гуманизма Гюго, фиксирующего его неудовлетворенность буржуазным строем, но вместе с тем являющегося реакцией мелкой буржуазии на обострявшуюся классовую борьбу. Гуманизм романтика Гюго при этом во многом обязан своим происхождением тем влияниям утопического социализма, которые Гюго начал воспринимать в 40-х годах, но которые нашли свое отражение опять-таки лишь в его романах 60-х годов. Находясь при Второй империи в эмиграции, Гюго целых девятнадцать лет ожесточенно громил Наполеона III, резко отвергая все заискивания и подходы Тюильри, дважды отказавшись от амнистии и заявляя, что вернется во Францию только со свободой. Он нашел убежище на островах, лежавших между берегами Франции и Англии, и, как говорит Бодлэр, с этих пор “тона его раздумий окрасились величием, а его голос своею глубиною стал соперничать с голосом Океана”. Прежний автор интимной лирики и живописного цветения “Восточного” сделался теперь возмущенным и негодующим поэтом-гражданином, бескорыстным и неумолимым Ювеналом Второй империи. Бронзовая струна его лиры окрепла, напряглась, загудела,—и голос Гюго громовым эхо отдавался по всему миру. Пламенные строфы “Возмездия” были на устах у всех революционеров Второй империи, и популярность Гюго среди них была колоссальна: его влиянием запечатлено творчество ряда писателей-коммунаров—Луизы Мишель, Леона Кладеля и др.; отголоски влияния Гюго сказались и в стихотворениях Гюстава Инара, недавно скончавшегося у нас ветерана Парижской коммуны. Гюго со всей мощностью митингового обличения громит и бичует преступников декабрьского переворота; Каким безумием весь этот бред измерить? Да, факт: империя —я не могу поверить!— Пятью бандитами воскрешена в полдня. И вот—они цветут! Цветут! Окиньте взглядом! О, срамом вздутая эпоха с голым задом! Теперь он царствует, эпсомский шут и глум, И шепчет, руку вздев: “menteo, ergo sum”. Все ладно! Подлецы мерзавца чтут главой. Все чудно! Правильно! Сказать чертой одной,— Им церковь пленена, им опера объята: Украл он? С нами бог! Зарезал он? Кантата! Молниеносные сатиры Гюго направлены главным образом в Наполеона III, но наряду с ним бичует Гюго и всех прочих заправил декабрьского переворота: епископов, призывающих благословение небес на голову проходимца Баденге, продажных журналистов и подхалимствующих академиков, лютых и угодливых судей, ссылающих республиканцев в Кайенну, свирепых маршалов, расстреливающих стариков и женщин. В величавом эпическом полотне “Искупления” Гюго сопоставляет Наполеона I с его жалким племянником и стремится разрушить ту наполеоновскую легенду, к созданию которой он приложил в свое время немало стараний. Мстящее божество занесло свою руку над Наполеоном I. Но и плачевное отступление из Москвы, и разгром при Ватерлоо, и темница острова св. Елены—все это было только прелюдией к настоящему возмездию. Неумолимая, великая, последняя кара наступила в тот момент, когда Наполеон I, очнувшись однажды в гробнице Пантеона, увидел вокруг себя разнузданную, гнусную, подлую свистопляску деятелей Второй империи. “Возмездье—вот оно!” И это возмездие, это посмертное наказание Наполеону I произошло потому, что он, подобно своему племяннику, совершил великое преступление — 18-е брюмера. При всей энергии и блестящей выразительности своего нападения на Вторую империю мелкобуржуазный поэт повторил в “Возмездии” ту же ошибку, которую Маркс отметил в его памфлете “Наполеон Малый”. “Виктор Тюго,—пишет Маркс,—ограничивается едкими и остроумными нападками на ответственного издателя государственного переворота. Самое событие изображается у него, как гром из ясного неба. Он видит в нем лишь насилие со стороны одного индивидуума. Он не замечает, что не умаляет, а возвеличивает этого индивидуума, приписывая ему беспримерную во всемирной истории мощь личной инициативы... Я же показываю, как классовая борьба создала во Франции обстоятельства и отношения, давшие возможность посредственному, смешному персонажу сыграть роль героя”. Но если поэт-романтик и не в силах объяснить рождение Второй империи с помощью развернутого анализа классовой борьбы, то он все же пытался делать некоторые шаги в этом направлении. Виновницей Второй империи он считает крупную буржуазию. В стихотворении “Буржуа у себя дома” Гюго обрушивается на капиталистов, которые, испугавшись “красного флага”, мелькавшего и июньские дни 1848 года, кинулись за спасением к Наполену III. Поэт возмущен буржуазией за ее эгоистическую жажду стяжательства, за ее трусость до бонапартистского переворота и после него. Не отказываясь порою полиберальничать насчет проходимца, сидящего на троне, она, однако, вовсе не собирается вступать с ним в борьбу, так как понимает, что он охраняет ее интересы и разделяет присущее eй поклонение перед богом Монетой. Я тоже думаю, что это — вор, но все же,— Зачем писать? Ну да, согласен (не без дрожи), Что Бонапарт—пират, разбойник и бандит. Что и в политике—корсаром он глядит, Что он судей ссылал в глубь стран заокеанских, Что срезал кошелек у принцев Орлеанских, Что это негодяй, каких не повстречать; Но так как голос мой был за него,—молчать! В сатире “Веселая жизнь” Гюго страстно клеймит авантюристов, жуликов и рвачей— аристократию Второй империи. И он противопоставляет их раззолоченные чертоги тем подвалам Лилля, в которых томятся рабы XIX века, пролетарии. При этом, охваченный гневом и скорбью гуманиста-демократа, он возвышается до общего противопоставления пролетариата — буржуазно-помещичьему миру. Подвалы лилльские! Их своды гробовые! Там, плача, слышал я хрипенье агонии Средь полной темноты, Я видел девушку, что лишь косой отдета, Ребенка-призрака у мертвой груди... Это, Дант,—видывал ли ты? О принцы! Эта скорбь—источник наслаждений Для вас! О богачи, вас эти кормят тени! Поймут ли наконец: По каплям собран он, поток богатств позорных, — Вот с этих стен сырых, вот с этих сводов черных, Из этих вот сердец! За всеми бурными инвективами Гюго по адресу Второй империи, за всем, столь резким разоблачением противоречий буржуазного строя звучит лейтмотивом один и тот же кипучий призыв; утверждению республиканского строя. Сила, страсть и мощь нападения Гюго потому-то и были так безусловно велики, так действенны, что Гюго отражал в “Возмездии” все чаяния и надежды мелкобуржуазной демократии, изверившейся в конституционной монархии и страстно надеявшейся, что свобода, равенство и братство наконец-то найдут свое воплощение, в строе буржуазно-демократической республики. Мелкобуржуазная демократия, казалось ей, стояла на пороге осуществления своих заветнейших надежд,—и они были растоптаны в декабре 1851 года сапогом циничных кондотьеров реакции. Гиперболизм Гюго, его риторичность, страсть к контрастам и к антитезе, которые в других случаях придают его поэзии вычурность, крикливость и надутость,—оказались уместными и оправданными в “Возмездии”. “Колеблющаяся, напуганная красным призраком,...в своих стремлениях мечтательная и фразисто-социалистическая” (Ленин), мелкая буржуазия жаждала, в обстановке ожесточенной классовой борьбы между крупной буржуазией и пролетариатом, занять позицию “над схваткой”, найти несуществующую “среднюю линию”. Она, пишет А. В. Луначарский, “устремилась именно по пути безудержной, отчасти, пожалуй, подогретой веры в мировой прогресс, заявляя всегда и всюду неизбежность победы света над тьмой, существование великой лестницы, которая через века ведет человечество к благу, и необходимость со всей силой и в то же время с надлежащим терпением участвовать в процессе мирной эволюции, которая в конце концов даст торжество духу”. В классовых боях середины XIX века (до Коммуны) мелкая буржуазия еще не успела растерять эти свои идеалистические верования, не успела разочароваться в них. И если ей и было присуще внутреннее сомнение в возможности их реализации, и если ее вера в них носила именно “подогретый” характер (потому что мелкобуржуазная демократия, охваченная страхом за собственность, панически боялась пролетариата), то все же эти иллюзии были еще живучи. Обряжая их в общечеловеские одежды, борясь за них, мелкобуржуазная демократия охотно впадала в преувеличения, гипертрофнровала эти свои надежды, ласково облекала их красивной пышностью речи, грандиозными образами. Все это нашло свое ярчайшее и полнокровное выражение в гражданской поэзии “Возмездия”. В изгнании Гюго выпускает также двухтомный сборник “Созерцаний”, но интимная — в основном—лирика этой книги гаснет рядом с мощным факелом “Возмездия” и рядом с последующей “Легендой веков”. В “Легенде веков” Гюго дарование поэта развертывается во всем своем громадном и зрелом великолепии. А. В. Луначарский в следующих словах отзывался об этом произведении: “Эта колоссальная серия картин из истории культуры человечества, которая, по мнению многих французских критиков, дала впервые Франции подлинно великого поэта, равняющегося своим ростом с колоссами мировой литературы, с Данте, Гете и т. д.,—представляет собою и с общественной точки зрения изумительный памятник иллюминатской радикально-либеральной публицистики. Если я говорю в этом случае о публицистике, то этим я отнюдь не умаляю всей необычной мощнотрубной музыкальности, всей изумительно нарядной парчовой красочности “Легенды”, почти сплошной поэтичности ее образов и ее оборотов, живущего в ней вулканического пафоса; словом, я принадлежу к тем поклонникам “Легенды веков”, которые считают, что эта книга, быть может, обветшавшая в некоторых отдельных своих частях, в общем представляет еще до сих пор замечательную поэтическую сокровищницу и должна быть сделана -доступной для растущей пролетарской молодежи, к большой пользе для культурного созревания последней”. Время Второй империи—эпоха художественной зрелости Гюго, наиболее яркого революционногражданственного звучания его лирики и пора его наивысшего творческого взлета. Именно в эту эпоху создает Гюго “Отверженных” и “Тружеников моря”, произведения, явно запечатленные влияниями утопического социализма 40-х годов. “Романтизм и социализм—одно и то же!”—восклицает теперь Гюго, постигая романтическую сущность утопического социализма. Однако социалистические тяготения Гюго были только формой его буржуазно-демократической революционности. Они свидетельствовали лишь о недовольстве поэта рядом отдельных сторон буржуазно-капиталистической действительности, а вовсе не о желании его выйти за пределы последней и разделить революционные стремления того класса, убогую и отвратительную нищету которого он с таким волнением обрисовал в гремящих строфах “Веселой жизни”. IV Вот почему так незавидна позиция, которую занял Гюго в эпоху Парижской коммуны. История заставила его теперь держать экзамен на последовательного демократа. Гюго этого экзамена не выдержал. Он пожелал занять позицию “над схваткой”, и здесь ярко обрисовалась вся беспочвенность его мелкобуржуазного гуманизма. Вернувшись в Париж на другой день после падения Второй империи, Гюго занял пост Тиртея освобожденной Франции. “Виктор Гюго пишет чепуху”,—отмечал Энгельс в письме от 13 сентября 1870 г. Воспламеняя патриотизм своих сограждан, Гюго поэтизировал страдания осажденного Парижа, возмущенно напоминал ему об угрозах и насмешках Берлина, воспевал форты, вылазки и иронизировал по поводу трупов прусских солдат, плывущих по Сене. Пожертвовав деньги на отливку пушки, носившей его имя, он заявляет в стихотворении, посвященном ей, о своем отречении от идеи братства людей ради величия Франции. И так как я всегда, поскольку было сил, Прощал и снисходил, и кротостью лечил,— Ты, страшный тезка мой, лей беспощадно кровь! Ведь перед ликом зла, любовь должна стать злобой, Ведь дух не может пасть во мрак перед утробой, Не может Франция стать варварству рабой; Величье родины—вот идеал святой! Но когда произошла революция 18 марта, когда парижский пролетариат с оружием в руках захватил власть и, разбив буржуазную государственную машину, приступил к строительству новых социалистических отношений, ведя в то же время отчаянную борьбу с буржуазнопомещичьей реакцией,—Гюго, признававший необходимость национальной войны, пришел в ужас от войны гражданской и поспешил ее осудить. На первых порах он еще относился к Коммуне приветливо. Ему казалось, что она борется единственно за республику и за коммунальные вольности города Парижа. Он вполне разделял позицию мелкой буржуазии, примкнувшей поначалу к Коммуне. Но по мере выявления революционно-социалистической сущности Коммуны и по мере военных неудач последней, мелкая буржуазия испуганно отошла от нее. Гюго и здесь не составил исключения из общего правила. Во время Коммуны Гюго находился в Брюсселе. Он не видел “веселого Парижа рабочих” (Маркс) и мог судить о Коммуне лишь по клеветническим писаниям версальской прессы. И неудивительно, что вслед за буржуазией он возвел лживые обвинения в пожаре Парижа на “народ”, на “петролейщицу”: Что сделала она? спроси у дымных крыш, Спроси у выстрелов, наполнивших Париж. Никто, да и она сама того не знает. Над преступлением мыслитель поникает. Причиной “преступления” коммунаров Гюго считает невежество народа (“невежество здесь режет темноту”); всему. виной ...ум бездомный, Инстинктов диких скат, несчастий вихрь сплошной, Что злобой сдавленной растет в тиши ночной. Столь же неудивительно, что Гюго распространяет вздорную легенду о добросердечии версальских офицеров-расстрелыщиков. Прославленное стихотворение “За баррикадою” заставляет вспомнить образ Гавроша из “Отверженных”. Но если там Гюго любовно воспел мальчика-революционера, баррикадного львенка буржуазно-демократических революций, то львенка Коммуны, пролетарской диктатуры, поэт-романтик мог обрисовать только чертами сентиментального непротивленца. Не таковы были настоящие дети Коммуны. Осудив Коммуну, Гюго счел, однако, своим гражданским долгом встать на защиту побежденных коммунаров в кровавые дни майской недели, в пору бешеной исступленности буржуазно-помещичьего террора. Слов нет, благородна была задача возбудить в Европе сочувствие к коммунарам; немногие на это отваживались. И если раньше Виктора Гюго травила дворянско-помещичья реакция за его “измену” Реставрации, то теперь вся буржуазия неистовым хором своих писак накинулась на “коммунара” Гюго. Неисчислимы те проклятия, которыми осыпала его версальская пресса. Однако размеров сочувствия Гюго побежденным коммунарам преувеличивать не следует. Они оставались “преступниками” в его глазах (“Меня с ними не было!”— восклицал он), но только не уголовными, как утверждала буржуазия, а “политическими”. Помимо протеста против расстрелов, Гюго энергично восстал против решения бельгийского правительства отказать коммунарам в праве убежища и объявил в газетах, что предоставляет к услугам беглецев собственную квартиру. В результате толпа бельгийских реакционеров выбила ночью окна в доме, где жил Гюго, и собиралась убить самого поэта, а правительство выслало его затем из пределов Бельгии. В то же время поэту пришлось получить и неприятное письмо от одного из коммунаров, протестовавшего против реплики Гюго о “преступлениях” героев 1871 года. Сборник “Страшный год” ясно показал, что Гюго не мог быть последовательным демократом, что он не мог стать на сторону широких масс, на сторону пролетариата. Здесь сказался тот крах, то сознание абсолютной беспомощности, которое мелкобуржуазная демократия испытала перед лицом великих исторических событий. Неприятно, почти невыносимо читать эту книгу, полную ложного пафоса, растерянной, торопливо-многоречивой, надутой и бессодержательной риторики. Неумереннейшая болтливость, затопляющая книгу, свидетельствует о крайнем смятении мелкобуржуазного поэта, который, теряя почву под ногами и видя бесплодность всех своих пацифистских призывов, может только жалобно взывать: “Когда же все это кончится?” Но если мелкая буржуазия предала Коммуну, то после гибели последней она опять увидела себя во власти крупного капитала, и ее социально-политическое недовольство усилилось вновь. Установление Третьей республики, которую так долго и пламенно ждал Гюго, снова убеждает поэта в иллюзорности его заветнейших надежд. Гюго с горечью вынужден признать, что для нее Свобода, равенство, естественный закон, Терпимость и прогресс—пук выцветших знамен. Это разочарование на склоне лет было бесспорно самым великим разочарованием Гюго. Но если раньше неудовлетворенность побуждала его к революционной борьбе, то теперь уже не то. Установление буржуазно-демократической республики было завершением круга буржуазнодемократической революционности. Идти вдеред — означало теперь переходить на революционно-социалистические позиции пролетариата. Но такой шаг был уже не по силам Гюго. Пути у Гюго больше не было, поэт находился в тупике. Это обстоятельство только способствовало обострению его угнетенности. Его протест против буржуазнокапиталистической действительности выливается теперь в особую искаженную форму, представая в виде универсального пессимизма. Внутренняя обескрыленность Гюго ярко проявилась в его поэме “Осел”, где поэт взял на себя неблагодарную роль отрицателя знания и науки, якобы ничего не давших человечеству. Достаточно сопоставить высказывания “Осла”) с теми дифирамбами науке и технике, которыми были полны в 60-х годах “Труженики моря”, чтобы ощутить всю глубину подавленности и разочарования Гюго. Последние находят себе соответствие и в рецидиве формалистических тенденций “Восточного”: целые страницы “Осла” заняты перечислением никому неведомых имен, представляющих собою не столько “романтическую эрудицию”, столько уклон в бессодержательную звукопись. В оценке “Осла” можно только присоединиться к словам Золя, сказанным как раз по поводу издания этой поэмы: “Мыслителем, философом, ученым—Гюго никогда не будет! Он только удивительный риторик, король поэтов... Даже теперь, в произведениях старости, приводящих нас в уныние, несмотря ни на что, чувствуется грозный кузнец стиха, молот которого звонит, подобно бронзе и золоту”. В поисках выхода из тупика Гюго нередко обращался мыслью к религии как к последнему прибежищу мелкой буржуазии, упорствующей в желании соблюсти свой пацифистский гуманизм. Он обращался не к ортодоксальному католическому богу, столь резко и непримиримо отхлестанному им в стихотворении “Епископу, назвавшему меня атеистом”; его влекло к неопределенно-милостивому божеству мелкобуржуазных гуманистов. Но ведь между людьми и божеством стоит духовенство, то самое, которое когда-то молодой Гюго заклеймил в демоническом образе Клода Фролло. С тех пор поэту казалось, что духовенство,—вернее, лучшая часть его, епископы Мирпэли,— еще может сделаться пастырем человечества при условии радикальной демократизации религии в духе христианского социализма. И вот, если теперь, на склоне лет, Гюго снова обращается к этой теме в поэме “Папа”, то единственно для того, чтобы разочарованно заявить, что добрые папы и добрые пастыри—это лишь явление из области сонных грез. Духовенство — только эгоистический чиновник, жиреющий на народной забитости и темноте. Поэма “Революция” в свою очередь свидетельствует, что Гюго до конца дней своих был не в состоянии выйти за пределы революционности мелкобуржуазной демократии. В этом памфлете речь идет о французских королях XVI—XVIII веков, застывших в бронзовых изваяниях на площадях Парижа. Но вот статуи сходят со своих пьедесталов,— С гранитной глыбы страх гигантов гонит прочь,— и им приходится увидеть ту гильотину революции, на которой сложил голову Людовик XVI и, которую создал не кто иной, как их собственный деспотизм. Революция XVIII века с исторической неизбежностью ответила и деспотизму абсолютных монархов и страданиям народа. Да будет так. Но то, что яростью безбрежной Напоено,—не цель. И зори неизбежны!— восклицает старый поэт. Приникая беспокойной, ищущей мыслью к будущим путям истории человечества, предчувствуя там новые, грандиозные, кровавые классовые бои и содрогаясь от этих страшных видений, — романтик Гюго предпочитает отходить мечтой непосредственно к тому блаженному будущему прогресса и просвещения, когда классовая борьба сменится Миром, когда глухой стук гильотинного ножа уступит место Гармонии и когда движущим началом жизни людей будет Любовь. И в этой троице исчезнут все мученья,— горячо убеждает поэт,— И к счастью приведет во что бы то ни стало Все то мучение, что мир века терзало! Это непобедимое убеждение Гюго в том, что должен будет когда-то существовать строй идеальных общественных отношений, это стремление его в заветное будущее снова свидетельствуют о той социальной неудовлетворенности, которая была вечно-ноющей раной поэта и которая приближает его к нам. Анри Барбюс правильно указывает, что если идеи Гюго были “туманными и высокопарно выраженными”, то в этих идеях “просвечивали великие видения будущего”. Гюго не нашел правильного разрешения своих сомнений. Мелкобуржуазный демократ, он не смог перейти в ряды пролетариата и примкнуть к его революционной борьбе за достижение социалистического строя. Революционность Гюго ограничена буржуазно-демократическими рамками, и если он считал, что нужно бороться с абсолютизмом и феодализмом, то он отрицал классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом. Он до конца дней не утратил веры в действенность слова, идеи, в возможность существования между людьми—в условиях буржуазного строя—отношенчй любви, милосердия и справедливости. Конечно, эти воззрения не только беспочвенны и беспомощны, но и вредны. Пролетариат не пойдет путями Гюго. То братство людей, о котором всю жизнь так мучительно тосковал автор “Отверженных”, достижимо лишь в условиях пролетарской демократии. И тем не менее гуманизм Гюго, его тяга к братству, его потребность любви людей друг к другу, его великая неудовлетворенность и естественно вытекающий отсюда порыв в будущее социалистических отношений представляли собою для своего времени одну из форм протеста против буржуазно-капиталистической действительности. И в наличии этого протеста — объяснение того, что великий романтический поэт, несмотря на многие ошибочные свои воззрения, обусловленные неизбежной исторической ограниченностью его классового мировоззрения, будет — в лучшей части своего творчества — дорог и ценен пролетариату. Ю.Данилин