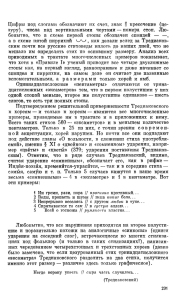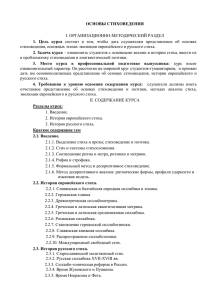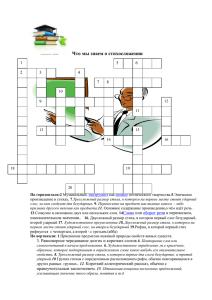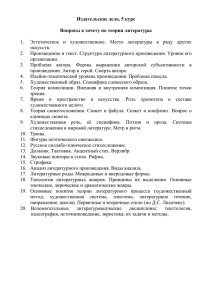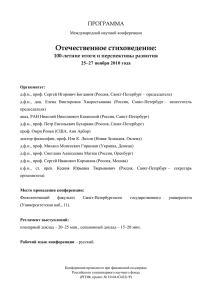Об изучении стиха Л. И. Тимофеев полемические заметки
реклама

Л. И. Тимофеев Об изучении стиха (полемические заметки) Стих сам по себе не существует. Он представляет собой лишь одну из граней стихотворного произведения, возникает благодаря движению составляющего его словесного потока, который к нему отнюдь не сводится. Поток этот организован раскрытием авторского “я” в его конкретном проявлении — переживании (как теперь чаще всего говорят, образом лирического героя), или состоянием персонажа в стихотворной драме, либо взаимодействием того же лирического героя и персонажа в сюжетно организованном лирико-эпическом жанре. За ними или, вернее, в них находят свое выражение тема и идея произведения. Все это в целом составляет содержание произведения, которое выражено во взаимодействии всех его сторон, образующем вместе с тем и то, что мы называем художественной формой произведения, неразрывно с ним связанной, в него переходящей. Изучение тех или иных особенностей стихотворной речи, взятых изолированно, каждая сама по себе, в отдельности, уже не ведет нас к пониманию целостной художественной формы, выше охарактеризованной, поскольку особенности стиха рассматриваются вне органической связи со всеми остальными сторонами художественной формы и, кроме того, чаще всего суммарно, с явной тенденцией к статистичности, на основе охвата тех или иных особенностей стиха, отвлеченных от конкретного произведения как целого. Между тем художественная литература непосредственно проявляется только через конкретное произведение и именно в нем, так сказать, общественно функционирует. В этом смысле стиховедение в том виде, как оно сейчас главным образом существует, по сути дела не принимает участия в изучении художественной формы как таковой в целостности, или, как теперь любят говорить, системности. Не будет ошибкой сказать, что современное стиховедение по преимуществу занимается изучением языка в его стихо(строфо-, рифмо-)-образующей функции, а не стиха в его формообразующей функции, т.е. участии в образовании художественной формы в целом. Правда, нельзя отрицать того, что тенденции развития стиховедения в этом основном направлении несомненно усиливаются, но процесс этот развивается медленно и встречает на своем пути препятствия, в основе которых лежит распространенное, к сожалению, среди стиховедов стремление решать проблемы изучения художественной формы, если так можно сказать, своими подручными средствами, в отрыве от основных понятий нашей общей теории литературы, т.е. вне системы ее понятий в целом. При многих своих противоречиях и недостатках современная теория литературы все же с достаточной полнотой охватывает свой предмет и, что очень существенно, устанавливает органическую связь между различными сторонами художественного творчества, в том числе и языком (а стихотворный язык — прежде всего язык!). И включение стиховедения в общую систему теоретико-литературных понятий, рассмотрение стиха в единстве со всеми другими сторонами литературного произведения является по сути дела необходимой, назревшей, одной из основных его задач. В этом отношении никак нельзя принять позиции В.Баевского и П.Руднева, стремящихся рассматривать стиховедение как “особую отрасль филологической науки со своим объектом изучения и со своими методами” (“Изв. АН СССР. Сер. лит. и языка”, 1975, № 5, с. 440), занимающую особое место среди гуманитарных наук (с. 447), и пытающихся даже выделить наиболее перспективные направления развития стиховедения (с. 440). Естественно, что эти перспективы, изложенные авторами во Введении к библиографии работ по изучению русского стиха в 1973 г., сводятся к перечислению традиционных разделов стиховедения (строфика, ритмика, рифма, фоника) и к крайне субъективной оценке работ, вышедших в 1973 г., что приводит к характеристике явно ошибочных положений как научных достижений. Можно ли, например, устанавливать прямую связь между темой и метром стиха и тем более между метром и художественным методом? Очевидно, что между этими понятиями провести прямолинейное соотношение совершенно невозможно. Метр не может ни передавать особенности темы, ни соответствовать какому-либо художественному методу. Об этом давно писал Б.Томашевский (значение работ которого справедливо высоко оценивают авторы). “Оформление фразы, — писал он, — связано только с эмоционально-экспрессивными элементами, а не с ее темой. Никакая статистика здесь не поможет делу, так как основывается на ложной предпосылке, допускающей возможность поисков прямой связи там, где ее не может быть... Стих оформляет только эмоционально-экспрессивные элементы речи и помогает найти правильную интонацию, которая в конечном счете диктуется смыслом и характером произносимого” (“Стих и язык”. М.— Л., 1959, с. 182, 199). Но у В.Баевского и П.Руднева мы читаем: “Переход от романтизма к реализму сказался в метрике резким разрывом традиционных связей метров с жанрами и темами” (с. 446). Очевидно, что речь должна идти не об особом месте стиховедения “среди гуманитарных наук”, а об элементарном понимании таких категорий теории литературы, как тема и метод, несущих в себе идеологическое содержание, которое в метре стиха не может быть обнаружено. В той статье, из которой авторы вынули приведенный пример, мы имеем дело с известной аргументацией, с примерами и пр., но в трактовке авторов он приобрел крайне угрубленный характер. Здесь, конечно, существенный шаг назад сравнительно с анализом стиха, предлагаемым Б.Томашевским, а вовсе не вперед, как, очевидно, полагают авторы. Позиция их в этом отношении в конечном счете связана с очень распространенной у нас, к сожалению, заменой понятия “содержание” понятием “смысл”. Авторы отстаивают эту замену, ссылаясь на то, что “категория смысла — одна из общепринятых в философии, примеры ее использования многократно встречаем у В.И.Ленина”, в подкрепление они приводят строфу из стихотворения Н.Заболоцкого “Смысла живая основа” (с. 442). Кто же будет отрицать значение категории смысла? Все дело в том, что она проявляется по-разному в различных идеологических областях. Одной из основных особенностей искусства является то, что оно имеет объективно-субъективный характер. Это, в частности, выражается в том, что художник не прямолинейно доводит до читателя или зрителя свое понимание жизни (как в науке, в политике, в быту и пр.), а ставит между собой и ими своеобразного “посредника”: в пьесе это отношения действующих лиц, по взаимоотношению которых мы судим о жизни, в прозе — персонажи, сцементированные сюжетом и авторской речью, в лирике — это переживание, раскрывающее перед нами духовный мир поэта (точнее, лирического героя, поскольку судьба поэта как личности и шире и уже того типа человека, который мы находим в его лирике). Поэтому отношение содержания и формы в искусстве значительно сложнее, чем в других видах идеологической деятельности. В “Борисе Годунове” перед нами большая, объективно-историческая проблема: отношение власти и народа. Она может быть раскрыта различным путем. Мы ее найдем и в исторических хрониках Шекспира, и у Ибсена в “Борьбе за престол” и т.д. Очевидно, что эта проблема была у Пушкина связана и с его субъективно-исторической позицией: отношением к декабризму, слабость которого была в отсутствии связи с народом в борьбе за власть. В постановке этого вопроса Пушкин мог найти различные исторические аналогии в истории и, стало быть, различные формы раскрытия этого содержания. И в том и в другом случае перед нами содержание, которое еще не требует строго мотивированной всеми его сторонами и оттенками выражающей его формы, — она может быть названа нейтральной, свободной, пассивной; в обоих этих случаях мы можем говорить о смысле “Бориса Годунова” и формулировать его, не будучи связаны чертами и подробностями его непосредственной художественной структуры, ее перед нами еще нет. Но без нее нет еще и произведения, перед нами лишь предпосылки его создания. Художник еще ищет “посредника”, т.е. те конкретные картины жизни, которые составят непосредственное содержание его произведения: сюжет, персонажей, язык. Говоря словами Л.Толстого, писателю надо “обдумать миллионы возможных сочетаний, для [того] чтобы выбрать из них 1/1 000000” (т. 61, с. 240), найти, как писал Чернышевский, “предмет”, и при этом именно “отдельный предмет”, который должен стать “проявлением идеи” (Полн. собр. соч., т. 2, 1949, с. 134). Раз выбор “одной миллионной” возможности произошел, раз возник предмет изображения, то возникла и необходимость поисков его индивидуальной определенности, начался процесс, так сказать, его опредмечивания. В этом процессе и происходит изменение характера и функции формы, она приобретает активность, участвует всеми своими особенностями (в их взаимодействии) в конкретизации создаваемых художником картин жизни, являющихся непосредственным содержанием произведения. В этом смысле форма есть мера определенности непосредственного содержания, его опредмечивание (мыслимое не статически, а как непрерывный процесс с начала до конца произведения), она сама уже несет в себе, как теперь принято говорить, новую информацию, освещающую предмет с различных сторон, и здесь уже понятие смысла не может заменить понятие содержания. Можем ли мы определить смысл “Евгения Онегина”? Здесь “смысл” может выступить перед нами только как опредмеченное содержание, как многообразие поступков и чувств персонажей романа и лирического героя, воплощенное во всем своеобразии их мысли, речи, взаимоотношений, как мера определенности непосредственного содержания, в котором только и могут найти свою художественную мотивировку все стороны речи, сюжета и пр. Вне ее они художественно нейтральны, лишены выразительного значения. Между тем в трактовке авторов статьи, о которой говорилось выше (и многих других), смысловой анализ (“целостный”) состоит в приписывании самостоятельного, автономного художественного значения каждому отдельно взятому элементу текста. Вот почему они могут говорить о непосредственной связи метра и темы или метра и метода и т.п. Тем самым произведение распадается на множество отдельных и не связанных друг с другом смыслов, а целостное его содержание исчезает. Парадоксальность ситуации в том, что призыв к целостному анализу ведет именно к разрушению этой самой целостности. В сборнике “Поэтический строй русской лирики” И.Смирнов, анализируя стихотворение Пастернака, определяет его “вокалическую решетку”, т.е. выписывает подряд построчно все входящие в него ударные гласные. Так, строфа: “Постой, в посаде, куда ни одна Нога не ступала, лишь ворожеи Да вьюги ступала нога, до окна Дохлестнулся обрывок шальной шлеи” приобретает такой вид: “о — а — а — а а—а—а—и у—а—а—а у —ы — о — и” (с. 237). Мы должны прийти к выводу, что само по себе расположение ударных гласных в каждой строке имеет автономное эстетическое значение, и, созерцая заканчивающую статью “вокалическую решетку”, приведенную полностью, предположить, что она сама по себе свидетельствует о художественных задачах, которые при ее помощи Пастернак осуществляет. Если бы Пастернак сам должен был изобретать все слова, из которых состоит это стихотворение, то их звуковой строй, действительно, свидетельствовал бы о том, что поэт возлагал на этот строй те или иные художественные задания. Однако Пастернак обращается к ходовому выражению “ни одна нога не ступала”, и все это “о” и “а” существовали испокон веков. Искать в них в полной изоляции от других элементов текста художественное значение нет никаких оснований. Звуков мало, а слов много, естественно, что мы все время будем встречать в речи звуковые совпадения, но художественное значение они будут получать только при наличии взаимодействия со всеми другими сторонами текста, как об этом и говорится в уже приведенных словах Б.Томашевского о связи стиха с интонацией и лексикой (“смысл и характер произносимого”). В опыте поэтов мы все время встречаем примеры, свидетельствующие о том, что при выборе вариантов они исходят прежде всего из соображений, связанных с лексикой, легко жертвуя метром и звуком. Строфу “Или в каждом манящем изгибе Твоих рук, твоих ног, твоих плеч Не заносит разящая гибель Надо мною невидимый меч?” Блок вычеркнул с пометкой: “‘В изгибе’, нельзя ‘заносить меч’” (Соч. в 8 томах, т. 3, с. 558). Строка “Валентина, звезда, мечтанье” первоначально читалась: “Валентина, мечтанье, диво” и “Валентина, комета, мечтанье” (т. 3, с. 557), прежде чем Блок нашел наиболее точную меру определенности своего “предмета” — любовного переживания. С особенной отчетливостью мотивировки, определяющие выбор варианта, можно наблюдать в драме, где в особенности очевидна их связь с участием в поисках меры определенности непосредственного содержания, с раскрытием характеров в речи и действии. Когда Барон в “Скупом рыцаре” сначала говорит: “В шестой сундук (в сундук, увы! неполный)”, а затем: “В шестой сундук (в сундук еще неполный) / Горсть золота накопленного всыпать” (Полн. собр. соч., Изд. АН СССР, 1948, т. 7, с. 304), то нам ясно, что ритмических оснований для замены не было, звуковой рисунок даже ослаблен (ушло одно “у”), но строка стала выразительней, потому что “еще” резче передает маниакальную страсть скупца, чем “увы!”. Равным образом замена строки “Глядит равно на правых и не правых” на “Спокойно зрит на правых и виновных” в окончательном тексте (там же, с. 282) объясняется не мифической вокалической решеткой, а основана на стремлении найти более высокую меру определенности для передачи размышлений Григория в “Борисе Годунове”. Расстановка ударных гласных: “о — и — а — о” во втором случае и “и — о — а — а” в первом является простым следствием смены слов и тем самым изменения их звукового состава, а смена слов по существу вносит новые оттенки содержания, способствуя его опредмечиванию, более полному переходу содержания в форму. Точно так же подсчет 100 000 строк пятистопного ямба, о котором с сочувствием пишут В.Баевский и П.Руднев как примере “полной индукции” (с. 440), на самом деле означает, что при таком объеме подсчетов автор не имел никакой возможности рассматривать конкретные произведения, написанные этим размером, уловить индивидуальные особенности его в реальном тексте, т.е. рассматривал в ямбе по сути дела языковые, а не литературные закономерности. Между тем в живом стихе строка не существует сама по себе, она связана с другими, образует индивидуальное их сочетание, имеющее индивидуальный выразительный смысл на фоне других однородных или, наоборот, различных (повторы, градации, контрасты и т.п.) их соотношений. Когда в “Полтаве” у Пушкина среди двух четверостиший появляется замыкающее пятистишие, оно придает стиху новый выразительный характер, которого не могут уловить многочисленные подсчеты строк, проценты и вычисления, излюбленные многими современными стиховедами. “Зачем с неженскою душой Она любила конный строй, И бранный звон литавр, и клики Пред бунчуком и булавой Малороссийского владыки”. Конечно, сама по себе эта лишняя строка ни по ритму, ни по “вокалической решетке” не несет в себе ничего вносящего нового в “Полтаву”, но благодаря тому, что она создает новый выразительный оттенок на фоне предшествовавших ей строк другого строения; она придает тексту новый оттенок, новую черту той меры определенности, которая конкретизирует и Марию, и лирического героя, о ней повествующего. Если бы предшествующий текст состоял из пятистиший, то новый выразительный оттенок возник бы благодаря переходу к двустишию или четверостишию. Здесь все дело не в “смысле” той или иной стиховой формы самой по себе, а в смене самих ритмических, звуковых и т.п. порядков, знаменующих, что в эмоционально-выразительной окраске стиха появилось нечто новое, дополняющее какую-либо сторону непосредственного содержания тем или иным оттенком, той или иной чертой, конкретизирующей персонажа, ситуацию, лирического героя и т.д. Вспомним в “Скупом рыцаре” переход от белого стиха к рифмованному в самом драматическом месте монолога Барона (“Я царствую...”), в “Борисе Годунове” появление рифмы в сцене у фонтана (“Тень Грозного...”) — все это не свидетельство особого “смысла” рифмы, а смена выразительных порядков, отмечающих новые стороны непосредственного содержания, опредмечивающих состояния и речь персонажей. В конкретном произведении поэтому каждая строка может приобрести свой особый характер, вносить новые черты в непосредственное содержание, в силу чего анализ стихотворной организации литературного произведения помогает нам увидеть его новые черты и оттенки, обратить внимание на то, что мы не заметили бы, минуя стих в нашем анализе (разительный пример: различная роль переносов в трактовке Петра и Евгения в “Медном всаднике”). А наше стиховедение в этом отношении во многом остается стиховедением “одной строки”, которая изъята из контекста и входит в подсчеты, уже потеряв свое конкретное звучание и значение. Суммарные подсчеты, конечно улавливающие те или иные общеязыковые закономерности в развитии стиха, проходят мимо его реального значения в художественном тексте и тем самым обедняют и анализ текста и анализ стиха. Вот почему подмена понятия “содержание” понятием “смысл” неправильно ориентирует весь ход литературоведческой мысли в этой области. “Для подлинного анализа строфики, — писал Б.Томашевский, — конечно, существенно не таблично-статистическое констатирование этого сечения (речь идет о паузах. — Л. Т.), а изучение реальных речевых форм... стих конкретен” (“Стих и язык”, 1959, с. 305). Это положение, конечно, относится не только к строфике, а имеет общее, методологическое значение. Нельзя, конечно, не понимать тех трудностей, которые испытывает стиховед, стремясь найти объективно убедительную основу для аргументации своих наблюдений. Эксперимент тут исключен: искусственное воспроизведение стиха, скажем, Пушкина невозможно. (В свое время в Брюсовском институте в семинаре, руководимом Г.Шенгели, делались опыты с воспроизведением всей формальной структуры стихотворений Пушкина: писались тексты, воспроизводившие не только строфику, рифмовку, размер, но и расстановку ударений, количество слогов в словах, т.е. совпадение словоразделов-модуляций и т.п. Но кроме производства чрезвычайно плохих стихов это ни к чему не приводило.) Признания самих поэтов субъективны и случайны для каких-либо выводов. Статистические подсчеты настолько формализуют и нивелируют реальное звучание стиха, что могут охарактеризовать, как говорилось, в основном только стихообразующие особенности языка. Да кроме того, их итог, в конечном счете основанный на оппозиции “много — мало”, немного может дать, так как еще никто не доказал, что “много” — всегда хорошо, а “мало” — плохо... Отдельные примеры, хотя бы они сами по себе были убедительны, не могут не иметь выборочного, случайного, вкусового характера, ослабляющего их значение в качестве аргумента. Наконец, обращение ко всякого рода “реципиентам”, т.е. проверка текста на восприятии той или иной аудитории в несколько десятков обычно все выносящих студентов, неизбежно субъективна и мало убедительна. Думается, однако, что стиховедение имеет в этом отношении еще не использованные резервы, их, как говорил Тредиаковский, “не нет”. Мы обычно рассматриваем варианты стихотворных произведений в плане изучения творческой лаборатории писателя, процесса создания им данного текста (не говоря уже о текстологических задачах), но к ним следует подойти и с методологической, так сказать, точки зрения. Прослеживая путь строки, строфы и т.д. от первоначального варианта к окончательному тексту, мы ведь имеем возможность выяснить принципы отбора поэтом всех элементов художественно организованной речи: звука, ритма, рифмы, строфы, лексики, интонационно-синтаксических форм, словесно-образной структуры и пр., не отрываясь в то же время от конкретности стиха, поскольку отбор его вариантов может быть описан и понят только на основе данного текста. В “Евгении Онегине” в строке “И отвечает: Агафон” первоначально были и Харитон, и Мирон, и Парамон (Указ. соч., т. 6, с. 101, 384, 603). В отдельности взятая, она не даст нам основы для далеко идущих выводов, но в системе аналогичных вариантов мы, может быть, и уловим доминирующие тенденции, скажем, выбора лексики — звуковые, смысловые или какие-либо иные, заметим те или иные корреляции, положительные или отрицательные, которые связывают те или иные элементы речи, определяют ту или иную их иерархию, хотя бы, если угодно, — соотношения метра с темой или методом. Здесь перед нами, с одной стороны, воочию самый творческий процесс создания данного произведения, с другой — возможность проникнуть в его логику, в понимание процесса отбора различных его элементов, их соотношения и связи. Вместе с тем для сторонников статистического изучения текста здесь есть возможность “полной индукции”, к чему призывают В.Баевский и П.Руднев (с. 440), т.е. полного перебора всех вариантов, их классификации и статистической обработки; но они забывают, впрочем, что Б.Томашевский, которого они зачисляют в ряды ее сторонников, предупреждал: “Решительно не могу согласиться с попытками связать форму строфы непосредственно с тематическим, смысловым содержанием речи... Никакая статистика здесь не поможет” (Указ. соч., с. 182). Таким образом, изучение самого процесса создания художественного произведения выйдет за пределы и непосредственного анализа этого произведения, и за пределы наблюдений над творческой лабораторией поэта вообще и получит существенное общетеоретическое значение, можно сказать, почти на уровне эксперимента. Оно позволит вместе с тем уловить и те мотивировки, которые связывают те или иные черты стихотворной речи с экстрастиховыми факторами, вызывают их к жизни, осуществляя при их помощи то опредмечивание, усиление меры определенности непосредственного содержания, о чем выше говорилось. А это может быть достигнуто и при помощи звука, и при помощи ритма, короче, всех сторон эмоционально-экспрессивной организации речи, которой является речь стихотворная. Тем самым мы получаем возможность более полно осмыслить возможности стиховедческого анализа текста конкретного художественного произведения, не изолируя его, не превращая в “особую отрасль филологической науки”, а — наоборот — стремясь к объединению его с общим направлением теоретико-литературного анализа. Из того, что выше говорилось, отнюдь не вытекает отрицание необходимости рассмотрения стиха, которое в основном восходит к установлению его в конечном счете языковой природы, к изучению языка в его стихо(ритмо-, рифмо-, строфо-)организующей функции, а не в его основной формообразующей функции в широком смысле слова. Все отдельные, частные аспекты его рассмотрения, конечно, сохраняют свое значение. Именно сейчас, в годы особенно широких методологических поисков, вполне понятно стремление расширить границы стиховедения, найти пути его развития. Но все же нужны и общие ориентиры. И таким ориентиром является прежде всего сближение стиховедения с теорией литературы в целом, с системой взаимосвязанных понятий, охватывающих и частные и общие стороны литературного творчества, а не уход от нее в замкнутую систему, “отрасль” далекую от реального процесса целостного изучения литературы как органического художественного единства. “Известия АН СССР. Серия литературы и языка”, 1976, 35, № 2, с. 173-179 http://feb-web.ru/feb/izvest/1976/02/762-1732.htm