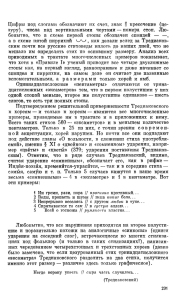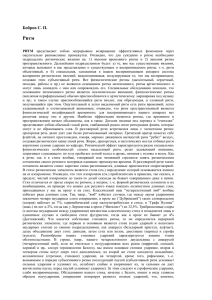Стих и музыка М.Г.Харлап
реклама

М.Г.Харлап
Стих и музыка
Публикация А.М.Гришиной; вступительная статья А.М.Гришиной и М.Л.Гаспарова
В статье музыковеда и теоретика стиха М.Г.Харлапа (1913—1994) обсуждаются вопросы о
границе между стихом и прозой, о природе стихотворного ритма и его отличия от ритма
музыкального, а с другой стороны, о взаимном тяготении стиха и музыки. Написанная еще в
1960-е годы, статья так и осталась неопубликованной.
The paper written by the music critic and theoretic of poetry M.G.Kharlap (1913—1994) discusses
the questions of the boundary between poetry and prose, it also dwells on the nature of the poetic
rhythm as distinguished from the musical rhythm and, on the other hand, on mutual attraction of
poetry and music. Though the paper was written as early as the 1960 it has not published until now.
Мирон Григорьевич Харлап — музыковед, стиховед, пушкинист, автор книг “О стихе” (М., 1966),
“Ритм и метр в музыке устной традиции” (М., 1986), многих музыковедческих и стиховедческих статей,
исследований о творчестве Пушкина, опубликованных в “Вопросах литературы” и “Известиях ОЛЯ” РАН.
К сожалению, ряд его работ не опубликован и по сей день. Немалую роль в этом сыграли драматические
повороты в судьбе ученого.
М.Г.Харлап родился в Лодзи 25(12) января 1913 г. Отец его был дипломированным фармацевтом,
кончившим Варшавский университет. Уже в 1914 г. семья переехала в Москву, где Мирон Григорьевич и
прожил до конца своих дней (17 ноября 1994 г.).
Его музыкальные способности проявились рано, домашние уроки музыки давали ему выдающиеся
музыканты: известный пианист, педагог и музыкальный издатель Давид Соломонович Шор и Лев Оборин.
Никогда не учившийся в обычной школе, Мирон Григорьевич в 11 лет поступил на фортепианное
отделение Московской консерватории, которое окончил в 17 лет (1930). Все эти годы никто не сомневался
в предстоящей ему исполнительской карьере. В студенческие годы он не раз выступал в консерваторских и
других концертах.
Все случилось иначе. В “год великого перелома” (1929) был арестован “как нэпман” отец Мирона
Григорьевича. Семья сразу лишилась всего: отняли квартиру, библиотеку, рояль “Бехштейн”, по которому
Мирон Григорьевич тосковал всю жизнь. Мать с двумя детьми буквально осталась на улице. Их приютили
родственники, но с тех пор у Мирона Григорьевича в течение 28 лет не было дома — только место для
спанья в густонаселенной комнате густонаселенной квартиры.
А за три недели до окончания консерватории Мирон Григорьевич был из нее исключен “как сын
лишенца” (впоследствии диплом ему все-таки выдали: ведь все экзамены были уже им сданы). В
результате — тяжелый нервный срыв, болезнь, больница, лечение. Его вылечили, но то ли болезнь, то ли
лечение привели к тому, что Мирон Григорьевич уже не смог стать солирующим пианистом.
Великолепным пианистом он был до конца, всегда много играл, но выступать перед большой аудиторией
не мог. Стал концертмейстером дирижерского класса консерватории, работал с Головановым, Гауком,
Аносовым, Рождественским.
От военной обязанности М.Г.Харлап был освобожден по состоянию здоровья и осенью 1941 г. с
консерваторией эвакуировался в Саратов. Туда же был эвакуирован Ленинградский университет, что
сыграло немалую роль в судьбе М.Г.Харлапа.
Он быстро познакомился с ленинградскими профессорами-филологами Б.М.Эйхенбаумом,
Г.А.Гуковским, А.П.Рифтиным. К этому времени у Мирона Григорьевича была уже немалая
литературоведческая подготовка. Русскую и западную классику он прочел в детстве и ранней юности,
университетский курс нужных ему гуманитарных наук изучал вместе со своей младшей сестрой,
учившейся в ИФЛИ, а в конце 30-х годов познакомился и подружился с блестящими молодыми
литературоведами, тогда преподавателями ИФЛИ, В.Р.Грибом, Л.Е.Пинским, И.Е.Верцманом. Вместе с
ними принимал участие в литературоведческой дискуссии 1939—1940 гг., примыкая к “течению”, которое
возглавляли Георг Лукач и М.А.Лифшиц.
Так что к общению с ленинградскими филологами в Саратове он был вполне готов. Там началось
постоянное общение, а потом и дружба его с Б.М.Эйхенбаумом, который быстро разглядел в молодом
музыканте незаурядного человека, высокообразованного и способного самостоятельно мыслить.
М.Г.Харлап включился в работу семинара филологического факультета ЛГУ, который нередко бывал и
филологически-консерваторским. Именно тогда и начала складываться уникальная особенность Мирона
Григорьевича: его профессионализм в музыкознании и литературоведении, истории и теории литературы.
Это дало ему возможность начать изучение стадий синкретического состояния поэзии и музыки. Именно
изучение, осмысление, анализ слитного, синкретического состояния музыки и поэзии на ранних стадиях
развития культуры всех народов стали одной из важнейших особенностей культурологической концепции
Харлапа, началом и основанием разработки его стиховедческих концепций, теории трех стадий развития
поэзии и музыки.
Первые свои музыковедческие (и литературоведческие) доклады М.Г.Харлап читал на семинарах в
Саратове. После возвращения из эвакуации в Москву состоялась его встреча с жившим тогда в Москве
крупнейшим композитором и музыковедом Б.В.Асафьевым. Два дня подряд по многу часов Мирон
Григорьевич рассказывал ему о своих музыковедческих взглядах и читал свои работы. В конце этой
беседы Асафьев сказал: “Защищайте свою работу как кандидатскую, а мы дадим Вам степень доктора,
которую Вы несомненно заслуживаете”. После этого Мирон Григорьевич стал старшим научным
сотрудником научно-исследовательского кабинета консерватории, за месяц сдал кандидатский минимум,
доложил свою работу на нескольких заседаниях Комиссии по теории музыки консерватории. В домашнем
архиве ученого сохранился в высшей степени доброжелательный и очень интересный отзыв Асафьева на
эту работу и положительные отзывы других участвовавших в обсуждении музыковедов.
Все было готово к печатанию и защите диссертации. Но... 10 февраля 1948 г. появилось постановление
партии и правительства об опере “Великая дружба”, а вслед за тем началось измывательство над “так
называемой школой Веселовского”, компаративистским методом в литературоведении. Ни печатать, ни
защищать работу стало невозможно.
Размышлять и писать М.Г.Харлап, конечно, не бросил, но писать приходилось “в стол”. Вот почему
первая работа ученого была опубликована лишь в 1961 г., когда ему было 48 лет. Это была не
музыковедческая и не стиховедческая статья, а напечатанная в “Вопросах литературы” небольшая часть
его работы “О ‘Медном всаднике’ Пушкина”. За ней последовали другие статьи и книги. И все же многое
осталось в рукописи.
Во всех опубликованных работах М.Г.Харлапа и во множестве рукописных заметок выявляются его
общефилософские, эстетические, исторические взгляды. За два-три года до смерти он начал большую
философскую работу, которую назвал “Размышления о мире (Mipe), материи и энергии, природе и духе,
форме и содержании и т.д.”. Не кончил, но многое успел изложить на 15 рукописных страницах.
Свойственный М.Г.Харлапу комплексный, культурологический подход к вопросам художественного
творчества отчетливо выразился и в его понимании, его решении столь сложной, “пограничной”
проблемы, как стих и музыка. Об этом свидетельствует, в частности, предлагаемая читателю статья,
извлеченная из домашнего архива ученого.
Написанная еще в 1960-е годы для одного из научных московских журналов, она по ряду причин не
могла быть тогда опубликована.
А. М. Гришина
В истории русского стиховедения 1930—1950-е гг. были долгой паузой: интерес к стиху считался
формализмом. Оживление началось приблизительно с 1958 г. — главным образом, стараниями
Л.И.Тимофеева. Советским стиховедам пришлось продолжать работу с того места, на котором
остановились в 1920-х гг. Б.В.Томашевский, В.М.Жирмунский, Ю.Н.Тынянов. Лишь с опозданием были
узнаны и освоены понятия, выработанные в промежуточные десятилетия за границей Н.С.Трубецким,
Р.О.Якобсоном, К.Ф.Тарановским. В то же время всплеснулись и воспоминания о “побочных” теориях
стиха — музыкальной (А.П.Квятковский, И.Г.Сельвинский), эмоциональной (Л.И.Тимофеев). В этой
обстановке и писались стиховедческие работы М.Г.Харлапа. Тем важнее, что ему удалось предвосхитить
многое из того, что стало известно и признано лишь потом.
Прежде всего, это относится к терминологическому уточнению самого слова “ритм” с его
многозначностью. Устоявшееся к нашему времени понимание этого термина имеет такой вид: “Ритм... в
стихе — а) общая упорядоченность звукового строения стихотворной речи; частным случаем Р. в этом
значении является метр; б) реальное звуковое строение конкретной стихотворной строки в
противоположность отвлеченной метрической схеме; в этом значении, наоборот, Р. является частным
случаем (“ритмической формой”, “вариацией”, “модуляцией”) метра и размера” (“Советский
энциклопедический словарь”, М., 1980; подробнее — “Литературный энциклопедический словарь”, М.,
1987). Это различение между “ритмом с большой буквы” и “ритмом с маленькой буквы” дошло до
стандартных справочников лишь через 15—20 лет после того, как М.Г.Харлап заговорил о “статическом” и
“динамическом” понимании ритма стиха. А для прозы изучение разницы между ритмом (и интонацией)
импровизированной и подготовленной устной речи, о которой писал М.Г.Харлап, встало на очередь лишь
в самые последние годы.
Точно так же и определение “правильности”, отличающей стихи от прозы, опережает понятия,
господствовавшие в советском стиховедении начала 1960-х гг. и приближается к концепции Н.Трубецкого
— Р.Якобсона, с которой М.Г.Харлап, по-видимому, знаком не был. Конечно, у Трубецкого — Якобсона
она конкретнее и четче: метр является чередованием сильных и слабых позиций, различающихся набором
слогов, которые могут их занимать. Так, в ямбе читатель ощущает “ритмическое ожидание”, что на
очередной слабой (нечетной) позиции вероятнее всего появится безударный слог, менее вероятно —
ударный слог односложного слова (“Дух отрицанья, дух сомненья...”) и совсем невероятен ударный слог
многосложного слова; подтверждение или неподтверждение этого ожидания ощущается как эстетический
эффект. Именно это имеет в виду и М.Г.Харлап, когда пишет, что метр “делает ритм ощутимым и тем
самым придает письменной речи характер сопереживаемого процесса”.
Наиболее ценная часть статьи М.Г.Харлапа — это, конечно, критика музыкальных теорий стиха. Они
возникли в XIX в., когда романтики объявили музыку высочайшим из искусств, и культивировались,
главным образом, филологами, профессиональных музыкальных знаний не имевшими. Напоминание о
том, что стиховая стопа не могла возникнуть из музыкального такта, потому что европейская музыка до
XVII в. не знала тактов, к сожалению, не потеряло актуальности и до сих пор. Не устарела и критика
теории эмоционального происхождения ритма: М.Г.Харлап убедительно показывает, что стих кажется
повышенно эмоциональным лишь на фоне подготовленной прозаической речи, а на фоне
импровизированной, наоборот, кажется искусственным.
Только в одном пункте автор остался под обаянием романтических музыкальных теорий — в своих
суждениях о древнейшем европейском литературном стихе, античном. Для М.Г.Харлапа это — в основном
поющийся стих, еще не оторвавшийся от музыки и целиком подчиненный долготному напеву; и лишь
побочными ветвями при нем являются, с одной стороны, инструментальная музыка, с другой —
декламируемые стихи. Это не так. В античной поэзии, действительно, были поющиеся стихи:
“подтекстовывающие” новосочиненный долготный ритм (оды Пиндара, хоры трагедий и комедий), но они
составляли в ней такую же малую часть, как и песенные подтекстовки в современной поэзии. Ни
эпические гексаметры, ни драматические ямбы, ни даже мелические размеры Алкея или Горация
(репертуар которых был ничуть не богаче репертуара нынешней силлабо-тоники) не пелись: это был
декламативный или говорной стих, делившийся на стопы с такими же сильными и слабыми позициями, с
такими же четкими правилами слогового заполнения, с такой же игрой “ритмических ожиданий”, как и в
силлабо-тоническом стихе. Это единственная оговорка, которой требует предлагаемая публикация.
М. Л. Гаспаров
I
Слово “музыка” (“искусство муз”) имело у греков более широкое значение, чем у нас. Оно охватывало
всю область временных искусств — и музыку, и поэзию, и танец. Для нас стихи и проза — явления языка,
который целиком отграничен от области музыки. Для античности, может быть, правильнее делить всю
область звукового выражения на прозу и музыку, причем последняя есть в первую очередь вокальная
музыка (поющиеся стихи), но в качестве боковых ветвей в нее входят и инструментальная музыка, и
декламируемые стихи.
Давно известно, что поэзия и музыка связаны происхождением и в течение долгого времени составляли
нераздельное единство. Но и отделившись друг от друга, они навсегда сохранили взаимное тяготение:
композиторы обращаются к поэтическим текстам в вокальной музыке, а поэты, называя свои произведения
“песнями”, “романсами” и т.п., тем самым как бы предполагают синтез с музыкой. По словам Теодора де
Банвиля [Теодор де Банвиль (1823—1891) — французский поэт и теоретик стиха.— Ред.], стихи — это
“человеческая речь, ритмизованная таким образом, чтобы ее можно было спеть... Нет ни поэзии, ни стиха
вне пения”. Независимо от этого синтеза часто говорят о “музыке стиха”, о музыкальном впечатлении,
которое производит поэтический текст сам по себе, а со времен Шиллера, противопоставившего
“музыкальных” и “пластических” поэтов, признают, что для определенного типа поэтов это впечатление
особенно существенно. “Музыка — прежде всего”,— говорил Верлен. Является ли здесь “музыка” просто
метафорой, или речь идет о какой-то связи с музыкой в собственном смысле слова?
Общий элемент всех временных искусств, связывавший их в эпоху слитного состояния, — это ритм. И
сейчас “ритм — это основная сила, основная энергия стиха”, как говорит Маяковский, который, однако,
тут же добавляет: “Объяснить его нельзя, про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм
или электричество. Магнетизм и электричество — это виды энергии” [Маяковский В. Как делать стихи? //
Полн. собр. соч. в 13 т. Т. 12. М., 1959, с. 101].
Этот отказ от объяснения ритма, вероятно, удивляет многих, привыкших видеть в ритме нечто очень
простое. Очень часто ритмом называют правильное чередование каких-либо элементов (звуков,
движений), разделяющее время на равные промежутки. Образцом такого ритма может служить
нормальный пульс. Таким же равномерным повторением акцентов признают музыкальный такт, а также
стихотворный размер, образуемый чередованием ударных и неударных или долгих и кратких слогов. Сама
стиховая форма при этом часто рассматривается как наследие слитного состояния с музыкой и танцем, как
результат приложения общих ритмических законов к речевым звукам.
С такими воззрениями связаны так называемые “музыкальные” теории стиха (Вестфаль, Корш,
Гинцбург и др.), которые, может быть, правильнее было бы назвать “антимузыкальными”. Примыкает к
ним и известная теория К.Бюхера, связывающая происхождение поэзии и музыки с трудовыми
движениями при равномерной работе. К несчастью для этой теории, те виды работы с равномерным
ритмом, о которых говорит Бюхер, возникли намного позднее, чем поэзия и музыка.
Когда в настоящее время о тактовом строении стиха говорит И.Сельвинский (которого, кстати сказать,
вряд ли можно отнести к представителям музыкального направления в поэзии), то как автор он, конечно,
имеет право указывать, что его стихи при чтении должны укладываться в равные такты. Но когда это
строение считают всеобщим законом стиха, возникают весьма серьезные затруднения.
Прежде всего, эта теория неприменима к стихосложению, которое, как античное или русское
народно-песенное, неразрывно связано с музыкой, ибо ни античная музыка, ни русская народная песня не
знают такта, появившегося в европейской музыке лишь на рубеже XVI и XVII вв., приблизительно тогда
же, когда возникли современные системы чисто речевого стихосложения.
Неприменимость тактовой теории к речевому стиху нагляднее всего можно показать на следующем
примере. Начальный стих “Онегина” — классический образец четырехстопного ямба, без которого не
обходится, кажется, ни одна книга по русскому стихосложению,— должен был бы, очевидно, делиться на
такты следующим образом:
Однако, когда в опере Чайковского этот стих был действительно уложен в музыкальные такты, он
принял совершенно иной вид:
Такое “вольное” обращение с размером стиха очень характерно для вокальной музыки. Рядом лежащие
стихи одного и того же размера по-разному укладываются в такт, как, например, у Глинки: Я | помню
чудное мгно | венье, Передо | мной явилась | ты. Композиторы даже иногда повторяют какой-нибудь стих,
совершенно меняя при этом его музыкальный ритм.
Значит ли это, что композиторы не считаются с размерами стиха? Но ясно, что при любом
произношении стихов вряд ли можно сохранить одни и те же временные соотношения в таких двух
строчках, как “Мой дядя самых честных правил” и “Швед, русский — колет, рубит, режет”, хотя в них
совпадает не только размер, но и распределение ударения и словоразделов.
Размер стиха может быть совершенно не связан с какими-либо временными соотношениями. В
“Моцарте и Сальери” Моцарт играет свой “Реквием”:
Слушай же, Сальери,
Мой Requiem (играет)
Ты плачешь?
Сальери.
Эти слезы
Впервые лью: и больно, и приятно.
Кусок музыки разрывает стих, который, однако, остается таким же пятистопным ямбом, как и все
соседние. Такой же случай в “Каменном госте”, где 2-я песня Лауры вставлена внутрь стиха, не нарушая
его правильности.
Как мы видим, временные соотношения не входят в число тех обязательных признаков, постоянство
которых создает стихотворный размер. Стих может измеряться чисто речевыми единицами (слог,
объединенная ударением группа слогов) независимо от того, какова их реальная длительность. В качестве
“основной энергии стиха” ритм, очевидно, не имеет ничего общего с равномерной пульсацией. Скорее
наоборот: чем прозаичнее и суше речь, тем сильнее проявляется в ней тенденция к ровному темпу, к
равенству временных промежутков между ударениями (речевых “тактов”).
Свободу временных соотношений часто считают специфической чертой речевого стиха, отделившегося
от музыки. В применении к речевому стиху тактовая теория находит себе в настоящее время мало
сторонников. Но противники этой теории, так же как и ее сторонники, не учитывают, что музыке
изохронизм свойствен не более, чем стиху, что тактовая ритмика, господствующая в отделившейся от
поэзии новой музыке в отличие от античной ритмики и средневековой мензуральной системы, строится не
на временных, а на акцентных соотношениях.
Такт в музыке не похож на те элементарные такты, которые можно обнаружить в прозаической речи
или в равномерной работе. Он создается не равномерным возвращением ударений, а закономерным
чередованием ударений различной силы. Самый обычный музыкальный размер — такт в 4/4 представляет
собой последовательность четырех “ударов”, из которых первый — “сильный”, третий — “относительно
сильный”, второй и четвертый — “слабые”. Такой размер не требует обязательного равенства
промежутков между ударами. В действительности метрономически точный темп в музыке является скорее
исключением, тактовые доли, половины, четверти, восьмые могут, не разрушая такта, растягиваться и
сжиматься во времени не меньше, чем слоги, стопы и строки в стихах. Впечатление, что нотное письмо
точно фиксирует длительности, обманчиво [Сторонники тактового строения стиха обладают весьма
смутными представлениями о музыкальном такте, что видно из того места “Студии стиха” И.
Сельвинского, где говорится: “Рожденный вместе с музыкой, стих дирижируется, как песня” {Сельвинский
И. Студия стиха. М., 1962, с. 67}. И тут же приводятся схемы, по которым никакую музыку дирижировать
невозможно].
Между размером (или метром) в музыке и стихотворным размером, также основанном на
распределении акцентов, имеется существенное различие. В музыке закономерное чередование сильных и
слабых моментов является главным признаком метра (речь идет, конечно, только о тактовой музыке); в
стихах распределение акцентов может играть лишь служебную роль, указывая границы строк, метрические
паузы. Стихотворный размер, например четырехстопный ямб, определяет величину стиха, выраженную
числом стоп (слогов в силлабическом стихе, ударений в акцентном стихе), и характер начала стиха (ибо
только этим ямб отличается от хорея); в вольных ямбах басенного типа форма стопы и рифма определяют
границы строк, но величина их остается свободной. В музыке размер определяет только число долей в
такте и нотную величину этих долей — числитель и знаменатель дроби, служащей обозначением размера
(4/4, 3/2, 6/8 и т.д.). Величина музыкальных фраз, их начало с сильного времени или с затакта — все это от
размера не зависит. Распределение фразовых границ в музыке так же свободно, как распределение
словоразделов внутри стиха.
Различие между музыкальным метром, распределяющим акценты, и стихотворным, распределяющим
паузы, проявляется еще и в том, что в стихах реальная акцентуация хотя и отклоняется от метрической, но
не противоречит ей, сверхсхемные ударения возможны лишь в определенных условиях. В музыке в
некоторых случаях мы наблюдаем полное смещение акцентов относительно такта; метрические акценты
при этом могут быть в аккомпанирующих голосах, иногда же они совсем отсутствуют. Начало такта
(метрический акцент) вообще не есть реальный акцент, оно указывает лишь нормальное место акцента.
Иными словами, оно определяет характер акцентов, являются ли они нормальными или смещенными.
Смещение акцента (синкопа) создает особый ритмический диссонанс или конфликт, с которым в стихах
можно сравнить перенос (enjambement), представляющий собой противоречие между смысловой и
метрической паузой.
Коренное различие между стихотворным и музыкальным метром (в эпоху, когда музыка и поэзия уже
эмансипировались друг от друга), объясняет нам, почему композиторы, укладывая словесный текст в
музыкальные такты, не заботятся о непосредственной связи этих тактов с размером стиха. В такты можно
уложить любую прозу, как это делали, например, Бах и Бетховен с прозаическим текстом католической
мессы, Мусоргский с первым действием “Женитьбы” и сценой в корчме “Бориса Годунова”, Р.Штраус с
“Саломеей” Уайльда, Дебюсси с “Пеллеасом и Мелизандой” Метерлинка и т.д.
Итак, говоря о музыкальности стиха, по крайней мере в нашу эпоху, мы имеем в виду не его размер. Но
и в поэзии, и в музыке существует понятие о ритме, не совпадающее ни с метром, ни с равномерной
пульсацией или темпом. В этой области мы и должны искать действительные связи между стихом и
музыкой.
II
Слово “ритм” имеет столько различных, часто противоречащих друг другу определений, что иногда
оно кажется обозначением совершенно различных понятий, случайно называемых одним и тем же словом.
В действительности все эти определения оказываются не так уж далеки друг от друга. Среди
разнообразных взглядов на ритм можно выделить три основные группы. В самом широком смысле ритмом
называют воспринимаемую форму распределения во времени тех или иных движений или впечатлений. С
этой точки зрения, ритм речи — это размещение акцентов и пауз, расчленение звуковой
последовательности на отрезки вплоть до слогов, группировка этих отрезков, их соотношения по величине
и т.п. Такой ритм свойствен, конечно, любой членораздельной речи, и именно как совокупность средств,
создающих ее “членораздельность”, понимают ритм некоторые лингвисты и стиховеды.
С других точек зрения, ритм — особое качество, свойственное лишь ритмичному движению,
отличающее “ритмическую” речь от обычной. Но в понимании этого качества в свою очередь можно
указать на два как будто бы прямо противоположных направления.
С одной стороны, ритмом называют правильность движения, его упорядоченность,
пропорциональность, соразмерность, основанную на точном повторении, на равномерном делении
времени. Речевой ритм, с этой точки зрения, существует только в стихах, где он совпадает с метром и
равномерной пульсацией. Этот взгляд лежит в основе “музыкальных” или тактовых теорий стиха, о
которых речь шла выше.
Такое понятие о ритме, применимое к физиологическим процессам кровообращения и дыхания и к
автоматизированным рабочим движениям, в искусстве оказывается слишком узким. Не говоря уж о
свободных стихах, даже в классических правильных стихах, так же как и в музыке, метр отнюдь не
совпадает с механически точным повторением. Вместе с тем уже с древности известна ритмическая проза
и, следовательно, речевой ритм, не совпадающий с метром [“Что касается формы речи, то она не должна
быть ни метрической, ни лишенной ритма... Речь должна обладать ритмом, но не метром, так как в
последнем случае получатся стихи” (Аристотель, Риторика, III, 8. {Античные теории языка и стиля. М.,
1936, с. 182})].
Отличие ритма от метра выступает на первый план у представителей другого направления, которые
видят в ритме трудно поддающееся определению чувство “жизни”, движения, устремления вперед, то, что
Маяковский называл силой или энергией. Основное свойство ритма — заражающая сила, эмоциональное
воздействие, достигаемое не порядком и размеренностью, не математическими рациональными
(соизмеримыми) соотношениями, а иррациональными нарушениями точных соотношений, отступлениями
от метра.
“Статическая” и “динамическая” или “рационалистическая” и “иррационалистическая”
(“эмоциональная”) точки зрения не так непримиримы, как это может показаться на первый взгляд. Каждая
из них подчеркивает одну из сторон одного и того же явления. Захватывающая сила, эмоциональное
воздействие ритма признается также “рационалистами”, которые, однако, основное условие этого
воздействия видят в упорядоченности и правильном повторении, тогда как их противникам эта
упорядоченность представляется скучной и именно поэтому эмоционально не захватывающей. Спор идет,
таким образом, не о факте эмоционального воздействия, а лишь об его условиях.
Мы можем признать, что ритмичным мы называем такое распределение движения во времени, которое
заставляет нас сопереживать это движение, вызывает в нас своего рода “резонанс” (что мы и называем
“ритмической эмоцией” или “ритмическим переживанием”). Ритм есть такая форма ряда впечатлений,
благодаря которой этот ряд воспринимается нами как процесс, как течение (это и есть первоначальное
значение греческого слова ритм — ρυθμος; от ρέω — теку, того самого глагола, которым пользуется
Гераклит в своем знаменитом “πάντα ρει” — “все течет”). Необходимым условием такого восприятия
является некоторая упорядоченность, но эта упорядоченность не должна быть чрезмерной: движение
маятника не есть процесс и не вызывает у нас ритмической эмоции. Движение, которое мы сопереживаем,
должно представляться нам живым.
Область ритма, таким образом, находится между двумя полюсами: хаотическим движением, с одной
стороны, и механически правильным — с другой. Отсутствие строгих границ как с той, так и с другой
стороны делает законным более широкое понимание ритма теми лингвистами, которые, не вкладывая в это
понятие каких-либо оценочных критериев, называют ритмом свойство, присущее любой членораздельной
речи.
В большей или меньшей степени всякая речь (как и музыка) есть эмоциональный процесс, восприятие
которого связано с ее внутренним воспроизведением и сопереживанием. Условием такого сопереживания
является ритмическая форма, свойственная потоку речевых звуков, те членения и акценты, которые
непосредственно воспринимаются слухом в этом потоке.
“Слуховые филологи” (Зиверс, Заран) называли ритмом то членение, которое воспринимается
иностранцем, не знающим языка. Это не совсем точно. Понимающий речь воспринимает ее ритм иначе,
чем не понимающий. Если мы скажем совершенно ровно, не делая никакого ударения, слово
“предопределение”, то знающий русский язык все равно услышит здесь на слоге “ле” акцент, которого не
будет существовать для иностранца. Зная, где находятся смысловые границы, мы иначе воспринимаем
паузы в слышимой нами звуковой последовательности. Тем не менее это произносимое и слышимое
расчленение следует отличать от смыслового или синтаксического.
В смысловом отношении речь членится на слова, словосочетания, предложения и т.д. В произношении
это членение выражается акцентами, паузами, интонацией и т.п. Однако фонетические единицы,
создаваемые этими средствами, далеко не всегда совпадают с соответствующими смысловыми единицами.
Законченное высказывание обычно является также законченной фонетической фразой, но внутри фразы
интонационное членение может в очень широких пределах расходиться с письменными знаками
препинания. Границы слов в связанной речи могут быть вообще не выражены фонетически, а внутри слова
фонетическое деление на слоги уже никак не связано с делением на морфемы.
Роль ритмико-интонационной стороны в речи может быть различной. В этом отношении можно
выделить два основных типа прозаической речи, между которыми существуют всевозможные
промежуточные ступени. В речи устного типа, рождающейся в самый момент ее произнесения (хотя она,
конечно, может быть зафиксирована на бумаге, например в драме или романе), особенно ярко выступает
эмоциональное начало и выражающие его интонационные оттенки произношения. Ритм и интонация
являются здесь самостоятельными средствами выражения смысловых связей, часто более важными, чем
грамматические средства. В речи письменного или интеллектуального типа, текст которой готов заранее
(хотя, например, в научном докладе он может и не быть записан), роль ритма и интонации сводится к
звуковому выявлению синтаксического строения. Отклонения ритмических единиц от синтаксических
обусловлены тенденцией к ровному темпу, равенству междуударных промежутков и дыхательных групп
(колонов). Это та же коренящаяся в физиологии тенденция, которая проявляется в любой физической
работе, ходьбе и т.п. В известной мере эта тенденция сказывается в самом строении текста, определяет
такой выбор слов и их порядок, который способствует наиболее легкому и гладкому в ритмическом
отношении произнесению. Исследованию этого ритма письменной прозы была посвящена замечательная
статья Б.В.Томашевского “Ритм прозы (по ‘Пиковой даме’)” [Томашевский Б.В. О стихе. Л., 1929, с.
254—318].
В эмоциональной речи ритм приближается к полюсу “хаотического”; сглаженный ритм письменной
прозы тяготеет к автоматической правильности, не останавливающей на себе нашего внимания. Однако в
художественной литературе существуют типы речи, где акцентуация и фразировка подчинены стремлению
ритмически воздействовать на читателя и слушателя, вызвать у него ритмическую эмоцию. Сюда
относятся различные виды “ритмической прозы”, которую, однако, нельзя строго отграничить от обычной
неритмической. Можно согласиться с Б.В.Томашевским, указавшим в вышеназванной статье, что
ритмическое впечатление в письменной прозе создается не столько формальными признаками, сколько
лиризмом, т.е. по существу повышением эмоциональной окраски, приближающим письменную речь к
устной. Вместе с тем, занимая промежуточное положение между устным и письменным типами речи,
ритмическая проза образует переход к особому типу речи — к стихам.
III
Совершенно ясно, что отличие стихов от всех видов прозы заключается в специфическом ритмическом
строе. Здесь следует отметить, что два понятия, противопоставляемые прозе, — стихи и поэзия — не
совпадают друг с другом. Поэтическое содержание может быть облечено в прозаическую форму; с другой
стороны, возможны стихи, не имеющие никакого отношения к поэзии, и не потому, что эти стихи плохи, а
потому, что они и не ставят перед собой никаких поэтических целей (сюда относятся, например,
мнемонические стихи для запоминания грамматических правил, фигур силлогизма, числа π и т.п.).
О стихах, лишенных поэтического содержания, иногда говорят, что “это не стихи”. Это неверно.
Бывают плохие стихи, не вызывающие сомнений в том, что они являются стихами, и хорошие стихи, по
отношению к которым такие сомнения законны. Мы отличаем стихи от прозы на основании формального
признака, а не эстетического критерия, и сомнения возникают там, где этот признак (сам по себе не
являющийся ни достоинством, ни недостатком) выражен слабо.
Довольно часто приходится слышать, что стихи отличаются от прозы своим эмоциональным тоном.
Однако эмоциональность еще не создает ни поэзии, ни стихов. Монолог городничего в финале “Ревизора”,
вероятно, превосходит своей эмоциональностью всю поэзию французских парнасцев, но это ни в коей
мере не приближает эту речь к стихам. В некоторых случаях переход к стихотворной форме связан с
ослаблением эмоционального напряжения. Гёте в письме к Шиллеру прямо указывает, что заключительная
сцена I части “Фауста” (сцена в тюрьме) была переделана им из прозы в стихи потому, что в прозе она
оказалась слишком сильной. Вообще и для Гёте, и для Шиллера характерна эволюция от прозаических
бурных драм (“Гёц”, “Разбойники”, “Коварство и любовь”) к гораздо более уравновешенным стиховым
драмам (“Ифигения”, “Тассо”, “Валлентштейн”). Но, конечно, эту “успокаивающую” роль стихотворная
форма может играть лишь на фоне такой эмоционально насыщенной прозы, какой была проза “Sturm und
Drang’a”. По сравнению с устной (“естественной”) речью в стихах всегда явно выступает их
“искусственность”, по сравнению же с “искусственной” письменной речью интеллектуального типа на
первый план выступают иные черты, сближающие стихи с эмоциональной речью устного типа.
Отличаясь от обоих прозаических типов, стихи представляют собой третий из основных типов речи,
выделяемых по ритмическим признакам. Эти три типа могут быть представлены не в виде прямой
последовательности, а скорее в виде трех вершин треугольника.
В качестве отличительного признака стихов недостаточна не только эмоциональность вообще, но и
ритмическая эмоция. Конечно, в целом стихи ритмичнее прозы, но у нас нет оснований отрицать, что в
некоторых случаях стихи могут быть менее ритмичными, чем ритмическая проза. Стихотворная форма
может быть одним из существеннейших средств повышения ритмичности, но не может быть
отождествлена с ритмом.
От ритмической прозы стихи отличаются тем, что ритм в них упорядочен или размерен. Но тенденция
к правильности имеется и в “чистой” прозе. Мы знаем, что в “Пиковой даме” расстановка ударений
правильнее, чем в акцентных стихах Маяковского, и что величина отрезков, на которые она естественно
членится, устойчивее, чем величина стихов в баснях Крылова.
Основное отличие стихов от прозы заключается в том, что правильность в них является
преднамеренной в буквальном смысле слова, результатом правил (осознанных или постигнутых
интуитивно, на слух), заранее данной ритмической формой, которая служит мерой ритма, метром или
размером. Эта мера представляет собой совокупность постоянных или обязательных признаков, которые
могут быть различными в зависимости от системы стихосложения, но во всех случаях они являются
искусственным руслом, в которое направляется естественное “течение” речи. Ритм стиха есть результат
взаимодействия смыслового строения, с одной стороны, и метрической схемы — с другой.
Каково назначение этой схемы? Метр создает устойчивую структуру, облегчающую восприятие и
запоминание, что объясняет значение размера для мнемонических и рекламных стихов. Те, кто видят
сущность ритма в правильности, считают, что эта легкость восприятия является также причиной
эстетического наслаждения, доставляемого стихами. Ясно, однако, что влечения к порядку недостаточно
для понимания значения стиховой формы в поэзии, для которой так характерен “лирический беспорядок”.
По сравнению с ритмически сглаженной письменной прозой на первый план выступает совершенно иная
функция метра: он подчеркивает различие между ритмом и синтаксисом, делает ритм ощутимым и тем
самым придает письменной речи характер сопереживаемого процесса.
Метр, как мы видим, не только упорядочивает ритм, делает его более правильным (т.е. выступает в
конечном счете в роли статического фактора), но и динамизирует речь. На фоне “естественной” (устной,
эмоциональной) речи размер выступает в упорядочивающей роли, тогда как динамическая функция метра
выступает на фоне “искусственной” речи (т.е. прозы письменного, интеллектуального типа). Но в первом
случае размер подчиняет себе ритм речи, если же размер служит лишь средством динамизации речи, он
становится как бы сопровождением, явлением второго плана, который, однако, необходим именно для
того, чтобы речь не была одноплановой, “плоской” прозой.
Динамическая функция метра была в особенности подчеркнута в работах Тынянова и Томашевского,
где, однако, не учитывается то, что эта функция появляется в определенных исторических условиях. Кроме
того, нельзя согласиться с утверждением этих исследователей, что специфический стиховой фактор —
метр доминирует в стиховом ритме. Наоборот, динамизация создается только наличием метрической
схемы, остающейся на втором плане.
Томашевский утверждает, что “звуковое задание в стихах доминирует над смысловым” [Томашевский
Б В. Русское стихосложение. Пг., 1923, с. 8]. Эта формула может быть применима лишь к ранним ступеням
развития стиха, когда речь носит еще совершенно устный характер (детские считалки, доходящие до
настоящей зауми, свидетельствуют о стадии, когда “складность” ценится выше смысла). Для тех, кто
говорит на “литературном” языке, кто “говорит, как пишет”, или даже — по выражению Лепорелло в
моцартовском “Дон-Жуане” — “как печатная книга” (pare un libro stampato), “звуковое задание” (метр)
есть лишь одно из вспомогательных средств, создающих эмоциональное напряжение, превращающих
слово из абстрактного знака в конкретное переживание. В этом корень противоположности между
античным “метрическим” и новым “ритмическим” стихосложением.
Белинский, считавший отличительным признаком литературы от словесности и письменности то, что
литература предназначена для печати, делал исключение для античности: античная жизнь создала условия
для публичности, обходящейся без книгопечатания, и тем самым для устной литературы. Античный стих,
возникший в условиях гегемонии живой устной речи, выделялся прежде всего своей размеренностью.
Метр в античной поэзии выступает в своей основной роли, подчиняя речь общему для всей античной
эстетики принципу меры (причем мера понимается в самом прямом смысле — как измерение времени).
Ритм стиха целиком подчинен твердо установленной метрической форме (которая, кстати сказать,
способствовала сохранению текста поэм Гомера в устной передаче в течение нескольких столетий;
устойчивостью стихотворного текста объясняется и то, что стихи служили не только для поэзии, но и для
философии, науки, истории). В новом стихе, предназначенном для печати, метр подчеркивает звучание
стиха, но в этом звучании центр тяжести переносится с постоянных метрических формул на
индивидуальное ритмическое своеобразие каждого стиха.
С характерными примерами переоценки метра мы встречаемся в работах Томашевского. Говоря о том,
что метр, создавая внесинтаксические связи, позволяет значительно удлинять синтаксические конструкции
и нарушать естественный порядок слов, что “синтаксические конструкции, нисколько не отяжеляющие
речь в стихе, почти немыслимы в прозе”, он приводил следующие стихи Пушкина:
Рожденные в снегах для ужасов войны,
Там хладной Скифии свирепые сыны,
За Истром утаясь, добычи ожидают
И селам каждый миг набегом угрожают.
Если в этом отрывке путем синонимических подстановок будет уничтожен размер, но сохранен
порядок слов, он примет следующий вид: “Родившиеся во льдах для жестокостей сражений, там морозной
Скифии жестокие сыновья, за Истром скрываясь, жертвы ждут и селениям каждую минуту нападением
грозят”.
“Подобная фраза напоминает изящество подстрочных переводов из Тита Ливия в издании Иогансена”,
— замечает Томашевский [Томашевский Б.В. О стихе. Л., 1929, с. 314].
В этом замечании сказано больше, чем предполагал его автор. Специфический стихотворный
синтаксис, “почти немыслимые в прозе конструкции” оказываются конструкциями образцовой латинской
прозы. Встречающиеся у поэта запутанные построения нередко заставляют вспоминать о латинском языке,
где свобода порядка слов позволяла ему полностью подчиняться требованиям ораторского ритма или
стихотворного размера. В метрическом стихосложении метр мог, таким образом, действительно занять
господствующее положение, т.е. определить собой ритм речи. Иначе обстоит дело в новой поэзии. В
новых языках требования нормального порядка слов выступают гораздо сильнее, что сказывается и в
стихах. Построения вроде вышеприведенного для новой поэзии в общем мало характерны и далеко не
всегда они являются достоинством. По поводу аналогичного примера в книге “Русское стихосложение”
Б.В.Томашевского:
И завещал он умирая,
Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости,
И смертью — чуждой сей земли
Неуспокоенные гости. [5, с. 8]
А.А.Смирнов в своей рецензии не без основания заметил: ““Приходится всю данную конструкцию у
Пушкина просто признать не совсем удачной” [Атеней. Кн. I—II. Л., 1924, с. 153]. Гораздо чаще у
Пушкина отмечают противоположные качества: поразительную естественность порядка слов, который
вполне мог бы быть перенесен в прозу. В других случаях незначительные отклонения от естественного
порядка не нарушают ясности и синтаксического построения. На фоне господствующего у Пушкина
прозрачного синтаксиса примеры Томашевского представляются скорее исключениями, причем интересно
отметить, что они оба связаны с именем Овидия (первый взят из “Послания Овидию”, второй — из
рассказа об Овидии в “Цыганах”). Эта связь позволяет видеть здесь в латинизации синтаксиса особый
художественный прием, некоторое приближение к античной поэзии и в связи с этим усиление
метрического начала.
Столкновение двух основных факторов, образующих стиховой ритм, сказывается в двоякого рода
“вольностях”. Усиление метра, формального отличия стиха от прозы, проявляется во всевозможных
“поэтических вольностях”; в нарушениях ради размера норм обычной речи; в широком смысле к ним
можно отнести специальный стихотворный словарь и синтаксис. Такого рода “вольности” очень
характерны для античной поэзии. Новая поэзия тяготеет к сближению стихотворной и прозаической речи,
к ослаблению формальных различий между стихами и прозой. Поэтому она скорее допускает вольность по
отношению к метру. Характерной особенностью новой поэзии является возникновение свободных форм
стиха, как бы перекидывающих мост от стиха к прозе.
В античной поэзии граница. между стихом и прозой выражена очень резко, что сказывается и в том, что
стихи не говорились, а пелись, относились к области музыки.
IV
Противопоставляя новому речевому стиху античный стих в качестве музыкального, мы подразумеваем
нечто совершенно иное, чем “музыкальность” таких поэтов, как Фет или Верлен. В античном стихе
музыкальной является самая основа стиха, его размер.
Отделившийся от музыки речевой стих строится на чисто речевой основе, на таких величинах, как слог
и ударение. Во всех системах речевого стихосложения размер в том или ином виде связан с ударением, и
тем самым со смысловым членением речи, ибо ударение в речевом потоке служит для выделения слов:
каждое значащее слово имеет ударение и притом только одно. Иначе обстоит дело в античном
метрическом стихосложении, где размер заключается в распределении долгих и кратких слогов. Основа
стиха здесь равнодушна к смысловому членению, ибо в древних языках в слове могло быть несколько
долгих слогов или же не быть ни одного. Античный размер представляет собой определенную
последовательность временных величин, которые вообще могут быть отделены от словесного текста и
представлены в виде музыкальных звуков или танцевальных движений. Эта последовательность могла
быть также представлена и чисто речевыми звуками, стихи можно было не только петь, но и
декламировать (как это делали уже рапсоды в отличие от аэдов), но при этом сохранялась та же
музыкально-ритмическая форма.
Музыкальная природа античного стихотворного размера придавала ему самостоятельный эстетический
интерес. Отсюда то богатство размеров, которое совершенно не свойственно новому стихосложению, но
которое присуще также классической арабской и индийской поэзии, творчеству трубадуров и
миннезингеров и т.д. Во всех этих случаях каждый размер представляет собой самостоятельное
музыкальное произведение, и сочинение стихов представляет собой своего рода “подтекстовку”,
вписывание словесного текста в музыкальную раму. Поэт мог быть сам создателем этой музыкальной
рамы — таковы, например, размеры Алкея и Сафо,— или же воспользоваться чужой, как Гораций,
писавший латинские стихи размерами эолийских поэтов.
Подтекстовка — типичная черта той эпохи, когда поэзия уже превратилась из “словесности” в
“литературу” (в значении Белинского), но сохранила свой устный характер и связь с музыкой. В
средневековой поэзии известны случаи, когда трубадуры сочиняли песни на инструментальные и
танцевальные мелодии. Когда в поэтических состязаниях трубадуры обменивались строфами одинакового
размера, это означало, что каждый из них сочиняет свои слова к одной и той же мелодии. Во всех этих
случаях размер был вместе с тем и мелодией — “тоном” по терминологии миннезингеров и
майстерзингеров.
В отличие от этой музыкальности формы античного и средневекового стиха в речевом стихе нового
времени музыкальностью называют особое впечатление, обусловленное в первую очередь содержанием
стиха. Сюда входят ассоциации, идущие от словесных значений, лиризм и эмоциональный тон, также
выражаемые при помощи смысла слов, мелодическое построение, которое во всяком случае относится к
речевой мелодии, т.е. к синтаксической фразировке и к эмоциональным интонациям. Все это может быть
охарактеризовано не как музыка в собственном смысле слова, а лишь как стремление слова к музыке,
существующее у поэта и передаваемое им читателю.
Такое стремление может быть реализовано в вокальной музыке. В новое время подтекстовка уступает
место сочинению музыки на готовый текст. Но, как мы видели, композиторов при этом мало интересует
стихотворный размер. Их заботит лишь соответствие музыкальной акцентуации и фразировки с реальной
акцентуацией и фразировкой текста, соответствие музыкального и поэтического ритма, а не метра.
Музыкальный текст связан с размером стиха лишь в той степени, в какой и в музыке и в стихе метрические
акценты совпадают с реальными.
Если все же композиторы, как правило, обращаются к стихам, то дело здесь не в размеренности как
таковой, не в упорядоченности ритма, а в динамической функции метра, в том, что он выявляет ритм,
способствует сопереживанию эмоционального процесса. Но такую же динамизирующую роль в музыке
играет музыкальный размер — такт. Чередование акцентов создает непрерывный ток, не позволяющий
музыке распадаться на мотивы и фразы и сплавляющий их в единую, устремленную вперед линию.
Взаимное тяготение стиха и музыки есть результат их отдаления друг от друга и возникновения как в
стихах, так и в музыке своей специфической размеренности. Так в известном мифе в “Пире” Платона
любовь есть стремление друг к другу половин, составлявших некогда одно целое.
Харлап М. Г. Стих и музыка / Публ. А. М. Гришиной; Вступ. ст. А. М. Гришиной, М. Л. Гаспарова //
Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. — М.: Наука, 1996. — Т. 55. № 5. — С. 73—86.
http://feb-web.ru/feb/izvest/1996/05/965-0732.htm