Об образцах литовско-русского словаря, составленного Е
advertisement
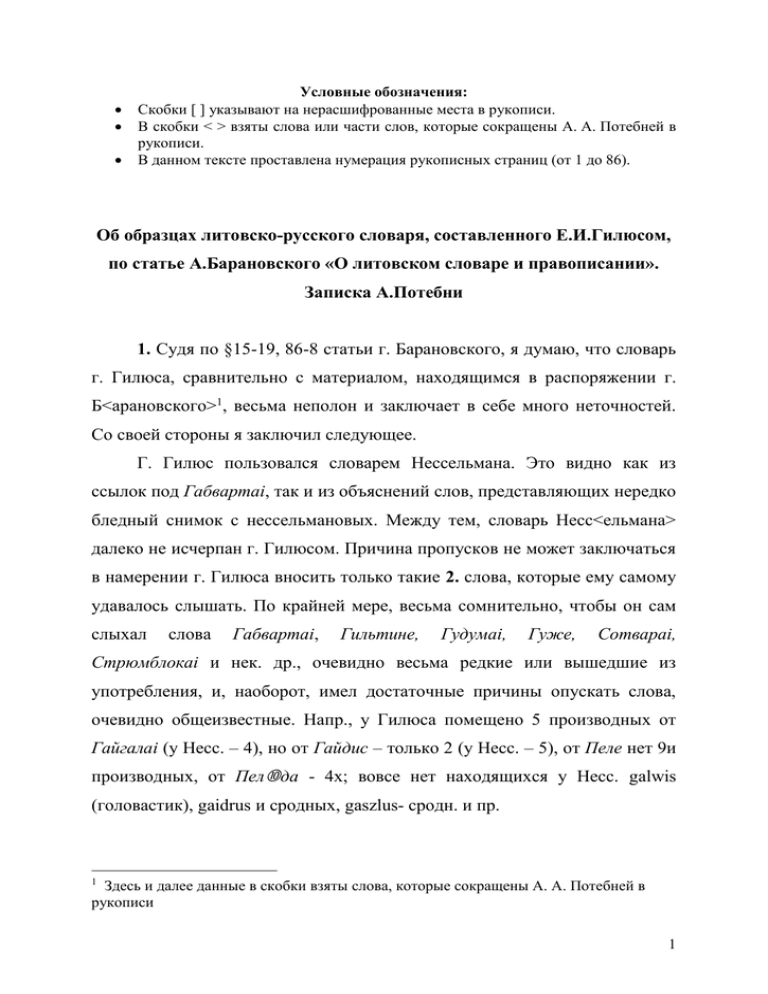
Условные обозначения: Скобки [ ] указывают на нерасшифрованные места в рукописи. В скобки < > взяты слова или части слов, которые сокращены А. А. Потебней в рукописи. В данном тексте проставлена нумерация рукописных страниц (от 1 до 86). Об образцах литовско-русского словаря, составленного Е.И.Гилюсом, по статье А.Барановского «О литовском словаре и правописании». Записка А.Потебни 1. Судя по §15-19, 86-8 статьи г. Барановского, я думаю, что словарь г. Гилюса, сравнительно с материалом, находящимся в распоряжении г. Б<арановского>1, весьма неполон и заключает в себе много неточностей. Со своей стороны я заключил следующее. Г. Гилюс пользовался словарем Нессельмана. Это видно как из ссылок под Габвартаi, так и из объяснений слов, представляющих нередко бледный снимок с нессельмановых. Между тем, словарь Несс<ельмана> далеко не исчерпан г. Гилюсом. Причина пропусков не может заключаться в намерении г. Гилюса вносить только такие 2. слова, которые ему самому удавалось слышать. По крайней мере, весьма сомнительно, чтобы он сам слыхал слова Габвартаi, Гильтине, Гудумаi, Гуже, Сотвараi, Стрюмблокаi и нек. др., очевидно весьма редкие или вышедшие из употребления, и, наоборот, имел достаточные причины опускать слова, очевидно общеизвестные. Напр., у Гилюса помещено 5 производных от Гайгалаi (у Несс. – 4), но от Гайдис – только 2 (у Несс. – 5), от Пеле нет 9и производных, от Пелда - 4х; вовсе нет находящихся у Несс. galwis (головастик), gaidrus и сродных, gaszlus- сродн. и пр. Здесь и далее данные в скобки взяты слова, которые сокращены А. А. Потебней в рукописи 1 1 Относительно объяснения многих слов г. Г<илюс> находится в зависимости от Несс<ельмана>, причем последний обстоятельнее, полнее, точнее. На собственные 3. примеры г. Г<илюс> крайне скуп, но не хочет их заимствовать у Несс<ельмана> Размещение слов по семействам, принятое у Несс<ельмана>, конечно, имеет свои неудобства и вовсе необязательно; но словарь строго азбучный, не переходя в этимологический и не разрастаясь в объеме, может заключать в себе известные готовые и прочные результаты этимологических исследований. Отказываясь от этого содействия пониманию языка, словарь понижает свое ученое и учебное значение. Во многих случаях г. Гилюсу было бы нетрудно и полезно и в упомянутом отношении воспользоваться словарем Нессельмана. Само собою, что у Г<илюса>] есть недостатки и не зависимые от неумения пользоваться Нессельманом. В подтверждение сказанному приведу несколько примеров. 4. Гайлюос, гайлетис, жалеть, есть у Гилюса; по каким соображениям опущено gaileti (N.)? Почему, под гайлус нет значений, помещенных у Несс[ельмана] под особым словом gailus, mitleidig и пр. = жалкий в действит[ельном]и страдательном смысле, gailu = жаль, жалко ? Галас. У Несс<ельмана> несколько характерных примеров, у Г<илюса> ни одного. Галва. У Н<ессельмана> 12-13 оборотов, не исчерпываемых общим значением ‘голова’ и не указываемых им; у Г<илюса> – 2. Галдане (и ниже Пилава, Сталунекай) ‘название города’ (Г<илюс>). Подумаешь, что это имена нарицательные. Галибе. У Г<илюса> нет значения ‘сила’ в переносном смысле: свойство, сущность вещи. Галю. У Г<илюса> нет зн<ачения> ‘мочь’= быть здоровым: негалю – не могу = мр. нездужаю, мне неможется. В Галюос значение “пользоваться 2 своими силами” 5. сбивчиво и не нужно: негалюос = не могусь, т. е. мне неможется. Гарбе. Лишнее: ‘достопочтенное имя, приобретенное хорошими качествами’ и нет девяти характерных оборотов, которые есть у Н<ессельмана>. Гауклас, ‘благоприобретенное имение’. Стало быть, male parta это уже не Гауклас? Если это так, что маловероятно, то стоило упомянуть. Гаурай. У Г<илюса> нет ботанического значения. Тут нельзя видеть намеренности. В ботанич<еских> названиях г. Гилюс зависит от Н<ессельмана>. Гауротас, ‘жесткий’. У Н<ессельмана> ‘behaart’ и отсюда ‘rauh’. Геболис, гебелис, ‘фронтон’. У Нессельмана Giebel, чем указывается на заимствованность лит<овского> слова, и другие значения, в числе коих нет “фронтон”. Гаспада, ‘герберг’ (!); ‘угощение, потчевание, гостеприимство’ (?). это русс., польск. господа. В мр. хозяин говорит гостю, встреченному на дворе: “ходiмо до господи”. Отсюда, с переходом значения, 6. как в слове корчма, - постоялый дом […]2 двор. От значения gaspadą důti, gaspadon priimti. Herberge geben (N.) еще далеко до значения ‘гостеприимство’. Гегужетас, ‘похожий на кукушку’ (Г<илюс>). В чем? Из примеров у Нессельмана ясно, что разумеется сходство в цвете: а wiszta = мр. зогуляста курка. Гелуонис, ‘твердая часть какой-нибудь материи, образовавшейся вследствие продолжительной боли’(?). Вероятно, речь идет о стержне нарыва. Глинда, ‘вшивое яйцо’. Это ‘das Ei der Laus’ (N.) = гнида. 2 Здесь и далее данные скобки указывают на нерасшифрованные места в рукописи. 3 Глумас, ‘расстройка (!), повреждение ума; Jис тури глума галвоiе, «он бестолков». Сомнительно. Вероятно, это русс. «у него глум на уме, в голове». Гроздана, домовой, нечистый дух. Гроздунас, ед. у Несс<ельмана> – Poltergeist и помещено под Grodž, es poltert, но которого нет у Гилюса. Гражиктелис, «полукрасивый». Ср. 7. ниже Грейтинтелис, «полускорый»; Сальдинтелис, «полусладкий». На деле эти формы соответствуют русским уменьшительным. Герас. У Г<илюса> – один оборот. У Н[ессльмана] 17., из коих многие решительно не могут быть выведены по догадке из отвлеченного ‘добрый’. Даже одно отвлеченное значение – все равно что ничего. Гести, ‘потухать, погасать, пересекаться’, т. е. пресекаться? Но и это последнее – о быстром прекращении, а не о погасании, напр., жизни, звука. Гивену, гивети. Слабо сравнительно с Н<ессельманом>. Из приведенного у Г<илюса> зн<ачения> ‘жить’ нельзя догадаться, что гивенти значит и «быть хозяином», т. е. сидеть на своей земле, а не на чужой, в качестве батрака или подсоседка, захребетника; или - что гивенамас яутис – вол, которым уже работают. Громулюою, ‘жевать’. Громулис – ‘кусок какой-нибудь пищи, приготовленной для глотания’; ‘шарообразный кусок’ (Г<илюс>). Вероятно: жевать жвачку, жвачка. 8. Грктванис – поток (Г<илюс>). История лит<овского> слова, его книжность, заимствованность объясняется немецким […] Гудас, русский человек; (иногда) славянин (?). У Н<ессельмана> – поляк, русский. Гусис, ‘приключение’ (?) и пр. Гусейс, по временам, иногда (Г<илюс>). Все заимствовано у Н<ессельмана>, но испорчено. Гусейс, по- 4 видимому, значит не спокойное ‘по-временам’, а порывами, припадками (о болезни). Гушта, сидеть на яйцах; лачужка (Г<илюс>). Не понято: у Н<ессельмана> – das Brütenart der Zühner Gänse, и отсюда - eine Lütte. Гдра дна, ясный день, помещено под существительным гдра, ведро. Гурсту, гурти, ‘положиться’. Это неумелая передача нем. sich legen (vom Winde), N. Пагарсти, находить в чем[-либо] вкус, удовольствие. Из примера видно, что это глагол, употребляемый безлично: приходиться по вкусу, нравиться вкусом. 9. Пасикайшити, припоясаться (?), подобраться, подвязаться (о верхнем платье). Почему «о верхнем»? Ср. русс. подтыкаться, подтыкаться. У Несс<ельмана> – под kiszu. Перленкис, ‘все то, что кому-либо принадлежит (стало быть, именно собственность?); долг, обязанность, законная плата’ (Г<илюс>). У Н<ессельмана> – ‘was einem zukommt’ и пр. Паутас, яйцо; -ай, мужской член (Г<илюс>). У Нессельмана - муд. Савишкас, см. савас, свой, собственный, домашний (Г<илюс>). Это не ‘свой’, а ‘свойский’. Савитис, ‘приучаться, становиться ручным, поважаемым (?)’ вместо осваиваться, освоиться. Саспара, ‘угол в деревянном доме, к коему прикреплен продольный брус’. Эта бессмыслица есть попытка перевести следующее объяснение Несс<ельмана> ‘die Ecke eines hölzernen Gebäudes, in welcher die Lagebalken der Wände mit ihren Enden in einander greifen’, стало быть, сутки дерев<янного> сруба. 10. Свилис, ‘опаленные молодые колосья ржи или пшеницы’ (Г<илюс>). Не понято. У Н<ессельмана> это – под swylu, glimmen и 5 schwellen и объяснено: ‘die Sange (provinzialism), der Zustand des Korns, wenn dasselbe anfängt Кörner anzusetzen: rugei jau swilij’; der Roggen ist schon in der Sange’ = рожь наливается, настал налив ржи. Седжя, ‘матня’ (Г<илюс>), т. е. матня невода, а не шаровар. Секминес, ‘Пятидесятница, Троицын и Духов день’. У Н<ессельмана> пояснено, что это слово в связи с секмас седьмой, и означает седьмое воскресение после Светлого. Сербента, смородина (Г<илю>]). Какая? По Н<ессельману>, именно черная, a szwokle – красная, szwokszle, по Мильке, тоже, а ‘bei Rusz – ist es die wilde schwarze Bocksbeere’, rib<esium> nigrum. У Г<илюса> странно: швокшлė́ , rib<esium> rubrum, особенно ribes. nigrum 11. Сетинас, плеяды, седмозвездие (Г<илюс>). У Н<ессельмана> это слово в одном семействе с sijoju, сею и sētas, сито, что бросает свет на его первообразное значение. Сивейда, лиса, -ца. См. лапе <Гилюс>. Можно подумать, что это обыкновенное название лисицы. У Несс<ельмана> – (poet.). Сварас, фунт (Г<илюс>). N., das Gewicht nach dem man wägt, daher auch das Pfund (под swaru) Скалус, расщелистый, расщепистый, ломкий (Г<илюс>). Но расщелистый – имеющий расщелины, а скалус – колкий в страд<ательном> значении. Скаудус. Гилюс опускает 3 характерных оборота. Скида, вывеска (Г<илюс.). N: der Schild, не в смысле ‘вывеска’, в смысле ‘щита’, откуда skydininkas ‘щитник’, skydneszis ‘щитоносец’. Скистас, жидкий, негустой, тонкий, редкий (Г<илюс>). Это значения производные. У Н<ессельмана> rein (= чист), klar, hell von Flüssigkeiten, gegensatz zu tirsztas. Как в последнем – переход от густоты (tirsztas = толст) к мутности, так в первом (skystas), наоборот, от прозрачности к жидкости. 6 Скреплей, мокрота (Г<илюс>). Какая? – м. в горле, груди, харкотины. Скрузделинас, муравейник, куча муравьев (Гилюс). Вероятно, это перевод нем. Ameisenlaufen. Слю, жать, тискать, давить (камнями) – Г. Поводом к спецификации в скобках служит то, что у Н<ессельмана> - mit Holz oder Steinen beschweren. Спиргас, шквара (?), «вытопка» (действие или вещь?). Спиргау, ити, приготовлять шквары (?), жарить мясо (Г<илюс>). У Н<ессельмана> обстоятельное объяснение, из коего видно,что spirgas = польск. skwarek, мр. вишкварок (лит. iszspirga) Спрага, отверстие в какой постройке, калитке (Г<илюс>). Нессельман (spraga, praga, proga; ср. sproga под sprogstu) знает только: ‘отверстие в плетне, закладываемое досками’. 13. Спрагину, нти, обжигать (!) горох, боб и др. т.п. предметы (Г<илюс>). Для чего делать такие вещи и создавать для этого слово? Дело в том, что у Н<ессельмана> rösten, т. е. русс. (мр.) пряжить, пражить, польск. prazyc, а не обжигать. Сруста, нечистота на навозной луже, помои (Г<илюс>). Несс<ельман>: Mistjauche (jauche = юха), навозная жижа. Мне кажется, что некоторые из приведенных примеров заставляют ожидать и других подобных, ибо указывают не на случайные ошибки, а на средства и приемы автора. Нахожу справедливыми замечания г. Барановского (§79-85) о несвязности или неточности передачи г. Г<илюсом> формального значения слов. Определение рода глаголов (действ., страд., возвр. и пр.), нередко ошибочное или недостаточное, могло бы стать в словаре излишним, если бы вместо него приводились 14. примеры, направленные к уяснению рода 7 глаголов. Этим вознаграждалась бы неточность перевода, всегда до известной степени неизбежная, а иногда и под пером знатоков языка принимающая значительные размеры. Г. Барановский, недостаточном справедливо различении упрекавший формальных значений, г. Г<илюса> сам в находится вынужденным отождествить лит. si, как инфикс, с самостоятельным sawo и перевести: «pasileidžau arklį pėwon» посредством «я пустил своего коня на луг» (§ 87, стр. 136). Смысл si, соответствующего русскому ся и (стар.) си (съжалити си), а также и русс. себя (собе, собi), польск. sobie, se, также гибок, как и этих ся и пр. Мне кажется, что лит. waraũsi jauczus удовлетворительно объясняется переводом: а) «гоню себé 15. волов» (сила речи на местоимении); б) «гоню сěбě волов» (местоимение энклитическое), чем описаниями, предлагаемыми г. Б<арановски>м: а) «гоню для себя волов»; б) «гоню волов свободно, по собственному благоусмотрению (1 с., стр. 136). Тут являются вопросы, точно ли все равно, что себе, что для себя? точно ли в «был сěбě человек N», «бiл сŏбĭ розумненький», «я сŏбĭ таки трохи паньскоi натуры» (Квитка) и т. п. заключается оттенок «свободы и полного произвола в образе бытия» или тут требуется более сложное определение? То же, что о роде, можно сказать об определении в словаре вида глаголов: тут помогли бы читателю не столько технические термины и приблизительно верный перевод, сколько удачный выбор примеров, вовсе отсутствующих у г. Г<илюса>. Многое здесь, по 16. признанию г. Б<арановско>го, осталось неясным и для Куршата, а тем более для Шлейхера. Терминами, как deminutivum или frequentativum и др. можно бы пользоваться, помня, что они заключают лишь приблизительные указания. Точной терминологии пока нет, а потому мнение г. Б<арановско>го (§87, стр.137), что «обозначение видов в словаре … предохранило бы (?) от неверного перевода … и значительно сократило бы работу по 8 обстоятельному изложению смысла» вряд ли имеет практическое значение. Теперь, при употреблении существующих терминов, понадобится не менее примеров и ссылок на относительно первообразные глагольные формы, чем и без этого употребления. Сам г. Б<арановский> употребляет между прочим термин «глагол однократный» (стр. 138), напр. gag-ter-ė-ti. Очевидно, тут 17. заимствование из слав<янской> грамматики. Г. Б<арановский> мог принимать в соображение только современное состояние славянских языков, т. е. древнее по отношению к видам мало известно и славистам. Между тем в нынешних славянских языках однократность необходимо относится к более обширной категории совершенности, которая в свою очередь предполагает существование катег<ории> несовершенности. Каждый глагол нынешних слав<янских> языков есть или соверш<енный> или несовершенный. Но совершенность или несовершенность совершенно чужды литовско-латышскому яз<ыку>, что явствует из того, что в этом яз<ыке> вовсе нет славянского перехода настоящего вр<емени> гл<агола> соверш<енного> к значению будущего. В этом отношении литовско-латышский яз[ык] стоит в настоящее время на степени, как мне кажется, пережитой славянскими языками, но 18. оставившей в них заметные следы. Этот вопрос я желал бы рассмотреть в особом сочинении. Как бы ни было, но теперь, когда общеизвестно лишь нынешнее состояние слав<янских> языков, применение термина однократности к литовскому языку, нисколько не облегчая работы лексикографа, сбивает читателя с толку. Verbum resultativum (термин, вводимый Куршатом, Gr. § 463; Wb. во введении) должно переводится в словарь не менее, чем двумя русскими глаголами, напр., įeiti = входить, войти. Это обстоятельство между прочим служит ограничением мнения г. Б<арановско>го, что обилие видов в 9 литовских глаголах значительнее, чем в русских (стр. 137).3 Г. Гилюс вовсе не 19. знает вышеупомянутого термина и при vb. result<ativum> ставит как случится, то по два русских глагола (СВ – НСВ), то по одному, напр., памету, памести – ‘покинуть, оставить, бросить, потерять, уронить’( все гл<аголы> СВ), хотя памету есть настоящее, а покину – только будущее. Ср. паленкю, палесту, палигину и мн. др. Иной раз кажется, что г. Г<илюса> вводит в заблуждение немецкий перевод у Нессельмана, именно, когда г. Г<илюс> литовский нерезультативный глагол передает русским совершенным. Г. Г<илюс> не принимает в соображение, что немецкому почти (или вовсе) чужда результативность литовских гл<аголов>, до некоторой степени изобразимая славянскими языками, и совершенность слав<янских> глаголов. Поэтому, 20. напр., генду, гести правильно переведено у Несс<ельмана> - verderben, но ошибочно у Гилюса одним совершенным «повредиться, испортиться». Скерджю, скерсти правильно у Несс<ельмана> «ein Scwein schlachten», ошибочно у Гилюса «убить (СВ) свинью». По поводу § 84 статьи г. Б<арановско>го, где указываются некоторые особенности литовских глагольных приставок, замечу следующее. Надо сохранять в полной силе общее положение современного языкознания, что язык языку, строго говоря, ни в чем не равен, так что, в отличие от математики, знак равенства и соответствующие ему слова в языкознании всегда имеют лишь приблизительное значение, именно – неравенство, на которое до поры не обращаем внимания, или равенство, 21. за которым при дальнейшем исследовании ожидаем встретить различие. Для решения этого вопроса не только г. Б<арановский>, но и слависты не имеют достаточных данных, т. к., между прочим, область отыменных глаголов с видовыми оттенками суффиксов, более заметная в простонародных слав[янских] говорах, мало исследована. 3 10 Тем не менее, мнение г. Б<арановско>го о степени своеобразности некоторых явлений литовского языка сравнительно с русским преувеличено, за неимением данных для сравнения. Так, напр., лит. pra(at-, nu-) szlubůti ‘пройти мимо (приблизиться, удалиться) хромая’ заключает в себе оттенок нам достаточно знакомый: ср., напр., ‘про- (при-, до-, от-, пере-, за- и из-) шкандыбать’. Подобное и в др<угих> русских и славянских говорах. Ap-gìr-dyti и т. п. значит и в литовском не ‘отравить давая питье’ (как думает г. Б<арановский>, приписывающий предлогу вещественное значение!), а то же, что т в русс[ком] ‘обпоить’, между прочим и ядовитым питьем. Определение относительно первоначального значения предлогов – дело трудное. Не могу обвинять г. Гилюса в том, что, следуя 22. Нессельману, он дает предлогу пар значение ‘назад, вниз’ (у Несс. zurück, heim, wieder, zu Boden), а не 5 значений, различаемых в этом предлоге г. Б<арановски>м (стр. 143-4), тем более что мнение г. Б<арановско>го может быть оспариваемо. Первое значение, принимаемое г. Барановским, ‘возвращение из несвоего в свое место’ равносильно с heim, которое может быть выведено из ‘вниз’. Объяснение этого перехода у Куршата, Gr. § 457. 3е, 4е значения г. Барановского (‘порча предмета’ и ‘опрокидывание’) явно производны от ‘вниз’: парнешёти – ‘износить, изнашивать одежду’ – как бы ‘низносить, носить до низу, дотла’; пармушти – ‘сбить’ (вниз), как в славянском ‘низвергнуть’. 5е значение (‘избыток качества’): пар-дидис – слишком великий) другими приписывается предлогу пер (напр., у Несс. perdidis, у Г<илюса> – пер дауг ‘слишком много’). Тут 23. правда на обеих сторонах и разница – диалектическая. Слав. пр (пре, prze) в этом самом значении ближе к лит. пер, чем к пар. Я не оправдываю смешение этих предлогов, в коем г. Б<арановский> упрекает г. Гилюса, но думаю, что повод к смешению здесь объективный: отношение лит. пер и пар 11 напоминает отношение польск. рrze, фонетически равного русскому пере, к русс. про. Относительно неточности в передаче оттенков смысла, зависимых от именных суффиксов (Баранов<ский>, § 85) замечу, что во многих случаях требовать здесь большой точности нельзя при нынешнем состоянии учения о суффиксах, насколько оно сказывается даже в таких замечательных сочинениях, как для славянских языков – Mikl<osich Fr>. V<ergleichende> Gr<ammatik der slavischen Sprachen>. [Bd.] II. [Wien, 1875]. Точность является здесь делом искусства. Количество 24. терминов, помогающих разграничению, напр., имя действия, и<мя> результата, и<мя> действующего лица и действующего предмета и т. п., здесь не велико. Влияние грамматич<еского> рода имен на значение большей частью неясно. Часто имя действия переходит в имя реальной вещи – действующего лица, причем вопрос о первенстве одного из этих значений и их преемстве каждый раз требует новых исследований. Так, чтобы не удаляться от примера, выбранного г. Б<арановским>, русс. меледа означает действие, реальную вещь и действующее лицо. Вовсе неубедительно, что это слово может соответствовать лит. gaĩszatis и не может – лит. gaiszà. Г. Б<арановский> в § 20 рассматривает грамматические формы, которые, по его мнению, излишни в словаре г. Г<илюс>а “как особые статьи”. Выставлять ли уменьшительные, степени сравнения, наречия и т. п. как особые статьи 25. или же приводить их под словами, принимаемыми за первообразные, это – лишь вопрос сбережения места-времени. Во всяком случае, эти формы должны быть в словаре, имеющем […] либо притязания на полноту. Г. Б<арановский> полагает, что «упомянутую морфологию (т. е. уменьшительные и пр.) следовало бы предоставить грамматической обработке, в словаре же довольствоваться общими 12 указаниями во введении». Таким образом, введение в словаре на деле стало бы грамматикой; но ведь грамматика может без опасности для истины представлять в виде отмеченных положений лишь то, что в виде частных фактов содержится в словаре. Господство аналогий в языке ограничено. Крайне наивно было бы думать, что если в языке от стары есть *престаре́нский, то от новый будет *пренове́нский. Последнего может вовсе не быть. Есть ли оно или 26. нет, может быть решено только эмпирически. Литовский язык не составляет исключения, и из положения г. Б<арановско>го, что «им<ена> сущ<ествительные> имеют в лит<овском> около 50 уменьшительных форм» было бы ошибочно выводить, что любое лит<овское> существительное окружено столь многочисленным родством. Мера в рассматриваемом отношении не может быть определена a priori. Мне кажется, что в литовском, как и в русс<ком>, должны быть приведены все известные составителю уменьшительные, увеличительные, степени сравнения, наречия, падежи и глаг<ольные> формы, представляющие отличия в ударении от форм, принятых за основные. Вся сила – в умении составителя отличить важное от неважного. Если есть это умение, то нечего (Бар<ановский>, стр. бояться 36). «громадности» Драгоценный литовского словарь словаря Караджича, 27. заключающий в себе многое, что г. Б<арановский> «предоставил бы грамматической обработке» – не волюминозен. Mutatis mutandis тоже следует сказать о мнении г. Б<арановского>, что в словаре не нужно обозначать звуковых видоизменений слов по говорам. Г.Б<арановский> (§ 44) приводит две причины неудачности литовского правописания в словаре г. Гилюса: а) незнание автором всех литовских говоров и б) трудности применения русских букв к фонетике 13 литовского языка. Что до а), то, конечно, знать все говоры трудно, даже едва ли в равной мере возможно; но на нет и суда нет. Шлейхер и Куршат, как признает г. Б<арановский>, мало знакомы с русско-литовскими говорами (Барановский, стр. 45, 76-[…]), сам г. Б<aрановский>, по его словам, мало знаком с говором юго-западных русских литовцев, к коему он относит текст словаря г. Г<илюса> (§ 26). Поэтому о правописании г. Г<илюса> г. Барановский судит частью 28. по его непоследовательности, частью по сравнению с правописанием Шлейхера и Куршата. Рассмотрению разницы между правописанием г. Г<илюс>а с одной и Шлейхера, Куршата – с другой стороны и доказательствам превосходства правописания Куршата, а особенно Шлейхера, г. Б<арановский> посвящает § 27-43 своей статьи; доказательствам неудобства русской азбуки для литовского яз<ыка> - § 45-76, т. е. около трети всего обширного исследования, из чего видно, что этому вопросу г. Б<арановский> придает особенную важность. Я тоже считаю этот вопрос важным, но решаю его для себя иначе: насколько г. Барановский считает применение русской азбуки к литовскому яз<ыку> вредным, не согласным с «истинным прогрессом и наукой», настолько я, в сочинениях научных, писанных на русском языке, - полезным и совместимым с научными требованиями. 29. Не желая усложнять вопрос, я не говорю о практическом значении такого применения для самих литовцев. На стороне г. Б<арановско>го я предполагаю частью устраниться недоразумения, частью невозможность стать на нашу точку зрения. Подобно всякой апперцепции, ознакомление с чужим языком состоит в объяснении явлений этого языка явлениями своего. Последний есть незаменимое средство для понимания первого. Степени объективности знания не выходят из пределов нераздельной с природою человека субъективности. При акте понимания понимаемое всегда до 14 некоторой степени изменяется, как пища при усвоении ее организмом; но чем ближе понимаемое к тому, что служит средством понимания, тем легче происходит понимание, усвоение. Частное проявление этого закона – сравнительная легкость понимания наречий, близких 30. к нашему, а также и то, что при усвоении нами иностранных языков наши соотечественники, caeteris paribus, служат лучшими посредниками, чем люди иного языка.4 31. Если бы мы были не русские, а, положим, китайцы, то и в таком случае мы бы должны были прибегнуть к своему языку для усвоения литовского; но общеизвестны отношения славянского племени к литовско- латышскому: из всех индоевропейских, это – наиболее родственные; из всех славянских, в силу соседства и исторических связей, ближайшие к литовскому – русский и польский. Близость тут не только во «внутренней форме» языка и постоянных красках народной поэзии, но (думаю, хотя не имел случая убедиться личным наблюдением живой речи) и в общем характере звуков. Польский язык вряд ли имеет в этом отношении какиелибо преимущества перед русским, ибо, напр<имер>, отсутствие в последнем носовых гласных вознаграждается присутствием в нем таких черт, как подвижность ударения и некоторое сходство его переходов с литовским. 32. Т<aким> о<бразом>, судя a priori, русская фонетика, как средство понимания литовской, и русская азбука – как средство изображения литовских звуков, имеют и объективное преимущество перед другими, так как при пользовании этими средствами литовская фонетика должна подвергнуться наименьшим изменениям. 4 У нас многие не признают этого последнего положения верным. Это свидетельствует лишь об их идолопоклонническом отношении к иностранным языкам, о грубой материалистичности взгляда на значение изучения этих языков и влечет за собой ничтожество результатов. Гоняются за «прононсом», но не видят духовной, образовательной стороны дела. До сих пор, несмотря на противодействие лучшей, хотя малой части общества, идиотизируют детей, чуть не с пеленок обременяя их ум иностранными языками, замедляя быстроту и обмеляя глубину их мысли искусственным строением отечеств<енного> языка и обществом педагогов Вральманов. Отсюда – до сих пор господство в известных слоях презренной и оплеванной порядочными людьми наклонности отличаться от толпы не содержанием и силою мысли, а ее звуковою формою. Такого отличия можно бы добиться с меньшими издержками, изучением не великих культурных языков, а любого воровского. 15 Согласно с этим мы можем находить недостатки в способе применения русской азбуки к литовскому и латышскому тем или другим, но осуждать такое применение в принципе, как это делает г. Б<арановский>, было бы с нашей стороны дико. Говоря о применении русской азбуки к литовскому языку с научными целями, я разумею правописание по возможности фонетическое, между тем, как г. Барановский отдает решительное предпочтение правописанию смешанному, 33. «преимущественно этимологическому», которое, по его словам, «годится для изображения языка вообще». Действительно, для целей внутренних, литературных, социальных такое правописание может быть полезно. Подобно тому, как мы смотрим на русский литературный язык и на связанное с ним правописание как на средство объединения народного сочинения, как на инструмент воздействия на действительность, ее сознательного видоизменения; так за пишущими на литовском яз<ыке> и для литовцев мы можем признавать право создавать литературный язык и объединяющее правописание. Есть ли у литовцев такое правописание и если есть, то насколько оно общепризнано5, это здесь для нас – 34. вопрос посторонний. Если есть, то пусть есть-будет. Таким правописанием народы дорожат не в той мере, в какой велики научные авторитеты, над ним потрудившиеся (таких авторитетов, особенно […], как Шлейхер, никто, кроме специалистов, не знает), а в той, в какой оно привычно. По поводу литовско-русского словаря мы можем говорить, конечно, не о насильственном навязывании народу непривычных ему письмен, вроде официальной попытки навязать русским Галачанам польскую азбуку, которая отделяла бы их от остального русского народа, а о свободном научном исследовании. Такое По словам г. Б<арановско>го (§ 24, стр.46-7), в пределах Росс<ийской> империи пишут политовски преимущественно фонетическим правописанием; таково же правописание Куршата, по его собственному мнению. Правописание г. Б<aрановско>го, насколько оно отлично от Шлейхерова и Куршатова, пока – лично. 5 16 исследование должно стремиться к целям чисто теоретическим, а не к изменению действительности. Утверждение г. Б<арановско>го (§ 23, стр. 42; § 24, стр. 45), что правописание этимологическое 35. изображает язык вообще, а фонетическое – лишь отдельные его ветви, возбуждает вопрос, что такое «язык вообще». Если «общее» понимать в смысле отвлеченного, то, соблюдая логическую правильность, можно противополагать язык вообще, как нечто идеальное, нигде не совпадающее с действительностью, языку конкретному, действительному, которым одним только говорят и пишут. Из такого противоположения должны быть исключены исторические отношения. Если же вносить в противоположение эти исторические отношения, как это делает г. Б[арановский], то ветвям языка можно противопоставить лишь их ствол или корень, причем исторически предшествующее и исторически последующее в равно мере конкретны и частны и не имеют друг перед другом никакого преимущества. С этой точки вышеприведенное противоположение изображения языка вообще изображению лишь отдельных 36. его ветвей так же странно, как если бы мы сказали: это портрет отца, а это лишь портрет его сыновей. Другими словами, для языкознания сияние, которым г. Б. окружает излюбленное им противоположение, вовсе не существует. Если бы правописание состояло из одних архаичных форм, то языкознание могло бы из него исчерпать сведения лишь о прошедшем состоянии языка, которое само по себе не только не важнее последующего состояния, но в некоторых отношениях может быть менее важно. Но опыт убеждает, что этимологическое правописание, не только сложившееся исторически, но и вновь слагаемое одним лицом, не может состоять из одних архаических форм, равномерно предполагаемых всеми наличными говорами. Такие формы составляют лишь один из элементов 17 литературного 37. языка и правописания; остальное берется из одного или нескольких современных говоров. Т<aким> о<бразом> литературный язык становится новою единицею в этнографическом кругу наречий. Правописание разделяет судьбу языка. Во множестве случаев оно имеет лишь иносказательное значение, служит символом, получающим смысл от того конкретного содержания, которое связывает с ним говорящий и пишущий. Мы пишем добр-аго, добр-ые (мн., м. р.), добр-ыя (мн., ж. и ср.) и разумеем под этими окончаниями каждый свое, при том вовсе не потому, что эти окончания срединны, этимологически правильны, изображают язык вообще. Для языкознания литературное правописание может служить источником при изучении лишь литературного языка, как одного из наречий. В противном случае исследователь, 38. принимая часть за целое, впадет в грубые ошибки, напр. припишет окончания –аго, -ые, -ыя всему русскому языку в его настоящем или прошедшем состоянии. То, что имеет значение лишь символическое, пусть в языкознании остается при этом значении, и не рядится в платье общего, существенного, более важного по отношению к диалектическим случайностям; прошедшее языка будем изучать по данным этого прошедшего, настоящее – по данным настоящего. От смешения всего этого ничего путнoго не произойдет. Этимологизирующие писатели, филологи, дающие формулы своей работы, без показания частных данных, из коих эти формулы добыты, выдающие свои измышления за факты языка, причиняют исследованиям такие же затруднения, как фальсификаторы 39. старинных и народных памятников. Можно вспомнить между прочим об одном изобретателе белорусских божеств, фигурирующих теперь в ученых сочинениях, или из области правописания - о фамилии Наржный, которая пошла ходить по свету в этой форме, п<отому> ч<то> кому-то вздумалось панруссировать форму Нарiжний=Нарожный. 18 Конечно, этимологизирующее литовское правописание не составляет исключения из общего правила; хотя, по словам г. Б<арановско>го (стр. 45), оно совмещает в себе несовместимое, именно изображает и «язык вообще» («а не одну только или другую его ветвь – говор») и в то же время – язык и в действительном его настоящем, а не минувшем фазисе. Я не имею средств вдаваться в частности – ограничусь немногими примерами того, что достигнуть срединности правописания, 40. не давая преобладания одному говору, не впадая в условный символизм – задача по меньшей мере бесплодная. Г. Б<арановский>, следующий этимологическому правописанию, пишет ąžůlas ‘дуб’ (стр. 92). Если ą изображает здесь чистый звук, предполагающий в прошедшем носовой, то оно не предполагается формою аржулас, которая замечена, кажется, в марьямпольском у (Фортун. и Микл. [...]), ибо, по-видимому, р – из л, ą это из н, еще чувствуемого как согласная, не вошедшего в состав носовой гласной? Т<aким> о<бразом>, общелитовская форма была бы *ан-жу-лас? Если это так, то удобно ли предоставить «определять по-своему» (Б.) произношение этой формы говорами, в коих это слово произносится aužolas, užůlas? Где такой закон, по которому ан превращается в ау? – Куршат и Шлейхер пишут род. ед. gréblio, gómurio; 41. г. Б<арановски>й для 4-х говоров пишет gréblo, gómuřio, поясняя, что последнее значит gоmuřo (почему в одном случае lо, хотя l при l и само по себе значит мягкое л, а в другом сверх ř еще и io: lo но řio?), а для 3-х восточных – grébа (с r, а не ř, как выше?), gómuriа (стр. 68). Аналогично с этим gómuria «im nördlichen Littauen schwächt sich das unbetonte o in der Endung der Subst. и verba zu a: von põnаs, der Herr – põna, statt des sonst gewöhnlichen põno» (Kursch. Gr. 109). Что же здесь будет общелитовское, этимологич<ески> правильное, «отчетливо обозначающее все этимологические оттенки общей фонетики» (Б., стр. 45)? Gómuřo, põno или gómuřа, põnа? Точно ли о ослабляется в а, как говорит К<уршат>? Я думаю вовсе нет, но и ō .. а - из 19 ā. Таким же образом, где общелитовская форма: tworà, žmogus или twārà, žmagus (Б., стр. 38)? 42. Где общелитовская форма именит. ед.: ménů (месяц) или ménun (Куршат пишет ménuñg), sesů (сестра) или sesun (Курш. sesuñg)? (См. Бар., стр. 38, Kursch gr. §731). Если в этих словах с суффиксами es, er (родит. mén-es-ies, ses-er-ies) нормально ů (русс. уо), то как из этого ů вывести un? И каково будет языкознание, если ему дадут как общее и существенное sesů, а sesun утаят или наоборот? Труд отыскивания формы, как выражается г. Б., «основанный на словопроизводстве говорам»…«посредством и соответствующей сравнения всех говоров (?) с живым применением изображенных правил об этимологических переменах в известных условиях гласных и согласных букв» (§24) может быть хорош только на своем месте, в сочинениях такого специально-научного характера, как, 43. напр<имер>, словарь Фика. Если же словарь должен служить инвентарем языка, годным для разного рода научных и практических нужд, то лучше всего, если автор, не лукавомудрствуя, будет представлять слово именно в том виде (или видах), в каком он его знает, и свои исследования и предположения будет отделять от того, что ему кажется непосредственным фактом. Кто много знает, тому нужно и много места, чтобы изложить свои знания; но при некотором знании меры, вовсе не страшно то, чем пугает г. Б<арановский>, именно, что «для изображения всякого оттенка в произношении потребовалось бы особой буквы» и что «так усложненная азбука будет почти как китайская неудобна к изучению» (§ 23, стр. 43). Для таких, которые делают предмет неудобным к изучению, закон неписан. Г. Гилюс не стремится к правописанию, 44. составленному из отвлечений и ученых препаратов. Этого ему нельзя ставить в вину. 20 Вина его, по словам г. Б<арановского>, в применении русской азбуки, ибо, во-первых, для такого применения недостает «исторической и научной трудами опытных по сему предмету специалистов подготовки». Но недостаток авторитетов – дело поправимое. Надо же кому-нибудь начать. При том г. Гилюс вовсе не первый. Записывание малорусских памятников польским правописанием тоже не опирается на особенно сильные авторитеты, а между тем принесло некоторую пользу изучению русского языка и самими русскими. В противоположность упомянутому недостатку авторитетов г. Б<арановский> выставляет, что для создания литовской азбуки ныне «общеупотребляемой в Европе» потребовалось соединение исторической 45. подготовки, дарований и трудов знаменитых ученых (стр. 75). С тех пор, говорит г. Б<арановский>, как литовский яз<ык> стал предметом научных исследований и для преподавания его учреждены кафедры, при многих «европейских университетах; с тех пор как «в вопросе о литовской азбуке взяли участие истинный прогресс и наука», язык литовский «перестал быть лишь только органом крестьянской жизни литовцев» (§ 45, стр. 74). Странное смешение понятий: язык как орган мысли изменяется от того, что ученые, как Бопп, Шлейхер, не думающие и не пишущие на этом языке, делают над ним наблюдения! Результатами этих наблюдений воспользуются литовцы лишь настолько, насколько они ученые, филологи. Предполагаемые совершенства литов<ского> правописания, принятого западными учеными для научных целей, могут послужить 46. более нам, между прочим, при применении русс<кой> азбуки к литовскому, чем литовскому домашнему правописанию. Как уже упомянуто, всякое литературное, домашнее, направленное к практическим целям правописание может и должно поступать по правилу sapienti sat, рассчитывая на тот запас данных, который привносится как пишущим, так 21 и читающим. Так, нам не нужно обозначения ударения, сербам – двух ударений и долгот, разумеется, кроме изданий с целью ученою и учебною. Обозначение различных тонкостей замедляло бы чтение и писание, а стало быть, течение мысли. То же можно думать о многом, отмеченном исследователями литовского языка, напр<имер>, о различении долгот, сопряженных с ударением, которое г. Б<арановски>м выражается, напр<имер>, в звуке i посредством у и ў. Практика за это 47. спасиба не скажет, а нам для теоретических целей это может годиться. В применении к г. Гилюсу: его, б<ыть> м<ожет>, следует упрекнуть в недостаточном знакомстве с научным исследованием лит<овского> языка, но до принципиального вопроса о применении русс<кой> азбуки к литовскому – это не относится. Какого рода «историческую и научную трудами опытных по сему предмету специалистов подготовку» должно бы претерпеть, по мнению г. Б<арановско>го, русское правописание, для того чтобы стать до некоторой степени применимым к литовскому языку, «выработавшему собственную азбуку, отличающуюся особенною этимологическою отчетливостью», это мы узнаем между прочим из § 60 статьи г. Б<арановско>го, где сведены доказательства «отсутствия этимологической отчетливости в русском вокализме». Верно, что «гласные буквы русской азбуки обозначают 48. по нескольку этимологически различных звуков» (л), но странно думать, что возможно правописание этимологическое до той степени, на которой не было бы слияния в один звуков, первоначально различных, и распадения на несколько звуков звука, первоначально единого. Где тот момент языка, в коем нет подобных смешений и распадений? «Решение многих лингвистических вопросов требует предварительного разъяснения всех (!) подобных различий» (л), т. е. первоначальных различий звуков, ставших одним. Да, это одна из целей истории языка; но она достигается сравнением многих моментов языка, 22 многих правописаний, и достигается тем лучше, чем менее эти отдельные правописания школьны, чем менее в них отвлеченных формул и личных выдумок. 49. Напрасно стремление в одном правописании совместить раздельно тысячелетия жизни языка, как в сказочном яйце помещаются многие стада скота. Требования отдельных исследователей относительно этимологической точности и раздельности безграничны и никакое правописание удовлетворить им не может. К тому [же], требования эти часто несправедливы. На всякое чихание неназдравствуешься. Так, напр<имер>, требования, предъявляемые г. Б<арановски>м русскому правописанию, исходят из предположений будто движение стоит вместо гjэние, движимый вм. -гjымый, лежит вм. -гjытъ, похожий вм. походjый (стр. 102), выливать и пр. вм. вылjывать, сравнjывать, обнадежjывать, а валение и пр. вм. валjэнiе, сраваjэнiе, а эти – из валjанiе, сравнjанiе. «Предположение это основывается на том, что в многократном виде примета однократного (?) – а уступает место инфиксу –ыва, 50. напр<имер>, дел-а-ть – дел-ыва-ть, дел-а-ние; примета же –и- перед упомянутым инфиксом исчезает совсем, а является остатком ее звук j; j+ыва=ива, напр<имер>, топить, многокр. вид – тапливать вм. тапjывать (стр. 189). Т<aким> о<бразом>, автор думает, что делывать, тапливать прямо от делать, топить. Не знаю, какими глубокими соображениями оправдываются мнения, что дружиться, мучить – вм. гjыться, -кjыть, купеческий вм. купецjэскiй (л, стр. 110, 111). По мнению г. Б<арановского>, один – вм. jэдин; в жать а заменяет йотированный юс (ją); о в глохнуть, сохнуть есть подъем звука у (глух); в блъ есть мягкий ослабленный а звук (что такое здесь ослабление?), как и е в везде, теплый, тоже мягкий ослабленный а-звук; в желтый, конем é=io в том смысле, в каком и в род. ед. 51. души=ią, а и в именит. мн. капли=ię (стр. 102-3). В §68, стр. 113, упомянувши о том, что в литовском д, т, дж, ч 23 перед с ассимилируются, г. Б<арановский> усматривает отличие от этого правила в рус. словах: следствие, напутствование, беречься, почти, вотчинный, зодчий. Не в его средствах знать, что представляет в этих случаях старинный язык (-ь-) и спрашивать, что будет в славянском языке с зубною, если к ней непосредственно присоединяется с суффикса? Благодарение судьбе, правописание наше, каково бы ни было, не зависит от подобных требований. Як би Бог чередника слухав, то-б уся череда виздыхала. Но пусть бы русс<кое> правописание «было этимологически отчетливо, это бы ни к чему не послужило, ибо применение его к литовскому языку встречает затруднение в различии «этимологических 52. и фонетических законов» в русском и литов<ском> языках (§ 44, стр. 74) 6, т<аким> о<образом>, говоря проще, в том, что это – два языка, а не один, в чем, надо полагать, никто никогда не сомневался. Но такова же (допустим вместе с г. Б<арановским>, что «такова же», а не большая) разница между литовским яз<ыком> и всеми остальными. Согласно с этим г. Б<арановский> выставляет общее положение, что в какой мере известная азбука удобна для своего языка, в такой же она неудобна для литовского, и, наоборот, в какой мере «общеупотребляемая, обстоятельно по каждой букве определенная литовская азбука соответствует литовскому, в такой же – неудобна для прочих, нелитовских языков (§ 54, стр. 88). 53. Это положение, примененное к языку вообще, а не к одной фонетике, есть лишь признание особности языков без признания их группировки по степеням родства. Тему г. Б<арановско>го можно варьировать далее: в какой мере азбука – литовская, в такой она В числе соображений, имеющих целью доказать различие между литов<ским> и русским, не допускающее применения русс<кой> азбуки к лит<овскому> яз<ыку> находится § 72: «В собственных именах священного писания греческое β в литов<ском> языке произносится и пишется в (б), в русском же – в, напр<имер>, Babilónija, Вавилон». 6 24 нелатышская, в какой она Росиенская, в такой - не Тельшевская, в какой Малорусская, в такой же не Великорусская, и далее до бесконечности. Для ограничения этого самостоятельность принимается литов<ской> г. Б<арановски>м азбуки, но и ее не только недробимость, панлитванизм; вместо же родства, так сказать, по плоти, которое открывало бы азбукам более сродных языков право примениться к литовскому и с известной точки грозило бы нейтральности лит<овской> азбуки, принимается родство по духу: литовская азбука, как нейтральная держава, 54. вводится в систему азбук западноевропейских и отдается под покровительство азбуки «общеевропейской». Последняя относится к азбукам западной и средней Европы, «как род к видам»; буквы ее лишены «точного определения», заключают в себе лишь общее указание на звуки отдельных языков и в этом – «одно из преимуществ этой азбуки над русскою», т. к. последнюю успешно применить к нерусскому языку мешает между прочим и ее исключительно «видовое значение» (стр. 89). Иначе говоря: исходя, напр<имер>, от польского правописания, которому литовское многим обязано (стр. 75-6) можно успешно дойти до литовского лишь через момент общеевропеизма, исключающего Россию. Но этим окольным путем никто никогда с толком не ходил. Исходя из любой точки, можно расширить миросозерцание 55. до неопределимых размеров; путь в бесконечность – это всюду, но непременно от частного, личного, национального. Так и языкознание заметно народно. Немец судит о чужих языках как немец, а не общеевропеец, а тем менее – как общечеловек. Известное изречение, влагаемое Берке в уста некоего […], что «француз – только француз и т. д., человеком же может назваться только немец», объясняется тем, что говорящий так уж очень собою доволен. Замечательно, что и г. Б<арановски>й косвенно признает субъективность языкознания, не видя, что из этого следует. Он говорит: «Куршат хотя и ездил в 1872 г. по 25 Ковенской губернии для изучения здешних литовских говоров, но по причине своей программы вопросов, основанной на познании только прусско-литовских говоров, и, может быть, притупленного своим исключительно немецким образованием слуха» 56. (только слуха?) «не мог отличить и обозначить некоторых синтаксических, флективных и фонетических особенностей…» (стр. 78). Справедливость требует прибавить, что и верные и глубокие наблюдения над языком делаются тоже на основании данных отечественного языка наблюдателя. Если это так, то на первый план выступает степень удобства той или другой точки зрения, того или другого состава объясняющих комплексов мысли. В применении к азбучному вопросу здесь опять, по мнению г. Б<арановско>го, невыгода – на стороне русского языка: «нет ни одного фонетического оттенка в русском языке, которого не можно было бы найти в одном из языков, употребляющих общеевропейскую азбуку, упомянутые же языки все вместе имеют некоторые фонетические оттенки, русскому языку чуждые; потому русская азбука легко могла бы быть 57. заменена общеевропейскою, но не наоборот» (стр. 89-90). Тут предполагается, или что автору известны все фонетические оттенки русского языка, чего, конечно, на деле нет, или что о подобных вещах можно судить a priori; затем особность по отношению к каждому из европейских языков, признаваемая автором за литовским, отрицается в русском; наконец, вместо общеевропейской азбуки, которая, по мнению г. Б<арановского>, есть абстракция, подставляется для замены русской азбуки нечто более конкретное и осязаемое, именно совокупность азбук западноевропейских народов. Из того, что г. Б<арановский> говорит о замене русской азбуки не то общеевропейскою (отвлечением), не то выборкою из европейских, можно заключить, что г. Б<арановский> опасался не применения русской азбуки к изучению литовского языка, а замены существующей литовской азбуки русскою, что не все равно. 58. «Успешное применение русской 26 азбуки к нерусскому языку, говорит г. Барановский, требует…», одним словом, ее изменения. Кто же сомневался в этом даже относительно применения этой азбуки в этнографических пределах самого русского языка? Но, прибавляет г. Б<арановский>, так переделанную азбуку можно ли еще считать русскою?» (§ 54, стр. 90). Я понимаю это мнение так, что каждый раз, когда мы хотим понять нечто, стоящее вне нашей ближайшей сферы средствами своего, волей-неволей русского сознания, мы не должны льстить себя надеждою, что этим будут удовлетворены требования нашего народного самолюбия и вместе удобства, ибо при этом мы каждый раз должны выскакивать из своей шкуры и становиться не собою. На самом деле бывает не так. Положим, под понятием злака (=А) я разумел до сих пор растения а, б, в; случилось мне узнать растение г, и 59. я говорю, что это г тоже есть А. При этом состав понятия А изменился, но и г воспринято не при помощи небывалого идеально полного понятия о злаке, а при помощи того А, которому были подчинены лишь понятия а, б, в. И так во всем, без всякого исключения во вред русского языка и т. п. Вопрос о степени удобства русской азбуки как средства познания, - в связи с другим: как велик круг явлений, понимавшихся и понимаемых под начертаниями этой азбуки? По мнению г. Б<арановского>, круг этот очень мал, ибо «русская азбука выработалась на одном только русском образованном или книжном языке». «Хотя она происходит от древнеболгарской или ц<ерковно>сл<авянской>, но отличается от сей последней и числом, и наружным видом, и определением букв» (§ 52, стр. 86), а определение русс<ких> букв таково, что если, напр<имер>, применить к лит<овскому> русское о и г, то эти буквы, пожалуй, будут прочтены 60. как в кого=кавó (стр. 87). Такой взгляд встречается и между русскими, лишенными исторического и филологического образования: древнего русского письменного языка не было или, если и был, то не было непрерывной его связи с нынешним, возникшим одновременно с 27 гражданским шрифтом, или около того; русскою азбукою пользовались и пользуются лишь те, которые, напр<имер>, пишут кого и произносят каво. На самом деле известно, что русский язык вмещает в себе обширный круг русских наречий, древних и новых, и русская азбука понималась с первых веков христианских на Руси и понимается весьма разнообразно с точки зрения этих наречий. Русс<кий> язык и русская азбука заключают в себе большое богатство данных для понимания звукового строя других языков. Нужно только уметь пользоваться. Я не могу, по недостатку сведений, представить полного применения русс<кой> 61. азбуки к литовским говорам и ограничусь лишь немногими частностями. В §56 г. Б<арановский> говорит о юсах в литовском яз<ыке>. Этого нельзя одобрить даже в том случае, если автор употребляет этот термин, лишь применяясь к нашему пониманию. Сколько известно, юсы сравнивались с носовыми гласными других языков, но никогда не отождествлялись с этими гласными, и никто не говорил, напр<имер>, о юсах во французском яз<ыке>. Юсы, как известно, предполагаются русским языком, но в историческое время в фонетическом (а не палеографическом) смысле в нем отсутствуют. Поэтому напрасно г. Б<арановский> говорит об образовании юсов в русском языке по закону отличному от литовского. Приводимые им примеры непоследовательности русского языка, именно сохранение н перед согласными (кинжал, восточное слово, заимствованное много спустя после доисторич<еского> превращения юсов в чистые гласные; кощунство – из -ньство), показывают лишь недостаточность сведений. 62. Правило, выставляемое г. Б<арановски>м для литовского, принадлежит к числу замашек особого рода панлитванизма, подставляющего часть вместо целого и тем мешающего раздельному познанию языка: «В середине слов литовского языка носовые звуки (юсы) 28 образовались последовательно только перед свистящими и плавными (s, sz, z, j, l, l, r, m, n)». «Перед прочими согласными n (н) всегда произносится отчетливо и не допускает образоваться юсам» (стр. 92-3). Сказанное без ограничений, это должно быть отнесено ко всему литовскому языку, что несправедливо. В некоторой части литовского языка (в прусско-литовской и в Сувалкийской губернии) ą, ę, į, ų означают не носовые гласные, а чистые, коих происхождение из носовых лишь «отчасти заметно по долготе» (Kursch. § 149). Из сведений, сообщаемых г. Б<арановски>м (§27, стр. 57) видно, что в Росиенском яз<ыке> ą произносится местами как фр. en (перед согл.), местами как фр. on, ę – как польск. ę (стр. 54). 63. Произношение соответственных звуков в Тельшевском яз<ыке> г. Б<арановский> выражает посредством ąn, коему придает значение on, и посредством ęn (goląnsti, стр. 51, szwęnsti, 54). Т. к. ą, ę и сами по себе носовые гласные, то ąn, ęn должны выражать сочетание этих гласных с отчетливо произносимым n (н). Это подтверждает Куршат, приводя жмудские формы, как žansìs, zunsìs (Gr. §149). Значит есть говоры, в коих раздельное, согласнoe н удержалoсь перед свистящими. Затем, написание гивéти (при гивену) у Гилюса, gywęti (при gywenti) у Шлейхера и Куршата, произношение gyweati в некоторых говорах (Б., стр. 55) и аналогично с этим габендити (Гилюс, gabendįti (Шлейх. Курш.) при gabendinti (Б., §30) свидетельствует, что есть говоры, в коих иные сочетания en, in превратились в носовые, потом в чистые гласные перед согласною, кроме свистящей и плавной. 64. В нескольких восточных говорах г. Барановсикий находит произношение galondu galost, galúndu galústi, острить на оселке. Позволительно думать, что здесь основное сочетание аn (ан) еще не превратившись перед свистящею и плавною в носовую гласную, перешло в on, un. Если это так, то написание galosti, предполагающее носовую гласную о, для этих говоров не имеют ни фонетического, ни 29 этимологического значения и может быть принято за центральное общелитовское лишь конвенционально. Относительно говоров, потерявших […] ą и пр. написание gąsti, имеющее целью показать, что эта ф<орма> находится в связи с gandaú, похоже на то, как если бы в русском стали писать дуть для показания, что эта ф<орма> – в связи в дму и что ее у отлично по происхождению от у в обуть. Сохранять такие архаизмы в правописании в силу привычки, слагавшейся многие века, 65. это – понятно; но вводить в сочинение, вовсе не предполагающее в читателе такой привычки, не нужно. Поэтому я не могу вместе с г. Б<арановским> осуждать г. Гилюса за то, что он, имея в виду свой говор, пишет гāсту, гáсти, гандау, а не gąsti и пр. При этом для меня остается вопросом, насколько точно г. Г<илюс> изображает количественные и тонич<еские> отношения звуков, происшедших из носовых. Характеристично следующее: Факт, в том, что в начале слова эйна г. Г<илюс> пишет э, согласно с тем, что и, по признанию г. Б<арановского>, здесь произносится е твердое (eina, ežeras) и а (aina, ažiaras). Кроме этого г. Г<илюс> ставит э после префикса (пар-эйну) а в частице нэ. С нашей точки, тут вопрос только в том, действительно ли таково произношение в говорах, ближайшим образом знакомых г. Г<илюс>у, г. же Б<арановски>й не только делает полезное указание, 66. что в различных говорах произносят pařeinu, pářeinu, póř-einu, teřp-ežerys, ne (почти nia), с мягкою согласною перед е, но рассуждает так: p и r в tarp-par тверды и мягкое произношение в pařeinu и пр. получали в силу влияния следующего е; это доказывает, что звуки е, é в начале слова не различны ничем от е, é в середине и конце слов. Поэтому буква э в словах эйна, парэiимас неуместна как противная «этимологическим и фонетическим законам» (§ 29, стр. 57-8). Если бы мы вздумали искать таких «законов» в русс<ком> яз<ыке>, то мы бы должны 30 были рассуждать примерно так: в значительной части мр. говоров тв. ед. конем=конэм, но склонение конь искони мягко, да и 67. в других мр. говорах произносится конём: следовательно, самый факт как противный фонетическим и этимологич<еским> законам, нужно изображать так, чтоб его не узнал тот, кто его не знает. Такие законы делаем мы сами, а своя рука – владыка. Об изображении русскими буквами литов<ских> звуков породы е замечу лишь вообще, что для этого может быть принято два способа: или, как у г. Г<илюса> и отчасти у И. Юшкевича, можно исходить от вр. произношения е (не=н= чем не=польск. nie), причем следовать тому правилу, что е после гласных=je (по образцу доброе=oie=oje, Гилюс пишет лит. гирiое=gìrioje, но лучше было бы с ё гирёе). В таком случае э для лит<овских> говоров, в коих, напр<имер>, аглэ, эглэ ‘ель’, – необходимо. Или – исходить от произношения основного русского е за э. В таком случае э – 68. не нужно, а для е смягчающего предыдущую согласную и для je после гласных – исстари известный – употребляемый доныне знак или , стало быть, напр., егле (=эгло), гìрёcе. Аналогично с этим для i после гласных - ǔi и ǔu. Какому способу ни следовать, необходимо не скрывать этимологическими условностями тех случаев, в коих предполагаемый звук вроде е произносится, как кажется Юшкевичу, Фортунатову и Миллеру и др., за я (гярi и т. п.) 7 Если точно местами и нам, привычным к сочетаниям кя, ля, ня и т. п. послышится здесь звук, состоящий из двух элементов (у Б., § 28 – geāras, gears), то, конечно, и это следует отметить. Тут можно положиться только на свое ухо. Иные иностранцы, подолгу живущие в России, не могут выучиться произносить, напр<имер>, коляска. У них выходит 69. kaléska, а при старании kaleaska или kalaska со средним 7 Иногда у г. Г<илюса> ę=я: пабáляс, луси, паваргяс, павинiяi. 31 нерусским la. Так бы они и написали, чтобы сделать русское слово mundgerecht для своих земляков. -i, по словам г. Б<арановско>го, «во всех литовских говорах всегда мягко». Тут же однако сообщается важное ограничение, что в Тельшевском и Росиенском яз<ыках> оно «заметно мягче русского ы, но и заметно тверже произношения прочих литовских говоров». Потому в жмудских сочинениях встречается часто у не в значении количества (=í), а в смысле польского ы (§ 30, стр. 59-60). В другом месте (§ 61, стр. 101): «ы и э для литовского языка, не имеющего ни твердого е, ни твердого i, излишни». Для себя я вывожу отсюда, что для изображения количества литовского u по наречиям можно воспользоваться двумя из трех заметных оттенков, свойственных русскому языку, 70. именно острым i (как изображают этот звук со времени Квитки и Метлинского) и средним мр. u , причем ы останется в стороне. Если же для острого звука принять u, то для среднего, как это и встречается, - ы. Количество этих звуков нужно обозначить в обоих случаях надстрочными знаками. Г. Гилюс пишет в случаях, где у Шл<ейхера> ё, у Курш<ата> ié. Г. Б<арановски>й предпочитает знак, принятый Шлейхером, п<отому> ч<то> он более соответствует общей фонетике литов<скогою языка, между тем как ié – более соответствует частной фонетике прусско-литовских говоров (§ 36, стр 66). Применение г. Б<арановски>й отвергает, потому что оно в этимологическом отношении лишь отчасти соответствует литовскому ё, а по произношению «ближе подходит к литов<скому> е, чем 71. к ё, не исчерпывая ни количественных звука е, ни фонетических по разных говорам оттенков» (стр. 66). И здесь я не считаю полезным замаскировывать частные явления общими формулами, а потому не стою 32 за употребление (в лит.), которое и в самом русском есть знак этимологический. Признавая, что в двух соплеменных языках два соответствующие друг другу звука, рассматриваемые на значительном протяжении времени, не могут оказаться равными, я тем не менее думаю, что ни в одной европейской азбуке нет знака более соответствующего литовскому ё, чем слав. . Кроме сходства в происхождении, здесь есть сходство и в дальнейших судьбах. Диалектическим изменениям ё в литовском (напр. siena, sýena, sýna, причем у-ī, seina. Б., §36, Kursch., Gr. § 58, где указаны еще произношения iea, ia, ea) в значительной 72. степени соответствуют малорусские, серб., […] изменения : ì, i, I, ei. Для г. Барановского значит только […], , что слишком узко. Г. Б<арановски>й находит неудобным то, что у г. Г<илюс>а уо означает и звук=ů (Шлейх., Курш.) и случайную встречу звуков у и о (§37). Т<аким> о<бразом>, говорит он, по правописанию Гилюса следовало бы писать нуобуоляути вместо nuobůláuti. Однако этому неудобству легко пособить посредством написания ну-обуоляути. В русс<ком> яз<ыке> нет звука этимологически равного литовскому ů=уо, но качественная ценность этого дифтонга сходна или родственна с диалектич<еским> м<ало>русским ýо, уó, у из о. Изображение слогов небных. Вопрос, дан ли этимологически звук j в слоге небном, как ря, рё, рю, т. е. предполагает ли ря сочетание рja, 73. и наоборот, предполагает ли действительно существующее сочетание, как пья, пъя, в прошедшем сочетание, как пя. Этот вопрос во многих случаях является в славянском и литовском спорным. Мне, по крайней мере, кажется ошибочным усматривать или предполагать йотацизм, т. е. присутствие и влияние j, во всех случаях небности (палатализма). Правописание не должно зависеть от споров этого рода. Небный слог, как ня, не делим в том смысле, что в нем оба элемента взаимно условны. Поэтому объективно нельзя предпочесть ни того способа написания, по 33 которому небность слога изображается посредством гласной, ни того, по которому это делается посредством согласной. По нынешнему чешскому способу мы, как и г. Б<арановски>й (§39, стр. 69) напишем литовские небные сочетания, так: lo, ňo, řo, ko, ğo, žo; la и пр. lu и пр. При этом оговорка, что ř=r=русс. р 74. в море, морю; что žo, žu=русс. диалект. жё с небным ж, жю, а не жо, жу и т. д. Согласно с польским способом, принятым в лит<овском>, напишем liu, niu, riu, žiu, giu, kiu и пр., помня, что i не означает здесь самостоятельного звука. По русскому способу, для нас наиболее удобному, напишем лё, нё, рё, кё, гё, ж (во избежание двусмысленности написания жё, которое может быть прочтено как жо); ля, ня, лю, ню… гю, кю… сю. Все это сочетания, действительно существующие в русс<ком> яз<ыке>. Употребляя эти начертания, мы, конечно, не может помешать иностранцу прочесть кя за […], къя=кjа и т. п. и, если он филолог, то на этом чтении построит систему. Не в упрек этому способу служит то, что ставится в упрек русскому правописанию г. Б<арановски>м, именно, что в нем, строго говоря, я, е (=), ё, ю, и 75. означают не то после гласных и в начале слов, что после согласных. Этого не избегает никакой способ написания, ибо, напр<имер>, в ňа, а при точном наблюдении оказывается звуком отличным от начального а. Способа ля, лю и пр. держится и г. Гилюс, но непоследовательно, напр<имер>, он пишет сакiою вм. сакёю. Г. Б<арановски>й (§75, стр. 120) думает, что сочетания как kio, gio=ko, go=ko, go мы должны писать порусски kio, rio и читать ki-jo, ri-jo и пр. Откуда эта уверенность, а равно и почему г. И. Юшкевич (Литов<ские> н<ародные> п<есни>, изд<ание> И<мператорской> А<кадемии> н<аук>) предпочитает писать лю, лё в виде лiу, лiо, это мне неясно. Г. Б<арановски>й (§ 39) рассматривает как нечто особое «смягченный звук io, ia и пр.», сливающийся с предыдущим согласным так, как будто «между ними элемента i […] j вовсе не бывало». 34 Исключение составляют зубные d, t и губные. 76. Что до зубных, то, по словам г. Барановского, сочетания dio, tio, diu, tiu и пр. произносятся не как d, to и пр., а как dzo, czo и пр (стр. 69). Здесь некоторая неточность, ибо по достоверным сведениям, между прочим Kursch. Gr. § 90, есть литовские говоры, в коих именно to, do, а не czo, dzo. Затем, г. Барановский в приведенном месте изображает небность сочетания посредством знака над d и c в dz, cz, отступая без нужды от принятого и им способа обозначать гибкость посредством i перед гласною, но в другом месте (стр. 110) он пишет без значков: meldžu, jauczu, по примеру Шлейхера. На это последнее можно заметить, что, во-первых, небное произношение džiu, cziu = джю, чю 77. по всем вероятностям предшествует твердому džu, czu = джу, чу и для искателя этимологичности, как общелитовское, предпочтительнее; во-вторых, кто пишет džu, czu в том предположении, что они всегда гибки, тот лишает себя возможности изобразить твердость этих сочетаний, которая, однако, в литов<ском> яз<ыке> существует (не знаю, в каких размерах), как это заметил Куршат, который поэтому пишет wercziu, но ginczu[…] (Gr., § 84-6). 8 О губных г. Б<арановски>й говорит: «pio, bio, nio, mio, biai, piai и пр. произносятся bjo, pjo… bjai… в северных говорах bjei, pjei и пр.: смягченный звук (т. е. io и пр.) с предыдущим губным производит эвфонический звук j» (стр. 69). С этим не ладится то, что на стр. 76 отрицается существование в литовском польского мягкого b, ибо, что же b, как не b? Куршат находит, что 78. в вышеупомянутых случаях после губной «man dort ein j zu hören glaubt», почему прежде писалось, а отчасти и теперь пишется, напр. kurpju (род. мн.), между тем, как сам Куршат «ради однообразия» пишет kurpiu, biaurus и пр. (Gr., §87). Не ясно, тоже ли для однообразия г. Гилюс пишет пяую, пiщвяу, пioвеяi (пiо = пё), нюклаi? Другое такое отступление – на стр. 109: mylu (а не myliù, как бы следовало по образцу miniù) на том основании, что при l начертание l само по себе означает мягкий звук. 8 35 И. Юшкевич пишет мiлiу, дарiау (т. е. милю, даряу), но слышит j после губных: бjаурус, пjауну и приравнивает это к русским сочетаниям бью, пью. Таким образом, остается нерешенным, везде ли в литовском губная имеет здесь небное произношение, что можно заключить из написания bjo и пр. (Б<арановски>й) и сравнения с русс. бью, или же она местами остается твердою перед j. Во всяком случае j = й после губных заметна 79. если не во всех, то в большинстве литов<ских> говоров. Явление это выходит за пределы литовского языка, т. к. в латышском из этого j после губных образуется гибкое л. Очевидно здесь сходство литовского произношения с малорусским, в коем вм<есто> сочетаний бя, пя, мя, вя и т. п. являются бъя…бья и пр. (жеребъя (и – бья), въялий (вья) и т. п.). Ясно, что таким же образом […] делая различие между бя, бья и бъя и т. п. следует нам изображать литовские сочетания этого рода. В существовании как в литовском, так и в русском сочетания щ г. Б<арановски>й (§ 70) усматривает только различие происхождения, причем хватает через край, приводя в пример лит. tuszczas (= тущяс) буквально равные ст. русс. тъщь, и непоследовательность русского правописания в счастье сравнивается с пущу и т. п. Такая 80. же, впрочем, легко устранимая непоследовательность есть и у г. Б<арановско>го, когда он, напр<имер>, пишет pėsczas, mesczau, или у Куршата, когда он замечает, что «в торжественной или медленной речи» (напр<имер>, когда методичный проповедник соблюдает в речи подобающую книжность? или когда диктуют?) – prascziausias, wescziau, а в скорой и народной во многих местностях - paszcziausias, weszcziau. Утверждение г. Б<арановско>го (§ 75, стр. 120), что щипящие ж, ч, ш, щ в русском произносятся гораздо тверже, чем в литовском, основано, с одной стороны, на предположении, требующем поверки, что в литовском небность этих звуков есть явление всеобщее (ср. вышеприведенную ссылку на Kursch. Gr. §84-6), а с другой – на незнании того, что в русском 36 эти звуки известны в […] […] небных. Начиная от твердого ща и пр. к щя и пр. 81. Также неверно следующее: звук dž из dj в литовском произносится слитно и небно. «Так как в русс<ком> яз<ыке> йотованный д не переменяется в дж, а только в ж или жд9, - потому звонкий д – нейотированный, звук же ж сам особняком равносилен звукам дj, гj, или зj, - по этой причине в русской фонетике буквы дж не произносятся слитно, как лит. dž, а отдельно, как два различных звука, и слова sodžius, sėdža, написанные русскими буквами, разлагаются в слоги сод-жюс, седжя» (§ 75, стр. 121, пр.). Автору неизвестно, что независимо от неясного по происхождению цельного звука дж в мр. (дженджуристый и др.), в значительной части русских говоров (мр., бр.) есть цельный звук дж совершенно такого же происхождения, как лит. dz, местами произносимый небно: виджю. Аналогия между неделимым ч, вовсе 82. не состоящим из т + ш (равенство ч = тш внесено в теорию немцами, для которых цельный звук ч трудно уловим) и неделимым дж, изображаемым так лишь во избежание новой буквы, - полная. Столь же неделимы и звуки ц. дз разных оттенков небности. К слову замечу, что польское и белорусское дзеканье вовлекло в свой круг и часть южнолитовских говоров, о чем Kursch. Gr. § 118. Ближе ли литовское дзеканье по характеру дз, ц, к […] dz, c или к белорусскому, что вероятнее, во всяком случае требует поправки мнение г. Б<арановско>го (стр. 76), что литовский язык не имеет польских мягких b, c, d (? т. е.dz?) rz. В § 75, […] г. Б<арановски>й говорит, что нельзя обойтись без польского l при выражении сочетаний этого звука с е, ė, ę в говорах восточной 83. части Ковен<ской> г<убернии>. Не вдаваясь в обсуждение этого вопроса по сущности замечу, что русские говоры представляют обширную гамму звуков л, начиная от твердого л и его перехода в у и до 9 Наслаждаться, по мнению г. Б<арановского>, есть принадлежность русской фонетики. 37 небного л, переходящего в j. Известны м<ало>русские местами твердые, местами твердые ле. Для означения небности л перед согласным небным в литовском – удобно ль или сокращение л, ибо значение ь как гласной давно потеряно. Стало быть, напр. кальбэтi и калбети. По поводу сочетания ле замечу, что неопределенность произношения в силу коей местами в восточнолитовских говорах, напр. dėlė звучат «почти как длы» нам тоже кажется явлением знакомым: в мр. наклонение е к неударяемому и (ы) обычно. В долгое время существующих литературных языках само собою из фонетического правописания возникает 84. этимологическое, в котором как / в реке местами глубь ясна / на дне видна трава. Но эта ясность глубины вовсе не необходима, в особенности глубины деланной, с конвенциональным дном. Я считаю странным возражение против применения русс<кой> азбуки к литовскому, предполагающее необходимость этимологичности и состоящее в том, что прошедшее звуков русс<кого> и литов<ского> языка неодинаково. Такое применение для нас удобно и полезно и обещает дать результаты, ценные и в международном отношении. При этом согласные останутся почти без изменений, и определение их фонетического значения может быть заимствовано из русских говоров. Для гласных нужны диакритические знаки. Главных дополнений русской азбуки требуется два: 1. Для обозначения носовых гласных, где они действительно существуют в произношении, а не 85. предполагаются лишь в прошедшем, можно, как это и делали, воспользоваться польским способом, с тем чтобы под а разуметь не нынешнее литературное «юс» (= он), а старинное польское ан. 38 2. Для количества гласных можно воспользоваться способом, примененным Караджичем к сербскому, в коем, как и в литовском, есть долготы с перевесом второго (= аа). Встречающееся у некоторых удвоение на письме согласных после краткой гласной (напр<имер>, у Несс<ельмана> knibbau, но knybau) напоминает подобное действие ударения в сербском и заставляет спросить, нет ли и в литовском двоякого ударения кратких гласных, вопреки мнению г. Б<арановско>го, что в литовском ударение только одно. Учение о качестве долгих в литовском изложено у Куршата, Gr. § 190 след. Г. Б<арановски>й предлагает заслуживающие полного внимания поправки в §46-50 и 62 86. своей статьи. Особенность литовско-латышских говоров, что в состав дифтонгов входят и плавные звуки л, м, н, р, причем перевес тона дифтонга здесь, как в чисто-гласных дифтонгах может находиться и на вторых элементах, стало быть, на плавных (Б., § 50-62), эта особенность не до такой степени чужда русскому языку, как это думает г. Б<арановски>й. Именно дифтонги с р, л и в самом литовско-латышском местами приближающиеся к двухсложности, находятся в связи с двояким русским полногласием, т. е. с оро, оло, ере, еле, и с ъръ, ьрь, ълъ. В статье г. Б<арановского>, мне кажется, наибольший интерес представляют §25-50 и 62, и кое-что в 68-71. 15 авг. 1878 А. Потебня 39
