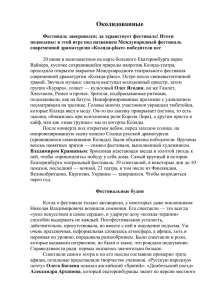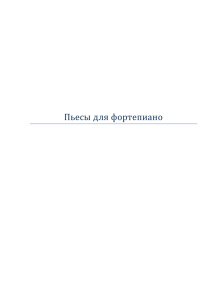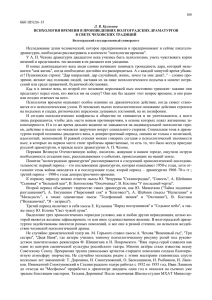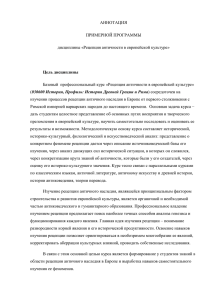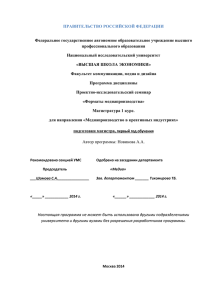Журчева О. В. Рецептивные стратегии в новейшей драматургии
реклама
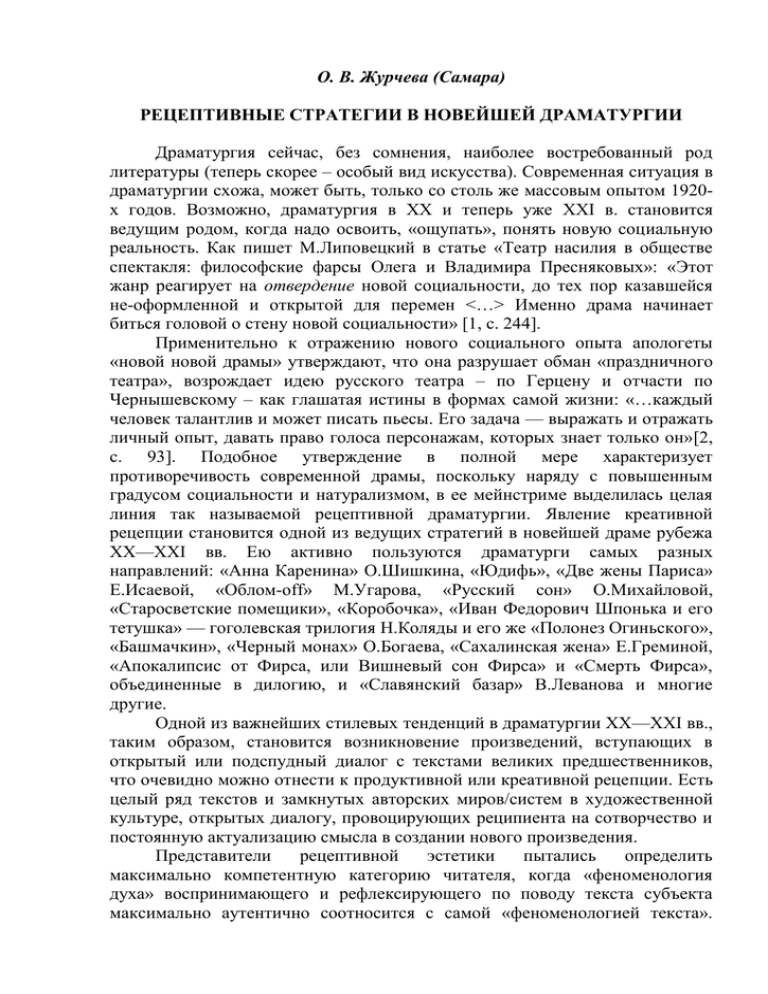
О. В. Журчева (Самара) РЕЦЕПТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В НОВЕЙШЕЙ ДРАМАТУРГИИ Драматургия сейчас, без сомнения, наиболее востребованный род литературы (теперь скорее – особый вид искусства). Современная ситуация в драматургии схожа, может быть, только со столь же массовым опытом 1920х годов. Возможно, драматургия в ХХ и теперь уже XXI в. становится ведущим родом, когда надо освоить, «ощупать», понять новую социальную реальность. Как пишет М.Липовецкий в статье «Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы Олега и Владимира Пресняковых»: «Этот жанр реагирует на отвердение новой социальности, до тех пор казавшейся не-оформленной и открытой для перемен <…> Именно драма начинает биться головой о стену новой социальности» [1, с. 244]. Применительно к отражению нового социального опыта апологеты «новой новой драмы» утверждают, что она разрушает обман «праздничного театра», возрождает идею русского театра – по Герцену и отчасти по Чернышевскому – как глашатая истины в формах самой жизни: «…каждый человек талантлив и может писать пьесы. Его задача — выражать и отражать личный опыт, давать право голоса персонажам, которых знает только он»[2, с. 93]. Подобное утверждение в полной мере характеризует противоречивость современной драмы, поскольку наряду с повышенным градусом социальности и натурализмом, в ее мейнстриме выделилась целая линия так называемой рецептивной драматургии. Явление креативной рецепции становится одной из ведущих стратегий в новейшей драме рубежа ХХ—ХХI вв. Ею активно пользуются драматурги самых разных направлений: «Анна Каренина» О.Шишкина, «Юдифь», «Две жены Париса» Е.Исаевой, «Облом-off» М.Угарова, «Русский сон» О.Михайловой, «Старосветские помещики», «Коробочка», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» — гоголевская трилогия Н.Коляды и его же «Полонез Огиньского», «Башмачкин», «Черный монах» О.Богаева, «Сахалинская жена» Е.Греминой, «Апокалипсис от Фирса, или Вишневый сон Фирса» и «Смерть Фирса», объединенные в дилогию, и «Славянский базар» В.Леванова и многие другие. Одной из важнейших стилевых тенденций в драматургии ХХ—XXI вв., таким образом, становится возникновение произведений, вступающих в открытый или подспудный диалог с текстами великих предшественников, что очевидно можно отнести к продуктивной или креативной рецепции. Есть целый ряд текстов и замкнутых авторских миров/систем в художественной культуре, открытых диалогу, провоцирующих реципиента на сотворчество и постоянную актуализацию смысла в создании нового произведения. Представители рецептивной эстетики пытались определить максимально компетентную категорию читателя, когда «феноменология духа» воспринимающего и рефлексирующего по поводу текста субъекта максимально аутентично соотносится с самой «феноменологией текста». Таким образом, драматург, существующий в рамках чужого сюжета, цитаты, драматургической схемы становится той самой «моделью воображаемого читателя», о котором писал Умберто Эко и который «сможет интерпретировать воспринимаемые выражения в точно таком же духе, в каком писатель их создавал»[3, с. 17]. Творческие механизмы креативной рецепции неразрывно связаны с особенностями художественного и, в данном случае, театрального мышления всего ХХ в., когда обращение к «чужому слову» и к «чужому материалу» давало драматургу возможность включить нравственный и культурный опыт своего времени в диахронный исторический и вечностный контекст. Кроме того, подобный структурный прием создавал определенную «игру писателя с писателем» и «игру писателя с читателем». Как писал Ю.М.Лотман в «Комментариях к ″Евгению Онегину″: «…цитаты и реминисценции могут погружать авторский текст в созвучные ему внешние контексты, могут обнажать полемичность» текста, иронию, «контекстуальную несовместимость». Кроме того, скрытые цитаты могут соотноситься с культурной памятью читателя. «Поэтому цитата, особенно невыделенная, «работает» еще в одном направлении: она, создавая атмосферу намека, расчленяет читательскую аудиторию на группы по признаку «свои – чужие», «близкие – далекие», «понимающие – непонимающие»[4, с. 125]. Важнейшим источником креативной рецепции и творческой рефлексии в драматургии ХХ века является художественное наследие А.П.Чехова. Чеховский драматургический текст в течение всего ХХ в. представал как своего рода эстетический, или этический, или идеологический «архетип», который создавал некое «силовое» поле и с которым новейшие драматурги тоже вступили в определенное взаимодействие. На втором месте по частоте рецептивных обращений оказалось творчество Н.В.Гоголя. Гоголевская фантасмагория так или иначе дает возможность осознать принципиальную непознаваемость современного мира, отразить двойственную природу современного художественного сознания: игра, условность и быт, натурализм; остро ощутимая реальность и надмирность; жизнь во всех ее физиологических проявлениях и смерть как единственное освобождение от жизни. Еще один автор стал объектом перечитывания и переписывания – это И.А.Гончаров и его роман «Обломов». Обращение к «Обломову» в новейшей драме стало компрометацией поисков в этом романе «национальной идеи». Приемы и формы креативной рецепции в современной драматургии неоднородны и неравномерны, они подчинены разным художественным задачам. Но ясно одно: современные драматурги обращаются к «чужому» сюжету и «чужому» слову, чтобы остранить классику, подвергнуть отчуждению хрестоматийно известные модели произведений школьной программы и вычленить в них некий сегодняшний смысл. Можно выделить группу пьес, где названия совпадают с названием пратекста. Они обозначены как инсценировки. Наиболее характерным примером подобных инсценировок-переосмыслений стали «Облом-off» М.Угарова и «Старосветские помещики» Н.Коляды. Здесь сохранена основная фабульная схема, очищенная от побочных линий и подробностей; узнаваемые цитаты, которые не дают возможности спутать это с другим произведением; основные действующие лица. Так, в пьесе «Облом-off» сохранены Обломов, Штольц, Ольга Ильинская, Захар, Агафья Пшеницына как знаковые для этого романа персонажи. Обломов проходит тот же видимый путь от дивана до конторы Штольца и гостиной Ольги Ильинской, а затем до уютной комнатки, пирогов и локтей с ямочками Пшеницыной. Но истинный, движущий сюжет пьесы заключен в трех диалогах Обломова и доктора. Доктор в данном случае выступает как персонаж вне романа, он видит все по-другому, инаково оценивает и Обломова – целого человека, и его болезнь, и неизбежность смерти. Такой же персонаж – вне пратекста возникает и в «Старосветских помещиках» Н. Коляды: это Гоголь из портрета, Гоголь, нечаянно приехавший в гости, Гоголь – медиатор, проводник, который должен свести Пульхерию Ивановну и Афанасия Ивановича в могилу одного за другим. Инсценировка Н.Коляды пунктирно, фабульно следует за гоголевской повестью, смыслово же ей во многом противоречит. Противоречие высвечивается уже в начале, с помощью пространного эпиграфа из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», где пасечник рассказывает, как колядовали в прошлые времена. Здесь обозначена ироническая связь Коляды с Гоголем и еще целая цепочка смыслов, тянущая за собой переосмысление первоначального текста. В пьесе Н.Коляды основной становится семантика смерти и выражена она во множестве сквозных мотивах. Основным является мотив еды: персонажи постоянно поглощают, пробуют – неважно что, продукты питания, землю или мух. Поглощение уподоблено процессу погребения, укладывания в чрево, как в утробу земли. Мотив карнавального поглощения еды коррелирует с мотивом смерти. С мотивом поглощения сплетается мотив сумасшествия, мотив страха, мотив мух – все это в комплексе характеризует разложение человеческой личности (дух – мозг – тело), обесценивания жизни человека, рисует образ вымороченного мира, спасение от которого только в смерти. Наиболее продуктивной рецептивной стратегией стало использование сюжетной схемы, полной или частичной системы персонажей классического произведения в оригинальной пьесе современного автора. Здесь речь может идти об интертексте. Подобная рецептивная стратегия чаще всего встречается в пьесах Николая Коляды, и наиболее яркими произведениями подобного типа стали «Мурлин Мурло», в основу которого лег сюжет пьесы «Стеклянный зверинец» Тенесси Уильямса, и «Полонез Огиньского», где воспроизведена сюжетная схема «Вишневого сада» А.П.Чехова. Н.Коляда очень подробно «обставляет» пьесу, ремарки развертываются в самостоятельный эпический текст. Ощущение дна и периферийности жизни создается самой структурой ремарок: хаотическое перечисление предметов, регистрация «вещей с помойки». Здесь же заявлен и прорыв в другой мир: елочная гирлянда, часы с кукушкой, живой гусь в городской московской квартире – так трогательно, по-детски и в то же время немного пошло персонажи представляют образ счастья. В ситуации «порога» эти опредмеченные «окна» в другой мир, казавшиеся в ремарках (и на сцене) избыточными и неуместными, обретают свой смысл: приобретают инфернальную семантику, через них осуществляется сюрреалистический сдвиг в сюжете. Особое отношение у драматурга к звуковой партитуре своих пьес. Речь здесь идет о некой звуковой ситуации «надрыва», которая теперь становится привычным фоном жизни. В «Полонезе Огиньского» действие сопровождается «неспокойными звуками ночного города», «то приближающейся, то удаляющейся сиреной «скорой помощи», «душераздирающим криком за окном». В дополнение такой своеобразной «партитуре звука» все персонажи не говорят – выкрикивают. Отсутствие тихого человеческого голоса – своего рода прием: говорить не о чем и не с кем, а говорить хочется. Этот прием уничтожает в какой-то степени драматургический детерминизм: вся пьеса – один длинный монолог. Персонажи принципиально ни на протекание событий, ни друг на друга не влияют. Пьеса движется не на уровне действия и разворачивания конфликта, а на уровне движения слов. В «Полонезе Огиньского» драматургический сюжет соотносим с чеховским «Вишневым садом». Здесь есть героиня Таня, которая возвращается из-за границы в свой московский дом, где провела детство и юность. В ее барственном поведении, прорывающемся легкомыслии, романтическом многословии просвечивает образ Раневской. Она и любовника, который «ее разоряет», с собой из-за границы привезла. Правда, американец Дэвид – то ли мальчик, то ли девочка – не годится даже на эту роль. В московской квартире уже новые хозяева. Среди них ответственный квартиросъемщик Дима – по своей захватнической природе, может быть, соотносимый с Лопахиным, но слабый, неудачливый, нерешительный, как Гаев, романтически верящий в будущее, как Петя, – и как все они, мучительно влюбленный в свою подругу детских лет Таню. Кроме того, нахлебники: бывшая прислуга Таниных высокопоставленных родителей – Люся, Иван, Серюня. В них тоже можно найти черты чеховских героев: бывшая горничная Люся, как горничная Дуняша, кичится своим особым воспитанием, Серюня в чем-то повторяет «грядущего хама» — Яшу, бывший шофер Иван соединяет в себе черты Епиходова и Симеонова-Пищика. Кольцевая композиция: ожидание приезда бывшей хозяйки в экспозиции, борьба за жизненное пространство в основе сюжета, отъезд Тани и Дэвида в финале (правда, неизвестно в Америку или в сумасшедший дом) – тоже отсылает к Чехову. У Коляды нет намеренности в этих связях и аллюзиях с чеховским сюжетом или его персонажами, здесь проявляется некое авторское лукавство, игра: все это не больше чем случайность, совпадение. Среди форм рецепции необходимо назвать стратегию дописывания. Наиболее ярко подобный прием представлен в «Фирсиаде» В.Леванова и в «Башмачкине» О.Богаева. В двух пьесах «Фирсиады» — «Апокалипсис от Фирса, или Вишневый сон Фирса» и «Смерть Фирса» — реальный Фирс, персонаж пьесы Чехова, или актер, играющий Фирса, существуют в семантическом поле пьес как некий культурный миф, квинтэссенция представлений о Чехове, о пьесе «Вишневый сад» в его книжном и постановочном вариантах. Для того, чтобы реализовать этот культурный миф, Леванов применяет в «Апокалипсисе от Фирса» простой прием дописывания – действие происходит через сто лет после того, как хозяева покинули имение с вишневым садом, приехали другие хозяева – их встречает проснувшийся Фирс. Здесь одновременно задействован и первый акт пратекста и последний. В «Смерти Фирса» есть еще и дополнительный интертекст – это одноактная пьеса А. П.Чехова «Лебединая песня (Калхас)». В «Смерти Фирса» актер, играющий Фирса, оставшись один на сцене, так входит в роль, что действительно умирает. Совершенно особый случай представляет собой пьеса Е. Греминой «Сахалинская жена». Здесь нет рецепции конкретного произведения или сюжета, а есть представление о некоем культурном коде или о культурном мифе, где мифологическим героем выступает литератор Чехов, приезда которого ждут на Сахалине. Он как мифологический персонаж, универсальный податель пищи и жизненных благ, благодетельствует героев пьесы одним только своим посещением, но сам увозит в себе разрушительную силу Сахалина, предвещающую его скорую смерть. Все представленные стратегии знаменуют возникновение определенного типа художественного и театрального мышления. Все предшествующее литературное (шире, культурное) наследие образует некий «надтекст», который становится в своем роде перевернутым айсбергом, где большая часть выступает над поверхностью текста и дает возможность с помощью «чужого текста», воспринятого и репродуцированного на разных смысловых и структурных уровнях, увидеть, как в новейшей драме проявляется художественное самосознание времени. ___________________________ 1. Липовецкий, М. Театр насилия в обществе спектакля: философские фарсы Олега и Владимира Пресняковых. / М. Липовецкий // Новое литературное обозрение. — 2005. — № 73. 2. Угаров, М. Красота погубит мир / М. Угаров. // Искусство кино. — 2004.— № 2. 3. Эко, У. Роль читателя. Исследование по семиотике текста / У. Эко. Пер. с англ. и итал. С. Серебряного. — СПб., 2005. 4. Лотман, Ю. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин» / Ю. Лотман // Лотман Ю. Пушкин. СПб.: Искусство – СПб, 1995.