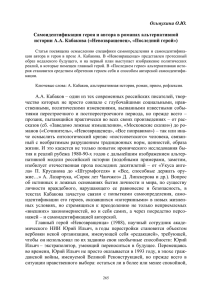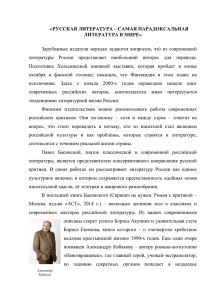История - это просто опрокинутая в прошлое политика
реклама
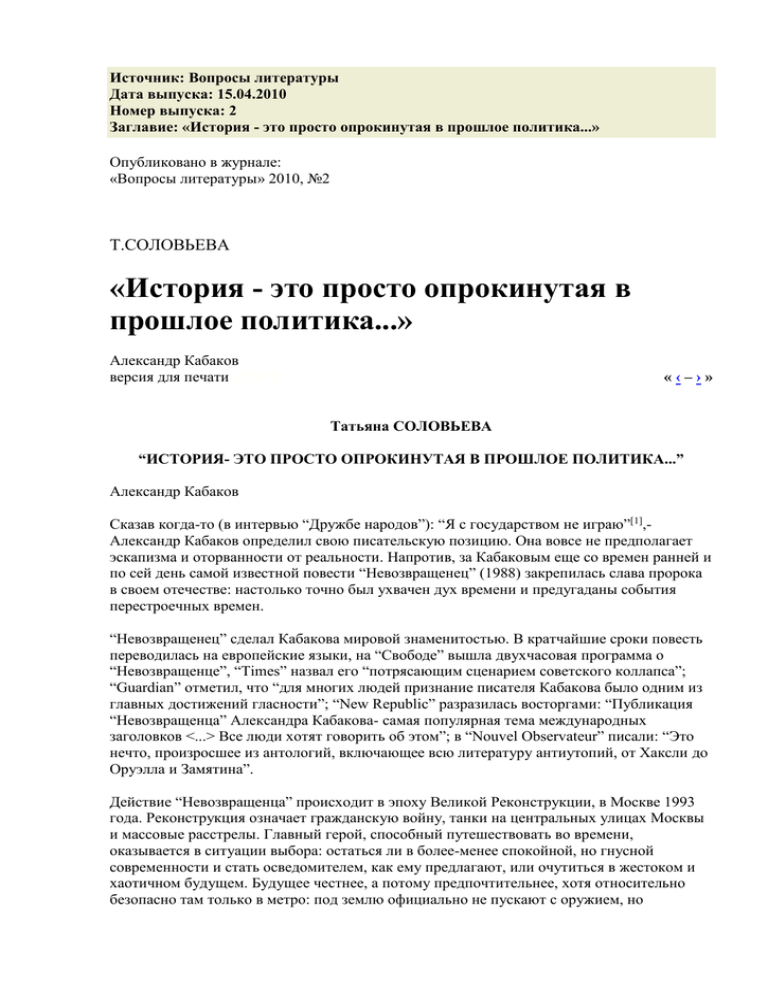
Источник: Вопросы литературы Дата выпуска: 15.04.2010 Номер выпуска: 2 Заглавие: «История - это просто опрокинутая в прошлое политика...» Опубликовано в журнале: «Вопросы литературы» 2010, №2 Т.СОЛОВЬЕВА «История - это просто опрокинутая в прошлое политика...» Александр Кабаков версия для печати (72971) «‹–›» Татьяна СОЛОВЬЕВА “ИСТОРИЯ- ЭТО ПРОСТО ОПРОКИНУТАЯ В ПРОШЛОЕ ПОЛИТИКА...” Александр Кабаков Сказав когда-то (в интервью “Дружбе народов”): “Я с государством не играю”[1],Александр Кабаков определил свою писательскую позицию. Она вовсе не предполагает эскапизма и оторванности от реальности. Напротив, за Кабаковым еще со времен ранней и по сей день самой известной повести “Невозвращенец” (1988) закрепилась слава пророка в своем отечестве: настолько точно был ухвачен дух времени и предугаданы события перестроечных времен. “Невозвращенец” сделал Кабакова мировой знаменитостью. В кратчайшие сроки повесть переводилась на европейские языки, на “Свободе” вышла двухчасовая программа о “Невозвращенце”, “Times” назвал его “потрясающим сценарием советского коллапса”; “Guardian” отметил, что “для многих людей признание писателя Кабакова было одним из главных достижений гласности”; “New Republic” разразилась восторгами: “Публикация “Невозвращенца” Александра Кабакова- самая популярная тема международных заголовков <...> Все люди хотят говорить об этом”; в “Nouvel Observateur” писали: “Это нечто, произросшее из антологий, включающее всю литературу антиутопий, от Хаксли до Оруэлла и Замятина”. Действие “Невозвращенца” происходит в эпоху Великой Реконструкции, в Москве 1993 года. Реконструкция означает гражданскую войну, танки на центральных улицах Москвы и массовые расстрелы. Главный герой, способный путешествовать во времени, оказывается в ситуации выбора: остаться ли в более-менее спокойной, но гнусной современности и стать осведомителем, как ему предлагают, или очутиться в жестоком и хаотичном будущем. Будущее честнее, а потому предпочтительнее, хотя относительно безопасно там только в метро: под землю официально не пускают с оружием, но находиться там еще страшнее, потому что не люди, кажется, окружают спустившихся туда героев, а многочисленные гости дикого бала сатаны. В “Приговоренном” (1999) Кабаков сказал о “Невозвращенце”: “Книжку отложил, мельком в который раз подивившись судьбе,- назвал бы тогда “Беглец”, никто б ее и не заметил”[2]. Но и неназванная в “Невозвращенце”, работает ключевая для Кабакова метафора- бегства. Атмосфера всеобщего бегства- и в “Невозвращенце”, и в “Приговоренном”, а позднее и в “Беглеце”- это почти животное желание спастись, укрыться от опасности, о котором писал Канетти в “Массе и власти”: “Бегство лишь по видимости спонтанно; у опасности есть облик, и, не узнав его, животное никогда не ударится в бегство. Приказ “бежать!” силен и прям как взгляд. С самого начала сущность бегства предполагает различие видов существ, вступающих таким образом в отношение друг с другом. Одно из них объявляет, что намерено пожрать другое; отсюда смертная серьезность бегства. “Приказ” приводит слабейшего в движение, неважно, разворачивается затем преследование или нет”[3]. Человек несовершенен, как несовершенен и мир вокруг, но человек заведомо слабее, беспомощней мира. Поэтому желание бежать вполне объяснимо- это нормальная реакция на столкновение с более сильным миром, из которого надо спасаться[4]. Для Кабакова бегство- метафора жизни, для его героев- едва ли не единственный modus vivendi. У них немного вариантов жизненного выбора. Бегство- неизменный и наиболее доступный (достойный?), даже если оно не удается, даже если оно, в конце концов, не выбрано героем, а суждено ему. Бежать можно от чего-то, а можно- за чем-то. Первое- эскапизм, второе- активный поступок, имеющий в основе своей четкие цели. Герои Кабакова балансируют между этими полюсами, иногда сдвигаясь в ту или иную сторону. Они бегут, прежде всего, “от чего-то”, но при этом остаются акторами, поскольку их бегство есть в первую очередь активный протест. Активность и внутренняя собранность при кажущейся меланхолической расслабленности- важная черта почти всех кабаковских персонажей. Именно так происходит с протагонистом “Позднего гостя” (2001)- он бежит из настоящей жизни в придуманную, бежит по инерции, понимая, что “теперь уже ничего не получится. Уже неважно, кто виноват, сделать ничего не удастся... Это было бегство, бегство, тайное ускользание от того ужасного, что осталось в сыром подъезде, запертом и заколоченном”. И происходит все это в ситуации, похожей на сон или бред (возможно, алкогольный): герой- одновременно и маленький мальчик, и взрослый мужчина, границы размыты, четкие ориентиры отсутствуют. Этот двойной морок прошлого и будущего, реальности и фантазии, статики и динамики сопровождает кабаковских героев на протяжении целой их жизни. Условно говоря, у Кабакова прослеживаются четыре главных сценария бегства. Первыйпространственный, как в “Беглеце” или “Зале прилета”: из одной страны- в другую. Второй- темпоральный, как в “Невозвращенце”: из заданного времени- в иное, новое, время. Третий- иррациональный, как в “Позднем госте”: из реальности- в состояние алкогольного опьянения или же в сон. Наконец, четвертый- танатический, заявленный в “Приговоренном”[5]: из жизни- в смерть. Герой Кабакова при всей своей интеллигентской “развинченности” всегда активен, бегство исключительно ради собственного спокойствия ему несвойственно, он- человек прежде всего протестующий. Это характерно для романов “Ударом на удар, или Подход Кристаповича” (1989), “Последний герой” (1995), “Все поправимо” (2003), для дилогии “Невозвращенец” и “Приговоренный” и теперь для логически продолжившего ее романа “Беглецъ” (2009). Активность кабаковских героев, их личная моральная ответственность отмечалась Ксенией Рождественской в рецензии на “Все поправимо”: “Каждый человексубъект, а не объект, каждый действует сам, а не является точкой приложения чужих сил и эмоций. Не так важно, что героя предали, как то, что сам он предал. Не так важно то, что его любят, как то, что он сам любит. Он сам живет и обижается, сам мучается и умирает, сам пытается осознать собственную жизнь, и все проверки и испытания ему дают не друзья или недруги, а Бог”[6]. Подобно тому, как в стихотворении Гандлевского “пространству тесна черепная коробка”, герою Кабакова тесен окружающий его мир: “Асфальт продолжал сворачиваться, теперь стена уже была не только перед, но и над ним. В общем, это не было страшно, потому что он ведь знал и раньше, как заканчивается перрон. Но все же стало грустно- почему-то он надеялся, что на этот раз обойдется, но не обошлось”. Пространство играет с героем Кабакова в какую-то странную игру, как Кремль и Курский вокзал играли с Веничкой в “Москве-Петушках”. Человек, по мысли Кабакова, всегда слабее обстоятельств, и уж точно не в его силах менять окружающий мир: “На площади почти ничего не изменилось. На ней я и оставлю моего потерпевшего. Никуда он не денется”. В романе “Беглецъ” перед нами снова типично кабаковский активный герой, хотя автор и прибегает к искусной маскировке: за слабым, склонным к алкоголизму обывателем Ловым непросто рассмотреть сопротивляющегося актора - и, в общем, можно согласиться с Дмитрием Быковым, который пишет об этом внутреннем противоречии протагониста: “Это история о попытке к бегству (рифмующаяся, кстати говоря, с одноименной вещью Стругацких); о том, как хочется, как необходимо сбежать из этой страны, где бессмысленно все: работа, служение, протест, война, забота о близких... И герою как будто удается уйти за границу, и паспорт у него готов, и с возлюбленной он попрощался, и жену обезопасил- но к этому финалу мы категорически не готовы, ибо знаем Кабакова не первый год. Неужели у его постаревшего сквозного персонажа- умного, здравого, добропорядочного консерватора, все понимающего, ничем не обольщающегося- остался единственный выход: бегство при помощи Парвуса? Неужели он готов оставить мир на произвол судьбы, как мистер какой-нибудь МакКинли? Нет, он никогда так не поступал <...> Консерватор-традиционалист, одержимый страхом перед жизнью, спасует перед собственным авантюризмом- и вместо испуганного мещанина мы увидим отважного борца <...> Из героя в очередной раз выглянет Кристапович, любимый персонаж раннего Кабакова,- тот самый, который отлично понимает, что терпеть- опаснее и греховнее, чем принять вызов и взять в руки оружие”[7]. Потому что беглецы, которых становится все больше и больше, уже пришли к власти: “беглые солдаты, всегда в народе равнявшиеся с разбойниками,- “правят бал””,- и что можно ожидать от них, страшно даже представить. И заранее обречена попытка Л-ова помочь случайно встреченному в лесу дезертиру, вразумить его и найти точки соприкосновения- не может их быть, как бы герой ни старался признать определенную правоту собеседника. Потому что одному всегда будет “страшно, и обидно, и невозможно представить”, что победит кайзер, а другому всегда будет все равно. Но и здесь Кабаков далек от идеализации первых- благонамеренных обывателей и интеллигенции, которые едва ли не сильнее остальных пострадали от начавшегося хаоса: “Ее (интеллигенцию.- Т.С.) используют с ее полного согласия. С другой стороны, она не просто дает себя использовать, она еще сама создает ситуацию, в которой ее используют. Вот русская дореволюционная интеллигенция сначала породила революционных бесов, а потом эти бесы использовали ее, а потом и вовсе уничтожили”[8]. Революция, по мысли Кабакова, страшна тем, что она разрушает основы, выбивает почву из-под ног, меняет реальность. Остаться в стороне и “не пострадать” от нее нельзя. Все начинается с разложения культуры, потом постепенно (но стремительно) разлагается общество в целом. Как “Невозвращенец” был о 90-х, так “Беглецъ”- о сегодняшних событиях. История не может застыть в своей объективной данности, потому что “истинной” истории не существует. В одной из бесед, предлагая собственное определение истории, Кабаков цитирует известную фразу Михаила Покровского: “Это просто опрокинутая в прошлое политика. В ней не существует фактов, есть только интерпретации”[9]. Современный человек, интерпретируя историю, не может не видеть перекличек с сегодняшним днем. Революционная ситуация 1917 года очевидно проецируется на кризисный период начала XXI века. И вот в этом витающем всюду ожидании большой беды ключевой становится еще одна тема- тема страха[10]. В интервью “Частному корреспонденту” Кабаков отметил позитивный фактор страха: “Помните, как в начале 90-х все боялись гражданской войны? Этот страх был просто-таки разлит в воздухе. Именно из-за него, кстати, моя повесть “Невозвращенец” и оказалась настолько успешной: я ничего не придумывал, я просто выразил на бумаге то, чего тогда боялся каждый. И ведь ничего же, в общем и целом обошлось, полноценной гражданской войны все же не случилось. А вот в 1917 году никто ничего не боялся, было много героев, готовых убивать и умирать за идею. Чем это закончилось- понятно. Сегодня нам всем очень, очень страшно. Иэто дает шанс на то, что беда может пройти стороной и ничего ужасного с нами не приключится”[11]. По такому мрачному оптимизму тексты Кабакова узнаются всегда. Утвердительные сентенции, попадая в общий контекст, неожиданно меняют свой знак на противоположный. Так было с названием романа “Все поправимо”: изначально он должен был называться “Родные и близкие” (по обращению работников бюро ритуальных услуг к родственникам и друзьям умершего); и вдруг- замена названия на жизнеутверждающее. Хотя что, казалось бы, поправимо, когда герой потерял все, к чему стремился и что считал действительно важным, когда жизнь разворачивалась, в полном соответствии с часто цитируемой Кабаковым фразой Венедикта Ерофеева, “медленно и неправильно, чтобы человек не загордился”? Название интригует и остается непонятым, если не знать продолжения этого латинского выражения: “Все поправимо, кроме смерти”. Мысль о том, что бытие обязательно замыкает круг, что ключевые моменты жизни возвращаются, отзеркаливают друг друга, появлялась еще в “Последнем герое”: “Лжец будет обманут. Будет побежден победитель. У грабителей все отнимут. И первая любовь вернется последней, и отомстит за вину, которой не было”. В такую игру с названиями, по сути противоположными текстам, Кабаков играет с читателем часто- заглавие “Беглецъ” столь же алогично, поскольку как раз бежать-то Лову не удается, и он вынужден искать свое место в новой России. Это очередная неудачная попытка бегства, подобная той, что стала главной темой книги “Считается побег” (2001), где эфемерность задуманного ясна уже из названия: побег только “считается” таковым, на самом деле его нет, он невозможен. Герой вошедшего в сборник рассказа “Зал прилета” от “самосуда неожиданной зрелости” пытается бежать неоднократно: уволился из бюллетеня, где работал долгие годы, выпал из прежней среды “сразу и бесповоротно”, “исчез, канул”. Однако, воодушевившись университетским приглашением в Лондон, улетев в смутной надежде на возможность спасения, он вдруг осознает, что уйти не только от смерти, но и от жизни не удается: вечное возвращение неизбежно, “зал прилета” неминуем, и пусть потом, как в уже процитированном стихотворении Гандлевского, “...будет все. Охлажденная долгим трудом, / Устареет досада на бестолочь жизни, / Прожитой впопыхах и взахлеб...”. Подобные переклички не только со стихами, но и с едкой, горьковатой, местами циничной прозой Гандлевского в художественном мире Кабакова не редкость; должно быть, ее истоки- в том самом неожиданном человеческом “самосуде”, настигающем героя при переходе черты от скрытого в глубине души юношеского наива к своеобразному фатализму много повидавшего, много пережившего человека, умудренного опытом и “знанием последствий”. Эта мрачная ирония не покидает Кабакова ни в фантасмагоричных “Московских сказках”, ни в романах: “Принесение извинений у дверей подъезда, загаженного по колено, с омерзительно вонючим лифтом, обклеенным засохшей жевательной резинкой с воткнутыми в нее окурками, не могло не вызвать умиления <...> И примите уверение в совершеннейшем нашем почтении, сударь. Искренне ваш, ответственный квартиросъемщик, эсквайр... Остаюсь вашим покорным слугой, техник-смотритель и кавалер” (“Последний герой”). Такую иронию, порой доходящую до социальнополитического гротеска, но неизменно соседствующую с лиризмом, мы встречаем и в рассказах Евгения Попова, и в “Затоваренной бочкотаре” или “Негативе положительного героя” Василия Аксенова; их стилистике оказывается родственен и еще один излюбленный кабаковский прием- доведение до абсурда трендов и тенденций (к примеру, в том же “Последнем герое”): “В этой стране мужчина, прямо взглянувший на красивую женщину, подлежал суду, который чаще всего приговаривал его к смерти в вакуумной камере; в этой стране не вегетарианцев не впускали в рестораны, а за срубленное дерево подвергали изгнанию; для людей белой расы, физически полноценных и гетеросексуальных, была введена процентная норма при поступлении в университеты; все религиозные праздники отменены, поскольку задевали чувства атеистов, хотя атеистическая пропаганда запрещалась, как задевающая чувства верующих; любые способы регулирования рождаемости осуждались, но секс существовал только “безопасный”, а рождение более трех детей в одной семье преследовалось законом, поскольку нарушало равновесие между человеком и средой и вело к истощению природы; в этой стране самым строгим образом защищалась свобода печати, но компьютер в ЦУОМе, Центре Управления Общественным Мнением, неукоснительно контролировал все источники информации, отсекая любые сведения о том, что происходило на границах и окраинах державы”. Кабаков ироничен даже при постановке самых важных для его эстетической системы вопросов, например вопроса самоидентификации личности, осознания самого себя и своего места в мире, “отделения человека от окружающего”: “Испытуемый пытается мысленно определить свое место во Вселенной... После чего несчастный плюет на безрезультатные усилия, придя к твердому относительно себя убеждению, что не существует, что является фикцией, духовной рябью на поверхности всеобщей Пустоты (она же Ничто, она же Все, она же, как считают атеисты, Бог), и идет на кухню варить сосиски” (“Поздний гость”). Вселенная и Пустота (практически сартровские “Бытие и Ничто”) одновременно противопоставлены, диаметрально противоположны и в то же время соположены своей значимостью и масштабностью. И тут же, в этом же предложении, абсолютно нивелированы соотнесением с кухней и сосисками: очень понятный, традиционный, едва ли не банальный прием, который, однако, у Кабакова всегда работает. Аллюзия на Сартра здесь представляется очень важной: экзистенциалистская идея о принципиальной невозможности создания единой науки о человеке, представление о человеческой уникальности и непознаваемости принципиальны для Кабакова, герои которого, подчеркнуто не программируемые никем, даже автором, вступают с ним в переписку и споры. Человек является в этот мир для страданий: “Мир сей есть юдоль слез, Миша, и для горестей и несчастий являемся мы в него, и я удивлен, что Вам, верующему, насколько я знаю, человеку, это надо напоминать” (“Последний герой”). Вопрос веры, кстати, для писателя всегда был чрезвычайно важен. В разных интервью он говорил о том, что вообще не верит в существование неверующих людей; просто есть люди, считающие себя таковыми. И, исходя из этого, любые поступки героев оцениваются уже не сами по себе, а с точки зрения личной ответственности каждого перед собой, другими людьми и Богом; да и сочинительство воспринимается как акт сотворчества, порой даже соперничества с Богом, совмещаемое с верой в Него. Поэтому главная задача писателя- “изображение жизни и приключений души”[12][ ](курсив мой.- Т.С.). А душа человеческая, как известно,вечное поле борьбы между темными и светлыми силами. Человек по природе своей грешен, дьявол постоянно искушает его, но, сотворенный Богом, человек старается освободиться от дьявольщины. Темные силы в борьбе за него проникают во все жизненные сферы, они антропоморфны. Такова незнакомка из романа “Все поправимо”, встретившаяся герою в аэропорту и “излечившая” его от власти денег, и старик в белом из “Последнего героя”, после разговора с которым самые бытовые вещи, вроде рекламного объявления “Ваша недвижимость ждет Вас...”, начинают восприниматься апокалиптически. Да и Л-ов и компания из “Беглеца”, предлагающие способ сохранения хоть части банковских средств,- такие же таинственные фигуры, как “прикрепленные” в “Невозвращенце” и “Приговоренном”: играющие роль добрых друзей, но представляющие собой мрачную, мистическую силу. Темные люди преследуют кабаковских героев, как черный человек Моцарта или черный человек Есенина[13]. “Известно ведь, что Князь тьмы приходит в этот мир постоянно, а Спаситель пришел один раз, и когда он придет второй раз, то мир кончится. Эта современная жизнь мне кажется совершенно дьявольской и безумной”,- говорит Кабаков в своих интервью[14]. История циклична, жизнь замыкается в круг, человек заведомо слабей универсума, его бунт неизбежен, но обречен. Если в “Невозвращенце” побег еще был возможен (пусть только в кошмарное будущее, но возможен), то в более поздних романах герой неизбежно оказывается в абсолютной власти обстоятельств. Впрочем, здесь можно вспомнить ключевую фразу из романа “Все поправимо”, сказанную матерью главного героя: “Мир за твоей спиной <...> другой мир <...> когда ты отворачиваешься, он меняется”. Значит, мы никогда не увидим то, что происходит за нашей спиной. И может быть, хотя бы там этот мир меняется к лучшему... [1] Интервью А.Кабакова Е.Сеславиной // Дружба народов. 1996. № 3. ][Кабаков А]. Невозвращенец. Приговоренный. М.: Вагриус, 2003. С. 75. [2 [Канетти Э.] Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. С.325. [3] “Сильных, действующих, цельных героев я боюсь. Они в лучшем случае устанавливают добро силой, а в худшем- служат злу” (Кабаков А.: Слухи о смерти России преувеличены// Русский репортер. №32 (III). 2009. 27 августа). [4] [5] “До “совсем” надеюсь не дожить”// Кабаков А. Невозвращенец. Приговоренный. С.111. [Рождественская К., Штыпель А., Идлис Ю.] и др. Обзор новых книг и литературных событий// НЛО.№68. 2004. [6] [Быков Д]. Предсказывая назад // http://www.gzt.ru/topnews/ culture/247905.html [7] [Кабаков А.] Больше не хочу писать романы// http://www.vz.ru/ culture/2008/4/29/163768.html [8] [Кабаков А.] Слухи о смерти России преувеличены... [9] См., например, в “Беглеце”: “Но ведь даже не в смерти мой главный ужас и бессонница, а в том, что будет до смерти! Надо приготовиться к плохому, к невообразимо плохому, а как к нему приготовишься? Пустить жизнь на произвол судьбы, не думать о том, что все эти несчастные, тихо спящие сейчас в моем доме, будут страдать и погибать, страдая? А как же не думать, когда об этом только и думается?” [10] [Кабаков] А. Когда всем очень страшно, есть шанс, что беда пройдет стороной// Частный корреспондент. 2009. 23 февраля. [11] [Кабаков] А. Больше не хочу писать романы// http:// www.vz.ru/culture/2008/4/29/163768.html [12] Здесь любопытна параллель с романом Дмитрия Быкова “Орфография”, действие которого разворачивается в тот же период. Быков тоже пишет о “темных людях”- нищих в Петербурге накануне Февральской революции, сделавшихся вдруг слишком заметными на улицах города. Они всегда предвестники трагедии. [13] [Кабаков] А. Массовое признание писателю ни к чему// http://www.newizv.ru/news/200503-14/21167/ [14]