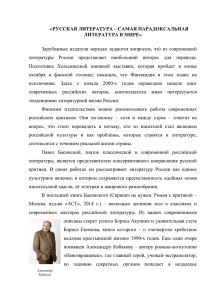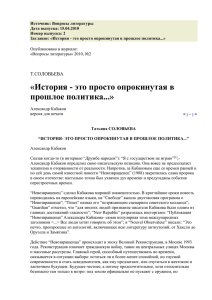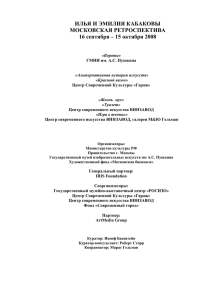Осьмухина О.Ю. Самоидентификация героя и автора в романах
реклама

Осьмухина О.Ю. Самоидентификация героя и автора в романах альтернативной истории А.А. Кабакова («Невозвращенец», «Последний герой») Статья посвящена осмыслению специфики самоопределения и самоидентификации автора и героя в прозе А. Кабакова. В «Невозвращенце» представлен гротескный образ недалекого будущего, и на первый план выступает изображение политических реалий, в которые помещен главный герой. В «Последнем герое» альтернативная история становится средством обретения героем себя и способом авторской самоидентификации. Ключевые слова: А. Кабаков, альтернативная история, роман, прием, рефлексия. А.А. Кабаков – один из тех современных российских писателей, творчество которых не просто совпало с глубочайшими социальными, нравственными, политическими изменениями, вызванными известными событиями перестроечного и постперестроечного периода, но прежде всего – прозаик, пытающийся практически во всех своих произведениях – от рассказов (сб. «Заведомо ложные измышления», «Московские сказки») до романов («Сочинитель», «Невозвращенец», «Все поправимо») – так или иначе осмыслить онтологический кризис «постсоветского» человека, связанный с необратимым разрушением традиционных норм, ценностей, образа жизни. И это касается не только попыток иронического исследования бытия и реалий рубежа 1980-90-х годов с дальнейшим изображением альтернативной модели российской истории (подобными примерами, заметим, изобилует отечественная проза последних десятилетий – от «Укуса ангела» П. Крусанова до «Штурмфогеля» и «Все, способные держать оружие…» А. Лазарчука, «Сорок лет Чанчжоэ» Д. Липскерова и др.). Вопрос об истинных и ложных основаниях бытия личности и мира, по существу личности враждебного, нарушающего ее равновесие и безопасность, в текстах Кабакова зачастую связан с попытками самоопределения, самоидентификации его героев, оказавшихся «потерянными» в новых жизненных условиях, но стремящихся к преодолению не только неприемлемых «внешних» закономерностей, но и себя самих, а через посредство персонажей – и самоидентификацией авторской. Главный герой «Невозвращенца» (1988), научный сотрудник академического НИИ Юрий Ильич, в годы перестройки становится объектом вербовки некой организации, именующей себя «редакцией», требующей, чтобы он использовал по их заданию свои необычные способности: Юрий Ильич – экстраполятор, умеющий переноситься в будущее. Перемещаясь во времени, Юрий Ильич не просто оказывается в 1993 году, в эпохе гражданской войны, именуемой Великой Реконструкцией, но прежде всего в ситуации нравственного выбора: остаться ли в более или менее спокойной, 265 но лживой современности и стать осведомителем, как ему предлагают, или очутиться в жестоком и хаотичном будущем. По мнению Т. Соловьевой, в «Невозвращенце» «работает ключевая для Кабакова метафора – бегства» [10, с. 38], воплощающая, по мнению исследовательницы, почти животное желание спастись, и становящаяся едва ли не единственным для его героев «modus vivendi». Однако бегство героя нельзя рассматривать как эскапизм, напротив – его бегство не что иное, как и активный протест, и способ сохранения себя, собственной личности. Примечательно, что относительно благополучное существование героя в «настоящем» ведет к мучительной рефлексии, тогда как именно в антиутопическом мире политического и социального хаоса будущего он обретает душевное спокойствие. Мир будущего в романе, по справедливому мнению М. Золотоносова, «вобрал в себя все тенденции, все зародыши политических движений и общественных настроений вчерашнего дня», которые «развились до гипертрофированных, абсурдных размеров, не встретя на пути своего роста каких-либо сдерживающих ограничений» [4, с. 193], в результате чего в 1992 году произошел переворот, власть перешла к военной диктатуре, во главе которой встал генерал Виктор Андреевич Панаев, секретарьпрезидент (должность, кстати, уже названием иронически контаминирует вполне реальные высшие государственные посты советской и постсоветской России: Генерального секретаря и президента): «Вчера в Кремле, – сказал диктор, – начал работу Первый Чрезвычайный Учредительный Съезд Российского Союза Демократических Партий. В работе съезда принимают участие делегаты от всех политических партий России. В качестве гостей на съезд прибыли зарубежные делегации – ХристианскоДемократической Партии Закавказья, Социал-Фундаменталистов Туркестана, Конституционной Партии Объединенных Бухарских и Самаркандских Эмиратов, католических радикалов Прибалтийской Федерации, а также Левых коммунистов Сибири (Иркутск)» [7, с. 8]. Единственная Империя, просуществовавшая до конца ХХ века, рухнула, СССР распался на Россию, Закавказье, Туркестан, Бухарские и Самаркандские Эмираты, Прибалтийскую федерацию, Сибирь и Крым, который упомянут в тексте как остров. Но диктатура новой России, по А. Кабакову, сохраняет имперские амбиции: Революционную Российскую Армию посылают для оккупации Прибалтийской федерации и Трансильвании. Экономическая программа диктатуры неясна, очевидно, это равенство в нищете, «казарменный коммунизм», борьба с богатством, сопровождающаяся безудержным ростом цен, карточным распределением и переходом к натуральному обмену. «Горбатые» деньги ничего не стоят, реально значат только талоны и переводы из-за границы, а что за границей – тоже неясно. В Москве действуют многочисленные партийные и прочие организации и формирования: истребительный отряд угловцев, охотящихся за покупателями винных магазинов; «афганцы», в упор расстреливающие на улицах 266 «торгашей» из пулемета; подмосковные анархисты – «люберы»; московские «металлисты» в узнаваемой униформе Революционный комитет Северной Персии, захватывающий заложников из москвичей в ответ на арест своих товарищей «собаками из Святой Самообороны»; боевики из «Сталинского союза российской молодежи», которые взрывают памятник Пушкину за то, что «над властью смеялся, аморалку развел, происхождение имел неславянское»; «витязи», устраивающие облаву на евреев около стендов с «Ведомостями»; «отряды контроля» Партии Социального Распределения, отбирающие «все до рубашки» и Российский Союз Демократических Партий, устроившие облаву на дом бывших партфункционеров, чтобы затем их расстрелять: «– По специальному поручению Московского отделения Российского Союза Демократических Партий я, начальник третьего отдела первого направления Комиссии Национальной Безопасности тайный советник Смирнов, объявляю вас, жильцов дома социальной несправедливости номер – он взглянул в какую-то бумажку, – номер восемьдесят три по общему плану радикального политического Выравнивая, врагами радикального Выравнивания и, в качестве таковых, несуществующими. Закон о вашем сокращении утвержден на собрании неформальных борцов за Выравнивание Пресненской части. Машины зарычали и двинулись по краям мостовой, один танк шел впереди, другой замыкающим. Колонна шла посередине… Через десять минут на улице было пусто и тихо. – Куда их? – спросила женщина. <…> – Во МХАТ на Тверской, потом – туда… Стволом «калашникова» я показал на небо» [7, с. 24]. После путча 1992 года в городе действует план «радикального политического выравнивания», в основе которого лежит утопическая идея всеобщего равенства и справедливого распределения. Благие цели достигаются чудовищными античеловеческими методами. Ради Выравнивания можно даже вопреки логике объявить живых людей «несуществующими» и уничтожить их. Как справедливо отметил М. Золотоносов, А. Кабаков показал «причудливую смесь остатков «социализма» с самовозродившейся антилиберальной реакцией Черной Сотни» [4, с. 194]. Переклички с реальной отечественной историей. в «Невозвращенце» не просто очевидны, более того, прозаик, создавая альтернативную историю, гиперболизировал те политические тенденции, которые на момент создания произведения, в 1988 г., еще только зарождались. А. Кабаков же провидчески показал, что в условиях нецивилизованных методов политической борьбы единственное, что ждет страну – вооруженные столкновения и тотальный хаос. Революция, по мысли прозаика, страшна тем, что она разрушает социальные и культурные основы, принципиально меняет реальность, поскольку разложение культуры ведет за собой разложение общества в целом. Атмосфера в изображенном А. Кабаковым городе напряжена до предела. В витающем ожидании большой беды ключевой становится тема 267 страха. Страх стал естественным состоянием жителей, жизнь которых в постоянной опасности: на улицу без «калашникова» лучше не выходить. Смерть, убийство, расправа превращаются в норму: просто взяли и убили. «Тем временем двое, державшие мужчину, вывели его на середину переулка, к ним подошел третий, держа на весу, низко, на вытянутых руках тяжелый пулемет. Двое шагнули в стороны, мгновенно растянув руки мужчины крестом, третий, не поднимая пулемета, упер его ствол в низ живота распятого, ударила короткая очередь. К стене противоположного дома полетели клочья одежды» [7, с. 17]. Сам прозаик в одном из интервью отметил позитивный фактор страха: «в 1917 году никто ничего не боялся, было много героев, готовых убивать и умирать за идею. Чем это закончилось – понятно. Сегодня нам всем очень, очень страшно. И это дает шанс на то, что беда может пройти стороной и ничего ужасного с нами не приключится» [11]. Именно на идею страха практически мгновенно «срезонировала» московская либеральная интеллектуальная среда: именно от «Невозвращенца» «эволюция идей страха и обуздания бунта “сильной рукой” ведет в конечном счете к учреждению поста Президента и к либеральным оправданиям той быстроты, с какой Президент был избран» [4, с. 196]. В романе во всех действующих силах очевидны прототипы реально существующих и легко идентифицируемых российских политических течений рубежа 1980-90-х гг. В этом отношении «Невозвращенец» представляет своеобразный каталог, который можно снабдить «реальным комментарием»: «отряд угловцев – и цитаты из выступлений профессора Ф. Углова, можно сказать, на глазах у всех идейно породнившегося с «Памятью» после декларации о вине сионизма за народный алкоголизм; Партия Социального Распределения – и программа «крестного отца» ОФТ и Российской компартии (учрежденной 21 апреля 1990 года в Ленинграде) М.Попова; «витязи» – черноподдевочники – и описание «Памяти» и её лидеров: И. Сычева, Д. Васильева, Н. Лысенко…» [4, 194]. Все, изображенное здесь, – знаки политических реалий, доведенных до логического завершения. Однако в романе представлены и «приметы» сопряжения с литературными первоисточниками: М. Булгаковым («Роковые яйца», «Иван Васильевич», «Мастер и Маргарита»), Е. Зозулей («Рассказ об Аке и человечестве»), Ю. Даниэлем («Говорит Москва»), В. Аксеновым («Остров Крым» (кстати, Крым у Кабакова назван именно островом, а В. Аксенов – автором «бездарной книжонки» «Материк Сибирь», которая благословила кровавый мятеж азиатских повстанцев в Оренбурге, Алма-Ате и Владикавказе). Образ главного героя, фиксирующего происходящее, со всей очевидностью отсылает к персонажу замятинского «Мы», также ведущего «дневник», репрезентующий устройство Единого Государства. Во внешности же «сочинителя, песни которого пела вся страна», проносящегося в вагоне метро (куда его засунули анархисты, чтобы, «остановившись где-нибудь в Дачном под утро, вытащить на перрон и заставить петь»), нетрудно узнать 268 Б. Окуджаву: возможно, был задуман резкий контраст Москвы, по которой «Александр Сергеевич прогуливается» и в которой «ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет», и Москвы, где «танк привычен, как такси, без “калашника” по Тверской никто не ходит, а памятник Пушкину сбрасывает озверелая молодежь постсоциализма» [4, с. 195]. В связи с чем можно предположить, что аккумуляция литературных реалий – средство создания образа альтернативной реальности в «Невозвращенце». Оговоримся, что в тексте А. Кабакова принципиально важной оказывается проблема веры: любые поступки героев оцениваются не сами по себе, но с точки зрения личной ответственности каждого перед собой, другими людьми и Богом; да и сочинительство воспринимается как акт сотворчества, порой даже соперничества с Богом, совмещаемое с верой в Него. Поэтому главная задача, как указывает сам автор, – «изображение жизни и приключений души» [9], которая становится извечным полем борьбы темных и светлых сил. Темные силы в борьбе за героя проникают во все жизненные сферы, они антропоморфны: таковы, к примеру, в «Невозвращенце» «прикрепленные», играющие роль добрых друзей, но представляющие собой мрачную, мистическую силу. «Известно ведь, что Князь тьмы приходит в этот мир постоянно, а Спаситель пришел один раз, и когда он придет второй раз, то мир кончится. Эта современная жизнь мне кажется совершенно дьявольской и безумной», – отмечает А. Кабаков в одном из интервью [6]. История циклична, человек заведомо слабей универсума, его бунт неизбежен, но обречен, однако, по мнению прозаика, «литература <…> обладает не только мистическими, то есть таинственными связями с действительностью и как бы втягивает в себя действительность, но еще она обладает магическими свойствами, то есть свойствами заговора. Вот высказался, придумал картинку, описал ее – и, возможно, минует нас чаша сия. И меня в этом отчасти убедил прецедент “Невозвращенца”. Потому что там все было очень похоже, но мимо самого страшного мы “проскочили”» [5]. Альтернативная история, представленная в «Невозвращенце» и рисующая гротескный образ недалекого будущего, его «нежелательный вариант» [3, с. 259], прочитывается не просто как «предупреждение» [1, с. 102], но как предупреждение социальное. Кроме того, М. Золотоносов полагает, что «Невозвращенец» есть не что иное как «литературная игра», благодаря использованию рамочной конструкции [4, с. 194]. Действительно, А. Кабаков использовал «метасюжетную рамку», когда само повествование оказывается рассказом о другом повествовании, где один содержательный план отделен от другого следующим текстом: «Никогда я так не жалел о том, что лишен больших литературных способностей, как сейчас. Бесцветный и невыразительный либо, наоборот, слишком претенциозный стиль, которым я когда-то записывал результаты своих экспериментов, совершенно непригоден в нынешних обстоятельствах. И, думаю, что естественное и полное недоверие, которым будет встречен этот рассказ, – а 269 коли он не вызовет доверия, то не вызовет и интереса, поскольку интересен может быть именно и только абсолютной достоверностью и точностью, – думаю, что недоверие со стороны читателей – если после всего случившегося они когда-нибудь снова появятся – полностью уничтожит тот практический эффект, которого я хотел бы достичь. Великие проповедники, сумевшие увлечь народ, несомненно обладали великими же литературными дарованиями. Евангелисты не много сделали бы для распространения истины, открывшейся Христу, не будь они гениальными писателями. К сожалению, столь же часто, если не чаще, дар слова бывал отпущен и злодеям, и шарлатанам, и недальновидным, ограниченным глупцам, жаждущим общего блага. Последние бывали даже более опасны, чем заурядные негодяи, – наркотик тем более ужасен, чем естественней он включается в обмен веществ, особенно если и употребление его приятно. Впрочем, об этом еще будет случай здесь порассуждать. Ведь то, что есть предмет моего рассказа, – не более чем реальная иллюстрация высказанной мысли» [7, с. 3–4]. Подобная рефлексия героя по поводу собственных литературных способностей – средство переакцентуации читательского внимание с формальной на «содержательную» составляющую произведения. И если в «Невозвращенце» отражены ключевые тенденции политических движений и общественных настроений перестроечного периода, включая сложные взаимоотношения власти, интеллигенции и народа, доведенные до абсурда и гиперболизированные, осмысленные через жанр романа альтернативной истории, то в «Последнем герое» (1994–1995) авторская стратегия несколько расширяется: прозаика интересуют не столько футуристические реалии «новой» России, но герой, пытающийся обрести себя в принципиально новых условиях. Роман А. Кабакова, несущий на себе следы повествовательной манеры Дж. Апдайка, активно использующий фантастические мотивы М. Булгакова и бр. Стругацких, повествует о спивающемся богемном писателе Михаиле Шорникове, рефлектирующем, меланхолически-скучно проживающем собственную жизнь, но неожиданно осознающем свое предназначение и миссию – любовью спасти мир. Однако, если у Булгакова («Собачье сердце», «Роковые яйца») фантастическое призвано оттенить и подчеркнуть абсурдность мира, то фантастические персонажи А. Кабакова («белый ангел» и «черный ангел», предстающие, кстати, во второй части романа в ипостасях Григория Исааковича и Гарика Мартиросовича «соратниками» Шорникова), напротив, помогают герою идентифицировать и обрести самого себя, преодолеть не только тотальное одиночество и навязанное ему амплуа «веселого оборванца, подзаборной пьяни, Мишани-интеллигента» [8, с. 334], но и осознать ценность настоящего, несмотря на всю кажущуюся уродливость его очертаний. Именно этой цели подчинено в «Последнем герое», равно как и в «Невозвращенце», а в последствии – и в «Сочинителе», – смешение временных пластов, посредством которого Москве начала 90-х противопоставляется «будущая» Москва «шестирядных дорог под номерами, и набитых едой «сверх270 базаров», и женщин, которых боятся мужчины, и мужчин, умеющих только улыбаться и бегать по утрам», наполненная тоской, «заливающей пространство от Урала до Пскова» [8, с. 151]. Писателем вновь рисуется футуристический образ, но уже американизированной, скучной и скучающей России, обретающей черты фантасмагории и снова отсылающей к «Острову Крым» В.П. Аксенова: «Боже, подумал я, мог ли писатель, придумавший когда-то такую Россию на отделившемся полуострове, представить себе, что вся страна станет островом богатства и скуки, островом, плывущим среди ужаса и безнадежности, плывущим мерно и непоколебимо, островом сытости, к которой наконец-то привыкли, и бессмысленности, к которой уже тоже привыкли <…>» [8, с. 147]. «Райская», на первый взгляд, сытая и спокойная жизнь в стране будущего, полной «еды, одежды и машин», в действительности оказывается адом с девятью кругами – «внешним» кругом тотального контроля и восьмью внутренними (скуки, лицемерия, тупости, сытости, безнадежности, лжи, одинаковости и одиночества), построенном на отказе от прошлого, подавлении индивидуальности, творчества, таланта, любви, подавляющем и уничтожающем личность. И вместо того, чтобы идентифицировать себя в новых социальных условиях, измениться в зависимости от «контекста», Шорников, стремясь преодолеть хаос и раздробленность собственного существования, связанный с «путаницей» в отношениях с женщинами, «затяжным» пьянством, творческим кризисом, противостоит «райскому» миру вместе со своими друзьями и возлюбленной, сохраняя вокруг себя иное пространство, в котором основополагающими категориями оказываются вовсе не рыночные отношения, но истинная мужская дружба, честность, порядочность, неспособность к предательству и всепобеждающая любовь. Кстати, исследуя разнообразную в плане эстетических установок прозу постперестроечного периода, А. Генис и П. Вайль справедливо отмечают пристрастие ее авторов к выбору героев, соединяющих в себе «писательские таланты» и маргинальность [2, с. 247–248], объясняющееся во многом установкой на достоверность авторского персонажа. Михаил Шорников – в прошлом писатель, а в настоящем – маргинал, чья «идентичность» неустойчива, пытается проникнуть в собственную сущность, распознать самого себя, с чем связана постоянная рефлексия персонажа, осознающего свое существование не просто в различных временных пластах, но и в смешении реальностей – истинной и литературной. Так, он постоянно проигрывает варианты собственного бытия и развития событий своей жизни по сценариям action: «Она сделала движение, чтобы снова позвонить, и тут я распахнул дверь. В ту секунду, когда женщина вытащила руку из кармана пиджака <…>, я почему-то все понял <…> и дверь захлопнул. «Пуля, вывернув клочья обивки в щепки, прошла сантиметрах в пяти под глазком и вмялась в противоположную стену <…>». Допустимо и такое развитие… И только присмотревшись, я понял, что вижу через глазок свою вторую жену <…>. Я же, будучи склонен к жанру приклю271 ченческому, довольно часто и более простые и привычные ситуации <…> продлеваю и развиваю мысленно именно таким образом: стрельбой, стычками, погонями» [8, с. 57–58]. Мало того, ведя полуподпольное существование и готовясь к военной «акции» в «новой» России будущего, с которой он себя никак не идентифицирует, свое внешнее поведение и внутренний мир Шорников строит вне зависимости от общепринятых норм, становясь «чужим»; процесс идентификации конструируется на основе оппозиции свой/чужой (не случайно герой вместе со своими друзьями и возлюбленной вынужден маскироваться – переодеваться в старомодные костюмы, дабы мимикрировать под мир окружающий, подчеркнув посредством маскировки его метафизическую пустоту и собственную индивидуальность). В отличие от «Невозвращенца», здесь наблюдается «расслоение» фигуры автора, предстающего на страницах книги в двух ипостасях. Вопервых, главного героя, ведущего повествование от первого лица, выдающего себя за автора «подлинного» и размышляющего в «письме к автору» о созданных писателем текстах, а во-вторых, авторской маски «А.А. Кабакова», ведущего с автором «фиктивным» (Шорниковым) диалог о сконструированности его жизни как героя художественного текста в рамках очередного литературного сюжета. «Двойная» авторская маска сознательно автопародийная, отрефлектированная при помощи самоиронии, что представляется, на наш взгляд, не случайным: через попытки обретения героем себя, поиск самоопределения, автор, примеряющий маску самого героя и одновременно – маску сочинителя, «автора» создаваемого на читательских глазах персонажа, предпринимает попытку самоидентификации самого себя как личности и как писателя. Список литературы 1. Арбитман Р. Взгляд за край (О киносценарии А. Кабакова «Невозвращенец») // Литературное обозрение. – 1989. – № 11. – С. 102–103. 2. Вайль Генис. Принцип матрешки // Новый мир. – 1989. – №10. – С. 247–248. 3. Василевский А. Опыты занимательной футуро (эсхато) логии. II // Новый мир. – 1990. – № 5. – С. 258–262. 4. Золотоносов М. Какотопия // Октябрь. – 1990. – № 7. – С. 192–198. 5. Кабаков А. Визави с миром. – [Эл. ресурс]: http://rus.ruvr.ru/2009/10/23/2064976.html 6. Кабаков А. Массовое признание писателю ни к чему. – [Эл. ресурс]: http://www.newizv.ru/news/2005-03-14/21167/ 7. Кабаков А. Невозвращенец. – Одесса, 1990. 8. Кабаков А.А. Последний герой: Роман. – М., 2001. 9. Кабаков А. Я больше не хочу писать романы. – [Эл. ресурс]: http:// www.vz.ru/culture/2008/4/29/163768.html 10. Соловьева Т. "История – это просто опрокинутая в прошлое политика...": Александр Кабаков // Вопросы литературы. – 2010. – №2. – С. 37–48. 11. Юзефович Г. Александр Кабаков: «Когда всем очень страшно, есть шанс, что беда пройдет стороной». – [Эл. ресурс]: http://www.chaskor.ru/article/aleksandr_kabakov_kogda _vsem 272