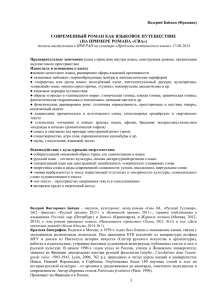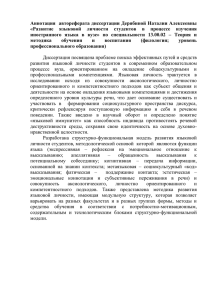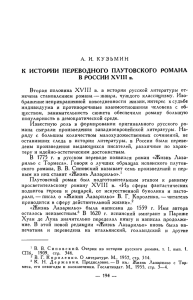Текст - Балашовский институт
реклама
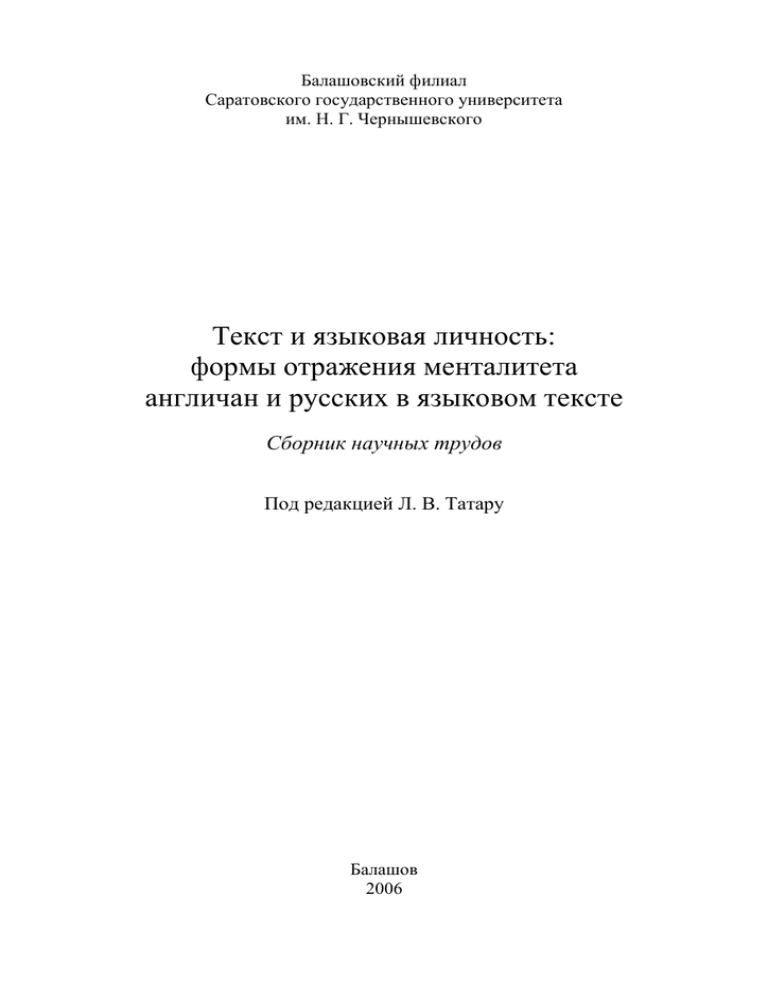
Балашовский филиал Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского Текст и языковая личность: формы отражения менталитета англичан и русских в языковом тексте Сборник научных трудов Под редакцией Л. В. Татару Балашов 2006 УДК 80 ББК 80 Т11 Рецензенты: Доктор филологических наук, профессор Вятского государственного гуманитарного университета О. Ю. Поляков; Кандидат филологических наук, доцент Балашовского филиала Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского С. И. Шумарин. Редакционная коллегия: Л. В. Татару, канд. филол. наук (отв. редактор), В. С. Вахрушев, доктор филол. наук (отв. секретарь), Ж. Н. Маслова (зам. отв. секретаря) С. И. Шумарин. Т11 Текст и языковая личность: формы отражения менталитета англичан и русских в языковом тексте : сб. науч. тр. / под ред. Л. В. Татару. — Балашов : Николаев, 2006. — 68 с. ISBN 5-94035-274-Х (978-94035-274-7) Статьи, включенные в данный сборник, отражают результаты коллективного исследования, выполняемого в рамках тематического плана Министерста образования и науки РФ 2006 г. Авторы задаются целью обнаружить факторы, объясняющие взаимосвязь между языковой формой текста на разных уровнях его функционирования — жанровом, композиционном, образном, морфологическом, фонетическом — и спецификой национального мышления. Общая задача представленных статей — обоснование тезиса о возможности выведения сведений о формах воплощения мироосмысления языковой личностью и разработка методов концептуального анализа нарративного (повествовательного) и поэтического текстов. Сборник может представлять интерес как для ученых, занимающихся близкой проблематикой, так и для студентов-филологов, разрабатывающих курсовые и дипломные проекты. УДК 80 ББК 80 © Коллектив авторов, 2006 ISBN 5-94035-274-Х (978-94035-274-7) 2 Содержание Языкознание Седов К. Ф. Русская языковая личность в ракурсе когнитивной генристики ................................................................................................ 4 Татару Л. В. Точка зрения и концептуальная структура пространства художественного текста ........................................................................ 10 Братчикова Е. А. Фоносемантическое пространство стихотворного текста........ 19 Панченко В. П. Когнитивно-словообразовательный тип как носитель концептуальной информации ......................................... 26 Литературоведение и стилистика Вахрушев В. С. Текст «Ярмарки тщеславия» У. Теккерея как художественное отображение английского менталитета ................... 32 Каверина О. Н. Концепт Englishness в аспекте художественного восприятия .............................................................................................. 42 Шеина С. Е. Проблема национальной идентичности: ирландское начало в произведениях Дж. Джойса ................................................................ 47 Минахин Д. В. Категория любви как элемент массовой культуры в поэзии модернизма (литературоведческий сравнительный анализ) ............. 54 Маслова Ж. Н. Гендерные и архетипические параллели в литературе. К вопросу о женской авторской позиции (на материале романа Л. Петрушевской «Время ночь») .......................................................... 58 Лингвокультурология Татару Л. В., Бозрикова С. А. Анекдот как форма экспликации лингвокультурных доминант английского менталитета .................... 62 3 Языкознание К. Ф. Седов Русская языковая личность в ракурсе когнитивной генристики Создание портрета языковой личности возможно только через анализ особенностей речевых произведений, ею продуцируемых. Перефразируя известное высказывание Ю. Н. Караулова «за каждым текстом стоит языковая личность, владеющая системой языка» [3, с. 27], можно сказать, что за каждой языковой личностью стоит множество производимых ею текстов (дискурсов). Они, в свою очередь, представляют собой результат дискурсивной деятельности человека и позволяют судить об индивидуальных особенностях его коммуникативной компетенции, о скрытых (латентных) процессах его языкового сознания, составляющих своеобразие дискурсивного его мышления. Иными словами, структура дискурса выступает отражением (и выражением) особенностей языковой личности. Анализ строения дискурса позволяет выявить своеобразие речевого поведения как конкретного носителя языка, так и идиостиля группы людей. Изучение языковой личности всегда сталкивается с проблемой определения меры единичного и общего, типического и уникального, индивидуального и коллективного в объекте исследования. Индивидуальное и социальное в сознании человека говорящего — характеристики диалектически взаимосвязанные. Такое понимание позволяет рассматривать определенную группу носителей языка, имеющую сходные речеповеденческие проявления, как «коллективную языковую личность». Так, например, позволительно говорить о языковой личности деревенского жителя, учителя, медика, рабочего и т. п. Столь же закономерно выделение обобщенного облика языковой личности русского человека, которая находит выражение в стратегиях и тактиках дискурсивного поведения, соответствующих национальноэтническому коммуникативному идеалу. 4 Отличия в структуре языковой личности обусловлены своеобразием сознания говорящего. «Сознание, — совершенно справедливо писал М. М. Бахтин, — слагается и осуществляется в знаковом материале, созданном в процессе социального общения организованного коллектива» [1, с. 69]. В обилии же аспектов и подходов к исследованию этого феномена человеческой психики возникает вопрос о выделении отечественными психологами в нем разных типов знакового выражения, например, бытийный и рефлексивный уровни. С этим же отчасти связано предположение Н. И. Жинкина о реализации человеческого мышления в двух кодах — языковом и универсально-предметном (УПК) [2]. И. А. Стернин для обозначения зоны перехода от глубинного когнитивного уровня к поверхностному — языковому — предложил различать языковое и коммуникативное сознания. По мнению ученого, «коммуникативное сознание — это совокупность знаний и механизмов, которые обеспечивают весь комплекс коммуникативной деятельности человека. Это коммуникативные установки сознания, совокупность ментальных коммуникативных категорий, а также набор принятых в обществе норм и правил ведения общения» [4, с. 33—34]. Внешним выражением коммуникативного сознания выступает коммуникативное поведение, которое сопровождает социально-значимые ситуации. В человеческом социуме такое поведение регулируется нормами и стереотипами, обусловленными многовековыми традициями той или иной культуры. Важнейшим принципом типологии коммуникативного поведения в отечественной науке выступает членение коммуникативного континуума на речевые жанры. Речевой жанр — знаковое оформление типических ситуаций социального взаимодействия людей. Жанры общения не являются внешним условием коммуникации, они присутствуют в коммуникативном сознании личности в виде готовых сценариев, фреймов, влияющих на процесс разворачивания мысли в слово. При этом в ходе формирования дискурса уже на стадии возникновения коммуникативного намерения (следующей после появления мотива речи) происходит настрой на ту или иную социально-коммуникативную ситуацию, т. е. речевой жанр. И проявляется она не только в разворачивании высказывания. Жанровая составляющая общения в неменьшей степени предопределяет особенности смыслового восприятия речи. Именно жанровая природа дискурсивного мышления может лучше всего высветить индивидуальный облик homo loquens. Изучение жанрового наполнения сознания человека дает надежные критерии для создания типологии языковых личностей. Одним из оснований такой типологии может стать степень владения/невладения носителем языка нормами жанрового поведения. Здесь нужно отчетливо сознавать то, что абсолютно всеми языковыми жанрами ни один человек в полной мере владеть не может. Есть люди, прекрасно чувствующие себя в рамках разговора по душам, но не умеющие поддержать общения на уровне болтовни; можно найти человека, который умеет великолепно рассказывать анекдоты, но не может произнести застольный тост и т. п. Более того, по нашим наблюдениям, есть бытовые жанры, существование которых в рамках одного языкового сознания взаимоисключает друг друга. Если представить себе все жанровое пространство бытового общения на временном срезе в виде панно, состоящего из загорающихся лампочек, то проек5 ция индивидуальных сознаний языковых личностей на это панно каждый раз будет давать разный световой набор. Причем каждая языковая личность будет высвечиваться уникальным сочетанием огней, ибо жанровое сознание каждого человека неповторимо. Изучая данную проблему, автор пришел к выводу о возможности разработки модели становления жанрового мышления, проиллюстрировав отличия в речевой эволюции разных носителей языка чертами речевых портретов трех языковых личностей. Коммуникативное сознание человека имеет принципиально жанровую природу. М. М. Бахтин называл речевые жанры «приводными ремнями от истории общества к истории языка». В структуре сознания человека именно жанры речи выступают нейтральной полосой, зоной перехода от когнитивных форм сознания к формам языковым. В ходе своего социального становления языковая личность «врастает» в систему жанровых норм. В свою очередь, эта система «врастает» в сознание говорящего индивида по мере его социализации, влияя на характер его дискурсивного мышления, определяя уровень его коммуникативной компетенции. Вариативность норм внутрижанровой интеракции находит выражение в коммуникативном поведении представителей разных этносов. В рамках одноименного речевого жанра представители разных народов будут вести себя по-разному. Подобное несоответствие стереотипов коммуникативного поведения способно привести к коммуникативным неудачам и даже — конфликтам. Когда, например, финны наблюдают, как нейтрально общаются между собой итальянцы, у них возникает ощущение, что перед ними — ссора, которая вот-вот перейдет в драку. Изучением этнических стереотипов коммуникативного сознания занимается когнитивная генристика, «одной из главных задач которой, — по мнению В.В. Дементьева, — является построение лингвокультурологической/концептологической типологии РЖ (речевых жанров). В основе этой типологии лежит деление жанров и жанровых образований, используемых в коммуникативном пространстве внутри определенной речевой культуры, но поддерживаемые данной культурой и не поддерживаемые ею» [6, с. 5]. В основе когнитивной генристики лежит представление о том, что жанровые фреймы (возможно — не все, а наиболее значимые к социальной интереакции) в глубинах сознания, которые в динамике речепорождения определяют семантику коммуникативного намерения говорящего и первоначально выражаются в универсальном предметно-схемном коде [2], базируются на неких семантических константантах, полувших название концептов. Под концептом мы, вслед за З. Д. Поповой и И. А. Стерниным, понимаем «дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» [4, с. 24]. Несовпадения в области семантики одноименных жанров у представителей разных этносов, жанровые предпочтения в выборе вариантов жанровых форм в разворачивания 6 дискурса в разных персональных и институциональных сферах коммуникативного континуума приводят к межкультурным коммуникативным неудачам и этнопсихолингвистическим конфликтам. Потому изучение специфики жанрового создания представителей разных этносов крайне важно для расширения и углубления каналов межкультурного понимания. Для постижения особенностей русского коммуникативного сознания особый интерес представляет анализ концептуального содержания нейтрального фатического по преимуществу общения. Основными жанрами, выражающими такой тип социального взаимодействия, следует считать жанры, которые в генристике чаще всего называются болтовня, разговор по душам и светская беседа. Вместе они образуют своего рода семантический треугольник, в котором каждый жанр противопоставлен двум другим по одному основанию. Многообразие промежуточных праздноречевых жанровых форм (а к ним нужно отнести и семейное, и все виды дружеского общения, и гипержанр «застолье» и мн. др.) составляет промежуточные (протожанровые) формы фатического поля повседневного общения. Для моделирования концептуальной семантики жанров как нельзя лучше подходит методика семантических примитивов А. Вежбицкой, которая выделяет некую инваринтную для всех трех рассматриваемых жанров форму — разговор (rozmowa). Его описание в рамках указанного подхода выглядит следующим образом: «говорю: ... говорю это, потому что хочу, чтобы мы говорили разные вещи друг другу думаю, что и ты хочешь, чтобы мы говорили разные вещи друг другу» [5, с. 106]. Еще раз подчеркнем, разговор представляет собой некий инвариант рассматриваемых жанровых форм: болтовня (бытовой разговор), разговор по душам, светская беседа (светский разговор). Все названные жанры объединяет общность коммуникативного намерения — стремление к коммуникативному контакту. В этом, если так можно выразиться, состоит общая стратегия их внутрижанровой интеракции. Отличия между жанрами затрагивают иные уровни коммуникации, во-первых, характер коммуникативной ситуации, вовторых, тематическое наполнение дискурса, в-третьих, тактические повороты в разворачивании сюжета, наконец, в-четвертых, разное концептуальное наполнение общения. Болтовню от других родственных жанров отличает особая прагмалингвистическая установка: участники общения обмениваются информацией, при этом в значительной степени коммуникация осуществляется ими ради самой коммуникации. Дополняя определение разговора А. Вежбицкой, мы определяем болтовню следующим образом. говорю: ... говорю это, потому что хочу, чтобы мы говорили разные вещи друг другу думаю, что и ты хочешь, чтобы мы говорили разные вещи друг другу думаю, что мы не хотим говорить о серьезных вещах. Болтовня — первичный (нериторический) речевой жанр. Это форма построения дискурса, которой говорящего специально никто не обучает. Болтовня — речевой жанр, и его реализация в реальном дискурсивном поведении 7 дает самые широкие возможности для самопрезентации говорящего. Как показывают наши наблюдения, в болтовне языковая личность максимально отчетливо раскрывает особенности своего идиостиля. Именно поэтому этот жанр не накладывает на говорящего никаких (или почти никаких) семантических ограничений и в концептуальном выражении становится «пустой формой». Именно эта черта русской болтовни не дает возможности четко определить ее концептуальное наполнение. Принципы построения болтовни становятся строительным материалом, базой для формирования вторичных жанров, к числу которых относятся и светский разговор, и разговор по душам. Светский разговор — риторический жанр. По определению И. А. Стернина, это «взаимно приятный, ни к чему формально не обязывающий разговор на общие темы, основная цель которого — провести время с собеседником, оставаясь с ним в вербальном контакте» [7, с. 3]. К прагматическим параметрам этого жанра нужно отнести неофициальный, но публичный характер общения. Публичность понимается обычно как присутствие массового адресата речи. По справедливому мнению В. Барнета, «фактор публичности — непубличности не имеет характера бинарного противопоставления, а скорее представляет собою два крайних полюса, между которыми признак публичности может проявляться с нарастающей или убывающей силой»1. Светский разговор характеризуется признаками достаточно высокого уровня публичности, что предполагает более значительную меру осознанности в употреблении языковых средств, нежели жанры речи непубличной. Овладение нормами светского разговора требует специального обучения, результатом которого становится некоторая искусность в использовании языковых средств (сюда мы отнесем знание ортологических, стилистических и этикетных норм, умение использовать в интеракции тропы, элементы языковой игры, шутки и т. п.). Важной социолингвистической чертой этого жанра является то, что это фатическое общение языковых личностей, которые принадлежат к образованным социальным слоям общества. Рискнем в качестве необходимого компонента коммуникативной ситуации светской беседы ввести установку на коммуникативного партнера — интеллигентную (светскую) даму. Указанный параметр позволяет отличать исследуемый жанр от сходных объектов (например, разговора в пивной или в бане). К психолингвистическим характеристикам жанра светского разговора следует отнести высокую степень заданности в порождении речи. Притом, что интеракция в рамках жанра развивается (в соответствии с общеродовым типом жанровых форм small talk) на основе спонтанного ассоциативного политематического полилога, говорящие должны осознанно контролировать свою речь на уровне тематического отбора (исключаются скабрезные, интимные, профессиональные и т. п. темы). Не менее важным условием выступает требование соответствия речевых норм нормам этическим (оно должно проявляться главным образом в стремлении избегать конфликтных речевых тактик: оскорблений, обвинений, упреков, колкостей и т. д.). Барнет, В. Проблемы изучения жанров устной научной речи // Современная устная научная речь. Общие свойства и фонетические особенности. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1985. Т. 1. С. 89 1 8 Семантической основой жанра светского разговора следует считать концепт «вежливость». Вежливость, как основной семантический принцип светского общения, строится на основе демонстрации «уважения к партнеру по коммуникации, которое выражается в доброжелательном отношении к нему и уместном обращении, соответствующем его личностным и статусным позициям» [8, с. 181]. Попытаемся дать определение светской беседы в категориях семантических примитивов А. Вежбицкой. говорю: ... говорю это, потому что хочу, чтобы мы говорили разные вещи друг другу думаю, что и ты хочешь, чтобы мы говорили разные вещи друг другу думаю, что мы оба хотим вежливо общаться и соблюдать приличия. Если болтовня и светская беседа представляют собой рифмующиеся по принципу первичных и вторичных жанров модели построения дискурса, то жанровое образование, получившее название разговора по душам, противостоит им обеим на основе другого параметра. Жанр нельзя отнести к разряду риторических жанров. Основные характеристики коммуникативной ситуации, в которой происходит его реализация, — неофициальность и непубличность — в целом соответствуют ситуации болтовни. Более того, два рассматриваемых нами жанра могут полностью совпадать по тематическому содержанию разговора. Однако любой носитель языка укажет на различия в смысловой и эмоциональной природе протекания интеракции в рамках этих фатических жанров. По нашему мнению, жанр разговора по душам является вторичным (по сравнению с болтовней) жанром. Так же как и светская беседа он строится на материале болтовни. Главное отличие от первичного жанра в том, что в основе разговора по душам лежат принципы, названные нами кооперативноактуализаторскими. В этом случае говорящий руководствуется основной установкой в общении, которую можно определить как стремление поставить себя на точку зрения собеседника, взглянуть на изображаемую в речи ситуацию его глазами. Рискнем квалифицировать такой тип общения, как соответствующий основному постулату христианской морали («возлюбить ближнего как самого себя»). Принципиальным отличием поведения актуализатора от конформиста выступает двойная перспектива в общении: ориентация не только на коммуникативного партнера, но и на себя. Точнее — стремление возбудить в себе неформальный интерес к собеседнику, умение настроиться на его «волну». При этом кооперативный актуализатор, уважая мнение другого участника общения, сопереживая его проблемам, вовсе необязательно должен во всем с ним соглашаться. Более того, как это ни парадоксально, в некоторых случаях поведение актуализатора может напоминать методы манипулятора и даже агрессора. Центральным концептом, отражающим семантику русского разговора по душам, будет концепт «искренность». Это модель общения, которую трудно (прежде всего, по этическим соображениям) зафиксировать средствами аудиовизуальной аппаратуры. В категориях семантических примитивов А. Вежбицкой разговор по душам будет иметь следующий вид: 9 говорю: ... говорю это, потому что хочу, чтобы мы говорили разные вещи друг другу думаю, что и ты хочешь, чтобы мы говорили разные вещи друг другу думаю, что мы будем говорить о том, что каждого из нас понастоящему волнует. Рискну высказать предположение о том, что именно разговор по душам (а не светская беседа) выступает речевым фреймом, с которым у русской языковой личности ассоциируется представление о коммуникативном идеале в рамках повседневной коммуникации. Тяготение русского коммуниканта на уровне коммуникативного намерения к искреннему общению собеседником иной культуры (западной, восточной) часто воспринимается как недостаток воспитания, грубость и следствием своим имеет коммуникативную неудачу. Список литературы 1. Бахтин, М. М. Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке / М. М. Бахтин // Общая психолингвистика : хрестоматия. М., 2004. 2. Жинкин, Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи / Н. И. Жинкин // Общая психолингвистика : хрестоматия. М., 2004. 3. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. М., 1987. 4. Попова, З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. Воронеж, 2006. 5. Вежбицка, А. Речевые жанры — Жанры речи. / А. Вежбицка. Саратов, 1997. Вып. 1. 6. Дементьев, В. В. Варьирование коммуникативных концептов / В. В. Дементьев // Человек в коммуникации: концепт, жанр, дискурс. Волгоград, 2006. 7. Стернин, И. А. Светское общение / И. А. Стернин. Воронеж, 1996. 8. Хорошая речь / под ред. М. А. Кормилициной. Саратов, 2001. Л. В. Татару Точка зрения и концептуальная структура пространства художественного текста Проблема точки зрения стоит достаточно остро в нарратологии — она является одной из наиболее интенсивно дискутируемых на западе. Но попыток перевода термина «точка зрения» из традиционного нарратологического модуса представления в лингвистический практически нет, хотя оно напрямую связано с изучением языковой картины мира как отдельной языковой личности, так и целой национально-языковой общности — одной из наиболее часто постулируемых в современной лингвистике задач. Суммируя идеи Э. Бенвениста, Ю. Н. Караулова, Ю. В. Степанова, Н. В. Арутюновой, В. З. Демьянкова и других лингвистов, накопленные в современной лингвистической науке о личности, индивидуальности и субъективности как понятий, соположенных языку и речевой деятельности, и составляющих центральную ось антропоцентрической концепции языка, мы можем определить общий контур понимания лингвистической сущности точки зрения как единицы композиционной структуры художественного текста. Он складывается из следующих положений: 10 1. Композиция — это структура, организующая языковые компоненты художественного текста, сотворенного авторским сознанием и отражающего его мировидение. Композиционная структура иерархически организует языковую фактуру текста, являясь формой глобального отражения модели языковой личности писателя. 2. Языковая личность есть единство индивидуального (семиотичного, цельного, стабильного и уникального) и субъективного (расщепленного, нестабильного, сиюминутного, дискурсивного), и потому композиция производимого личностью речевого произведения неизбежно отражает ее структуру, будучи одновременно цельностью и расчлененностью. 3. Целостность и единство композиции определяется индивидуальным мировидением писателя и выражается в идеостилевой составляющей текста — в отборе речевых средств и их комбинации, в процессе формирования концептуальной структуры текста. 4. Расчлененность композиции определяется множественностью субъективных дискурсивных интерпретаций изображаемого фрагмента мира и выражается в коммуникативной и когнитивной составляющих текста — линейно сменяющихся «голосах» или «точках зрения», каждый раз по-новому представляющих отношения «субъект — другой субъект», «субъект — действительность» и дробящих текст на микрофрагменты. 5. Когнитивный, тезаурусный уровень в структуре языковой личности обнаруживается в тематизации текста, сложная система смысла текста — в его концептуальной структуре, которая эксплицируется на лексическом, лексико-фразеологическом и композиционно-тематическом уровнях текста. 6. Точка зрения как фокус выражения системы идейного мировосприятия человека является «клеткой» живого «организма» текста, воплощающего динамическую модель языковой личности — единства индивидуального и субъективного. Наша задача — описать семантическую структуру пространственного плана точки зрения и изложить этапы анализа пространственной структуры художественного текста. Пространственная точка зрения — это точка зрения в первоначальном смысле этого слова, а все другие его употребления отличаются большей или меньшей метафоричностью [9, с. 122]. В целом в практике концептуального анализа ментального пространства текста выделяются два способа или этапа. Первый можно назвать логикопонятийным, так как он во многом опирается на процедуры семантического и полевого анализа значений слова. Второй условно назовем пространственно ориентированным, так как он направлен на установление внешних и внутренних связей между концептами в семантическом пространстве текста, на изучение динамики смысловой ткани текста, являющейся порождением и отражением динамических процессов мышления. Логико-понятийный анализ на всегда достаточен для описания концепта как достояния индивида (КОНЦЕПТАинд — «базового перцептивно-когнитивно-аффективного образования динамического характера, подчиняющегося закономерностям психической жизни человека» [1, с. 410—411]. Его объем и содержание устанавливаются в сопоставлении с концептом, функционирующим в культурно-этни-ческом сознании нации и обладающим инвариантным набором понятий и значений 11 эксплицирующего его слова (КОНЦЕПТАинв), и эта задача решается только при анализе концептуального пространства целого текста и других текстов, созданных одним автором. Первый — логико-понятийный — этап анализа предполагает определение типа концепта и способов его вербализации и внутреннего (послойного) структурирования. По доминирующему когнитивному процессу концепты классифицируются в соответствии с одним из следующих типов: обобщенный чувственно-наглядный образ предмета (концепт-образ), обобщенное пространственно-графическое представление (концепт-схема), интегративный образ, совмещающий чувственное и рациональное отражение (гештальт), объемное целостное представление многокомпонентного явления (фрейм), представление последовательности эпизодов (скрипт, сценарий), пропозиции (мыслительные схемы ситуаций); картины, складывающиеся из отдельных образов восприятия. В полевом составе концепта выделяют, наряду с понятийным (предметным), базовым или ядерным слоем, следующие когнитивные слои: ассоциативный слой, образный слой и слой гештальтов [7, с. 70]. Предметный слой концепта связан с перцептом, т. е. чувственно воспринимаемым образом. Предметный слой включает представления ряда модальностей: зрительной, обонятельной, тактильной и др. В ассоциативном слое обнаруживаются представления, связанные с ядром. Их вербализации составляют ассоциативное поле текста. Любой тип концепта имеет образный компонент [5, с. 70], образность — конститутивный признак художественного мышления. Поэтический образ — ассоциированность материального знака одной единицы со значением другой [3, с. 4], что делает образ сходным с тропом как способом представления действительности и мышления о ней в определенном вербально-ассоциативном диапазоне. Таким образом, явление ассоциирования предопределяет существование и образного, и ассоциативного, и символического слоя концепта. Но составляющие образного слоя реконструируются нами на основе семантических связей в микроконтексте, в условиях конвергенции двух и более образных элементов, что и предопределяет дву- и многоплановость этой единицы. К числу когнитивных признаков, актуализируемых в составе образных номинаций, относятся зрительные, обонятельные, осязательные характеристики объекта. Они играют роль предметных интерпретант других объектов окружающего мира. В основе — связь предмета и образа с одним сигнификатом. Например, ассоциативное поле «город» — репрезентант соответствующего концепта — может быть представлено в контексте ядерными элементами (город как структурированное пространство: номинации ландшафтов, названия районов и улиц, архитектурных памятников, парков, номинации домов…), тематико-ситуативными ассоциатами (шум, транспорт, толпа, движение…), авторскими символами, символами-мифологемами, гештальтами (смерть, средоточие паралича, город-вселенная, город-жизнь, движение и проч.). В текстовом ассоциативном поле лексемы «паралич», «смерть» и их оппозиции «движение», «жизнь» актуализируют потенциально присущий им когнитивный признак «город, цивилизованное обжитое пространство», закрепленный в ассоциативном и символическом поле данных концептов. 12 В основе гештальтного слоя тоже лежит троп, разница между ними в том, что гештальт предполагает ассоциативную трансформацию тропа и выявление родового понятия по отношению к образу. Таким образом, гештальт может включать в себя не один, а несколько образов, что дает основание некоторым исследователям рассматривать гештальтный и образный слой как один [7, с. 72]. Мы считаем, что гештальт осмысляется именно на композиционнотематическом уровне текста, так как это, по сути, структурированное образование. Но послойная модель концепта — исследовательский конструкт, отражающий статичное понимание концепта как элемента когнитивной системы языковой личности. Методология концептуального анализа не будет полной без установления связей между отдельными концептами как единицами когнитивных структур целого текста, т. е. включать и динамический аспект. Изучение динамических процессов взаимосвязей между ключевыми концептами и их семантических трансформаций составляет цель второго этапа концептуального анализа. Он предполагает рассмотрение логических и ассоциативных связей между концептами, способов мыслительного структурирования концептуального пространства всего текста — пространства синергии взаимных трансформаций и связей между отдельными концептами, которые ведут к появлению именно индивидуальных значений, порождению новых значений, интегрированных в динамические процессы мышления. Мы согласны с А. А. Залевской, считающей, что для глубокого понимания внутренних связей между концептами — узлами сети семантических констелляций — необходимо привлечение психолингвистических методов исследования, поскольку это базовые невербальные «дескрипции», связанные с чувственной тканью мозга, эмоциями и аффектами. Однако в письменном тексте мы имеем дело все же с вербализованными экспликациями концептов, то есть со словами и пропозициями, тематически сгруппированными в текстовые единицы — абзацы, ССЦ, композиционно-архитектонические единицы более крупных объемов. В тексте концепты уже «эмоционально-оценочно пережиты индивидом», «схвачены знаком» и запечатлены на текстовой ткани в виде «следов» (Ж. Деррида). Эти следы, согласно теории деконструкции, порождают в сознании воспринимающего множественные прочтения, то есть текстовые концепты как когнитивные сущности авторского сознания, содержательные единицы процесса концептуализации, кристаллизуются и порождают значения в сознании читателя, стимулируя уже в нем новые связи и ассоциации. Расхождения же в результатах интерпретации этих новых значений и тех, что были порождены динамическими процессами мышления автора корректируются взаиморасположением частей текстового континуума, складывающимся в неповторимые ритмические схемы, которые детерминированы авторским мировоззрением и эстетическими принципами. Психолингвистические методы как раз могут объяснить степень этих расхождений, но это не входит в задачи данного исследования. К тому же в художественных текстах, ставших образцами высокого искусства слова, концепты, «схваченные знаком», являются результатом не только эмоционально-аффектированных аспектов восприятия действительности, но и тщательно продуманных логикосхематических построений художественного сознания. Поэтому мы рассмат13 риваем концепт именно скорее как «след» когнитивных процессов авторского сознания, поддающийся процедурам логико-понятийного анализа композиционных закономерностей текста, во многом схематичного, но отнюдь не сводящего понимание концепта к «безнадежно застывшей сущности, не испытывающей влияния со стороны взаимосвязей с другими концептами» [1, с. 404]. Рационально-научная направленность в понимании взаимосвязей между отдельными концептами, кстати, явно обозначена и в рассуждениях самой А. А. Залевской, принимающей метафору «семантических констелляций» и «решеток» как удачного образа для представления сетевой организации когнитивных образов в динамике психической деятельности человека. Образ семантических констелляций прекрасно соответствует и нашим представлениям о композиционно организованной концептуальной структуре текста. Отдельные следы — концепты как «достояния индивида» — образуют в ментальном пространстве текста семантические констелляции — сети ядерных значений и их связей. В ментальном пространстве текста семантические констелляции, группируемые вокруг ядерных индивидуальных концептов, переплетаются и образуют уникальную семантическую сеть (решетку), «узор» которой запечатлевает схемы работы сознания автора на определенном этапе его эволюции. Результатом описания уникальных «узоров» семантической решетки текста становится пространственная модель текста, узловыми точками которой являются ключевые и тематические слова. В моделях анализа художественного текста, широко представленных в отечественной лингвистике, выделяются топикальные или понятийные цепочки, эксплицируемые в структуре доминирующих (ключевых) в данной системе смысла тематических полей. Собственно пространственная семантическая структура текста определяется в первую очередь ключевыми словами, эксплицирующими пространственные концепты и в современных исследованиях в области когнитивной лингвистики представлены хорошо разработанные методологии именно концептуального анализа пространственных структур текста. Наиболее системно такая методология изложена в диссертационном исследовании В. Ю. Прокофьевой, представляющем художественное пространство как исчисляемый набор локусов — пространственных концептов, соотносящихся с культурными объектами реальной действительности, фрагментами ограниченного пространства [6]. Концептуальные признаки художественных локусов коррелируют с восприятием социального пространства и, таким образом, имеют знаковый характер как для национальной культуры, так и для уникальных концептуальных представлений об этой культуре, выявляемых в идиостиле конкретного писателя. Текстовые локусы имеют иерархическую структуру макрополей и формируются из подлокусов, микрополей, репрезентация которых в тексте представляет текстовые ассоциативно-семантические поля словноминаций локусов, отражающих пространственное видение мира творящей личностью, «пространствоцентризм» картины мира [6, с. 8]. Обобщая многочисленные этимологические и лингвокогнитивные исследования мифопоэтической картины мира В. Г. Гака, Ю. С. Степанова, Н. В. Арутюновой и др., можно заключить, что в архаическом сознании «пространство» мыслилось как «огороженное и обжитое место», центром которого является 14 человек. Художественные локусы эксплицируются в лексической структуре текста в виде гештальтов и «лексических портретов». В этой структуре обнаруживается иерархия фрагментов социокультурного пространства (локусов), связанных друг с другом по принципу вхождения: Страна → Город → Дом → Внутренний мир. Соотнесенность внешнего, социокультурного пространства как среды обитания человека, героя, с его внутренним пространством — особый аспект методологии текстового анализа, непосредственно подводящий нас к проблеме точки зрения и фокализации — акцентирования одних изображаемых явлений на фоне других. Это своего рода прием выдвижения, который в когнитивной лингвистике осмысляется как «концепт, характеризующий важность помещения на первый (передний) план по своей значимости той или иной языковой формы, которая выступает в качестве поискового стимула, или «ключа» в процессах языковой обработки информации». Выдвижение достигается «логическим ударением в живой речи, помещением языковой формы в значимые позиции текста (начало или конец), отклонением от обычного словоупотребления или за счет повтора одной и той же языковой формы» [2, с. 21]. Эти признаки отличают выдвижение от понятий «выделенности — релевантности» — логически увязанной системы, определяющей «прорезь», через которую человек рассматривает «мир», главным образом социальный мир (совокупность «сообщников» в широком смысле слова — «cosociates» — тех, с кем у человека общим является пространство и время) [2, с. 22]. Читатель интерпретирует определенные части текста (в данном случае слова — вехи топографического пространства текста) как более заметные, то есть значимые/релевантные для субъекта говорения, в режиме перцептуального различия фигура — фон. Это различие, в свою очередь, заключается в следующем принципе перцептуальной организации текста: фигура — одна из частей дифференцированного поля — четко выделяется на фоне его пространственно-временного континуума. В пространственной организации точки зрения оппозиция «выделенность — невыделенность», «фигура — фон» эксплицируется, в частности, в топологической модели текста. Обе эти модели образуют структуру ментального пространства текста речевого произведения, которое складывается на основе взаимодействия воспринимающего сознания и текста. В топологической модели ментальное пространство максимально приближено к объективному. Действительность структурируется в соответствии с мыслимым представлением о ней, общепринятым и наиболее адекватным для восприятия. Топологическая модель, реализуемая через оппозицию «фигура — фон» образует геометрию ментального пространства, гештальт, в котором выделенной оказывается позиция субъекта говорения и восприятия на фоне топологии окружающего пространства, образуемого объектами «реального» пространства фрагмента текста. Текстовое представление базовых локусов Страна → Город → Дом → Внутренний мир, ключевых для любой развитой культуры, в англо-ирландской модернистской прозе имеет свою специфику. Хаотичность художественной структуры носит здесь мировоззренческий характер и призвана отразить установку модернистского сознания на осмысление фрагментарности, 15 хаотичности бытия, и потому пространственное ее воплощение предельно субъективировано и ассоциативно. Модернистское искусство урбанистично, и модернистская картина мира складывается из множественных локусных представлений города в их преломлении через призму субъективного сознания обитателей этого мира. Утрированные деформации пространственновременной структуры текста и новый тип сюжетосложения в модернистском дискурсе, отменяющие последовательное его развитие, способствуют активизации центробежных сил, мешающих восприятию линейного развертывания «событий». Одним из главных ориентиров является пространственная локализация субъекта восприятия этих событий, его «точка зрения». a. We walked along the North Strand Road till we came to the Vitriol Works and then turned to the right along the Wharf Road. Mahony began to play the Indian as soon as we were out of public sight. He chased a crowd of ragged girls, brandishing his unloaded catapult... When we came to the Smoothing Iron we arranged a siege;.. We came then near the river. We spent a long time walking about the noisy streets flanked by high stone walls, watching the working of cranes and engines and often being shouted at for our immobility by the drivers of groaning carts. It was noon when we reached the quays and as all the labourers seemed to be eating their lunches, we bought two big currant buns and sat down to eat them on some metal piping beside the river. We pleased ourselves with the spectacle of Dublin's commerce — the barges signalled from far away by their curls of woolly smoke, the brown fishing fleet beyond Ringsend, the big white sailingvessel which was being discharged on the opposite quay. Mahony said it would be right skit to run away to sea on one of those big ships and even I, looking at the high masts, saw, or imagined, the geography which had been scantily dosed to me at school gradually taking substance under my eyes. School and home seemed to recede from us and their influences upon us seemed to wane [11]. b. For having lived in Westminster —how many years now? over twenty, — one feels even in the midst of the traffic, or waking at night, Clarissa was positive, a particular hush, or solemnity; an indescribable pause; a suspense (but that might be her heart, affected, they said, by influenza) before Big Ben strikes. There! Out it boomed. First a warning, musical; then the hour, irrevocable. The leaden circles dissolved in the air. Such fools we are, she thought, crossing Victoria Street. For Heaven only knows why one loves it so, how one sees it so, making it up, building it round one, tumbling it, creating it every moment afresh; but the veriest frumps, the most dejected of miseries sitting on doorsteps (drink their downfall) do the same; can’t be dealt with, she felt positive, by Acts of Parliament for that very reason: they love life. In people’s eyes, in the swing, tramp, and trudge; in the bellow and the uproar; the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men shuffling and swinging; brass bands; barrel organs; in the triumph and the jingle and the strange high singing of some aeroplane overhead was what she loved; life; London; this moment of June [10, с. 3—4]. В примере (а) фон изображения формируется точно фиксируемыми объектами топографии Дублина — названиями улиц и реалиями рабочей жизни порта реки Лиффи, сливающимися в одну картину шумной жизни торгового города (the spectacle of Dublin’s commerce), причем сам факт такого детально16 го представления этой картины говорит о релевантности происходящего для героев (группы школьников, сбежавших с уроков). Но один из этих объектов — большой корабль с высокими мачтами — выдвигается за счет: 1) метонимического его представления («высокие мачты»), 2) выделения его из общей массы образов дейктическим эгоцентрическим компонентом, обозначившим голос героя («Я увидел» и «представил себе» вместо «Мы смотрели»), 3) введения абстрактного образа-гиперболы «география» — концепта, эксплицирующего одновременно представления героя-школьника о романтических путешествиях и о скучных уроках географии. Так, один объект топографической модели текста (картины рабочей жизни Дублина) становится яркой фигурой, выделяющейся как на общем фоне этой модели, так и на фоне монотонной жизни школы и дома (см. последнее предложение данного отрывка). В примере (b) топологическая модель точки зрения, образуемая фрагментами жизни другого большого города — центра Лондона (район Вестминстерского Аббатства, Виктория Стрит, экипажи, автомобили, аэроплан…) — также становится внешним фоном, сливающейся в единый цветозвуковой импрессионистический образ картиной урбанистического пространства. На переднем же плане — одна деталь, удары Биг Бена. Выдвижение ее происходит за счет ряда приемов: 1) маркированной эгоцентричности изображенной внутренней речи с характерной эллиптичностью и инверсией (Here! Out it boomed), 2) использования ритмичной синтаксической параллельной конструкции с пунктуационно маркированным обособлением, замедляющим темп повествования и потому задерживающим внимание (First a warning, musical; then the hour, irrevocable), 3) концептуальным образом времени — метафорой «свинцовых кругов, разошедшихся по воздуху» (сквозной образ романа). Так, одна «фигура» топографического пространства сцены задерживает внимание читателя и становится «поисковым стимулом» для проникновения во внутренний мир героини, ее внутренний монолог, поток бессознательных или полуосознанных ощущений жизни и ассоциаций, порождаемых ключевым словом-урбанонимом «Биг Бен», обретающим образно-символическое значение Времени в пространстве текста. Оба примера показывают, что фоновые картины топологического пространства точки зрения составляют «внешний» план изображения, отдельные образы которого становятся выделенными фигурами, стимулирующими переход на «внутренний» план субъективного сознания героя и формирующими векторы интерпретации ментального пространства текста. Но просто вычленить кадры пространственной перспективы текста с помощью указанных лингвистических процедур недостаточно — для решения композиционной задачи необходимо соотнести их с тем или иным типом пространственной точки зрения, поскольку последняя напрямую связана с позицией повествователя и персонажа. Назовем основные типы точек зрения в пространственном плане, как их описал Б. А. Успенский [8, с. 81—90]: 1. Пространственная позиция повествователя полностью совпадает с позицией персонажа и принимает идеологию, фразеологию и психологию последнего. Автор перевоплощается в персонажа (субъективное повествование). 2. Пространственная позиция повествователя совпадает с пространственной позицией персонажа, но их идеологические, фразеологические и психо17 логические позиции расходятся. Автор следует за персонажем, незримо присутствует на «поле действия» (авторское надличностное повествование). 3. Переменная позиция (точка зрения повествователя скользит от одного персонажа другому). Соотнесение того или иного типа пространственного концепта с его вербализацией в рамках одного из описанных типов точки зрения производится не только через рассмотрение номинаций объектов социокультурного и внутреннего психологического пространства героя, но и с помощью анализа пространственных дейктических и других эгоцентрических элементов, способных точно локализовать субъект говорения, сознания и восприятия в его отношении к коммуникативной нарративной ситуации. Подведем итоги и сформулируем методологические принципы анализа пространственной структуры художественного текста и основные его шаги. Анализ пространственного компонента точки зрения как базовой единицы структурирования художественного пространства текста включает два этапа. Первый этап включает следующие шаги: 1) с помощью элементов семантико-стилистического, контекстуального, полевого, компонентного анализа пространственных концептов, ключевых для идиосферы писателя и концептосферы национального мировосприятия производится идентификация в полевом составе пространственного концепта понятийно-предметного, ядерного слоя и когнитивных слоев: ассоциативного, образно-символического и гештальтного; 2) в результате этого анализа выделяются текстовые ассоциативно-семантические поля слов-номинаций ключевых локусов Страна → Город → Дом → Внутренний мир, отражающие «пространствоцентризм» картины мира и эксплицирующиеся в семантической структуре текста в разных типах концепта; 3) ключевой характер выделенных концептов подтверждается через рассмотрение их представления в режиме «фигура — фон»; 4) составляется типология пространственных локусов через соотнесение их со средствами текстовой референции (номинации пространственных объектов и объектов внутреннего мира героя, дейктические и другие эгоцентрические элементы текста), позволяющими идентифицировать субъект говорения и тип позиции, то есть точку зрения. Данный этап анализа позволит описать основные семантические модели ключевых пространственных концептов как типов пространственных точек зрения и одновременно верифицировать их «выделенность» как единиц композиционной структуры текста. То есть это — этап парадигматического анализа. На втором этапе анализа выделенные типы ключевых пространственных концептов и точек зрения изучаются в синтагматическом плане — в их соотношении, чередовании, текстовых связях. Установление синтагматических закономерностей позволит нам описать: 1) «узор» семантической решетки текста, состоящей из семантических констелляций и подконстелляций, образующих его композиционный каркас, сетку ментального пространства текста; 2) основную композиционно-ритмическую схему текста, образуемую внутренней расчлененностью текстового пространственного континуума на «кадры» или «кванты информации», закодированные в том или ином типе пространственной точки зрения. 18 Таким образом, первый этап анализа направлен на внутреннее структурирование концептов разных типов, выяснение типов их вербализации и способов их референции, позволяющих идентифицировать субъект сознания и, соответственно, тип точки зрения в пространственном плане, то второй — на рассмотрение логических и ассоциативных связей между концептами, способов мыслительного структурирования концептуального пространства и его результата — композиционного ритма, образуемого чередованием точек зрения разных типов. Список литературы 1. Залевская, А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды / А. А. Залевская. М. : Гнозис, 2005. 2. Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков и др. М. : Изд-во МГУ, 1997. 3. Мезенин, С. М. Образные средства в языке Шекспира : автореф. дис. … д-ра филол. наук / С. М. Мезенин. М., 1986. 4. Падучева, Е. В. Феномен Анны Вежбицкой / Е. В. Падучева // А. Вежбицкая. Язык. Культура. Познание : пер. с англ. / отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой. М. : Русские словари, 1997. 5. Попова, З. Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З. Д. Попова, И. А. Стернин. Воронеж : Истоки, 2001. 6. Прокофьева, В. Ю. Русский поэтический локус в его лексическом представлении (на материале поэзии «серебряного века») : автореф. дис. … д-ра филол. наук / В. Ю. Прокофьева. СПб., 2004. 7. Тарасова, И. А. Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект / И. А. Тарасова. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2003. 8. Успенский, Б. А. Поэтика композиции / Б. А. Успенский. М. : Школа «Языки русской культуры», 1995. 9. Шмид, В. Нарратология / В. Шмид. М. : Языки славянской культуры, 2003. 10. Woolf, V. Mrs. Dalloway / V. Woolf. Ware, Hertfordshire : Wordsworth Editions Limited, 2003. 11. Joyce, J. An Encounter / Дж. Джойс // Дублинцы. Портрет художника в юности. М. : Прогресс, 1982. С. 51—52. Е. А. Братчикова Фоносемантическое пространство стихотворного текста Несмотря на то, что вопрос о существовании непроизвольной связи между звуком и смыслом имеет многовековую традицию и вряд ли можно назвать имя языковеда, тем или иным образом, прямо или косвенно, не касавшегося в своих работах проблемы соотношения звучания и значения. Широкие научные исследования данного явления начинаются с 80-х годов прошлого столетия, когда накопленный теоретический и фактический материал и его осмысление вполне закономерно привели к выделению фоносемантики в самостоятельный раздел языкознания, изучающий звукоизобразительность как «необходимую, существенную, повторяющуюся и относительно устойчивую не-произвольную фонетически (примарно) мотивированную связь между фо19 немами слова и полагаемым в основу наименования признаком объектаденотата» [4, с. 22]. Эти исследования, доказавшие существование регулярных корреляций между планом выражения слова и его значением на материале более 150 языков, окончательно подтвердили идею, что значение слова частично находит отражение в его форме, следовательно, знак не произволен [1], или, по крайней мере, «не существует языка, где бы такая произвольность была абсолютной» [12, с. 74]. В настоящее время в фоносемантике выделяется несколько направлений (этимологическая, типологическая, грамматическая, лексикографическая, стилистическая), при этом одним из наиболее активно развивающихся является текстофоносемантика, в рамках которой исследуются фоносемантические (ФС) закономерности художественного, главным образом, стихотворного текста. Неослабевающий интерес к подобного рода исследованиям обусловлен тем, что, с одной стороны, изучение ФС структуры текста способствует более глубокому пониманию специфики художественного текста как такового, позволяя выявлять особенности его смысло-тематической системы и структуры, а также процессов его порождения и восприятия [2; 16], что представляется крайне актуальным на современном этапе развития лингвистики, характеризующимся поворотом от изучения языка как системы, объективно существующей вне конкретного человека, к изучению «языка в человеческом субъекте» [3, с. 25], то есть языковой личности, за которой стоит множество производимых ею текстов [18, с. 756]. С другой стороны, тот факт, что ФС механизмы, в основе которых лежит естественная связь звучания и значения, наиболее надежно сохраняются и отчетливо проявляются именно в поэтическом тексте [6; 21; 22], определяет выбор поэтических произведений в качестве материала для ФС исследований [14; 15; 17]. Как отмечает С. В. Воронин, в процессе денатурализации языкового знака происходит преимущественная утрата примарной мотивированности, но не мотивированности вообще; примарная мотивированность в значительной мере замещается, вытесняется, «компенсируется» секундарной мотивированностью — семантической и морфологической. Происходит перестройка и самой примарной мотивированности: вытесняемая на периферию значения слова, и особенно морфемы, примарная мотивированность тем не менее стойко удерживает центральные позиции на уровне текста (особенно в поэзии) [4, с. 147—148]. Поскольку отношения мотивированности/немотивированности формируются и функционируют на подсознательном уровне [7, с. 45], постольку изучение ФС организации поэтического текста тесно связано с проблемой исследования подсознательных и бессознательных психических процессов. ФС пространство стихотворного текста образуется не только и не столько за счет сознательно употребляемых поэтами приемов звуковой организации стиха, но и посредством включения в него сферы подсознательного, играющей не меньшую роль в создании и восприятии художественного образа, в представлении смыслов произведения, имеющих континуальный характер и актуализирующих духовный опыт читателя. Именно на уровне подсознательного проявляется та межсенсорная синестетическая связь звучания и значения в слове и тексте, которая получила название звукосимволизма, способного выполнять культурно-информативную и суггестивную функции, организовы20 вать смыслообразование и усиливать эмоциональное и эстетическое воздействие на читателя. Таким образом, фонетические смыслы — это результат восприятия, оценки и переработки фонетической организации стихотворного текста и в целом звуковой субстанции языка воспринимающим сознанием. Именно поэтому фоносемантика художественного текста, развиваясь на стыке стилистики художественной литературы, лингвопоэтики и лингвистики текста, не ограничивается сферой указанных научных дисциплин, широко привлекая методы и данные психопоэтики и психолингвистики, занимающихся исследованием особенностей речевого произведения [13; 16]. Фонетические единицы в тексте наряду и в совокупности с единицами других уровней его языкового пространства [10] способны участвовать в смыслопорождении и смысловосприятии. ФС пространство поэтического текста формируется через совокупность смыслов, извлекаемых реципиентом из его звуковой субстанции, причем такие смыслы имеют двойственную природу. С одной стороны, они обусловлены ингерентными ФС характеристиками, в основе которых лежат устойчивые стереотипные ассоциации тех или иных звуков с незвуковыми представлениями, существующие в сознании носителей языка и выявляемые в результате психолингвистических экспериментов по восприятию изолированных звуков или звуковых комплексов. На это указывал Э. Сепир, по мнению которого «за чисто объективной системой звуков, свойственной данному языку и обнаруживаемой лишь в результате усердного фонетического анализа, существует более ограниченная «внутренняя» или «идеальная» система, хотя она не осознается как таковая наивными носителями языка» [19, с. 67]. Речь в данном случае идет не просто о фонематической значимости звуков или фонематической системе того или иного языка. Э. Сепир пишет, что языковые формы — это «продукты эстетической деятельности» человека, а «отдельно взятый звук является элементом структуры стереотипов, в которую входит весь спектр эстетически допустимых звучаний» [19, с. 605]. С другой стороны, ФС пространство стихотворного текста формируется различного рода ассоциациями, порождаемыми контекстуальной близостью звуковых оболочек слов на отрезках различной протяженности от отдельного словосочетания до целого текста. В данном случае на первый план выходят звукосмысловые связи лексем, возникающие в результате ассоциации звука с «несобственным» смыслом. Звуковое соответствие влечет за собой смысловую перекличку слов, обусловливая бессознательный поиск воспринимающим субъектом семантической близости слов, объединенных звуковым подобием. Как отмечает С. Ф. Гончаренко, «скорее всего языковая система действительно располагает не только лексико-семантическими полями, но и лексико-фонетическими группами, объединяющими слова на основе звуковой общности» [5, с. 73]. Такие звукоассоциативные поля, существующие как некая диффузная и открытая парадигма в сознании (или подсознании) носителей языка, в сознании профессионального поэта, в определенной степени отличном от звукового сознания и усредненного носителя языка и филологапрофессионала, обретают более четкие контуры: «Ведь именно поэту приходится ежедневно «рыться» в звуковых запасниках языка в поисках нужной рифмы или аллитерации. Именно поэту необходимо удерживать в памяти: а) 21 наиболее редкие и яркие звуковые находки своих предшественников, чтобы случайно не нарушить негласного авторского права на них; б) ставшие формальными сближения слов на звуковой основе, чтобы избежать фонической банальности» [5, с. 74]. Таким образом, при изучении ФС пространства стихотворного текста можно вести речь о двух уровнях его организации и, соответственно, восприятия. Первичный уровень ФС пространства поэтического текста, или его первичная ФС структура, представляет собой совокупность ФС доминант, выражающих фонетические смыслы коннотативной, то есть оценочной, психологической, ассоциативной природы. В ее основе лежит элементарный звукосимволизм, под которым понимается связь определенных звуков с незвуковыми представлениями в психике человека, символическое значение которых существует в виде статистически доказанного семантического коррелята, то есть значения, ассоциируемого говорящими с тем или иным звуком. В качестве такого значения могут выступать зрительные (например, определенный цвет), осязательные, гравитационные, температурные, обонятельные, эмоциональные характеристики. При этом сама возможность существования незвуковых соответствий звуковым (лингвистическим) комплексам или отдельным звукам обусловлена психофизиологическим механизмом синестезии, а точнее синестэмии как присущих перцептивной деятельности человека «различного рода взаимодействий между ощущениями разных модальностей (реже между ощущениями одной модальности) и между ощущениями и эмоциями» [4, с. 77]. В художественном и, в частности, поэтическом тексте, возникающем в результате эстетической речевой деятельности автора и характеризующимся наличием эстетизированной эмоции [16] (будучи обязательным компонентом смысловой структуры текста, она регулирует процессы смыслообразования и представления личностных смыслов), актуализируется эмоциональнооценочная значимость звуков. Анализ данных ассоциативно-образного и оценочного восприятия звуков [9; 11; 15; 20] и проведенные нами эксперименты с носителями русского и английского языков по выявлению эмоционального значения звуков позволяют прийти к выводу, что звуки обладают определенным эмоционально-оценочным смыслом, то есть в сознании говорящих на данных языках они воспринимаются как положительно или отрицательно окрашенные и, следовательно, могут потенциально выступать неосознаваемым носителем эмоционального содержания, воспринимаемого реципиентом на сенсорном уровне. Статистическое исследование русских и англоязычных стихотворных текстов, проведенное с целью выявления в них ФС доминант (то есть звуков, обладающих объективными признаками статистической проминантности и маркированных фонетическим повтором, оказывающих доминирующее воздействие на воспринимающего субъекта как самые выделенные звуки в тексте), показало, что звуки, обладающие положительными коннотациями, чаще выступают в качестве ФС доминант в стихотворениях, эмоциональносмысловая доминанта которых может быть в целом охарактеризована как мажорная (например, К. Бальмонт, «Твой смех прозвучал, серебристый…»; И. Северянин, «Мария»; W. B. Yeats, «The Lake Isle of Innisfree»; E. St. V. Mil22 lay, «Recuerdo»). Напротив, в первичной ФС структуре стихотворных текстов с минорной эмоционально-смысловой доминантой (например, М. Цветаева, «Тоска по родине! Давно…»; К. Бальмонт, «Камыши»; J. Joyce, «She Weeps over Rahoon»; R. Brooke, «Song») выделяются звуки, воспринимаемые информантами как негативно окрашенные. Полученные результаты согласуются с выводами И. Н. Горелова, согласно которым некий связный текст или некая совокупность текстов, близкой (относительно другого текста или другой совокупности текстов) тематически и тождественной (или близкой) авторской интенции фоносемантически, отличаются от других текстов или их совокупностей, являющихся продуктом противоположных авторских интенций и «противоположной» тематики [8, с. 114]. В некоторых случаях (например, J. Joyce, «On the Beach of Fontana») ФС организация передает амбивалентность эмоций посредством увеличения в стихотворении частотности звуков с противоположными эмоциональными характеристиками и звуков, которые получили амбивалентные значения со стороны реципиентов, поддерживая и в некоторой степени способствуя созданию «полифоничности» смысловой сферы текста. В целом же следует отметить, что первичная ФС структура стихотворного текста, будучи определенным образом структурированной и репрезентируя эмоциональный компонент его эмоционально-смысловой доминанты, с одной стороны, опосредованно (на подсознательном уровне) передает отношение автора к художественной действительности и способствует фиксации доминантного личностного смысла, а с другой — является своего рода раздражителем, воздействующим на эмоциональную сферу реципиента, обеспечивая последнему «эмоциональное вхождение в смысл текста» [16, с. 76]. Вторичный уровень ФС пространства стихотворного текста, или его вторичная ФС структура, формируется через совокупность смыслов, индуцируемых повторами отдельных звуков, звукокомплексов или целых звуковых оболочек слов в определенном фонолексическом контексте, способствующими установлению ассоциативных связей между лексемами, в состав которых они входят, и образующими ассоциативно-смысловое поле текста [10]. Такие звукосмысловые ряды могут охватывать различные структурные единицы и части поэтического текста. В частности, на семантическом притяжении в тексте двух (иногда более) близкозвучных слов основано явление паронимической аттракции, при котором семантические структуры этих слов взаимопроникают друг в друга, усиливая общие, пересекающиеся семы и порождая дополнительные смыслы либо, напротив, вызывая эффект их противопоставления: В теле — как в трюме, / В себе — как в тюрьме (М. Цветаева); Тупик — это путь с отрицательным множителем (В. Хлебников); А когда надо мной зазвонит / Медный зов в беспросветной ночи (И. Анненский); Прожито — отжито. Вынуто — выпито (М. Волошин); Мой взор мечтанья оросили: / Вновь — там, за башнями Кремля — / Неподражаемой России / Незаменимая земля… / Мечты! Вы — странницы босые, / Идущие через поля, — / Неповергаемой России / Неизменимая земля (И. Северянин); Wearied we keep awake because the night is silent… / Worried by silence, sentries whisper, curious, nervous, / But nothing happens (У. Оуэн); And what to me was burden without end, / To him seemed easy (У. Б. Йейтс); Sweep softly thy strings, Musician, / The minutes mount to hours (У. дэ ла Мар); Between the potency / And the existence / 23 Between the essence / And the descent / falls the Shadow (Т. С. Элиот). Контекстуальная близость сходнозвучных слов, поддержанная необходимой «теснотой стихотворного ряда» (по Тынянову), приводит к тому, что в сознании реципиента лексемы как бы «нанизываются» на общий фонетический стержень, при этом происходит переосмысление семантики слов, входящих в паронимическое сочетание, за счет усиления одних сем и приглушения других. Лексические единицы одного звукоассоциативного ряда могут группироваться в пределах обозримого сегмента поэтического текста, способствуя выделению ключевых слов и фиксируя на них внимание читателя. Так, в стихотворении И. Северянина «Десять лет» каждая строфа отмечена повторением тех звукокомплексов и звуков, которые входят в состав определения к слову лет. В первой строфе, где акцентируются десять грустных и страшных лет, заметно возрастает употребление звуков с, т, р, у, ш, щ. Во второй строфе нагнетание звуков ш, щ, т, р, ж актуализирует определения тяжких и грозных: Десять лет! — тяжких лет! — обескрыливающих лишений, Унижений щемящей и мозг шеломящей нужды. Десять лет — грозных лет! — сатирических строф по мишени Человеческой бесчеловечной и вечной вражды. Чаще фоносмысловые ряды рассредоточиваются по всему ФС пространству стихотворного текста, образуя смысловое ассоциативное поле, ассоциативность которого регламентируется общей смысловой структурой текста. Например, в стихотворении У. Оуэна «I Saw His Round Mouth’s Crimson Deepen…» повтор сонанта [l] мотивирует сближение слов, в звуковые оболочки которых он входит, тем самым обеспечивая фиксацию в сознании реципиента образа умирающего солдата, сравниваемого с заходящим солнцем: I saw his round mouth’s crimson deepen, as he fell, Like a Sun, in his last deep hour; Watched the magnificent recession farewell, Clouding, half gleam, half glower, And a last splendour burn the heavens of his cheek. And in his eyes The cold stars lighting, very old and bleak, In different skies. Повторы звуков и звукокомплексов, образующие звукоассоциативные парадигмы, могут иметь звукоподражательный характер, способствуя возникновению в воспринимающем сознании определенного слухового образа. Так, в стихотворении Вяч. Иванова «Весенняя оттепель» повтор латерального сонанта л с последующим гласным, имитирующий звук капели, усиливает восприятие образа, созданного на лексическом поэтическом уровне: Ленивым золотом текло Весь день и капало светило, Как будто влаги не вместило Небес прозрачное стекло. И клочья хмурых облак, тая, Кропили пегие луга. 24 Смеялась влага золотая, Где млели бледные снега. В целом наблюдения над «косвенным звукоподражанием» (в терминологии И. Р. Гальперина), в большинстве случаев сопровождающим употребление в стихотворном тексте ономатопоэтической единицы, показывают, что в сознании носителей языка существуют определенные звукоподражательные модели, проявляющиеся в постоянном использовании тех или иных звуков для создания конкретного слухового образа. Онтологические сущности, представляемые с помощью моделей, являют собой психофизиологическое восприятие того или иного звучания, опосредованное фонологической системой конкретного языка. Их строение определяется, с одной стороны, общими закономерностями психофизиологического восприятия и отражения звучаний, а с другой — специфическими особенностями того или иного языка. В заключение отметим, что исследование закономерностей ФС организации стихотворного текста на материале произведений русских и англоязычных авторов начала XX века позволяет прийти к выводу, что ФС пространство поэтического текста, представляющее собой совокупность смыслов, суггестированных его звуковой субстанцией, является текстовой универсалией, характеризующей поэтический текст вне зависимости от того, на каком языке он создан. Однако при этом характерные черты языковой системы, национальная поэтическая традиция, а также особенности языковой способности того или иного автора-поэта [10] выступают в качестве факторов, обусловливающих существование определенных различий в употреблении и функционировании конкретного фоносемантического средства стихотворного текста. Список литературы 1. Magnus, M. What’s in a Word? Evidence for Phonosemantics [Электронный ресурс] / M. Magnus. Trondheim, 2000. — http://www.conknet.com/~mmagnus. 2. Балаш, М. А. Фоносемантическая структура текста как фактор его понимания (Экспериментальное исследование) : дис. … канд. филол. н. / М. А. Балаш. Барнаул, 1999. 3. Богин, Г. И. Фоносемантика как одно из средств пробуждения рефлексии / Г. И. Богин // Фоносемантические исследования : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 1. Пенза : ПГПИ им. В. Г. Белинского ; Ин-т языкозн-ия АН СССР, 1990. С. 25—36. 4. Воронин, С. В. Основы фоносемантики / С. В. Воронин. Л. : Изд-во Ленин. унта, 1982. 5. Гончаренко, С. Ф. Стилистический анализ испанского стихотворного текста (основы теории испанской поэтической речи) / С. Ф. Гончаренко. М. : Высш. шк., 1988. 6. Горелов, И. Н. Основы психолингвистики / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. М. : Лабиринт, 2001. 7. Горелов, И. Н. Избранные труды по психолингвистике / И. Н. Горелов. М. : Лабиринт, 2003. 8. Горелов, И. Н. Прикладные аспекты фоносемантики / И. Н. Горелов // Фоносемантические исследования : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 1. Пенза : ПГПИ им. В. Г. Белинского ; Ин-т языкозн-ия АН СССР, 1990. С. 112—119. 9. Журавлев, А. П. Фонетическое значение / А. П. Журавлев. Л. : Изд-во ЛГУ, 1974. 25 10. Казарин, Ю. В. Проблемы фоносемантики поэтического текста / Ю. В. Казарин. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000. 11. Кулешова, О. Д. Фонетическая содержательность звуков английского языка / О. Д. Кулешова // Фоносемантические исследования : межвуз. сб. науч. тр. Вып. 1. Пенза : ПГПИ им. В. Г. Белинского ; Ин-т языкозн-ия АН СССР, 1990. С. 120—127. 12. Левицкий, В. В. Звуковой символизм = Sound Symbolism / В. В. Левицкий. Черновцы, 1998. 13. Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. М. : Смысл, 1997. 14. Наумова, Н. А. Актуализация английской языковой картины мира с помощью звукосимволических средств : дис. … канд. филол. н. / Н. А. Наумова. Саранск, 2006. 15. Павловская, И. Ю. Фоносемантический анализ речи / И. Ю. Павловская. СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001. 16. Пищальникова, В. А. Введение в психопоэтику / В. А. Пищальникова, Ю. А. Сорокин. Барнаул : Изд-во Алтайск. ун-та, 1993. 17. Прокофьева, Л. П. Цветовая символика звука как компонент идиостиля поэта : автореф. дис. … канд. филол. н. / Л. П. Прокофьева. Саратов, 1995. 18. Седов, К. Ф. Становление структуры устного дискурса в онтогенезе: грамматический аспект / К. Ф. Седов // Предложение и Слово : межвуз. сб. науч. тр. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2002. С. 756—762. 19. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Э. Сепир. М. : Издат. группа «Прогресс-Универс», 1993. 20. Фомина, Т. Г. Об эстетической оценке звуковой формы языка / Т. Г. Фомина // Актуальные проблемы психологии, этнопсихолингвистики и фоносемантики : матер. Всерос. конф. (Пенза, 8—11 дек. 1999 г.). М. ; Пенза : Ин-т психологии ; Ин-т языкозния РАН; ПГПУ им. В. Г. Белинского, 1999. С. 191—193. 21. Шляхова, С. С. Тень смысла в звуке: Введение в русскую фоносемантику / С. С. Шляхова. Пермь : Перм. гос. пед. ун-т, 2003. 22. Якобсон, Р. Лингвистика и поэтика / Р. Якобсон // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 193—230. В. П. Панченко Когнитивно-словообразовательный тип как носитель концептуальной информации Описание словообразовательных типов русского языка хотя и сыграло неоценимую роль в становлении и прогрессе дериватологии, тем не менее представляет собой описание однорядовое, по сути своей перечислительное, и уже в силу одного только этого свойства неспособно исчерпывающе отразить внутреннюю организацию словообразовательной системы языка. Размышления языковедов об уточнении способов организации производной лексики в современной лингвистике связаны с интенсивно развивающейся тенденцией когнитивного подхода к изучению системы словообразования. Сегодня наука о языке еще не располагает специальными исследованиями, направленными на когнитивную раскладку отношений словообразовательной мотивированности. Однако теоретическое осмысление данного направления и некоторые практические наблюдения уже представлены в исследованиях язы26 коведов: работы Э. П. Кадькаловой [3; 4], Е. С. Кубряковой [7; 8], О. Ю. Крючковой [5], И. С. Улуханова [12], В. П. Панченко [9] и др. По мнению Е. С. Кубряковой, когнитивно-семиотический подход позволяет связать все отличительные черты производного слова с той серией интерпретаций, которые даются соответствующему производному знаку на разных уровнях. Изучение с этих позиций словообразовательных категорий и образующих их словообразовательных типов дает возможность выявить, во-первых, набор значимых для носителей данного языка когнитивных категорий, во-вторых, семантический потенциал каждой когнитивной категории. Подобного рода исследования ориентированы, прежде всего, на познание и познавательные процессы, на поиск неких чувственно-ассоциативных, психологических сигналов номинативной технологии, доступных естественному восприятию носителей языка к повторному их использованию в актах словопроизводства, то есть на поиск активных, осознаваемых современным носителем языка структурно-семантических связей, способных сигнализировать о действующих правилах словопроизводства. Как показали исследования последних лет, когнитивный подход к изучению системы словообразования в современной лингвистике осмыслен как один из наиболее перспективных: распределение лексического материала в концептуально-тематические группы по закону системности языка прямым образом сказывается на формировании их структурно-семантических связей (удельный вес разных типов мотивационных отношений вторичных слов и правил их словопроизводства регулируется прежде лексико-семантическими, понятийными характеристиками мотивирующих и мотивированных слов). При таком подходе деривационные подсистемы рассматриваются прежде всего как носители концептуальной информации. «Макроединицы словообразования (словообразовательные типы, словообразовательные категории, словообразовательные гнезда), представляющие собой системную организацию производной лексики, в рамках когнитивной парадигмы должны быть осмыслены как разные способы хранения ментальных моделей, как «хранилища» неких предельно обобщенных представлений, образов» [5, с. 132]. Влияние тематики производных слов на характер их структурно-семантических отношений требует, во-первых, соответствующего подхода к разграничению словообразовательных типов, а во-вторых, уточнения содержания и границ самого понятия «словообразовательный тип». Основной словообразовательной единицей классификации современной словообразовательной системы определен словообразовательный тип. В дериватологии он рассматривается как «схема построения слов определенной части речи, абстрагированная от конкретных лексических единиц, характеризующихся: а) общностью части речи непосредственно мотивирующих и мотивированных слов и б) формантом, тождественным в материальном и семантическом отношении» [10, с. 135]. Таким образом, в основе определения словообразовательного типа положен частеречный признак мотивирующих и мотивированных слов. Однако, по словам Е. А. Земской, «…объединение слов в один словообразовательный тип по признаку принадлежности базовой основы к определенной части речи… приводит к тому, что понятие словообразовательного типа теряет свое внутреннее единство» [2, с. 37]. 27 Данные замечания можно в полной мере отнести к любому сегменту производной лексики. Так, в Русской грамматике (РГ-80) глагольная лексика на -ничать распределена в два словообразовательных типа (СТ): СТ-1 глаголов, мотивированных именами существительными (СЗ «занятия, поступки, имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим существительным»), и СТ-2 глаголов, мотивированных именами прилагательными (СЗ «проявлять признак, названный мотивирующим прилагательным»). В свою очередь каждый СТ характеризуется наличием нескольких подтипов. В основе понятия словообразовательного подтипа положен лексикосемантический признак, так как любые две пары слов принадлежат к одному и тому же семантическому подтипу (образцу) в том случае, если семантические различия между членами пар полностью совпадают. В РГ-80 глаголы с суффиксом -нича(ть), мотивированные именами существительными, сгруппированы в семь подтипов. Подтип-1 объединяет глаголы со значением «совершать действия, свойственные тому, кто назван мотивирующим существительным». Данный подтип включает все глаголы, мотивированные личными именами существительными независимо от их семантических показателей: ср.: «профессиональные имена лиц» — «профессиональные действия» глаголы типа кузнечничать от кузнец, пекарничать от пекарь; «оценочные имена лиц» — «отрицательно оценочные действия» глаголы типа крохоборничать от крохобор, сибаритничать от сибарит; «имена лиц, указывающие на образ жизни» — «действия, определяемые образом жизни этого лица» глаголы типа пустынничать от пустынник, странничать от странник. Лексико-семантическая неоднородность и противопоставленность перечисленных пар мотивирующих и мотивированных слов настолько очевидна, что включение их в единый подтип (и даже тип), на наш взгляд, неправомерно. Подобного рода наблюдения послужили стимулом для уточнения столь значимого понятия словообразования. С точки зрения О. П. Ермаковой, в один словообразовательный тип следует объединять производные от базовых основ слов определенной части речи и их синтаксических дериватов [1]. Е. А. Земская предлагает в один СТ объединять производные, включающие одно и то же словообразовательное значение (СЗ), вне зависимости от того, соотносятся ли они с базовыми основами одной или разных частей речи [2]. Последняя точка зрения, на наш взгляд, в большей степени приближает исследователя к решению вопросов об эффективных принципах организации производных слов (о границах и количестве словообразовательных типов), об общих закономерностях синтеза морфем. Правда, в данном случае не совсем ясно, что имеется ввиду под общим словообразовательным значением (какова степень его абстрактности, какие ряды слов оно объединяет, на какую мотивирующую базу распространяет свое действие). В то же время ясно и другое: центральным, отправным пунктом систематизации словообразовательно мотивированных слов в современной лингвистике выдвигается семантический аспект. Необходимость специального исследования семантики производного слова диктуется, по мнению Е. С. Кубряковой, несколькими обстоятельствами. «С одной стороны, в силу логики развития самой лингвистики на современном этапе на первый план выходят проблемы, связанные с содержательной стороной языковой 28 системы, в том числе и такие, которые касаются содержательной стороны отдельных языковых единиц. С другой стороны, именно эти проблемы оставались вплоть до недавнего времени наименее изученными и в области словообразования, так что семантические особенности производных слов менее известны, чем их формальные характеристики» [6, с. 50]. Исследование семантики производных слов позволяет обнаружить глубокие системные связи между однокорневыми словарными единицами, а следовательно, понять такие важные для речевой деятельности механизмы, как овладение словарем языка и создание новых средств номинаций. Анализ семантики производных слов позволяет вскрыть закономерности и правила, стоящие за образованием и функционированием значительной части словарного состава изучаемого языка. Методика когнитивного подхода к анализу комплексных единиц словообразования — одна из новых, и как показали исследования последних лет, весьма эффективных методик. Анализ структурно-семантических связей, выполненный в рамках концептуально-тематических подразделений, свидетельствует о значительной степени влияния тематики производных слов на организацию этих связей: на количество и их статус («сильные связи», способные быть единственными в системе языка, и «слабые связи», на степень частотности/осознаваемости и возможные их комбинации в пределах темы). При таком подходе СТ является носителем национально-специфического стандартизирующего начала и может быть охарактеризован по следующим параметрам: 1) какие значения источника мотивации воспринимаются носителями языка без изменений, 2) какие устраняются и могут быть устраненными, 3) какие значения осознаются как новые, 4) какие словообразовательные средства являются приоритетными в сознании познающего мир человека для реализации актуальных смыслов. Иными словами, СТ содержит информацию о месте и роли данной словообразовательной модели в номинативной технологии современного носителя языка, о деривационном потенциале концептуально-тематических словообразовательных подразделений. Тогда словообразовательный тип получает несколько иную, чем принятую в современной лингвистике, характеристику: определение словообразовательного типа соотносится не с частью речи исходных слов, а со словами определенного лексико-семантического сегмента этой части речи. В таком случае словообразовательный тип уместно квалифицировать как когнитивнословообразовательный (термины когнитивно-словообразовательный тип — КСТ и понятийно-словообразовательный тип — ПСТ рассматриваем как синонимические). Глаголы с финалью -ничать тематической группы «поступка и поведения» на основе этого подхода распределяются между тремя когнитивнословообразовательными типами: КСТ-1. Когнитивно-словообразовательный тип глаголов «поступка и поведения», мотивированных личными именами существительными, с СЗ «вести себя, как это свойственно /подобно лицу, названному мотивирующим именем, быть этим лицом» посредством формантов -нича-/-а(ть): адвокат — адвокатничать, белоручка — белоручничать, лодырь — лодырничать, пройдоха — пройдошничать, шулер — шулерничать и др. 29 КСТ-2. Когнитивно-словообразовательный тип глаголов «поступка и поведения», мотивированных «не личными» именами существительными, с СЗ «заниматься (чрезмерно) тем, что обозначено основой мотивирующего «не личного» существительного» посредством форманта -нича(ть): балаган — балаганничать, лимон — лимонничать, мордобой — мордобойничать, прихоть — прихотничать и др. КСТ-3. Когнитивно-словообразовательный тип глаголов «поступка и поведения», мотивированных именами прилагательными, с СЗ «вести себя, проявляя/уподобляясь признаку, названному мотивирующим прилагательным» посредством суффикса -ича(ть): наглый — нагличать, нежный — нежничать, фамильярный — фамильярничать и др. Когнитивно-словообразовательный тип в значительной степени обусловлен как собственно лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. Автономные процессы, происходящие внутри лексической подсистемы языка, опосредованы внешними стимулами. Последнее приводит в действие языковой механизм, стремящийся дать известному понятию удобное для данного состояния языковой системы обозначение, соответствующее тем или иным тенденциям в современном развитии. Таким образом, внешние стимулы как бы «оформляют» внутренние языковые факторы. Не останавливаясь детально на методике проведения когнитивно ориентированного описания словообразовательных типов (см. подробно об этом в работе В. П. Панченко [9]) , отметим только значительную степень влияния экстралингвистических факторов на определение потенциальных возможностей («открытых» и «закрытых» потенций) производства лексики определенной темы. Главной целью когнитивного направления современной лингвистики является проникновение в механизмы языковых явлений с учетом не только собственно языковой, но и внеязыковой информации, для получения которой важны как сам процесс познания окружающего мира, так и познавательная деятельность носителя языка. Так, когнитивно-словообразовательные типы глаголов «поступка и поведения» характеризуются высокой активностью действия. Данный факт объясняется прежде всего эмоционально-экспрессивными характеристиками глаголов указанной темы (меняются ситуации и жанры общения, вследствие чего увеличивается процент разговорных экспрессивных элементов в речи, поведенческие глаголы на -нича(ть) в этом смысле оказываются незаменимым эмоционально-экспрессивным средством выражения мысли, ср.: громогласный — громогласничать, комплимент — комплиментничать, лицемер — лицемерничать и др. Язык получил «общественный заказ» языкового коллектива на слова со значениями: «вести себя, как это свойственно/подобно лицу, названному мотивирующим именем, быть этим лицом», «заниматься (чрезмерно) тем, что обозначено основой мотивирующего «не личного» существительного», «вести себя, проявляя/уподобляясь признаку, названному мотивирующим прилагательным». Сказанное, по-видимому, является отражением общих тенденций обновления русского языкового сознания и русского словаря (желание придать речи большую разговорность, выразительность, эмоциональность, оригинальность, остроту, насыщенность). 30 Описанные когнитивно-словообразовательные типы обладают исключительной продуктивностью в публицистическом, художественном, разговорнобытовом стилях, о чем свидетельствуют многочисленные примеры речевых образований, обнаруженные в текстах указанных стилей. Глаголы «поступка и поведения» образуются от основ личных имен существительных не только новых слов, но и старых. Такая реализация потенциальных возможностей является дополнительным аргументом, подтверждающим большую активность КСТ-1. Имена существительные злодей, идиот, лежебока, слюнтяй, спекулянт, хапуга, художник, прислужник, пират, балагур и др. не являются новыми в лексической системе, тогда как поведенческие глаголы на -нича(тъ) от основ этих слов встречаются только в современных публицистических или художественных текстах. Ср.: Хапужничать: «Безбородко и пил, и шумел, и хапужничал» (Конецкий). Петрушничать: «Она…вдруг с размаху поклонилась, отчаянно мотнув встрепанной головой: — С добрым утром! — тетка угрожающе постучала костлявым пальцем по столу. — Не петрушничай!» (Кнорре). Слюнтяйничать: «А чуть позже перестали слюнтяйничать и начали убивать» (Из СМИ: передача «Криминальная Россия», 22 марта, 2005 г.). Активно действуют в современной системе языка и два других словообразовательных типа глаголов «поступка и поведения»: — глаголы, образованные по модели «не личное» существительное — глагол (КСТ-2): выкрутасничать: «Как тут не вспомнить слова М. Светлова, сказанные о поэте, который очень выкрутасничал с рифмами». Банкетничать: «Банкетничавший с ними генерал Крейш… отдаст им без боя и страну и народ» (Дубинский). Свиданничать: «…вернулась к своему кавалеру и продолжала свиданничать с ним». Комплиментничать: «Публика его боготворила, газеты комплиментничали» (Из СМИ). — глаголы, образованные по модели имя прилагательное — глагол (КСТ-3): активничать: «Познакомиться желали мужчины из Америки, Южной Африки, Франции и Шотландии… Особенно активничали итальянцы и немцы» (Комсомольская правда. 4 февр. 2005 г.). Нарядничать: «Опять пришла нарядная, нарядничает все время и все». Настырничать: «Дед… деланно сердился, когда кто-нибудь чересчур настырничал» (Голованов). Таким образом, когнитивно-словообразовательный тип, рассмотренный в синхронной системе языка, является отражением определенных ментальных ресурсов нашего сознания, результатом осмысления (концептуализации) определенных фрагментов действительности. Список литературы 1. Ермакова, О. П. Лексические значения производных слов в русском языке / О. П. Ермакова. М., 1984. 2. Земская, Е. А. Словообразование как деятельность / Е. А. Земская. М., 2005. 3. Кадькалова, Э. П. Развитие отношений между словообразовательными моделями одной семантико-словообразовательной категории: принципы и перспективы изучения / Э. П. Кадькалова // Исследования по историческому словообразованию : сб. науч. докл. М., 1994. С. 62—78. 31 4. Кадькалова, Э. П. Структурно-семантическая обусловленность и строение производного слова / Э. П. Кадькалова // Семантика языковых единиц : докл. VI Междунар. конф. М., 1998. Т. 1. С. 319—322. 5. Крючкова, О. Ю. Деривационные системы как носители концептуальной информации / О.Ю. Крючкова // Русский язык: Исторические судьбы и современность : труды и материалы II Междунар. конгресса исследователей рус. яз. М., 2004. С. 282. 6. Кубрякова, Е. С. Типы языковых значений: Семантика производного слова / Е. С. Кубрякова. М., 1981. 7. Кубрякова, Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма. Лингвистика — психология — когнитивная наука / Е. С. Кубрякова // Вопр. языкознания. 1994. № 4. С. 34—37. 8. Кубрякова, Е. С. Язык и знание / Е. С. Кубрякова. М., 2004. 9. Панченко, В. П. Опыт когнитивно ориентированного описания отношений словообразовательной мотивированности в синхронии и диахронии русского языка (на материале глаголов с финалью -ничать) : дис. … канд. филол. н. / В. П. Панченко. Саратов, 2005. 10. Русская грамматика / под общ. ред. Ю. С. Маслова, Д. Н. Шмелева. Т. 1. М., 1980. 11. Тихонов, А. Н. Семантика слова в словообразовательном словаре / А. Н. Тихонов, Л. М. Рощина, З. И. Шаталова // Семантика языковых единиц : матер. III Межвуз. науч.-исслед. конф. М., 1993. С. 119. 12. Улуханов, И. С. Мотивация в словообразовательной системе русского языка / И. С. Улуханов. М., 2004. Литературоведение и стилистика В. С. Вахрушев Текст «Ярмарки тщеславия» У. Теккерея как художественное отображение английского менталитета Исследователи до сих пор мало занимались изучением структуры текста знаменитого романа [10; 18; 2, с. 29—31, 118—12; 3 и др.]. А. А. Елистратова сказала о Теккерее: «Не занимает его здесь (в романе — В. В.) проблема национального характера» [4, с. 104], но мы не можем с ней согласиться. Английский национальный характер отражается уже в самом строе английского языка и получает специфические формы воплощения в языковой структуре романа. Становление аналитического строя в английском языке сопровождалось укреплением в его составе роли кратких слов, хотя в то же время язык обогащался за счет более длинных слов латинского и французского происхождения. А такой тип лексики дает нам косвенное представление о людях, склонных к лаконизму мышления, деловитости. Д. Мак Найт обнаружил, что в английском разговорном языке есть сорок три односложных слова (такие, как «day, all, we, hear»), которые образуют почти 50 % состава обыденной речи англосаксов [16, с. 36—42]. М. Эпштейн пишет, что самое употребляемое 32 слово в английском языке — это определенный артикль «the». Отсюда его гипотеза о «философии тэизма» (или the-изма), согласно которой этот артикль, возникший из указательного местоимения, оказывается «наиболее абстрактным элементом языка, придающим смысловую конкретность другим его элементам» [11, с. 228—249]. Эта британская конкретность мышления ощутима у Теккерея, как заметна и роль слов одно- и двусложных, хотя по нашим подсчетам артикль «the» занимает у него не первое место по частотности употребления — не 7 % от общего количества слов в тексте романа, а всего лишь 2 с небольшим процента. В последнем легко убедиться, взяв первую фразу из первой главы романа: «While the present century was in its teens, and on one sunshiny morning in June, there drove up to the great iron gate of Miss Pinkerton’s academy for young ladies, on Chiswick Mall, a large family coach, with two fat horses in blazing harness, driven by a fat coachman in a three-cornered hat and wig, at the rate of four miles an hour». В этом развернутом сложно-подчиненном предложении, задающем неторопливый ритм всему романному нарративу, 63 слова, из которых 49 — односложные. Это служебные части речи (the, in, on, at, up) и «коренные» английские слова gate, coach, hat, hour и др. Так, уже в первой фразе романа автор демонстрирует британскую «основательность», тягу к конкретному мышлению. Но не только это. Первая часть фразы «while the present century was in its teens» представляет из себя метафору-олицетворение («век был зеленым юнцом» — а речь идет о XIX столетии), которая одновременно и «конкретна» (абстрактное понятие превращено в живой образ), и мифологична, что делает несколько «фантазийной» всю фактологию второй, описательной части фразы. В целом тексте романа это преобладание кратких, «типично» англосаксонских слов сохраняется. Правда, мы проводили лишь выборочную проверку отдельных страниц из начала, середины и конца книги, но эти предварительные подсчеты дают с небольшими вариациями один и тот же результат: на 410—420 слов в одной странице текста количество односложных слов достигает 250—260, количество двусложных остается в пределах 60—70. Есть, конечно, и «длинные» слова, о чем ниже. В русском же переводе, сделанном М. Дьяконовым и М. Лорие, аналогичные подсчеты дают другой результат: на 440—450 слов в одной странице текста приходится всего 70—75 односложных слов — чуть ли не в четыре раза меньше, чем в английском варианте. Зато количество слов двусложных в русском переводе почти точно совпадает с оригиналом, их насчитывается 68—70 на страницу. Все это не может не сказываться на ритмике текста романа, что не входит в задачи данной статьи. Остановимся на понятии «английский национальный характер». Специалисты по этнической психологии согласны в том, что типичный характер англосакса вырабатывался в ходе двух тысячелетий как конгломерат взаимовлияний по крайней мере пяти основных национально-этнических компонентов — «чисто» англосаксонского, римского, кельтского, «варяжского» (викингиданы), французско-норманнского [7]. От англосаксов у современных англичан практичность, трезвость мышления, доля «твердолобости», упрямства, что зримо воплотилось в типе Джона Булля. Другим известным типом, воплощающим британский характер (упорство, «островная» самодостаточность, дело33 витость, «варяжская» тяга к морским приключениям), является Робинзон Крузо. А в третьей части романа Дефо представлены и «кельтские» черты его характера — мечтательность, визионерство. Теккерей воплотил черты «джонбуллизма» в таких персонажах своего романа, как Осборн-старший, баронет Питт Кроули. Да и все герои книги — будь то слуги, фермеры, клерки, лорды — умеют считать деньги, хотя не всегда умело ими распоряжаются. К этой деловитости прибавляются такие качества, как замкнутость — коллективная (insularity, «островность») и индивидуальная — высокая самооценка, уравновешиваемая тягой к самоумалению, к understatement в высказываниях. Теккерей не уделяет много внимания деловой и хозяйственной стороне жизни своих героев, но из отдельных штрихов, намеков, небольших сценок складывается общее впечатление об англичанах как о людях по преимуществу практичных, знающих толк в биржевых операциях, в сельском хозяйстве, в разного рода профессиях. Писатель боролся против засилья риторического стиля в художественной литературе, которое шло от образцов латинской словесности, от прозы Цицерона и поддерживалось в Англии такими авторитетами, как Сэмюэль Джонсон. Эту антириторическую установку Теккерей задает в первой главе романа, когда Бекки Шарп (недаром названная «хорошим лингвистом») с презрением бросает на землю экземпляр знаменитого джонсоновского «Словаря». В этом жесте юной авантюристки ощутимо и желание писателя если не «бросить» Джонсона «с парохода современности», то хотя бы потеснить его влияние. Что же касается британской философии, политики, эстетики, других сфер «высокого» мышления, то в них национальный британский менталитет проявился в устойчивых тенденциях к стихийному материализму, эмпиризму, скептицизму, склонности к компромиссу, тяге к реализму в искусстве, вообще к сглаживанию разного рода противоречий. В викторианскую эпоху обозначилось — пусть несколько условное — деление между «островной», британской (а следом и американской) и «континентальной» западноевропейской ветвями философии. Теккерей в этом отношении был типичным англосаксом — он почти в равной мере принимал как основные положения христианской религии, так и взгляды эмпирика и скептика Дэвида Юма, позитивистов Кузена и Дж. Ст. Милля, критиковал крайности романтизма, но учился у романтиков искусству романтической иронии, разделял с ними интерес к тайнам мира. При этом писатель посмеивался над своими любимыми художниками и мыслителями, но не щадил и себя, зная собственные недостатки. И эта позиция «открытости» миру пронизывает весь текст его романа. Относительно «римского» компонента в англосаксонском менталитете не выработано единого мнения, хотя зримые следы античной культуры в Великобритании налицо — они в руинах зданий, дорог, скульптурах, памятниках быта. И, главное, в роли латинского языка, который стал по сути дела первым языком древнеанглийской литературы и христианской религии в Англии и Ирландии и задавал, начиная со Средних веков, образцы риторического стиля. Недаром юный Уильям Доббин, как и другие школьники-персонажи «Ярмарки тщеславия», учит латинский, пусть и без большой охоты. Теккерей прибегает к латинским цитатам, которые придают его тексту культурно34 историческую перспективу. Так, щегольство Джоса Седли, этого карикатурного дэнди, сравнивается с persicos apparatus (курсив автора — В. В.), то есть с одеяниями римских патрициев, взятыми из Персии и осмеянными в сатирах Горация. Язвительно звучит цитата из сатиры Ювенала, в которой римский поэт заклеймил развратницу императрицу Мессалину. Эта дама lassata nondum satiata recessit, уходила неудовлетворенной из публичного дома. Применительно же к леди О’Дауд, супруге британского полковника, неутомимой в танцах, слова Ювенала звучат двусмысленно — и просто неприлично для викторианских читателей. Важно и то, что в завершающем абзаце романа звучит выражение „Vanitas Vanitatum!”, взятое из латинской версии Библии и перекликающееся с заглавием книги, придавая последнему торжественное звучание. Теперь обратимся к кельтской составляющей в британском национальном характере. Она во многом противоположна как англосаксонскому, так и римскому началу, поскольку основа ее — это фантазирование, тяга к остроумию, переходящему иногда в хвастовство. Теккерей был первым в английской литературе, кто дал «в полный рост» образ типичного ирландца в романе «Карьера Барри Линдона» (1844) —темпераментного, безрассудного и склонного к авантюрам. В «Ярмарке тщеславия» лишь на периферии текста возникает данная в юмористическом ключе фигура уже упомянутой леди О’Дауд. Что касается кельтского компонента в британском характере, то, на наш взгляд, взаимодействие этих двух составляющих проявляется в том типе, который известен как «английский чудак». Вариации такового в английской литературе мы находим у Чосера, Шекспира, Стерна, Смоллетта, Скотта и других авторов. Чудаками, фантазерами, любителями разного рода игр переполнено художественное пространство «Ярмарки», да и само заглавие ее есть образсимвол жизни как специфической игры. Для англичан присуща тяга к «честной игре» (fair play), хотя в романе автор показывает, как часто этот принцип трансформируется у англосаксов в нечто иное. Скандинавы-викинги, господствовавшие в Британии в VIII—IX веках, привнесли в английский характер боевое и авантюрное начало — тягу к морским путешествиям, захватам чужих территорий, самоуверенность. И связанную с освоением колоний тенденцию к «креолизации», к смешению наций, вступающую в противоречие с «островностью» (insularity) англичан. Теккерей, родившийся в Индии, в семье колониального чиновника, имевший сводную сестру-«полукровку» и стыдившийся ее [19], все-таки дал намеки на эту «неприличную» для викторианцев историю в своей повести-фарсе «Ужасающие приключения майора Гахагана» (1838). В «Ярмарке» большую роль играет сатирический образ Джоса Седли, «индо-англичанина», в лице которого писатель воплотил еще одну разновидность «вечного типа» Хвастливого Воина (Miles Gloriosus). Наконец, французы-норманны, утвердившиеся в Британии с XI века, стали на долгие века носителями королевской власти в Британии, создателями многих аристократических родов. От них идет у англосаксов традиция рыцарства (chivalry), культ Прекрасной Дамы в поэзии. Теккерей-сатирик «снизил» весь этот пафос в образе Бекки Шарп, полуфранцуженки-полуангличанки, хотя нельзя сводить ее фигуру только лишь к обличительной тенденции. 35 Как же в целом решается вопрос с английским (или англосаксонским) менталитетом и с национальным характером? Точных формул тут нет. Можно лишь с долей вероятности утверждать, что англосаксонская прагматическая основа этого типа в различных комбинациях соединяется либо враждует в личностях сыновей и дочерей Альбиона с другими национальными «примесями» — с кельтским полетом фантазии, с «морским» авантюризмом викингов, с французской рыцарской галантностью. Что и продемонстрировано Теккереем в его романе — в сотнях персонажей книги — главных, второстепенных и эпизодических, реалистически обрисованных либо условно-кукольных. Теперь обратимся к проблеме художественного текста, который будем обозначать ХТ. Само понятие «текст» пользуется в последние годы повышенным вниманием в гуманитарных науках, да и в точных тоже, поскольку сейчас резко возросла роль информации в мировом сообществе¸ множатся различные виды и формы ее, так что некоторые текстом готовы считать практически все, все виды материи и нематериальных образований. М. М. Бахтин и Ю. М. Лотман подходят к ХТ как к высшему типу текста, в котором создается некое подобие живого организма, или, говоря иначе, особый метатекст, симбиоз различных языков, точек зрения, могущих противоречить друг другу (понятие Жака Деррида о деконструкции текста), но и друг друга дополняющих [1; 6]. В ХТ правила «обычной» речи могут нарушаться, они наделяются выразительной уникальностью, которая как раз в силу этого качества оказывается речью «универсальной», пригодной на все времена. Эта закономерность проявляется в тексте «Ярмарки», где все, казалось бы, построено на прихотливой авторской игре с читателем, разворачивающейся одновременно как внутри самого текста (и создающей метатекст), так и в смене авторских точек зрения, в масках повествователя, в «бликующих» фигурах читателя. Теккерей не ставил задачу показать британский «менталитет» (тогда и слова такого не было) или изобразить «британский характер», но его ХТ дает более живое впечатление о названных феноменах, чем десятки научных книг по данной теме. Здесь одно только заглавие романа, вместе с его подзаголовком, заслуживают отдельного исследования. «Vanity Fair» — это емкий образ-символ, в котором есть и национальная английская специфика, и общечеловеческое содержание. На русский язык его перевели сначала как «базар житейской суеты», затем заменили на более удачное выражение «ярмарка тщеславия», причем оба эти значения, «суета» и «тщеславие», содержатся в английском слове «vanity». Кроме того, в его ивритском первоистоке «гэвел» (из книги Экклезиаста) есть и третий смысл — «языческий идол». А «fair» — это целых два слова-омонима, из которых первое восходит к древнегерманскому «fagraz» — красивый, но от него же возникло и «fake» — лживый, поддельный. Второе слово-омоним fair произошло от старофранцузского feire — праздник, ярмарка [12]. Все эти исходные значения «задействованы» в образе Ярмарки тщеславия. Сам же образ был создан английским религиозным писателем Джоном Бэньяном в его аллегорическом романе «Путь Паломника» [14], который вплоть до ХХ века был популярен в Англии и США. Бэньян приписывает создание Ярмарки Вельзевулу и другим прислужникам Сатаны. 36 На этом торжище, долженствующем совращать христиан с пути истинного, «продаются дома, земли, должности, места, почести, привилегии, титулы, страны, королевства, похоть, удовольствия и такие разнообразные развлечения, как публичные женщины, сводни, жены, мужья, дети, хозяева, слуги, жизни, тела, души, серебро, золото и многое иное. И сверх оного, на ярмарке той в любое время можно видеть кувыркание, обман, игры, фокусы, шутов, дураков, подлецов и мошенников всякого рода. И можно увидеть здесь, совершенно бесплатно, воровство, убийство, соблазны…» [14, с. 153. Перевод наш — В. В.]. В образ-символ Ярмарки автор вкладывает три взаимосвязанных смысла: 1) сатанинский мирской соблазн, суетность всего земного, 2) образ города и всеобщей продажности, 3) воплощение балаганной театральности и иллюзорности земного бытия. Это смешение смешного (развлекательного и привлекательного) и страшного, рутинного и редкого в своей отвратительности еще и до Бэньяна варьировали и позже будут варьировать в своих образах художники и мыслители всего мира. Британский торговый дух, царящий на этой Ярмарке Тщеславия, изображается Теккереем в романе, где большинство персонажей, людей богатых или бедных, занято финансовыми подсчетами, а целых две главы, 36-я и 37-я, иронически посвящены проблеме «как жить хорошо, не имея никакого годового дохода» (how to live well on nothing a year). Теккерей, вслед за Бэньяном, не теряет из виду общемировое значение образа Ярмарки тщеславия, но вместе с тем он «энглизирует» его, ослабляя его христианско-проповеднический компонент и больше подчеркивая в нем аспекты мирские и игровые. В романе, например, во всю идет «торговля» людьми, особенно в сфере семейно-брачных отношений — за редкими исключениями теккереевские персонажи жаждут получить богатое наследство, не упустить свой шанс в лотерее жизни. Конторщик Буллок, будущий компаньон Осборна-отца, с радостью думает: «мисс Мария (дочь Осборна — В. В.) поднимется теперь в цене на 30 тысяч фунтов» (she might be worth thirty thousand pounds more). А в «игровом» плане особенно удалась автору глава 51-я, «где разыгрывается шарада, которая, быть может, поставит, а может и не поставит читателя в тупик». В этой главе автор иронически живописует «великий триумф» Бекки Шарп в высшем свете, когда она стала светской львицей, исполнив несколько театральных и музыкальных партий на вечере во дворце лорда Стейна. Вместе со своей героиней предается игре и автор-рассказчик, который ставит себя выше «Ярмарки», морализируя по поводу ее, но сам является активным ее участником, «шутом и дураком», а также Кукольником (the manager of the Performance), устроителем нарративных трюков и фокусов. Начало главы — это две фантастические «картинки», два авторских мифа, словно импровизируемые на глазах у изумленных читателей-«зрителей». В первом из них Бекки уподобляется «неразумной Семеле», сжигаемой блеском коллективного «Юпитера» — светского общества. Во второй фантазии рассказчик воображает комическое «загробное видение» в особняке английского премьер-министра «Великого Питта» (1759—1805) на Бейкер-стрит. Образы Ярмарки тщеславия и автора-рассказчика неразрывно связаны друг с другом, так что повествователь тоже становится одним из носителей британского менталитета, типичных черт английского характера. В этом мно37 голиком персонаже как раз и сконцентрированы многие противоречия, присущие типичному британцу, только они принимают специфическую окраску, определяемую ролью рассказчика. Он по-своему деловит — не забывает время от времени похвалить свой рассказ, обещает нам «потрясающие главы», гордится тем, что «его марионетки доставили удовольствие самому лучшему обществу нашего государства» и пр. Пусть вся эта рекламная часть текста окрашена легкой самоиронией, но последняя не отменяет «деловой» установки автора. В характере рассказчика много и «кельтской» игры воображения, которая то и дело прорывается на страницы романа, передается некоторым его персонажам, проявляется в игре различными компонентами текста. Немецкий исследователь Лунгвиц в свое время подсчитал, что Теккерей, бывший не только писателем, но и талантливым графиком, создал 187 иллюстраций к своей книге и игнорирование их в дальнейших изданиях «Ярмарки» значительно обедняет этот «креолизованный», вербально-визуальный текст [15]. Обратимся к общей характеристике юмора писателя, чтобы выделить в этом компоненте текста его «национальную» составляющую. Это трудная задача, что эмпирически доказывается хотя бы тем, что не только произведения Теккерея, но и весь английский «юмористический роман» (термин М. Бахтина), то есть произведения Свифта, Смоллетта, Стерна, Диккенса, Хаксли, других авторов, а также британская поэзия и проза нонсенса (Льюис Кэрролл, Эдвард Лир) популярны во всем мире, хотя, естественно, не все такой юмор принимают и не вся его идиоматика переводима на другие языки. Нелегко отделить в таких ХТ общечеловеческое от «этноспецифического» (термин А. В. Карасика). Отсюда и ошибки в диссертации только что упомянутого автора, называемой «Лингвокультурные характеристики английского юмора» [5]. Это серьезная работа, в которой есть ценные наблюдения и выводы о таких отличительных чертах британского юмора, как «высокий эмоциональный самоконтроль» его носителей, повышенная «английская тактичность» и т. д. Но вряд ли можно согласиться с исследователем, когда он находит «специфическое английское отношение к нарушению здравого смысла» в такой ситуации, когда персонаж анекдота проявляет невозмутимость перед очевидно абсурдной ситуацией [5, с. 6]. Примеров аналогичной «невозмутимости» можно найти тысячи в арабских сказках «Тысяча и одна ночь», в философских повестях Вольтера, романах Гофмана. Специфику национальную — а одновременно и сугубо индивидуальную, авторскую — надо искать в теккереевской «Ярмарке» в другом. Писатель здесь, как мы показываем в книге «Творчество Теккерея» [2], прежде всего опирается на богатейший опыт сатирико-юмористической литературы, на мифологию и фольклор народов мира. А типично британским в его юморе является, пожалуй, сочетание таких бинарных оппозиций, как «всеохватность иронии — ее самоограничение», «юмор бесшабашно-балаганный (условный) — тяга к психологизму, к правдоподобию». Недаром некоторые современники называли писателя «сентиментальным циником» — определение неточное, но схватывающее часть истины. Теккерей смеялся над всем, в том числе и над самим собой, чему свидетельством являются хотя бы рисунки-автошаржи в первых изданиях романа, где автор изобразил себя в виде средневекового шута. Но эта универсаль38 ность юмора никогда не переходит в цинизм, в зубоскальство, она умеряется интонациями любования британским патриархальным уютом, восхищения смелостью и благородством его героев-военных. Другая сторона проблемы — прочная «вкорененность» Теккерея как британца в отрицательные (или кажущиеся нам таковыми) традиции английского менталитета. Писатель может сколько угодно смеяться над английскими воинами — покорителями Индии, но он не выступает против права Британии владеть этими странами. Он патриот своей родины, но его патриотизм связан и с британским шовинизмом. Более того, он выступает и как расист, правда, не афиширующий свое мнение о «неполноценности» темнокожих. Но в юмористических образах черного слуги Сэмбо, богатой и тупоголовой мулатки мисс Суорц, жалкого туземцаиндуса Лола Джеваба, трясущегося от холода в Англии и пугающего своей физиономией британских девушек, мы можем почувствовать, какого мнения был Теккерей о всех этих «темных» народах. Да он и не всегда скрывал своего «колониального» презрения к ним, когда, например, в письме к матери от 13 февраля 1853 года говорил: «Негры отличаются от белых так же, как ослы от лошадей. У них разное устройство мозгов… Сэмбо — это не брат мой, даже вид его лица выдает его неполноценность (the very aspect of his face is grotesque and inferior) [21, с. 199]. К тому же ряду британских предрассудков (свойственных, к счастью, не всем англичанам) надо отнести и неприязнь Теккерея к России и русским, что заметно как по его отрицательным суждениям о нашей нации — в письмах и очерках, так и по умолчаниям в «Ярмарке»2. По роману создается такое впечатление, что только англичанам принадлежит заслуга в разгроме Наполеона, а о военных кампаниях в России в 1812 году, в Германии и Франции в 1813—1814 годах даже не упоминается. Вся «русская тема» сводится к комическому образу «мадам де Бородино», вдовы французского генерала, которую чуть было не разорила Бекки Шарп. В типично британской шовинистической манере Теккерей не прочь был как бы мимоходом «поставить на место» и более просвещенные, по его мнению, народы. Так, он называет бельгийцев «нацией лавочников» (nation of shopkeepers), хотя сам же показывает, что англичане в смысле пристрастия к торговле куда активнее жителей Бельгии. Он смеется над трусостью последних и превозносит храбрость британских воинов. Но тут писательская объективность все-таки берет верх: ведь одна из самых ярких комических фигур в романе — это образ труса Джоса Седли, хвастуна, не уступающего в своих мнимых «подвигах» самому Фальстафу. С удовольствием высмеивая английский снобизм, Теккерей к своей «Книге снобов» (1847) прибавил откровенный подзаголовок: «написанная одним из них» (written by one of themselves). А поскольку снобизм является одним из пороков Ярмарки тщеславия, обличаемых автором, то можно сказать, что и сам Теккерей — в некотором отношении типичный «ярмаркотщеславец». И. С. Тургенев был поражен тем, что в разговоре с ним Теккерей отрицал саму возможность существования русской литературы. И это в то время, когда на английский язык уже были переведены произведения Пушкина, Гоголя, когда Диккенс печатал в своем журнале тургеневские «Записки охотника» (См.: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. 1983, 21—22). 2 39 Манеру не щадить себя (неприятно поражавшую Диккенса, да и других знакомых писателя) Теккерей перенял из народного смехового искусства — из кукольного театра Панча, английской рождественской пантомимы, бродячего цирка [23; 13; 22]. Отсюда и противоречивость авторской позиции в романе — писатель-гуманист и моралист все время находится «выше» изображаемого им общества, но он же является «другом и братом» бичуемых им снобов, его сатира и юмор постоянно окрашиваются тонами сочувствия и сострадания к тем, кого он критикует и обличает. Другая, чисто эстетическая сторона противоречия в тексте романа — это «нестыковки» (не всегда замечаемые читателями и подчас не улавливаемые переводчиками книги) между условно-балаганной юмористической манерой нарратива и его реалистической направленностью, тягой к правдоподобию и, в частности, к углубленному психологизму. Первый образец такого юмористического алогизма мы видели в разобранном выше примере с первой фразой первой главы романа, где одновременно выступают и «конкретные» лошади, карета, кучер и «мальчишка»-XIX век как некое озорное мифическое существо. Основные персонажи романа представлены как типичные англичане и англичанки своего времени, но они и куклы, марионетки, танцующие на проволоке, фигуры, в которых соединяются комическая гиперболичность и забавная литота. Эмилия Седли и Ребекка Шарп — женщины «миниатюрные», небольшого роста, но им свойственны «великие деяния», балаганно утрированные. Эмилия «вторгается в Нидерланды» (название главы 28), она плачет, причем ее слезы сравниваются то с «открытыми шлюзами», то с работой версальских «больших фонтанов» (grandes eaux). Поэтика британской рождественской пантомимы ощутима в этих сравнениях. Остановимся еще раз на центральной фигуре романа, на образе Бекки Шарп. Кто она — бездушная марионетка, «асексуальная кукла», как считают иные критики, или талантливая личность? Преступница или жертва окружающих обстоятельств? Преобладают ли в ней качества британские (она англичанка по отцу и по месту рождения) или французские (мать ее — французская циркачка)? И как к ней относится сам ее творец? Во время поездки по США в 1855—1856 годах Теккерей признался, что он испытывает «тайную симпатию» к своей Ребекке Шарп. А к США писатель относился двойственно — ему были по душе американский размах, деловитость, но вызывали отвращение грубость нравов, засилье пошлости, безвкусицы как у нуворишей, так и среди низов [24]. Так что на этом фоне Беки выглядела почти аристократкой. В ее лице писатель, очевидно, хотел показать тот сплав англосаксонского и французского элементов в человеке, который его интересовал. У героини эти составляющие британского менталитета находятся в динамическом, меняющемся в зависимости от разных факторов соотношении. Образ героини выстраивается на основе общеевропейской и мировой культуры, уходя корнями в мифологию и фольклор. Ее фигура обрастает сравнениями мифологического, басенного, зоологического, бытового, исторического характера. Она может обернуться «пауком», «змеей», «лисой», «волком в овечьей шкуре», сиреной-губительницей мужчин, ведьмой, древнегреческой царицей Клитемнестрой, арабом-кочевником, Клеопатрой, библейской Дали40 лой, цыганкой, мадам де Ментенон, актрисой балагана, куклой. Текст романа выстроен так, что мы должны догадываться: душа Бекки «жила» во всех этих существах, воплощалась в них, она будет жить и дальше, принимая все новые обличья. Критик Эдвард Мюир заметил, что в образе Шарп воплотился «великий миф викторианской эпохи» [17, с. 182—192]. Но не только викторианской, а других эпох фаустовской цивилизации. Обратим внимание на речевую ее характеристику. Уже в начале романа сказано, что она была одарена языковым чутьем (was a good linguist). Русский перевод «владела в совершенстве языками» нуждается в добавлении «языками отца и матери», поскольку Ребекка получила лишь очень скромное школьное образование и не знала ни греческий, ни латынь, а позднее усвоила лишь начатки немецкого. Но писатель наделяет ее таким талантом во владении английским и французским, что ее речь, устная и письменная, мало чем отличаются от дискурса автора-рассказчика. Вторым языком героиня пользуется либо в корыстных целях, либо для насмешки над туповатыми «Джонами Буллями», не знающими французского. Таковы ее восклицания: Vive la France! Vive l’Empereur! Vive Bonaparte! И это в 1813 или 1814-м году — недаром Эмилия Седли приходит в ужас: ведь «сказать такое в Англии в то время почти значило воскликнуть „Да здравствует Люцифер!”». Но это не значит, что у нее есть какая-то политическая программа, для Бекки все равно, кто победит — Наполеон или Веллингтон под Ватерлоо. Она сходна с французским императором лишь духовно — как были увлечены им миллионы людей в начале XIX века. Подведем итоги. Роман «Ярмарка тщеславия» — это выдающееся произведение английской и мировой литературы, в котором дана во многом субъективная и в то же время правдивая картина Англии первой половины XIX столетия, а также отдельные эпизоды из жизни и быта других стран — Индии, Бельгии, Франции, Германии. Как раз это сочетание авторской пристрастности, сказавшейся и в его предрассудках, и в художнической проницательности, помогает воссоздать в тексте романа представление об английском национальном менталитете, носителях британского характера либо отдельных качеств такового. Эта художественно воплощенная картина мира во многом определяется специфической викторианской разновидностью британского менталитета, в котором сталкивались и взаимодействовали оптимизм и тревожность, консерватизм и тяга к прогрессу, религиозность и атеизм. Список литературы 1. Бахтин, М. М. Слово в романе. Из предыстории романного слова / М. М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. М. : Худ. литература, 1975. С. 72—233, 407—446. 2. Вахрушев, В. С. Творчество Теккерея / В. С. Вахрушев. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1984. 3. Вахрушев, В. С. О ритме романа Теккерея «Ярмарка тщеславия / В. С. Вахрушев // Ритм и стиль : сб. науч. тр. Вып. 2. Балашов : Изд-во «Арья», 2000. С. 14—24. 4. Елистратова, А. А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа / А. А. Елистратова. М. : Художественная литература, 1972. 5. Карасик, А. В. Лингвокультурологические характеристики английского юмора : автореф. дис. … канд. филол. наук / А. В. Карасик. Волгоград, 2001. 41 6. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. М. : Искусство, 1970. 7. Овчинников, В. В. Сакура и дуб: Впечатления и размышления о японцах и англичанах / В. В. Овчинников. М. : Лимбус пресс, 2003. 8. Теккерей, У. М. Ярмарка тщеславия / У. М. Теккерей. Собр. соч. : в 12 т. Т. 4, пер. Дьяконова. М., 1976. 9. Тургенев в воспоминаниях современников : в 2 т. // Колбасин, Я. Е. Тургенев в Англии. Т. 2. / Я. Е. Колбасин. М. : Художественная литература, 1983. С. 21—22. 10. Цмыг, И. Н. Языковые средства сатиры и юмора в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия» : автореф. дис. … канд. филол. наук / И. Н. Цмыг. Л., 1961; 11. Эпштейн, М. Н. Частотный словарь и философская картина мира / М. Эпштейн // Знак — пробела. О будущем гуманитарных наук. — М. : Академический проект, 2004. — С. 228—249. 12. Ayto, J. Dictionary of Word Origins / J. Ayto. Indianapolis : Indianapolis Univ. Press, 1994. 13. Broadbent, R. D. A History of Pantomime / R. D. Broadbent. N. Y. : Double Day Press, 1965. 14. Bunyan, J. The Pilgrim’s Progress / J. Bunyan. L. : John Hicks, 1828. 15. Lungwitz, W. Wortschilderung und Zeichenbild in Thackerays «Vanity Fair» / W. Lungwitz. Leipzig : Tauchnitz, 1917. 16. McNight, G. English Words and their Background / G. McNight. N. Y. ; L. : Harper, 1923. 17. Muir, Ed. Essays on Literature and Society. — Cambridge (Massachusetts): University Press, 1965. P. 182—192. 18. Phillips, K. C. The Language of Thackeray / K. C. Phillips. L. : Macmillan, 1976. 19. Ray, Gordon R. Thackeray. The Uses of Adversity / Gordon R. Ray. N. Y., Toronto, L., 1955. 20. Thackeray, W. Vanity Fair / W. Thackeray. N. Y. ; Toronto ; L., 1962. 21. The Letters and Private Papers of W. M. Thackeray, ed. by G. N. Ray. Vol. III. L. : Mc-Graw Hill, 1964. 22. Timbs, J. English Eccentrics and Eccentricities / J. Timbs. L., 1875. 23. Wilson, A. E. Christmas Pantomime / A. E. Wilson. L. : Allen and Unwin, 1934. 24. Wilson, J. G. Thackeray in the United States. 2 vol / J. G. Wilson. L. : Huskell House press, 1904. О. Н. Каверина Концепт Englishness в аспекте художественного восприятия В последнее время в лингвистических исследованиях довольно популярна тема «языковой картины мира». Интерпретации разных ученых отличаются друг от друга, но в целом все они соглашаются в том, что языковая картина мира — это «мир в зеркале языка, вторичный идеальный мир в языковой плоти, совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике» [3, с. 71]. К этому определению В. В. Красных необходимо добавить, что языковая картина мира (ЯКМ) глубоко национальна, что ЯКМ — это образ мира в глазах народа, говорящего на данном языке. С психолингвистической точки зрения ЯКМ — образ мира, который рассматривается как основной компонент структуры этноса [2]. 42 Национально-культурная специфика языковой картины мира может рассматриваться с разных точек зрения. Мы придерживаемся следующей: «национальная специфика мышления производна не от языка, а от реальной действительности, язык же только отражает в своей семантике и называет те различия, которые оказываются коммуникативно-релевантными для народа в силу тех или иных причин» [4, с. 66]. Процесс языковой концептуализации сейчас изучается лингвистами Е. С. Кубряковой, А. Д. Шмелевым, Н. Д. Арутюновой и др. Наряду с чисто языковыми явлениями — словами, фразеологизмами, грамматическим строем языка — языковая картина мира также отражается в художественных произведениях. Писатели являются авторами художественных картин мира — вторичных картин мира, подобных языковым. Картина мира в художественном тексте создается языковыми средствами, при этом она отражает индивидуальную картину мира в сознании писателя и воплощается в отборе элементов содержания художественного произведения, отборе используемых языковых средств, в индивидуальном использовании образных средств [5, с. 14]. Художественная картина мира характеризуется концептами, присущими авторскому восприятию мира, индивидуальными концептами писателя. Одним из таких индивидуальных концептов в творчестве английского писателя Джона Фаулза является концепт Englishness. «Башня из черного дерева» — одно из первых произведений, в котором данный концепт является частью индивидуальной картины мира писателя и отражает его систему ценностей, а также характеризует английскую языковую личность в его интерпретации. Слово Englishness трудно перевести на русский язык, оно обозначает наиболее типичные черты английского характера, образ жизни английского народа, включающий нормы поведения человека в обществе в ХХ веке, общие пристрастия и антипатии людей, традиции, формировавшиеся веками, моральные нормы. Понятие Englishness, с точки зрения Джона Фаулза, раскрывается на примере двух образов, образов художников — молодого, довольно преуспевающего Дэвида Вильямса и старого, признанного великим в конце жизни, Генри Бризли. Содержание концепта Englishness, как он видится в рамках одного произведения «Башня из черного дерева», делится на несколько составляющих: 1) общие моральные принципы и нормы поведения, 2) отношение героев к собственной профессии, к карьере, 3) отношение к искусству в целом, 4) отношение к любви, 5) отношение к семье, 6) исторические образы и идеалы во всех сферах жизни. Необходимо отметить, что в большинстве составляющих концепта автор демонстрирует борьбу двух точек зрения, и, конечно, завершение романа ясно показывает, какой точки зрения придерживается сам автор. Фаулз противопоставляет двух героев по их моральным принципам. Жизненная философия Дэвида Вильямса — конформизм, он приспосабливается к существующим в обществе формальным правилам жизни, воспринимает их как данное и нерушимое, нарушение этих правил связано для него с жизненной катастрофой. Дэвид смотрит на свою жизнь как на нечто, что можно рассчитать; по его мнению, в будущем можно добиться многого, если постоянно будешь делать правильный выбор: David... was always inclined to see his own 43 life in terms of a logical process, its future advances dependent on intelligent present choices [7, p. 77]. В этом и заключается для него английский common sense. Бризли всю свою жизнь попирает этот самый «здравый смысл», он живет жизнью сердца, никогда не просчитывая свои поступки. Поэтому в глазах Дэвида добившийся успеха Бризли — «There on the summit stood a smirking old satyr in carpet slitters, delightedly damning all common sense and calculation» [там же, p. 77]. Как истый англичанин Дэвид отличается строгой приверженностью непреложным формальным правилам. Он ведет дневник и, когда отправляется в автопутешествие в поместье Бризли Котмине, записывает «the date, the time of day, the weather». Пунктуальность — еще одна черта Дэвида. Когда он приезжает в Котмине до условленного tea-time, то мгновенно испытывает дискомфорт от того, что нарушил договоренность. Фаулз иронизирует над английской любовью к «предварительным договоренностям», являющимися как бы продолжением пословицы «My home is my castle». Так, на одной табличке на воротах в Котмине надпись на французском языке предупреждает свободолюбивых французов о злой собаке, а надпись на английском языке — формализованных англичан о доступе в поместье только по предварительной договоренности: Chien merchant Strictly no visitors except by prior arrangement Противоположность взглядов Вильямса и Бризли на формальные правила ношения одежды, на то, как одеваться в гостях, видится в диалоге: David: You are not too formal, I hope? Breasly: Freedom house, dear boy. Stark naked, if you like. Хотя Дэвид и не ожидает строгой приверженности правилам от изгоя, прожившего вне родины столько лет, ответ кажется ему слишком фривольным. Для Дэвида основным моральным принципом является разработанное им самим сочетание честности и такта. Чтобы нравиться людям, а ему хочется им нравиться, он «тактично честен», то есть не всегда искренен: Always rather fond of being liked, he developed a manner carefully blended of honesty and tact [там же, p. 43]. Бризли, в противоположность ему, всегда предельно честен и откровенен в своих взглядах. Если он пацифист, то воинствующий, в знак несогласия с линией правительства в годы первой Мировой войны он уезжает из Англии (a characteristically militant pacifist in 1916 — and spiritually out of England for good). Ходят слухи о его ненависти ко всему английскому и условностям среднего класса, о его презрении к родине (the legend of his black bile for everything English and conventionally middle-class... his contempt for his motherland). Покинув Англию, Бризли живет в Париже, но и там он демонстрирует свою нетерпимость к официальным правилам, ведя богемный образ жизни. Если одним из основных принципов Дэвида является терпимость, то Бризли придерживается противоположного: «One shouldn’t show toleration for things one believes are bad» [там же, p. 71]. Он ненавидит английский принцип выжидательности в политике (Sit on the bloody English fence. Vote for Adolf), который выражается в английской идиоме to sit on the fence = to avoid becom44 ing involved in deciding or influencing smth [OALD, 2005]. Он нетерпим к фашизму, что и выражает серией своих картин об Испании периода Гражданской войны. Моральные принципы Дэвида и Бризли отражаются в их творчестве. Художник Вильямс прячется от самовыражения за занавесом абстракционизма, искусства хорошего вкуса и ухода от реальности, искусства для художников и критиков, а не для людей. Дэвид довольно преуспевающий художник, его картины продаются, но только из-за того, что они хорошо смотрятся на стенах: His paintings went well on walls that had to be lived with [7, p. 44]. Бризли называет абстракционизм в живописи «башней из черного дерева» вслед за «башней из слоновой кости» — термина, принятого в начале ХХ века для обозначения формалистского направления «искусства для искусства». Он считает, что абстракционисты боятся быть искренними: Ebony tower... anything he doesn’t like about modern art. That he thinks is obscure, because the artist is scared to be clear [там же, p. 74]. Сам Бризли получил признание как большой художник и на родине, и за границей, когда покинул Париж и стал жить в Котмине, поместье на северо-западе Франции в краю густых лесов и озер — на земле кельтского племени бриттов, на земле, родившей предания о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Его картины пропитаны зелеными лесными мотивами, их называют кельтскими, архетипичными. Бризли искренен в проявлениях как любви, так и ненависти. Его принцип: не можешь ненавидеть — не можешь и любить, не можешь любить — не можешь писать. Своих помощниц-художниц он учит не стыдиться своего собственного тела, а стыдиться условностей и общественных предрассудков: Learning not to be ashamed of one’s body. And to be ashamed of one’s conventions [там же, p. 87], быть искренним в проявлении своих чувств. Дэвид боится любви, возникшей у него к одной из девушек-художниц Диане, ведь последствия этой любви могут быть разрушительны для его семейной жизни. Как замечает Фаулз о Дэвиде, «he was a crypto-husband long before he married» [там же, p. 77], подчеркивая его изначальную верность семейным принципам. Он воспринимает верность жене как привычку: «fidelity like a habit» [там же, p.115]. В его семье давно нет любви — она уступила свое место товарищеским отношениям: Now his marriage began to assume the same (his parents’) comaraderie and cooperation [там же, p. 45]. Eго жена и дети для него — «predictable old Beth and the kids at home» [там же, p. 57]. Фаулз рисует отношение Дэвида к браку следующими метафорами: «The trap of marriage when physical has turned to affection» [там же, p. 116], «a pleasant illusion of bachelor freedom» [там же, p. 33]. С одной стороны, ему нравится ощущать холостяцкую свободу, но, с другой стороны, внезапно вспыхнувшая любовь, секс с Дианой может разрушить все, что он так тщательно строил в семье. Ужас, который он испытывает при мысли об этом, заставляет его предать свое чувство. В «Башне из черного дерева» одной из составляющих концепта Englishness является упоминание автором исторических эпох и имен, знание которых определяет английскую ментальность. Так, внутри поместья под французским названием Coetminais оказывается Tudor-house — дом в Тюдорианском стиле (как мы узнаем из примечаний к роману, для Тюдорианского интерьера 45 характерны высокие прямоугольные окна, деревянная обшивка стен, лепные потолки и карнизы). У дома Дэвида встречает Диана, по мнению автора, англичанка с первого взгляда: «...a slim girl of slightly less than medium height...; brown and gold hair and regular features; level-eyed, rather wide eyes... She was unmistakably English» [там же, p. 36]. Она по-викториански серьезна, и читатель должен понимать, что сдержанность и чопорность — характерные черты поведения в эпоху королевы Виктории (XIX век). Диана любит блузки в Эдвардианском стиле — в начале двадцатого века, во время правления Эдуарда VII, были модны блузки с высокими и длинными рукавами, затянутыми у запястья. Ее подруга Энн — поклонница a black Kate Greenaway dress — платья в духе знаменитой английской рисовальщицы иллюстраций к детским книжкам XVIII века. Для понимания образа Бризли очень важен еще один географический и исторический факт — Бризли живет во французской Бретани, в области, куда переселилось кельтское племя бриттов после прихода германцев на Британские острова. Зеленой энергией кельтского леса питается художник, историей и легендами о короле Артуре дышат его картины. Но самой значительной исторической фигурой, с которой сравнивается Бризли, является Робин Гуд — олицетворение для англичан свободолюбия, справедливости и благородства. По свидетельству лингвокультурных словарей, Робин Гуд — полулегендарный герой английских и шотландских баллад, предположительно живший в XII—XIII веках в Шервудском лесу близ города Ноттингема. До встречи с Бризли Дэвид думал о нем как об иностранце (the least bloody English), изгое, потерявшем всякую связь с родиной, ненавидящем все английское. Но мысль Дэвида о том, что последние картины Бризли пропитаны английским духом (the fundamental Englishness of the Coetminais series), усиливается пониманием того, что Бризли такой же свободолюбивый англичанин, как Робин Гуд: «It began to seem almost the essential clue; the wild old outlaw, hiding behind the flamboyant screen of his outrageous behaviour and his cosmopolitan influences, was perhaps as simply and inalienably native as Robin Hood» [там же, p. 101]. Свободолюбие Бризли постоянно ассоциируется автором с лесом и зеленым цветом — ...the final few miles through the forest of Paimpont, one of the largest remnants of the old wooded Brittany, were deliciously right: green and shaded minor roads, with occasional vistas down the narrow rides cut through the endless trees. Things about the old man’s recent and celebrated period fell into place at once [там же, p. 33], ...with the recurrence of the forest motif... [там же, p. 42], ...Henry Breasley in his beloved forest of Paimpont... lights, special perspective qualities of «his» forest... [там же, p. 77], the Celtic green source [там же, p. 95], ...He did not really live at the manoir, but in the forest outside [там же, p. 100]. Для Дэвида же наступает «конец всему зеленому»: «Summer had died, autumn was. His life was of one year only; an end now to all green growth» [там же, p. 127], когда он уезжает из Котмине, понимая величие Бризли-художника и Бризли-человека и свое поражение как художника и человека. Фаулз использует замечательную метафору green freedom, чтобы описать стиль жизни Генри Бризли и подчеркнуть основную и самую ценную для него черту английского характера — свободолюбие: David and his generation... could only look back, through bars, like caged animals, born in captivity, at the old green 46 freedom. That described exactly the experience of those last two days: the laboratory monkey allowed a glimpse of his lost true self [там же, p. 126]. Итак, по мнению Фаулза, именно green Englishness Генри Бризли является истинной, в то время как Englishness Дэвида Вильямса, «порядочного» человека, живущего по правилам «здравого смысла», подчиняясь установившимся общественным нормам, но не способного ни свободно проявлять свои чувства, ни свободно выражать себя в своем творчестве, характеризуется автором как nonfreedom. Мы совершенно согласны с высказыванием Рональда Бинса о том, что посредством своих героев Фаулз демонстрирует свое неприятие английcкого конформизма во второй половине ХХ века: «...Fowles permits his works to function as parables of human character which he regards as of immediate relevance to contemporary English social realities. English society becomes a mythic battleground for Fowles in which solitary individuals engage in a conflict for moral and imaginative survival against “the great and universal storage” of social conformity» [6]. Список литературы 1. Великобритания: Лингвострановедческий словарь / под ред. А. Р. Рум, Л. В. Колесникова и др. М. : Русский язык, 1978. 2. Залевская, А. А. Введение в психолингвистику / А. А. Залевская. М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. 3. Красных, В. В. Цит. по изданию: Тарасова И. А. Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект / И. А. Тарасова. Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2003. 4. Стернин, И. А. Концепты и лакуны / И. А. Стернин, Г. В. Быкова // Языковое сознание: формирование и функционирование. М. : Институт языкознания РАН, 2000. С. 55—67. 5. Тарасова, И. А. Идиостиль Георгия Иванова: когнитивный аспект / И. А. Тарасова. Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 2003. 6. Binns, R. John Fowles: Radical Romancer / R. Binns // Critical Essays on John Fowles by Ellen Pifer. L., 1986. 7. Fowles, J. The Ebony Tower. Eliduc. The Enigma / J. Fowles. M. : Progress Publishers, 1980. 8. Оxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford : Oxford University Press, 2005. С. Е. Шеина Проблема национальной идентичности: ирландское начало в произведениях Дж. Джойса Проблема национальной принадлежности писателя приобретает особую актуальность, когда речь заходит об Ирландии: страна долгое время была частью Британской империи, ирландский язык был насильственно заменен английским, и писатели ирландского происхождения считались английскими авторами. Но ирландская литература не растворилась в английской, она сохранила присущие лишь ей черты, которые и позволяют относить англоязычные произведения к ирландской. Даже если автор почти не касается в своем творчестве «ирландской тематики», некоторые характерные особенности его 47 стиля, которые мы попытаемся выявить, почти безошибочного выдают ирландского писателя. Это объясняется тем, что на мышление любого индивидуума, не зависимо, осознает ли это он, накладывается национальный отпечаток, который внутренне присущ представителям данной нации. Эта направленность мышления заметна представителям другой нации и определяет национальный подход к решению как общих проблем, так и проблем литературного творчества. Подобную особенность мышления принято называть национальной идентичностью, которая рассматривается как философская категория, как категория социального знания, как психологическая категория, как категория интердисциплинарного знания [2]. Данная статья не предполагает углубления в понятийный аппарат этого явления, так как нас интересуют, главным образом, те признаки, по которым мы относим писателя к определенной литературе. Но в связи с происходящими во всем мире процессами глобализации и интеграции современной цивилизации, которые, с одной стороны, ведут к взаимодействию всех сфер жизни общества, а с другой — к протестам отдельных этнических и социальных общностей против интернационализации экономики и духовной сферы, считаем важным определить понятие «ирландская национальная идентичность» в сфере литературы. Национальное своеобразие любой литературы определяется типологически сходными явлениями, которые рассматриваются в свете этнопоэтики. Под этнопоэтикой понимается совокупность религиозных, социально-политических и этнических характеристик, нашедшая отражение в той или иной национально-литературной традиции. Еще в начале XIX века в работе Ж. де Сталь «О литературе, рассматриваемой в связи с общественными установлениями» (1808) были отмечены основные факторы, влияющие на формирование национального своеобразия литературы — религия, политический строй и климат. Дальнейшие исследователи называли сходные факторы, определяющие этнопоэтику. Можно выделить географическую, культурную и историческую составляющие этнопоэтики. «Географический подход» к определению сущности национального близок Л. Н. Гумилеву, считающего естественно-природный фактор важнейшим для формирования этноса: «...Предлагаю этнос считать явлением географическим, всегда связанным с вмещающим ландшафтом, который кормит адаптированный этнос» [1, с. 47]. На культурную составляющую национальной идентичности, как на уровне творческой личности, так и на уровне национального менталитета, обращает внимание А. Б. Удодов в своей работе, посвященной М. Горькому: «Ответ на вопрос, „кто вокруг него”, обозначался для будущего писателя в межличностном диалогическом общении; стремление же осмыслить «где он живет», обращало к понятию народной жизни — в конкретной динамике ее многомирия и символикообобщающих обозначениях, которые придавали аксиосфере культуры онтологический статус на уровне национальной ментальности» [4, с. 107]. Некоторые исследователи рассматривают лингвистический аспект художественного текста, считая, что его строй и грамматические особенности могут служить выражением национальной идентичности. Э. Истхоуп полагал, что для анализа национальной идентичности важно не только «то, что гово48 риться, но и как оно говориться (типичные тропы, изменение тона, использование шуток, концепция истинности)» [5, р. ix]. Ю. О’Брайен в своей монографии приводит пример использования языковых средств для выражения национальной идентичности. Исследователь анализирует монолог капитана Макморриса из исторической хроники Шекспира «Генрих V» и показывает, что «неправильное произношение, повторы, нелогичность», характерные для речи этого ирландца, отражают неанглийскую природу его дискурса [7, с. 2]. В рассуждениях о национальной идентичности часто встречается понятие «уникальность», которая, по нашему мнению, определяется историческим фактором. В процессе исторических перемен развивается национальная идентичность, представляя собой определенную ступень роста национального самосознания. Как пишет А. П. Саруханян, именно на это долгое время делался упор при определении ирландской идентичности. Уникальность понималась «прежде всего, как „чистота”, неподверженность иноземным воздействиям. Предметом особой гордости мог быть не только тот факт, что Ирландия на заре своей истории избежала римского владычества, но и то, что она не испытала „ренессансного космополитизма”» [3, с. 29]. Понимание сущности этнонациональной ментальности ирландцев позволяет говорить об ирландской литературе даже там, где ирландская тема никак не обозначена в произведениях, так как национальность автора определенным образом отражается на его творчестве, несмотря на то, где он живет и на каком языке пишет. Мы выделяем следующие основные черты ирландской национальной поэтики: 1. Социальные мотивы: a) борьба за свободу и смерть. Восемь веков сопротивления английским колонизаторам, которое началось с вторжения англонормандских феодалов на территорию Ирландии в 1169—1671 годах оказали значительное влияние на тематику ирландской литературы; б) эмиграция. Ирландская национальная идентичность несет на себе сильнейший отпечаток ирландской эмиграции. С 1846 по 1851 годы из Ирландии выехали 1,5 миллиона человек. За 1841—1961 годы население Ирландии (в сопоставимых границах) сократилось более чем вдвое (с 6,5 млн до 2,8 млн чел.) в результате эмиграции, обусловленной нищетой трудящихся, обезземеливанием крестьянства. Эмиграция стала постоянной чертой исторического развития Ирландии и нашла отражение в литературных произведениях. 2. Мышление: a) «oстровность», провинциальность мышления, которая объясняется значительной изолированностью Ирландии, ничтожной внешней торговлей, но также и тем, что кругозор жителей был сужен принудительно, историческими обстоятельствами — завоеванием Ирландии Англией. Ирландия — страна, которая долгое время целиком была провинцией. И во многих произведениях действие происходит в «городишках» и «захолустьях», персонажи связаны прозрачностью частной жизни маленьких населенных пунктов, они знают каждого и каждый знает их, общественное мнение определяет поступки. Это Отсюда двунаправленность ирландской прозы: с одной стороны, поиск нового мироощущения, претендующего на абсолютную правоту, с другой — настойчивое стремление сохранить навязанные в прошлом ориентиры; 49 б) парадоксальность мышления. Р. Кирни в предисловии к своей книге «Ирландское мышление. Исследование интеллектуальных традиций» (1985) выводит ирландскую идентичность из особенностей национального мышления, главной из которых он считает способность «охватить диалектическую противоречивость явления, выразить двойственное представление о нем. Эту особенность Кирни считает не столько генетическим свойством национального склада ума, сколько культурным феноменом, вызванным к жизни ходом истории, своего рода реакцией на отсутствие непрерывности национального развития, способствующей ее преодолению» [3, с. 28]. 3. Религия. Ирландия приняла христианство сравнительно рано — в V веке. Затем с конца XVII века и до середины XVIII века под предлогом борьбы с католическими заговорами английские власти издали целую серию карательных законов, лишавших ирландских католиков (подавляющее большинство населения Ирландии) политических и, в значительной мере, гражданских прав, устанавливавших систему грубой национальной и религиозной дискриминаций. Следствием этого можно выделить как минимум два момента: сохраняющееся до наших дней двоеверие, тяга к язычеству и настолько глубокое проникновение христианской этики, морали, образов в ткань ирландской культуры, что все ирландцы, по крайней мере, все ирландские писатели имеют свое отношение к ней — отвергая ее или воспевая, они все равно остаются в лоне ирландского христианского мировоззрения. 4. Мифологизм. Национальные черты ирландской литературы закладывались в эпосе. В фольклоре проявилась богатейшая фантазия, юмор и красноречие. В мифологии Ирландии, начиная с самых истоков, следует также искать объяснение такой национальной черте, как воинственность (в определенные моменты переходящая в героизм). Для нас мифы ценны прежде всего своей связью и своим влиянием на более позднюю литературу. Мифопоэтическое пространство явилось действенным методом переосмысления истории и человеческого существования. 5. Географический фактор. Пространственные представления являются основным отличительным этнографически отмеченным признаком художественного текста. Ландшафт всегда подсказывает, где происходит действие. Неотъемлемой частью описания Ирландии являются море, зеленые луга и холмы. Другой неотделимой составляющей ирландского ландшафта можно считать нищету и неопрятность: навозные кучи, торфяные ямы, болота, заросшие чертополохом огороды, картофельные поля. 6. Язык. Английский язык в Ирландии был свободен от семантических условностей и традиций употребления. Это позволило англо-ирландским писателям достигнуть тех вершин писательского мастерства, которые доступны лишь пишущим на чужом языке. Специфика творческого гения ирландцев нередко воплощается и в разнообразных синтетических литературных формах, сочетающих в себе элементы поэзии, риторики и драматического искусства. Литературные произведения Ирландии отличают поэтичность и музыкальность. Тенденция к инкорпорированию стихов в прозу восходит к древности — ирландским сагам. В англо-ирландской литературе эта тенденция была начата Т. Муром, который писал свои стихи как тексты к музыке, исполняемой на арфе. Музыкальные ритмы в поэзии развивал С. Фергусон и 50 целое поколение ирландских поэтов вплоть до раннего Йейтса и его последователей. Не последнюю роль сыграл и тот факт, что ирландская литература вступила в свою новую эпоху в период господства романтического направления, для которого характерно смешение литературных жанров и родов. Становление Джойса-писателя пришлось на период расцвета Ирландского литературного возрождения, движения, которое будучи очень важным по сути, оказалось весьма слабым по своей форме. И Джойс отчетливо видел его недостатки: запоздалый романтизм, уже сменившийся в европейской литературе реализмом; искусственные попытки оживить гэльский язык; поэзию, основанную лишь на средневековом мистицизме и древнеирландских сказаниях; драму, сводившуюся к неоправданному возвеличиванию прошлого и игнорировавшую актуальные проблемы настоящего. Понимая, что ему с его критическим видением происходящего не найдется места в кругу ирландских литераторов, а иллюзии возрождения прошлого, которыми они охвачены, сведут на нет его усилия по развитию и приведение в соответствие литературному уровню Европы литературы ирландской, Джойс покидает страну, чтобы, освободившись от ее суеверий, объективно о ней писать. Так, зависимость старшего поколения ирландских писателей от ирландской традиции стала отправной точкой в поиске Джойсом художественной свободы и новых литературных форм. Но достигнув высот писательского мастерства, Джойс смог сохранить свою ирландскость, которая присутствует во всех его произведениях. Рассмотрим последовательно как отражены все названные выше основные черты ирландской поэтики в произведениях Джойса. Хотя политика всегда пользовалась нелюбовью Джойса, политическое освобождение страны не было для него пустым звуком. Никогда не выражая напрямую в каких-либо призывах или речах своей позиции, Джойс со свифтовским сарказмом и горечью разворачивает в рассказе «После гонок» («Дублинцы») тему неполноценности Ирландии: «The cars came scudding in towards Dublin, running evenly like pellets in the groove of the Naas Road. At the crest of the hill at Inchicore sightseers had gathered in clumps to watch the cars careering homeward, and through this channel of poverty and inaction the Continent sped its wealth and industry. Now and again the clumps of people raised the cheer of the gratefully oppressed». Ядовитой иронией пропитан весь рассказ «Мать», в котором высмеивается ажиотаж, поднятый вокруг Ирландского Возрождения. Джойс описывает тех псевдодеятелей ирландской культуры, которым безразличен существующий режим, для них важно лишь собственное благосостояние. Мнимый ирландский патриотизм — тема еще одного рассказа из того же цикла. «День плюща в комнате заседаний» — это мастерски раскрытая не только на сюжетном, но и на стилистическом уровне, через пародию и игру в «убожество» языка, деградация гражданского и национального сознания персонажей. Имя Парнелла, которому посвящает убогое стихотворение один из героев рассказа, стало для Джойса не только символом национальной идеи, но и символом предательства: ‘Twas Irish humor, wet or dry Flung quicklime into Parnell’s eye. («Gas from a Burner») 51 Мотив эмиграции находит свое отражение в рассказе «Эвелин». Девушка, в начале рассказа понимающая необходимость своего отъезда из страны и признающая свое право на счастье, после сомнений остается на родине. Но это не сознательный выбор человека, идущего на жертву ради семьи, а пассивность, воспитанная колониализмом, стагнация порабощенной нации: «She set her white face to him, passive, like a helpless animal. Her eyes gave him no sign of love or farewell or recognition». Парализованная воля, неспособность пойти против общественного мнения — это характеристики присущей многим персонажам «Дублинцев» провинциальности мышления. Их желания убоги — Джимми из рассказа «После гонок» радуется, что его видят в компании французов, а прачка Мария из рассказа «Земля» сожалеет о попусту потраченных двух шиллингах и четырех пенсах. Узость мысли пародируется Джойсом и в «Улиссе» как в речи второстепенных персонажей, так в потоке сознания символа «вечной женственности» Молли Блум. В ее монологе комментаторы отмечают многочисленные цитаты — из популярных песенок, например, «what are we waiting for O my heart kiss me straight on the brow» (английская любовная песня «Прощание»), «a charming girl I love» (песня из «Лилии Килларни»), и даже, как выяснили ученые, из эпитафии весьма физиологического содержания неизвестного автора «wherever you be let your wind go free». Строки из песни «В старом Мадриде» перемежаются с воспоминаниями Молли о ее путешествии на ночном пароходе из Тарифы: «…will I ever go back there again all new faces two glancing eyes a lattice hid Ill sing that for him theyre my eyes if hes anything of a poet two eyes as darkly bright as loves own star arent those beautiful words as loves young star itll be a change». В сумбуре мыслей и воспоминаний популярные песенные строки выступают как неотъемлемая часть характеристики певицы Молли Блум. Сложные отношения писателя с религией трудно раскрыть в нескольких предложениях, поскольку они трансформировались на протяжении всей его жизни и по-разному раскрывались в его произведениях. Общеизвестен тот факт биографии писателя, что Джойс отказался встать на колени по просьбе умирающей матери, и это нашло отражение на страницах «Улисса» (refused her request that he attend communion and confession). Ирландский католицизм Джойс считает одной из главных причин духовного паралича. Отец Флинн из рассказа «Сестры» — неподвижный, с загадочнопустой улыбкой на искаженном болезнью лице — воспринимается как символ ирландской церкви. Более того, ирландская католическая церковь имеет непосредственное отношение к гибели Парнелла, которого она предала анафеме за связь с замужней женщиной и тем самым спровоцировала отказ от него ирландцев. Из рассуждений Стивена также выходит, что Католическая церковь предала саму идею Святой Семьи, отодвинув Иосифа на второй план номинального отца Бога. Церковь вкупе с Государством предали Чистоту, к которой как художник стремился Стивен и в его лице Джойс. Джойс прекрасно знал ирландскую историю, ее культурную традицию, и чувство собственной принадлежности к этой традиции было в нем глубоко и живо: «In all the places I have been to, Rome, Zurich, Trieste, I have taken [the Book of Kells] about with me, and have pored over its workmanship for hours. It is the most purely Irish thing we have, and some of the big initial letters which swing 52 right across a page have the essential quality of a chapter of Ulysses. Indeed, you can compare much of my work to the intricate illuminations» [6, с. 545]. Мифологизм в произведениях Джойса наметился уже в первом его поэтическом сборнике «Камерная музыка». Музыкальность, песенность, любовная тематика, изысканная простота языка напоминают о кельтских бардах. Из ирландской мифологии идет представление о враждебности окружающего океана, именно кельтский фольклор — один из истоков того, что в стихах Джойса образ моря — это символ окружающего мира. Ирландская баллада о Финне легла в основу его знаменитых «Поминок по Финнегану». Составной частью в мифопоэтическую систему Джойса входит намеченная также в «Камерной музыке» тема потери, ставшая ключевой для сборника «Стихотворения по пенни за штуку». Утрата — это гибель чего-то, а в мифологическом мышлении смерть (жертва) есть обязательное условие обновления, начала новой жизни. Главным принципом поэтики Джойса стала мифологизация обыденного существования. Она позволяет выявить неизменные, постоянно действующие законы, равно приложимые как к повседневным, так и к вселенским масштабам. Путешествие Стивена Дедала (а также его антипода Леопольда Блума) по Дублину 16 июня 1904 года становится трагикомическим эпосом, воплощением вселенского фарса существования. Хаос представлен как норма жизни, лишенной нравственного стержня. Художественно «обуздать» хаос позволяет именно структура мифа, трансвестирующая «Одиссею» Гомера с ее основным мотивом странствия и возвращения домой. Роман выполняет функцию аналога самой жизни, одновременно являясь ее обобщенным символом. Дублин в «Улиссе» по своим топографическим параметрам полностью соответствует карте начала ХХ века. Во время работы над романом Джойс настолько тщательно изучил и перенес в книгу схемы города, что впечатление от происходящего становится реальным. Возникает ощущение вырванного, вырезанного отрывка из жизни Дублина времен Джойса. Самым ярким эпизодом, показывающим Дублин с данной точки зрения, является десятый — «Блуждающие скалы», содержащий в себе город в полном его объеме: «A onelegged sailor crutched himself round MacConnell’s corner, skirting Rabaiotti’s icecream car, and jerked himself up Eccles street». Подлинные названия улиц, лавки, пабы, маршруты трамваев — все это создает впечатление документального фильма. Дублин стал главным героем творчества Джойса, который до конца дней оставался его бардом и летописцем. Джойс летописал не только город, но диалекты и вариации английского языка, на котором говорили в Ирландии. Английский язык в Ирландии и, в частности, английский Джойса заслуживают совершенно отдельного разговора. Попробуем коротко объяснить сложившуюся в Ирландии языковую ситуацию. Утратив родной гэльский язык, ирландцы лишились всей устоявшейся системы образов окружающего мира, условного кода, в котором была заключена жизнь. Утрата родного языка — означает утрату привычной реальности, равновесия и чувства собственного достоинства. Эта пустота в XIX веке породила множество пресных стихотворений, но из этой же выключенности вышли произведения Флэна О’Брайэна, Джеймса Джойса и Сэмюэля Беккета. Создавшийся культурный вакуум заполнялся специфически ирландскими 53 вариациями английского, с особым синтаксисом, грамматикой и лексикой, в которых нация пыталась примирить собственные традиции с чужой репрезентативной моделью. Джойс использовал сложную лингвистическую ситуацию для достижения своих целей. В предпоследней строке «Портрета художника в юности» Джойс от лица Стивена так определяет свою задачу как писателя: «to forge in the smithy of my soul the uncreated conscience of my race». Подвергнув себя добровольному изгнанничеству, Джойс смог объективно смотреть на свою страну и своих соотечественников. Он хорошо знал и понимал ирландский характер, жизнь и быт, постоянно и остро ощущая свою национальную идентичность, свою ирландскость. Подводя итоги рассмотрению вопроса об ирландской национальной литературной традиции необходимо отметить, что национальные традиции литературы не поддаются математической калькуляции, речь идет лишь об общих тенденциях, общих чертах творчества, благодаря которым можно причислить писателя к той или иной этнокультуре. Список литературы 1. Гумилев, Л. Н. Конец и вновь начало / Л. Н. Гумилев. М., 1990. C. 47. 2. Малахов, В. С. Неудобства с идентичностью / В. С. Малахов // Вопросы философии. 1998. № 2. C. 34—45. 3. Саруханян, А. П. «Объятия судьбы»: прошлое и настоящее ирландской литературы / А. П. Саруханян. М., 1994. С. 27—29. 4. Удодов, А. Б. Феномен М. Горького как эстетическая реальность: генезис и функционирование (1880-е начало 1900-х годов) / А. Б. Удодов. Воронеж, 1999. С. 107. 5. Easthope, A. Englishness and National Culture / A. Easthope. N.Y. : Routledge, 1999. P. ix. 6. Joyce, J. The Letters of James Joyce. Vol. 2. Ed. by Richard Ellman / J. Joyce. N. Y. : Viking Press, 1966. P. 545. 7. O’Brien, E. The Question of Irish Identity in the Writing of William Butler Yeats and James Joyce / E. O’Brien. Lewinston-Queenston-Lampeter : Ewin Mellen Press, 1998. P. 2. Д. В. Минахин Категория любви как элемент массовой культуры в поэзии модернизма (литературоведческий сравнительный анализ) Характерными особенностями эмоциональной атмосферы модернизма являются его интертекстуальная «текучесть» и юмор, как всепроникающий и обязательный элемент интеллектуальной формы существования. Учитывая то, что людям свойственно ругать все, с чем связана их жизнь (среда обитания, страна, правительство и т. д.), реальность оказывается осмеянной ее же собственными составляющими. Человек отвергает действительность, чем выказывает к ней неуважение, а значит, неуважение к самому себе; низводит себя до нуля или, иначе говоря, выходит на новый уровень самовосприятия. Срабатывает защитная реакция массового сознания: текучесть мира необходимо остановить при помощи элементарной перестройки. Люди сами не зна54 ют, что выйдет из этого, но готовы снова и снова выстраивать новую непредсказуемую реальность собственного претенциозного сознания, делая все более иллюзорным реальную действительность. Происходит своеобразная виртуализация пространства и самого человека в нем [1, с. 62]. Любовь стремится к замещению естественных природных функций на условно-естественные: упрощение и механизация отношений между людьми ведет к обезличиванию такой гуманистической персонификации, как Любовь, после чего она переходит в новое для себя состояние Нелюбви (Ахматова развивает эту тему в своих поэтических циклах). Шаблонность массового человека накладывает отпечаток на всю цивилизацию, которая сама начинает расцениваться как нарочито искусственная. На этом фоне взаимозаменяемость людей выглядит как последний этап упадка. Отрицается специфика и индивидуальность каждой личности; люди больше не расцениваются как микрокосмос. Метафизические приоритеты мужского и женского начала деградируют: женщина все больше низводится до объекта сексуальных интересов, мужчина — ассоциируется с насильственным сознанием и элементарными силовыми функциями [1, с. 66]. Как таковой лирический герой Одена размыт и в большинстве случаев деперсонализирован. Можно сказать, что он носит черты массифицированной личности, которая в свою очередь является продуктом «сложившегося социально-политического и культурно-психологического контекста господствующей культуры» [1, с. 69]. Элементы массовой культуры пронизывают общественное сознание и служат своеобразным катализатором на фоне исторических и культурологических реформ. Использование нетипичных для массовой культуры понятий модернизма (или способов осмысления действительности) приводит к тому, что вырабатываются новые стереотипы авторского поведения. Все чаще писатели — представители литературы широкого потребления — обращаются к художественным приемам, которые заимствованы из модернистской литературы. Осмысление бытия, градация ценностей, рамки приличий — все это принимает новые психологический и философский оттенки за счет видоизменения стандартов мышления. На фоне этого следует рассмотреть экзистенциализм как категорию модернистского мышления. Обычно экзистенциализм принято делить на религиозный и атеистический. Однако неясной остается та грань осмысления жизни человеком, где в большей степени уделялся бы вопрос месту человека «вне» Бога, а именно — не обозначена своеобразная экзистенциальная «материалистическая» ветвь течения в модернизме мировой литературы. Прежде всего специфика экзистенциализма заключается в особом видении мира. Однако всегда преобладает «своя», частная, точка зрения в этом видении. Вопрос ставится не только в плане осмысления действительности, переосмысленной и преподнесенной тем или иным автором с точки видения через метафизическую призму. Внутри одного литературно-философского течения происходит особое дробление на своеобразные абстракции, которые можно условно обозначить как бытийные (решение извечных вопросов человеческого существования посредством естественного/земного общения) и идеалистические (решение проблемы через выведение той или иной контекстуальной 55 персонификации). Таким образом, намечается некое «срединное поле», третья плоскость экзистенциального мировосприятия. Специфическими особенностями модернизма были отвержение традиционных типов повествования и провозглашение техники потока сознания [2, с. 284]. Так или иначе новое видение мира и решение художественных задач путем ломки стереотипов обусловили претенциозность художественного образа к мифу и поставили его в зависимость от оригинальной поэтической эпотажности. Возникновение модернистского течения можно расценивать как реакцию человеческого сознания на трансформацию глобального мышления в результате нарождения ХХ века как «века тревоги» [5, с. 12]. Ощущения ломки видения реальности пронизывали поэтическое сознание на мировом уровне. Для сравнительного анализа можно взять на рассмотрение такие поэтические величины модернизма, как Анна Ахматова и Уистен Хью Оден. Дифференцируя направление любовной лирики в их творчестве, следует отметить соответствия в пределах выше обозначенной проблемы: изменение взгляда на мир через оригинальное преломление экзистенциального осмысления в модернизме и специфику сочетаемости бытийного и идеалистического дроблений, выведенных в категорию абстрактной персонификации как локационной точки осмысления действительности. Ранний период творчества Ахматовой захватывает немногим больше десяти лет, но при этом следует отметить, что наследие поэта должно восприниматься как единое целое, обладающее сквозными эстетическими измерениями [3, с. 22]. Лирическое «Я» Ахматовой — обозначение авторской индивидуальности, выраженное в форме откровения. Заострение внимания на любовном аспекте в поэтическом наследии есть не что иное, как попытка отразить специфику женской природы в целом. В стихах прослеживается невидимый поединок между мужчиной и женщиной, которые объединены особой персонификацией художественного образа Любви, обозначенного у Ахматовой как «Нелюбовь» [3, с. 25]. Суть противостояния сводится к диалогическому парадоксу заданных противоположностей: поиск гармонии в любовном единении мужчины и женщины наталкивается на поэтически-обусловленное «нечто», превращается в поиск взаимного самоуничтожения. Категория «Нелюбви» являет собой определенную среду обитания лирического героя Ахматовой. Попытка отобразить в поэзии сложность отношений между мужчиной и женщиной сводится к элементарному авторскому алгоритму, внушаемому на подсознательном уровне. Женщина – сфера обитания любви + регенерация. Мужчина – сфера обитания битвы + уничтожение. Лирический герой – сфера обитания «нелюбви» + синтез. Отношения между автором и лирическим героем дифференцированы и спроецированы в плоскость женского таинства и загадочности. Ахматова меняет полюсность отношений между «нелюбовниками», т. е. пассивность и замкнутость, выраженные в женском начале, приобретают форму агрессии и силы, более свойственные началу мужскому. Главная цель персонификации 56 образа Любви — исказить реальность обозначенной абстрактной категории и, дериализуя его, показать в новом качестве. Приблизительно идентичные задачи ставил перед собой английский поэт У. Х. Оден. Художественный образ Любви занимает одно из самых главных мест в его творчестве. Оден говорил: «На свете есть только две серьезные вещи — это любовь к Богу и любовь к ближнему» [4, с. 76]. We must lose our loves, On each beast and bird that moves Turn an envious look [6]. Чувство долга лирического героя перед обществом, которое навязывает свои нормы и догмы, примеряет на всех одинаковые платья фальшивой добродетели, обезличивает каждого, кто склоняется перед стереотипами и объявляет войну любому, кто действует всегда не так как надо — всегда ложное чувство, более необходимое для выживания, чем для удобства мировосприятия. Обретение частной любви сопровождается у Одена потерей покровительствующих личных и социальных богов. Происходит модуляция особого состояния, которое очень схоже с категорией «нелюбви» у Ахматовой. Специфика этого состояния заключена в том, что оно питает только тех, кто предпринимает попытку ввести в общую игру жизни свои правила. Это сумеречное состояние губительно для всякого, кто мыслит обычно и старается жить по общеустановленным правилам. Отсутствие субъективизации у Одена и монологичная форма повествования есть художественный прием выражения спора с самим собой. Здесь наблюдается проявление особой формы отчуждения, когда герой отчуждается от себя дважды, одновременно и от своего внутреннего мира (психологическое отчуждение), и от общества (социальное отчуждение). Вторичное отчуждение чаще всего происходит через выведение в качестве немого свидетеля или оппонента, будь то человек, животное или персонификация (аналогичный прием экзистенциального выражения повсеместно встречается в поэзии позднего С. Есенина). Гармоничная внутренняя сочетаемость поэтического мира и ее соотнесение с дисгармоничной реальностью находят свое выражение в модулировании лирического героя как рыцаря Любви, странствующего между этими мирами. Когда страдают люди — это непростительная издевка фатума. У поэта происходит деление на тех, кто достоин Любви как высшего блага (поэты, мечтатели) и тех, кто погрязает в повседневной рутине, пожирающей Любовь (заурядные люди). Вторая категория приобретает черты искусственности. У машин не должно быть эмоций, а у Судьбы-конструктора нет чувства гордости за своих созданий. Когда произошла подмена, то изменились и требования среды: возникает необходимость в конструировании новой модели Любви. В поэтической обусловленности Одена порой довольно сложно разобраться, где человеческое начало, а где механическое, так как оба они наделяются духом Любви. Таким образом, происходит отчуждение от того, что отличает человека от животного — осознанной и преданной Любви. Когда появляется новая мо57 дель, то это сопоставимо с тем, как на свете появляется новая жизнь. Хотя можно различать черное и белое — для развращенного обыкновенностью и лишенного возможности героических открытий обывателя категории могут легко взаимозаменяться или перемешиваться, образуя безликий серый цвет общественности. Обезличенные таким образом люди могут видеть только по прямым линиям: они не способны лицемерить или обманывать, они идеалисты. Если бы люди могли переступить через себя, то мир был бы идеален. Оден придает негативным качествам положительные признаки. Список литературы 1. Акопян, К. З. Массовая культура : учеб. пособие / К. З. Акопян, А. В. Захаров и др. М. : Альфа ; ИНФРА, 2004. 2. Андреев, Л. Г. Зарубежная литература ХХ века : учеб. для вузов / Л. Г. Андреев, А. В. Карельский и др. ; под. ред. Л. Г. Андреева. М. : Высш. шк., 2003. 3. Гурвич, И. Любовная лирика Ахматовой / И. Гурвич // Вопросы литературы. 1997. № 5. С. 22 — 38. 4. Оден, У. Х. Застольные беседы с Аланом Ансеном. Пер. с англ. М. Дадяна и Г. Шульпякова / У. Х. Оден ; предисл. Г. Шульпякова. М. : Независимая газета, 2003. 5. Шульпяков, Г. Предисловие / Г. Шульпяков // Застольные беседы с Аланом Ансеном. Пер. с англ. М. Дадяна и Г. Шульпякова / У. Х. Оден. М. : Независимая газета, 2003. 6. Электронная библиотека американской литературы [Электронный ресурс]: база данных содержит тексты и биографический материал. [2002] — http://www. bostonphoenix.com/archive/1in10/99/06/RICH.htm Ж. Н. Маслова Гендерные и архетипические параллели в литературе. К вопросу о женской авторской позиции (на материале романа Л. Петрушевской «Время ночь») Культура и искусство являются отражением сознания человека как индивидуального, так и общественного. Это та область, где опосредованно, скрыто или явно выражены страхи и надежды личные и коллективные. Культура часто не имеет прямой связи с действительной жизнью и существует как нечто данное извне, становится развлечением или спекуляцией. Ситуация с литературой, существующей как бы заочно к жизни, складывается похожая. Проблема в том, что наше гуманитарное знание чудовищно отстает от технологического и развивается гораздо медленнее, так как по сути своей гораздо инертнее. Инертность его поддерживается часто самими академическими кругами. В связи с чем возникает ситуация, что данный уровень развития общества не обеспечен релевантным набором идей и духовного знания. Бесценна в этом плане мысль о том, что «за равнодушие к культуре общество прежде всего гражданскими свободами расплачивается. Сужение культурного кругозора — мать сужения кругозора политического. …Когда потом начинают рубить головы — это даже логично» [1, с. 52]. Л. Петрушевская остается одним из признанных авторов современной литературы. С одной стороны, ее творчество укладывается в понятие «женской 58 литературы» и имеет отношение к гендерному вопросу, с другой стороны, истоки ее творчества коренятся в советской действительности, где женщина была дискриминирована вдвойне. Внимание к быту и повседневности определяет существование в ее творчестве не только героини как центральной фигуры этого быта, но и проблемы «маленького человека». Проблема «маленького человека» в отечественной литературе существовала и раньше, в литературе XIX века, например. Однако после Советской империи и культа коллектива «маленький, сугубо отдельный человек к литературе прилип. Естественно, он взыскует собственной правды и оправдания своей не-великой жизни» [4, с. 48]. Проблема маленького человека решается в обществе, не способном в действительности породить человека большого, существующего как исключение. Это только подтверждает отсутствие в обществе соответствующих механизмов. Творчество Петрушевской связано с наследием Советской эпохи, которая не ушла в давность, так как живы и здравствуют поколения, воспитанные в этой культуре и впитавшие некое культурное знание, систему архетипов. Проблема маленького человека, видимо, сейчас не может быть решена в масштабе европейской культуры и, может быть, цивилизации. Всякое яркое индивидуальное развитие — прорыв из общей массы, исключение, тогда как общество стремится стандартизировать человека. «Время ночь» — роман не только о маленьких людях, но и о маленькой женщине советского образца. Героиня Петрушевской — продукт эпохи. Она унижена насколько это возможно, потому что социальный успех женщины оценивается часто востребованностью у мужчин. Героиня неинтересна для мужчин, она — объективированный продукт и в полной мере подчинена патриархальному обществу, она не имеет внутренней силы. Но за рамками обыденного понимания становится символом эпохи и свидетельством разрушительных процессов. Женское начало является мощным организующим началом в обществе. «Именно внутренняя установка женщины во всех ипостасях женственного (мать, невеста, жена, сестра) определяет привилегированный отбор мужских добродетелей. Что именно будет выбрано в мужчине — героическое начало… или «одомашненность»… самим мужчинам решить не дано… Параметр совокупного эротического выбора и последующего экзистенциального согласования… принципиально важен для поддержания определенного (скажем, имперского) уровня духовной мобилизованности» [3, с. 16—17]. Социальный вакуум героинь Петрушевской высасывает из них женское начало, и категория любви становится категорией отрицательной. Женщина Петрушевской уже не вдохновляет на подвиги и, переступая через инстинкт самосохранения, становится на самоуничтожение. То, что она отвергает свою глубинную природу, прослеживается на уровне архетипов. Это тем более значимо, так как архетип сложно поддается изменениям и влияет на дальнейшее развитие истории. Анна Андриановна — старуха. «Старуха — один из самых широко распространенных в мире олицетворений архетипа… Та, Что Знает… Ее обитель — в древней и неискоренимой дикой Самости… Эта старуха стоит между рациональным миром и миром мифа» [5, с. 38—39]. Героиня не сохранила сакраль59 ное знание, не сумела передать его дочери, она становится не авторитетом, а лишь звеном в цепи неудавшихся жизней. Ее интуитивная мудрость сведена до нуля. Разобщенность связей «дочки-матери» говорит о нарушении связей между поколениями. Анна Андриановна в целом соответствует архетипу «слишком доброй матери», стремится чрезмерно опекать дочь советами, но добивается только ухудшения отношений. Три поколения женщин, представленные в романе, обречены повторить судьбу друг друга. Они не в состоянии прервать эту цикличность, потому что по сути своей они — неудачницы, предавшие женскую природу. И доля вины лежит на них самих. Героини не проходят обряд инициации и руководствуются бытовыми соображениями при решении жизненно важных задач. Анна Андриановна позволяет отвезти мать в дом для престарелых и совершает экзистенциальную ошибку. Мать героини — живой труп и ведет бессознательную жизнь растения. Ее как бы преждевременно хоронят, стараясь не допустить проникновения смерти на обжитую территорию. Однако в тексте не следует разделять архетипы Жизни и Смерти и противопоставлять их. Смерть должна порождать жизнь и наоборот. Любые человеческие отношения не могут постоянно находиться на пике. Они могут стать запутанными, и с самого начала начинают скатываться в смерть. Но за угасанием следует возрождение. В отношениях важно видеть неприглядную сторону любви. Эта идея воплощается в архетипе «Женщины-Скелета». Мать героини Петрушевской — архетип «Женщины-Скелета». Освободить Скелет — пожертвовать жизненным пространством ради матери — не удается. Это испытание не пройдено. Поэтому Анне Андриановне остается только ждать своего часа и повторить судьбу матери. Нежелание и неспособность понять природу Жизни-СмертиЖизни реализуется в борьбе родственников за квартиру. Важным моментом в создании героини и постижении ее природы служит мотив домашнего хозяйства. «Когда речь идет о развитии женщины, все эти мотивы домашней работы — стряпни, стирки, уборки — подразумевают вещи за пределами обыденности. Все эти метафоры предлагают новые способы обдумывания, измерения, кормления, питания, исправления, очищения, упорядочивания жизни души» [5, с. 102]. В романе эти сцены, в большинстве, подчеркнуто натуралистичные, отталкивающие, бытовые: «А на скатерти у нас ничего не лежит, полиэтиленовая скатерть, ни тебе крошки, хорошо, ни стекла, ни тебе утюга»; «Андрей ел мою селедку, мою картошку, мой черный хлеб, пил мой чай, придя из колонии, опять, как раньше, ел мой мозг и пил мою кровь, весь слепленный из моей пищи, но желтый, грязный, смертельно усталый»; «Сидим за столом в огромной столовой, я пью чай с карамелью и дважды покусилась на большие куски хлеба, им здесь хлеб режут ломтями от круглых хлебов, больше всего люблю неудержимо, неудержимо люблю хлеб»; «Капает из носу, у меня в портфеле с рукописями чистая откипяченная тряпочка, но как ее достать, деликатно сморкаюсь в бумажку, у них тут вместо салфеток нарезаны бумажки». Жалкие попытки героинь приукрасить себя и свой быт заканчиваются неудачей. Обусловленность ограничения/отчуждения от своей собственной природы есть причина социальных рамок жизненного поля героев. Они замкнуты в 60 категории субъективно-выраженного психологического времени (внешний мир и мир внутренний отражаются от «третьего» пункта — внешняя среда). Героиня Петрушевской — продукт социалистического общества, который складывается из выполнения домашних обязанностей и функции деторождения, выполняемой на уровне инстинкта. Эта женщина — неудачница по определению, живущая в отсутствии внешней и внутренней гармонии, в системе запретов, лишений и предписаний. Статус поэтессы у главной героини свидетельствует о том, что духовная жизнь женщины становится объектом презрения, угроз даже со стороны близких людей, которые по определению должны служить поддержкой. Потеря женщиной собственной самости и творческих сил становится основой ее агрессии, желания получить хотя бы какие-то излишества, она становится согласной на любые, даже опасные для жизни, предложения. Вереница таких дезориентированных, загнанных в ловушку женщин представлена у Петрушевской во множестве. Если статус женственности в обществе влияет на характер мужественности и, следовательно, на тип героя-мужчины, то закрепление в национальной культуре данного образа униженной женщины и его воспроизводство могут быть разрушительны для общества в целом. Впоследствии на этот тип женщины наложились такие качества, как самостоятельность и стремление к независимости. Изучение эволюции героинь в современной литературе, написанной женщинами, может быть продуктивным путем для понимания многих современных реалий. Очевидно, что к внешним условиям существования героини может быть прибавлен культ денег, и от выражения крайней нищеты фокус перемещается на «светских львиц». Однако перемещение из бедности в богатство не становится залогом духовного возрождения и восстановления женской самости и силы, истинно женского начала. Можно предположить, что героини Петрушевской — женщины, неспособные взять на себя духовную миссию — становятся показателем невозможности преодоления кризиса современных человеческих отношений. Вышесказанное является введением в проблему и попыткой обозначить проблему женской субъективности в русской постмодернистской литературе. Роман Петрушевской — пример гендерного письма (существование женских стратегий письма в феминистской критике — факт общепризнанный). Художественная проза Петрушевской нуждается в глубоком функциональном анализе. Особенно интересным представляется исследование синтаксического строя с гендерной точки зрения, так как синтаксис является важным уровнем организации речи и структурирует мысль. Кроме того, синтаксический уровень — это один из уровней организации ритмической структуры текста. Продуктивным в области исследования стратегий женского письма будет сопоставительное исследование синтаксического уровня похожих по методу и жанру произведений отечественных и зарубежных авторов-женщин, а также выработка принципов подобного анализа. Список литературы 1. Волков, С. Диалоги с Иосифом Бродским / С. Волков. М. : Независимая газета, 1998. 61 2. Петрушевская, Л. Дом девушек [Электронный ресурс] / Л. С. Петрушевская. М. : Вагриус, 1999. 46 с. Режим доступа : http://lib.aldebaran/ru 3. Секацкий, А. К. Духовные и чувственные измерения имперской идеи / А. К. Секацкий // Россия и современный мир: проблемы политического развития : в 2 ч. Ч. 1 : матер. II Междунар. межвуз. науч. конф. / под ред. Д. В. Васильева, Г. П. Иващук. М. : Институт бизнеса и политики, 2006. 4. Славникова, О. Петрушевская и пустота / О. Славникова // Вопросы литературы. № 2. 2000. 5. Эстесс, К. П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях / К. П. Эстесс. М. : Издательский дом «София», 2006. Лингвокультурология Л. В. Татару, С. А. Бозрикова Анекдот как форма экспликации лингвокультурных доминант английского менталитета Лингвокультурный подход к осмыслению ЯКМ предполагает рассмотрение национального менталитета и национального характера. Соглашаясь с А. Вежбицкой, мы считаем возможным выводить сведения о национальном характере из языка, но в отличие от нее мы будем делать это не с помощью системного анализа лексики и грамматики, а на основе выявления особенностей дискурсивных характеристик анекдота. Понятие менталитета неоднородно по объему и содержанию, поскольку его изучением занимаются различные науки (культурология, лингвокультурология, философия, национальная психология, психолингвистика и другие), каждая определяет его по-своему. В культурологии менталитет определяется как мыслительные схемы, образные комплексы, выражающие культурные трафареты (привычки, пристрастия, коллективные эмоциональные шаблоны, жизненные установки, выбор святыни и др.), сочетающие в себе развитые формы сознания с полуосознанными культурными шифрами [2]. По мнению лингвокультурологов, менталитет представляет собой некую глубинную структуру сознания, выражающую социокультурные особенности нации, которые, в свою очередь, отражаются и формируются национальным языком; это склад ума, склад души народа, представляющий собой психолингво-интеллект лингвокультурной общности [5]. Как философское понятие менталитет — это образ мышления, общая духовная настроенность человека, группы; основное метафизическое значение души как первоисточника ценностей и истины [8]. В национальной психологии под менталитетом понимается самооценка этносом стереотипов его поведения или оценка его представителями других этносов [3]. В психолингвистике термин «менталитет» означает восприятие мира носителями данного языка, определяющееся языковой картиной мира, которая 62 складывается из языковых реалий (лексики, грамматики), несущих культурную оценку [4] Таким образом, менталитет — это уникальное субъективное представление действительности человеком как частью нации, отражающее культуру и традиции собственного народа, самооценку и оценку другими этносами, особенности национального языка, полуосознанно проявляющееся во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и в юморе. Для того чтобы понять, как менталитет отражается в национальном юморе, необходимо рассматривать юмор как лингвокультурный концепт. Лингвокультурный концепт — это условная ментальная единица, направленная на комплексное изучение языка, сознания, культуры [10]. Соотношение лингвокультурного концепта с тремя вышеуказанными сферами может быть сформулировано следующим образом: 1) сознание — область пребывания концепта; 2) культура детерминирует концепт (концепт-ментальная проекция элементов культуры); 3) язык или речь — сферы, в которых концепт опредмечивается. Лингвокультурный концепт отличается от других ментальных единиц акцентуацией ценностного элемента: центром концепта всегда служит ценность. Юмор может рассматриваться как лингвокультурный концепт, так как: 1) склонность к определенному типу юмора лежит в сознании представителей любой нации; 2) менталитет детерминирует юмор (юмор — проекция менталитета); 3) юмор имеет много языковых форм: например, анекдот. В центре анекдота как лингвокультурного концепта находится какая-либо ценность, отражающая особенность менталитета. Проанализировав ряд работ, посвященных изучению менталитета англичан [1; 6; 7 и др.], мы пришли к выводу, что в его основе лежат следующие базовые характеристики: 1) деперсонализация, 2) антифатализм, 3) рационализм, практичность, 4) островная самодостаточность. Деперсонализация англичан проявляется в их стремлении скрывать истинные чувства под маской бесстрастности, не презирать, не ненавидеть, не любить в открытую, держать свои мнения при себе. Стараясь не показывать этого внешне, в глубине души англичане считают себя неким эталоном, измеряют все на собственный, английский аршин, игнорируя даже возможность существования каких-то других стандартов. Эта черта английского характера отражается в их языке. По наблюдениям А. Вежбицкой, в английском языке исчезает целый семантический класс активных эмоциональных глаголов. «Думаю, — пишет А. Вежбицкая, — что это не «случайно», а отражает важную особенность англо-саксонской культуры — культуры, которая обычно смотрит на поведение, без особого одобрения оцениваемое как «эмоциональное», с подозрением и смущением» [1, с. 41]. А многочисленные факты «высокого эмоционального накала русской речи», приводимые Анной Вежбицкой, указывают на особенности русского национального характера, которые в полной мере «раскрываются и отражаются в трех уникальных понятиях русской культуры… душа, судьба и тоска» [1, с. 33]. Лингвистическое подтверждение такой важной составляющей английского характера, как антифатализм и независимость проявляется в агентивности 63 английского языка — акцентированном внимании к действию и к акту воли («я делаю», «я хочу»), выражающемся в преимущественном использовании номинативных предложений с глаголами в действительном залоге. Русский же национальный характер описывается как неагентивный, склонный к фатализму. Лингвистическое подтверждение тому — преимущественное использование пациентивных конструкций, через которые «люди представлены как лица, не контролирующие события… („разные вещи случаются со мной…”)» [1, с. 55—56]. Огромную роль при формировании менталитета играют естественногеографические условия проживания этноса. Будучи островной нацией, англичане инстинктивно противопоставляют Англию всему миру, что оценивается другими этносами как снобизм. Снобизм англичан во многом определяется и их имперским мышлением, породившем британский шовинизм — высокомерное отношение к народам, жившим в колониях Британской Империи и к представителям других наций. Это общие стереотипы восприятия англичан другими народами, которые в самых типических своих чертах отражаются в структуре английского языка (его аналитичности, преимущественной моносиллабичности, «тэизме», агентивности, неэмоциональности). Вместе взятые они составляют содержание понятия Englishness . Еще одной специфической чертой менталитета, свойственной только англичанам, считается их уникальное чувство юмора, являющееся принципом отношения к жизни. Юмор является излюбленным в Англии настроением и принципом отношения к вещам и жизни вообще. Способность сохранять чувство юмора в трудные минуты англичане ценят как первостепенное достоинство человеческого характера. То есть юмор — тоже форма деперсонализации. Таким образом, деперсонализация, определяемая, с одной стороны, инсулярностью английской культуры, с другой стороны — имперским мировосприятием, сказывается и на отношении англичан к жизни с юмором. Эти черты и являются наиболее яркими и специфичными чертами менталитета англичан. Теперь рассмотрим, как описанные выше черты менталитета англичан проявляются в юморе, проанализировав английские анекдоты, относящиеся к лингвокультурному концепту «Ирландия». Концептуальной схемой анализа послужит семиотическая модель, согласно которой языковая форма юмора «анекдот» существует в трехмерном пространстве семантики (двуплановость содержания), прагматики (оценочные или выводные несоответствия) и синтактики (соотношение с формальными типами анекдотов) [9]. «An Irishman, upon finishing his business in the toilet, was pulling up his pants when a 50 pence piece slipped from his pocket, bounced once on the lid, and fell into the hole. Peering into the hole, the Irishman told to himself, „For 50 pence? No.” Upon which, he took another 50 pence piece from his pocket, let it fall into the hole to join the first, and added, „But for a pound…”». Семантика Первый план содержания: нежелание ирландца лезть руками в унитаз за 50-ю пенсами. 64 Пресуппозиция: 50 пенсов — деньги небольшие; можно просто оставить их там, куда они упали, и уйти. Если бы было больше, тогда оставлять было бы жалко, и можно было бы попытаться как-нибудь достать деньги, хотя, несомненно, занятие это весьма неприятное. Второй план содержания: желание ирландца лезть в унитаз руками за фунт. Импликация: если полезть за маленькой суммой денег, тебя сочтут жадным, если за большой — нет (в этом случае такой шаг будет считаться достаточно разумным). Вывод: ирландец — жадный и глупый человек. Юмористический эффект достигается путем изображения неожиданно нелогичных, иррациональных действий ирландца. Прагматика В основе анекдота лежит оценочное несоответствие (высмеивание ирландца). Синтактика По форме данный анекдот соотносится с анекдотом-повествованием. Ценностным элементом анекдота является отношение англичан к ирландцам. Он отражает достаточно высокомерное и насмешливое отношение англичан к соседям. Поскольку ирландец в анекдоте изображается жадным и глупым, это подразумевает, что сами англичане в деперсонализированной форме изображают себя щедрыми и умными. «How many Irishmen does it takes to screw in a light bulb?» «Twenty one. One to hold the bulb and twenty to drink until the room spins.» Семантика. Первый план содержания: абсурдное утверждение, что для того чтобы вкрутить лампочку, потребуется 21 ирландец. Пресуппозиция: для того чтобы вкрутить лампочку, достаточно одного человека. Второй план содержания: ирландцы напились, и комната вращается у них перед глазами. Импликация: оттого что ирландцы напились, лампочка все равно не закрутится. Вывод: не отличающиеся умом ирландцы склонны к злоупотреблению спиртными напитками. Юмористический эффект построен на изображении неразумности, нелогичности действий ирландцев. Прагматика В основе анекдота лежит оценочное несоответствие (понижение статуса ирландца). Синтактика Данный анекдот является анекдотом-загадкой. Ценностный компонент — отношение англичан к ирландцам. Анекдот отражает пренебрежительно-насмешливое отношение англичан к ирландцам. Высмеивается недогадливость ирландцев и их склонность к чрезмерному употреблению алкоголя, поскольку сами англичане считают себя (хотя и не говорят об этом) очень сообразительными и не злоупотребляющими спирт65 ными напитками. В тексте анекдота отражено высокомерное отношение англичан к соседям. «There’s a guy from Ireland driving through Europe and an English guy driving in the opposite direction. In the middle of the night with no other cars on the road they hit each other head-on and both cars go flying off in different directions. The Irish fella manages to climb out of his car and examine his damages. He looks at his twisted car and says, „Jesus, I am really lucky to be alive!” Likewise, the Englishman scrambles out of his car and looks at his wreckage. He too says to himself, „I can’t believe I survived this wreck!” The Englishman walks over to the Irishman and says, „Hey man, I think this is a sign from God that we should put away our petty differences and live as friends instead of such enemies.” The Irishman thinks for a moment and says, „You know, you are absolutely right! We should be friends. Now I’m gonna see what else survived the wreck.” So, the Irishman opens his boot and finds a full unopened bottle of Irish whiskey. He says to the English fella, „I think this is another sign from God that we toast to our new-found understanding and friendship.” The Englishman says, „You’re damn right!” and he grabs the bottle and starts drinking the Irish whiskey. After putting away nearly half a bottle, the Englishman hands it back to the Irish fella and says, „Your turn!” The Irish fella twists the cap back on the bottle and says, „No, I think I’ll wait for the police to show up”». Семантика Первый план содержания: англичанину и ирландцу, попавшим в аварию, посчастливилось выжить, не получив увечий или каких-либо повреждений. Пресуппозиция: подобные несчастья сближают людей, помогая им осознать, что жизнь — дороже предрассудков и обид. Второй план содержания: намерение ирландца напоить англичанина виски. Импликация: если один из водителей употреблял алкоголь, полицейские вероятнее всего подумают, что именно он является виновником аварии. Вывод: расчетливый, нечестный ирландец специально предложил англичанину выпить виски, не собираясь при этом делать то же самое. Юмористический эффект основан на противоположенных пресуппозициях персонажей. Прагматика Анекдот построен на оценочном несоответствии (высмеивание ирландца, понижение его статуса). Синтактика Данный тип анекдота является анекдотом-повествованием. Ценностным компонентом данного анекдота являются отношения между англичанами и ирландцами. В тексте анекдота отражено высокомерное, презрительное отношение англичан к ирландцам, так как они (ирландцы) — люди менее благородные и честные, чем сами англичане. Здесь проявляется склонность британцев к деперсонализации (не говорить, что они сами — самые честные, благородные, умные и т. д., а показать, что все остальные (в данном случае — ирландцы) — менее честны, умны и т. п. Второй чертой национального менталитета, отраженной в данном анекдоте является уникальное чувство юмора англичан. Обычно представители своей нации оказываются в подобных анекдотах «хитрецами», а чужой — «дура66 ками» [11]. Когда «хитрецы» оказываются удачнее «дураков», представители нации-прототипа чувствуют превосходство над противниками, и это чувство внезапного триумфа вызывает смех. Англичане же обладают совершенно особенной способностью не только смеяться над другими, когда сами выигрывают, но и над собой, когда проигрывают. Способность сохранять чувство юмора в трудные минуты англичане ценят как первостепенное достоинство человеческого характера. Именно эта уникальная способность, на наш взгляд, отражена в тексте настоящего анекдота. Итак, проанализированные анекдоты позволяют нам сделать вывод, что юмор, рассматриваемый в качестве лингвокультурного концепта, действительно способен отражать менталитет англичан. Список литературы 1. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание : пер. с англ. / А. Вежбицкая ; отв. ред. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой. М. : Русские словари, 1997. 2. Гачев, Г. Д. Национальные образы мира : курс лекций / Г. Д. Гачев. М. : Академия, 1998. 432 с. 2. Гуревич, П. С. Философия культуры : учеб. для высш. шк. / П. С. Гуревич. М. : Nota Bene, 2001. C. 262—263. 3. Леонтьев, А. А. (а) Национально-культурная специфика речевого поведения / А. А. Леонтьев, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов. М. : Наука, 1997. 349 с. 4. Леонтьев, А. А. (б) Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. М. : Смысл, 1997. 287 с. 5. Маслова, В. А. Лингвокультурология : учеб. пособие для студентов вузов / В. А. Маслова. М. : Академия, 2001. С. 49. 6. Михалев, П. Альбион: расизм снимает перчатки: из английского блокнота / П. Михалев // Дружба народов. 1984. № 6. С. 213—226. 7. Овчинников, В. В. Сакура и дуб: Впечатления и размышления о японцах и англичанах / В. В. Овчинников. М. : Сов. Россия, 1983. 431 с. 8. Философский энциклопедический словарь / под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М. : Республика, 2001. 719 с. 9. Карасик, В. И. Анекдот как предмет лингвистического изучения [Электронный ресурс] / В. И. Карасик http:/www.vspu.ru/~axiology/ggsvikart5.htm. 10. Карасик, В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования [Электронный ресурс] / В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин http:/www.vspu.ru/~axiology/ggsvikart. htm. 11. Davies, C. Language, Identity and Ethnic Jokes about Stupidity / C. Davies // International Journal of the Sociology of Language. 1987. V. 65. P. 39—52. 67 Научное издание Текст и языковая личность: формы отражения менталитета англичан и русских в языковом тексте Сборник научных трудов Под редакцией Л. В. Татару Редактор М. Б. Иванова Корректор Н. Н. Дробышева Изд. л. ИД № 01591 от 19.04.2000. Подписано в печать 25.12.06. Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Times». Уч.-изд. л. 4,9. Усл. печ. л. 4,25. Тираж 100 экз. Заказ № Издательство «Николаев», г. Балашов, Саратовская обл., а/я 55. Отпечатано с оригинал-макета, изготовленного издательской группой Балашовского филиала Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. 412300, г. Балашов, Саратовская обл., ул. К. Маркса, 29. Печатное агентство «Арья», ИП «Николаев», Лиц. ПЛД № 68-52. 412340, г. Балашов, Саратовская обл., ул. К. Маркса, 43. E-mail: [email protected] 68 Текст и языковая личность 69