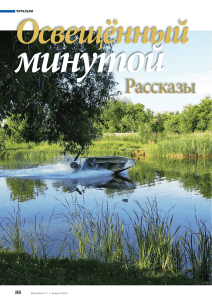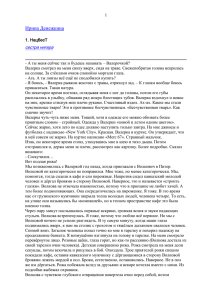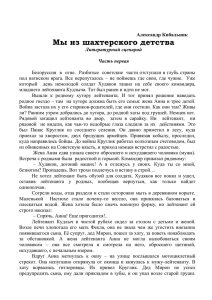Бармалей Валерка
реклама

1 Бармалей Валерка Валерия Олюнина Валерка умер. Нет, Валерку убили. Вернее, забили какие-то поселковые пацаны, и три дня он умирал в своей однокомнатной новогришинской квартире. Два дня он лежал один и не отзывался на долбежку в дверь своих собутыльников. Почуяв неладное, Ефимыч, его дружок, живший в соседнем подъезде, частенько по стеночке или ползком добирающийся до дому, вызвал милицию. Старую, измызганную, грязно-голубую дверь, которую кто только из наших не пытался выбить за все эти годы, всё-таки выбили. Валерка был еще жив, желтый очень, говорить еще мог, но с трудом. Шепнул: «Только не трогайте живот». Скорая помощь уехала от него через десять минут, сделав какой-то укол. А Валерка умер на следующий день. Никто из наших не вышел с ним попрощаться. Только сестра Таня, приехавшая из Москвы с друзьями на трех машинах, и кто-то из приятелей проводили его в последний путь. Таню очень жалели. Она ходила по соседям и спрашивала, не слышал ли кто чего. Может, пацаны эти его в квартире били. Но никто ничего не знал, а, может, и не хотел знать. Уголовное дело милиция всё-таки завела. Запомнилось всем, как кричала Таня, когда вынесли гроб: «Один ты был у меня!» Похоронила она год назад мужа, а еще раньше – взрослого сына. Валерий Павлович Гордеев пожил чуть больше пятидесяти. Копал на сурминовском кладбище могилы, а таких в Подмосковье почему-то прозвали бармалеями. Не знаю я, что это за люди, копатели могил. Что в душе у них, что в мыслях? Помню, когда поминали моего отца, сказала мне мама отдать остатки вина и закуски могильщикам. Тогда был февраль, и на новом кладбище, выросшем недавно на пустыре без единого дерева, дул адский сибирский ветер. Мужики разогревали землю под новую могилу, сжигая шины, после которых всюду валялась кольцами скрученная проволока. Я протянула одному бутылку с кагором: «Возьмите, погрейтесь, и спасибо вам…» Тот поднял ко мне своё черное от копоти лицо и сказал как-то виновато: «Работа у нас такая». Когда мы поселились в Новогришине, соседи шепнули: «Не связывайся с Гордеевым, даже не разговаривай. Сволочной мужик. И глаз у него дурной. А если в квартиру пустишь, то не выпроводишь. Бил своего лежачего умирающего отца, пропивал всю его пенсию». Но нам общаться с ним все-таки приходилось. Жил Валерка прямо под нами. Мог взять молоток и в пять утра назло всем жильцам стучать по стояку. Рано утром дверь в его квартиру была открыта. Правда, только для тех, кто знал, как стучаться. Потом мы слышали каждое звяканье стакана, каждый мат, гнойной коростой слетающий с губ Валерки… Однажды, не выдержав его очередной попойки, в бешенстве схватила детский стульчик и стала бить им в пол. Стульчик сломался. Потрясённая дочка несколько дней меня спрашивала: «Мам, ты зачем Никин стульчик сломала?!» Но обычно я спускалась и стучалась в дверь нехорошей квартиры № 17. Хозяин не открывал, и только после того, как кто-то ему говорил: «Да ладно, открой», лениво отзывался. Потом выползал на порог, одетый в вылинявшие трико и майку, кажется, со следами всех процессов жизнедеятельности, обнажающую его худющее, испитое тело. Вонючий, небритый, он сочувственно кивал головой, щупая меня липким, масленым взглядом черных глаз. -Ну, прости…Праздник у нас…А как тебя звать? – спрашивал меня Валерка каждый раз, почему-то не запоминая моего имени, хотя мы с ним были тезками, и уже мне вдогонку неслось: «Муж у тебя – хороший парень!» Андрея Валерка боялся. Поднимаясь к себе, я иногда сталкивалась с соседкой слева тетей Дашей. -Что, хвораешь? – спрашивала она. - Почему хорошие люди мучаются, и только им, – она рукой показывала вниз, – ничего не делается? 2 Я не знаю, был ли в нашем подъезде человек, который жалел Валерку. Ведь жила где-то его бывшая жена и дочь, никогда его не навещавшие. Конечно, смерти ему никто не желал, просто хотели, чтобы он куда-нибудь исчез. И зачем желать смерти алкашам, ведь все знают, что живут они долго, подружившись со своим циррозом и катаром легких, это только лучших Бог к себе прибирает. Мы покорно вызывали пожарников, когда дым из Валеркиной квартиры валил, и все пять этажей задыхались. При затянувшихся пьянках вызывали участкового, который дежурно опрашивал всех, брал заявление, потом приезжал вместе с судебным приставом – они тарабанили в Валеркину дверь, но тот замирал и переставал надсадно кашлять. И так годами не зарастала в нашем подъезде народная тропа. Хорошо летом было, когда слабые не доходили до своих домов, а падали под кустами. Зимой Валеркины посетители часами отсыпались в подъезде на полу, где плевки и окурки, кошачьи миски и клочки сваленной шерсти чаушки Фриды. И вот Валерка умер. Случилось это уже без нас, когда мы переехали в лобненскую новостройку и в Новогришино стали приезжать как на дачу. Стало непривычно тихо у него. Шла как-то мимо его квартиры и странно – дверь была распахнута, как будто хозяин только что вышел и вот-вот вернётся. Туда из подъездной темноты прошмыгнула кошка. Я задержалась, заглянув в комнату, от которой нас отделяли стены да потолок. Шторы были плотно задернуты, свет приглушен, и глаза мои смогли различить только какой-то бесформенный, обмякший диван и рядом – стол с грудой грязной посуды. Вся наша трудная, шумная, по нехорошему весёлая новогришинская жизнь сразу отлетела далеко-далеко, и уже новыми глазами я увидела…нет, не как он пил тут и курил свои дешевые сигареты, от которых загорались одеяла и обивка кресла, а как умирал тут один Валерка…Валерий Павлович Гордеев…Вдруг в подъезд вошла Таня и чуть было не прошла мимо меня, но я поздоровалась с ней, она подняла на меня черные, Валеркины глаза, пустые, дикие… «Да, – сказал мне вечером муж, – а ведь если бы мы тут остались, может быть, Валерка был бы жив?» -Может быть, – ответила я и замолчала. Говорить не хотелось. 7.03.2006 Лобня