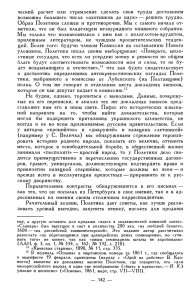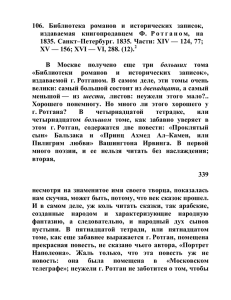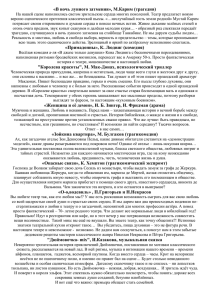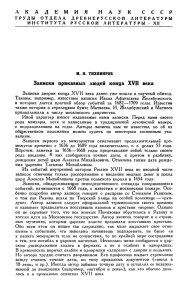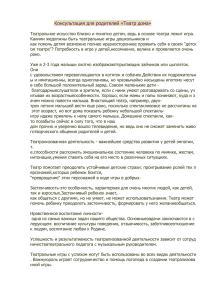Выдержка из записок старого театрала.
реклама

ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ТЕАТРАЛА (Материалы для физиологии Александрийского театра) Давно уже не брался я за перо, давно не бывал в театре. . . а как подумаешь, в старину только и делал, что ходил в театр да пописывал фельетонные статейки. То-то было золотое, веселое время! Но оно прошло, прошло как и следует ему, невозвратно; и мне остались от него только воспоминания, да еще знание…знание неблестящее, на котором не уедешь далеко и которое досталось мне бог знает как, потому что я не добивался его и никогда о нем не думал. . . знание тогдашних театральных нравов, тогдашней театральной публики. Долго недоумевал я, что делать мне с своим знанием; наконец, один добрый человек надоумил меня: “Напиши, — говорит, — братец, что знаешь, и напечатай; авось кому-нибудь пригодится!”... В самом деле, время идет да идет; все изменяется; новое гонит со света старое, которое быстро забывается. . . забывается невозвратно. Может быть, скоро не будет человека, который помнил бы и мог передать старые театральные нравы, а между тем в них — так по крайней мере мне кажется — много интересного, много характеристического, что могло бы помочь и при изучении вообще нравов тогдашнего общества. Послушаюсь-ка приятельского совета: примусь писать записки! Сказано — сделано. Вот начало моих записок. Повторяю: все, что вы найдете в них, - дело прошлое; может быть, теперь многое изменилось, может быть также, что изменилось и очень немногое— не мое дело. Я хочу нарисовать вам очерк александрынской публики, какою была она в мое время, когда я был театралом. Начинаю. 188 русская театральная публика в ту эпоху, когда я ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ТЕАТРАЛА пустился в театральство, разделялась на две публики, между которыми была такая же разница, как между Михайловским театром, исключительным достоянием первой, и Александрынским, где широко и свободно разгуливала вторая. Средину между тою и другою, весьма малочисленную, составляли господа, которые в простоте понятий о патриотизме думают, что лучше зевать, восхищаясь родной посредственностью, чем проводить время в разумном и сознательном наслаждении, какое нередко доставляет посетителям своим французский театр. Замечу кстати, что такое понятие в то время было не редкость и даже находило себе отголосок в некоторых журналах, имевших привычку опаздывать книжками и еще более мнениями. . . Две публики, о которых я упомянул, никогда между собою не встречались. Первая — большею частию образованная, непременно приличная — искала в театре разумного наслаждения, выражала свои одобрения и порицания умеренно, но зато единогласно, из чего можно было тотчас заметить, что в суждениях своих руководствовалась она здравым смыслом и разборчивым вкусом. Вторая — шумная, многочисленная, нестройная — посещала театр ради того, чтоб пошуметь и похлопать. В состав ее входило так много разнородных элементов разноплеменного петербургского народонаселения, что подвести ее под общий уровень, уловить в ней общий определенный характер едва ли было возможно. Представьте себе толпу юношей, только что выпущенных из школы (а их в Петербурге ежегодно выпускается столько, что их одних стало бы на все театры), юношей, которым до того времени позволялось посещать театр раз или два раза в год, в виде особенного награждения за “отличное поведение и успехи в науках”. Вдруг все эти юноши сбираются в театр: каждый из них хочет дать заметить себя, показать свой новый костюм, гигантский рост, легкий пушок на губах, — до того ли им, чтоб помнить, что ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ТЕАТРАЛА такое театр?.. Возможно ли им не восхищаться?. . Не говоря уже о невзыскательности неразвившегося еще вкуса, о свойственной всем юношам способности удовлетворяться легко и скоро и о том, что тому, кто не бывал в театре, все кажется смешно и ново, даже остроты и каламбуры, повторяющиеся по обыкновению александрынских водевилистов в каждом водевиле, — одна новость 189 положения, одно чувство независимости, чувство человека, которому театр не только еще не успел надоесть, но для которого он совершенная новость, скажите, не заставит ли все это восхищаться даже тем, от чего, быть может, прорвутся на глаза ваши слезы злости и отчаяния?.. Потом представьте себе доброго, смиренномудренного и довольного собою чиновника, вечно занятого службою. Жизнь его течет мирно и незаметно между службою. обедом, послеобеденным сном и картишками. Вдруг в один день, когда, отобедав, добрый чиновник, по обыкновению, готовится погрузиться, как говорилось в наши дни, в объятия Морфея, жена и дочь объявляют решительно, что он должен везти их в театр. Добрый чиновник не прекословит; но прежде всего он находит нужным отменить на тот день издавна принятую привычку спать после обеда. Потом он бежит за билетом и, возвратившись домой, ждет с нетерпением вожделенного часа. Наконец едут; приехали, уселись, занавес поднялся. Жена и дочь любуются усиками актеров, критикуют костюмы актрис и с негодованием отворачиваются, закрываются платками при двусмысленных выходках, которые внутренне смешат их напропалую и даже приводят в восторг; муж вознаграждает себя за добровольную отсрочку послеобеденного сна: он спит слаще ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ТЕАТРАЛА обыкновенного. “Ах, как мило! Ты ничего не слушаешь, прелесть!” — восклицает жена, толкая его в бок; он просыпается, говорит “прекрасно” и опять засыпает. Водевиль кончен; играют комедию. В комедии есть и смысл, и остроумие, но в ней нет куплетов; чтоб понять, в чем дело, нужно внимательно прислушиваться к каждой фразе. Одно из действующих лиц сказало другому “пошлость”. Чиновница не отворачивается, как в водевиле отворачивалась она, чтоб скрыть порыв восторженного смеха, но на лице ее выступает краска злости; она чувствует оскорбленным свое достоинство — достоинство “светской” дамы. Скука! Успокоившись несколько, чиновница начинает зевать; дочь бегает глазами по партеру; обе изредка взглядывают болезненно одна на другую, не решаясь еще признаться, что комедия наводит на них скуку; наконец нерешимости их помог случай: в партере кто-то кашлянул, потом кто-то чихнул; потом кто-то шиш⟨к⟩нул. “Базиль! (она толкает в бок мужа) поедем домой! Смотреть нельзя”. — “Точно,— говорит 190 чиновник, обрадованный намерением жены ехать домой — Какая это комедия! Комедия, — продолжает он, вспомнив фразу, вычитанную из одной газеты во время обеда в Палкинском трактире, — комедия требует завязки, характеров, движения, интереса, постепенно возрастающего; комедия требует. . .” Но жена уже встала, и чиновник, не докончив фразы, спешит накинуть салоп на ее плечи. На другой день чиновник, пришедши в департамент, рассказывает своим подчиненным, что он с семейством был вчера в театре, в таком-то ярусе, такой-то нумер, что одна пьеса хороша, а другая дрянь-дрянью; подчиненные ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ТЕАТРАЛА слушают его с глубоким вниманием и потом передают слышанное знакомым, которые в свою очередь делают то же. То же самое, что муж, рассказывает чиновница, встретившись на возвратном пути с рынка, — куда она отправилась, в сопровождении кухарки, для закупки дневной провизии, — с приятельницею, тоже чиновницею, и присовокупляет с гордостью, что она первая смекнула, к чему клонится дело, и уехала из театра, потому что не хочет, чтоб ее Сонечка наслушалась бог знает чего, да и сама не любит, чтоб ее беспрестанно заставляли краснеть, хоть краснеть, как говорит муж, ей и к лицу. Между тем дочь, сидя дома за пяльцами, грызет ногти, усиливаясь припомнить некоторые забытые ею стихи из куплета, который, по требованию восхищенной публики, был повторяем несколько раз. Но усилия ее тщетны; приходит молодой офицер или чиновник, имеющий на нее отдаленные виды, и она просит его достать понравившийся ей куплет и с нотами. Ноты и куплет тотчас являются. Она заучивает слова и музыку и распевает, аккомпанируя себе на фортепьяно, знаменитый куплет на именинах папеньки, от чего все, разумеется, приходят в восторг. Водевиль вошел в славу, комедия погибла, и если о ней говорят, то не иначе, как с чувством самым неблагоприятным для нее. Потом представьте себе купеческое семейство, состоящее по крайней мере из девяти человек, которые теснят немилосердно друг друга и между которыми беспрестанный шум и говор; но только раздается всеобщий хохот, задние толкают передних и передние рассказывают задним, с собственными дополнениями, остроту или каламбур, произведший потрясение: в ложе подымается страшный, уже всеобщий хохот. Поэтому ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ТЕАТРАЛА 191 купчики очень любят остроты, которые легко передаются, и терпеть не могут (и всего чаще не понимают) комизма благородного, тонкого, уловимого только для слуха эстетического. Вообще, комические пьесы не так занимают их, как так называемая ими “трагедья”. Сидельцы — большие охотники до драматической крови, обмороков, сумасшествий, но в особенности восхищают их потрясающие здание театра крики отчаяния, скрежет зубов и дикие сверкания глаз. Не будь в драме ни смысла, ни толка, — они все-таки будут в восторге. Затем загляните в ложу в третьем ярусе: тут сидит около дюжины молодых краснощеких женщин, разряженных в пух: они беспрестанно шушукают между собою, переглядываются с партером, из которого многие молодые люди смотрят на них с гордостью и умилением, — бросают на солидных дам какие-то странные взоры и тем сильнее хохочут, чем более острота простонародна. Наконец, поднимите голову и обратите внимание на раек, набитый сверху донизу, где головы торчат как капустные кочни. Боже милостивый! какое изумительное разнообразие, какая пестрая смесь! Воротник сторожа, борода безграмотного каменщика, красный нос дворового человека, зеленые глаза вашей кухарки, небритый подбородок выгнанного из службы подьячего, занимающегося хождением по частным домам, красная, расплывшаяся от жира, мокрая от пота голова толстой кухмистерши, хорошенькое личико магазинной девушки, которую часто встречаете вы на Невском проспекте: рядом с ней физиономия отставного солдата ... Боже милостивый, ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ТЕАТРАЛА сколько голов и сколько, без всякого сомнения, умов! Несмотря на разнокалиберность, заставляющую предполагать бесконечное разногласие публики, описанная мною публика нередко поражала удивительным единодушием в изъявлении как одобрения, так и порицания. У ней были даже свои особенные понятия и привычки, по которым опытные театралы моего времени без большого труда могли, наперед предсказать безошибочно все взрывы ее восторга, который она имела обыкновение выражать оглушительным хохотом, страшными рукоплесканиями, потрясавшими здание, подобно раскатам грома, стуком каблуков и в важных случаях криками: “браво! фора! ура!”. Память уже начинает изменять мне, однако ж, сколько могу 192 припомнить, подобные взрывы происходили обыкновенно при следующих обстоятельствах: 1) Когда выходил на сцену актер, пользовавшийся известности”, или актриса, любимая публикою — хоть бы за смазливое личико и востренькие глазки. 2) Когда действующие лица, в жару увлечения, исчисляли добродетели русского человека и выхваляли мощь русского кулака. Вообще должно заметить, что в мое время в так называемых народных и патриотических драмах сочинителю стоило только доказать, как русский молодец побил одним кулаком сотни басурманов, чтоб произведение его увенчалось полным успехом. Когда ж изобретательность его простиралась до того, что он представлял виновницею такого подвига простую русскую бабу, — восторг публики не имел пределов! 3) Когда действующие лица били друг друга, ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ТЕАТРАЛА подставляли одно другому ноги и палки и бегали один за другим по сцене, с приготовленным кулаком. 4) Когда действующие лица целовались, обнимались, упадали на колени друг перед другом и плакали. . . 5) Когда действующие лица кланялись друг другу в ноги. 6) Когда действующие лица разговаривали со сцены с актерами, посаженными в партере и райке. 7) Когда действующие лица разговаривали со сцены с публикою. 8) Когда сын узнавал отца, мать дочь, брат сестру—и наоборот. 9) Когда у которого-нибудь из актеров случайно сваливался с головы парик, отклеивались усы, борода, бакенбарды и т. п. 10) Когда актер, ставший в тупик от незнания роли, устремлял грозящий и вместе умоляющий взор на суфлерскую конурку и оттуда вдруг раздавался по всему театру глухой и сиповатый голос суфлера. . . 11) Когда хвалили хорошенькую актрису под видом лица, которое она представляла. 12) Когда пели куплеты вроде следующего: Ужели должен я страдать? Ужели мой удел — могила? Как догадаться, как понять, За что она мне изменила? . . Я угождать старался ей, Любил так страстно, так глубоко. . . 193 И даже пред свиданьем с ней Читал романы Польде-Кока! ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО ТЕАТРАЛА Не знаю, как теперь, — теперь, вероятно, все уже иначе, — но долг добросовестного летописца повелевает сказать, что во всех исчисленных случаях в мое время восторг публики был неизбежен до такой степени, что его, как я уже заметил, предсказывали безошибочно заранее. Были и еще приметы, по которым восторг публики легко было предугадывать также безошибочно, именно: когда пелись куплеты, направленные на жен, судей, вдов, докторов, мужей (предметы, издавна составляющие исключительную тему русских водевильных куплетов), когда смеялись над философией и вообще ученостью и произносили невпопад и некстати термины, употребляемые наукою, которые (неизвестно почему) всегда казались в высшей степени достойными смеха образованным зрителям; когда кашляли и сморкались, запинались и хохотали, делали угрожающие движения и кислые рожи. Когда-нибудь я также сообщу вам, когда описанная мною публика скучала и вообще обнаруживала признаки неодобрения. 194