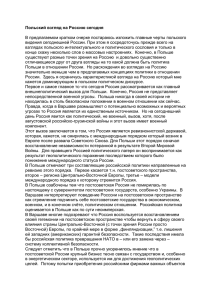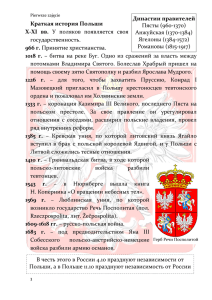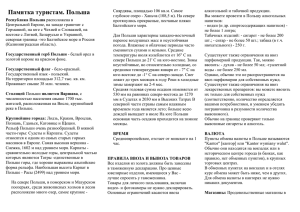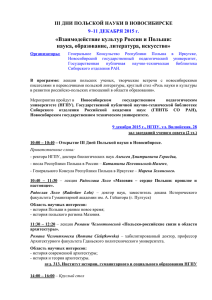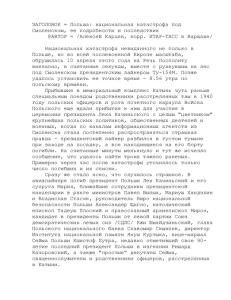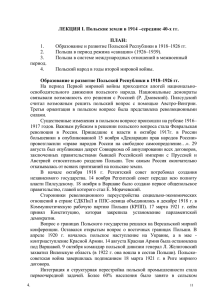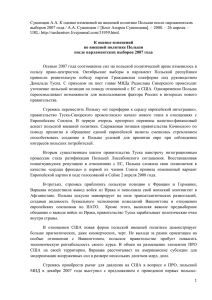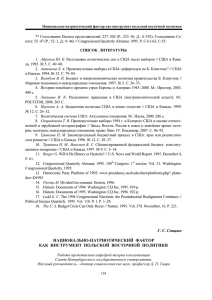Трагедия разделенной Польши - Первая мировая война и
реклама
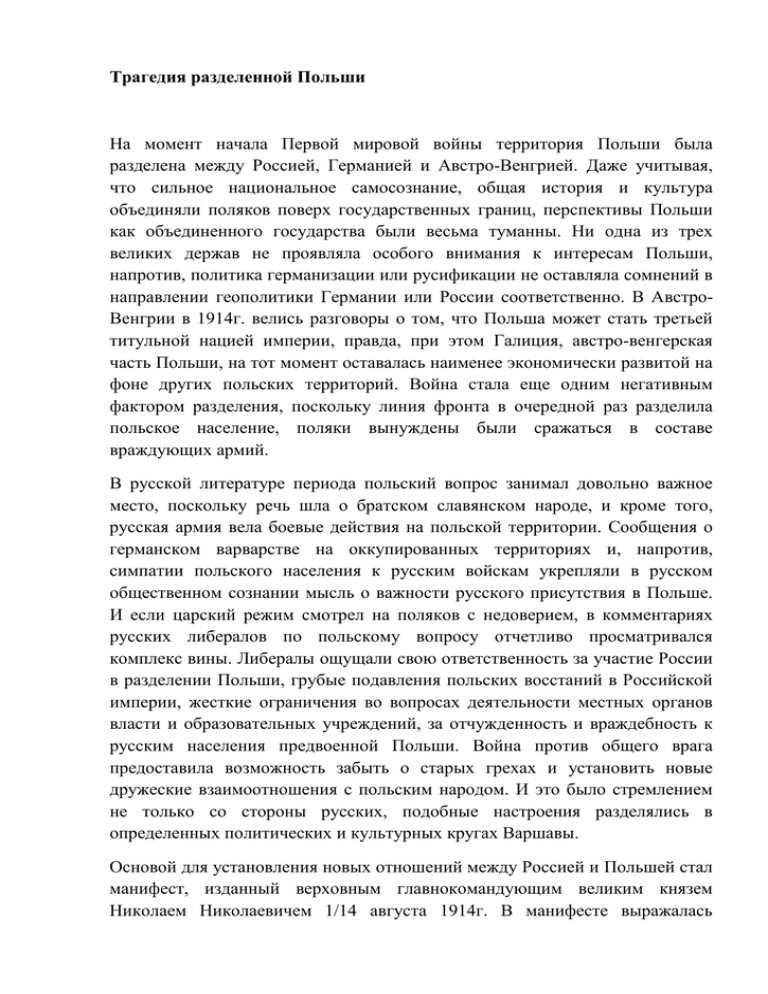
Трагедия разделенной Польши На момент начала Первой мировой войны территория Польши была разделена между Россией, Германией и Австро-Венгрией. Даже учитывая, что сильное национальное самосознание, общая история и культура объединяли поляков поверх государственных границ, перспективы Польши как объединенного государства были весьма туманны. Ни одна из трех великих держав не проявляла особого внимания к интересам Польши, напротив, политика германизации или русификации не оставляла сомнений в направлении геополитики Германии или России соответственно. В АвстроВенгрии в 1914г. велись разговоры о том, что Польша может стать третьей титульной нацией империи, правда, при этом Галиция, австро-венгерская часть Польши, на тот момент оставалась наименее экономически развитой на фоне других польских территорий. Война стала еще одним негативным фактором разделения, поскольку линия фронта в очередной раз разделила польское население, поляки вынуждены были сражаться в составе враждующих армий. В русской литературе периода польский вопрос занимал довольно важное место, поскольку речь шла о братском славянском народе, и кроме того, русская армия вела боевые действия на польской территории. Сообщения о германском варварстве на оккупированных территориях и, напротив, симпатии польского населения к русским войскам укрепляли в русском общественном сознании мысль о важности русского присутствия в Польше. И если царский режим смотрел на поляков с недоверием, в комментариях русских либералов по польскому вопросу отчетливо просматривался комплекс вины. Либералы ощущали свою ответственность за участие России в разделении Польши, грубые подавления польских восстаний в Российской империи, жесткие ограничения во вопросах деятельности местных органов власти и образовательных учреждений, за отчужденность и враждебность к русским населения предвоенной Польши. Война против общего врага предоставила возможность забыть о старых грехах и установить новые дружеские взаимоотношения с польским народом. И это было стремлением не только со стороны русских, подобные настроения разделялись в определенных политических и культурных кругах Варшавы. Основой для установления новых отношений между Россией и Польшей стал манифест, изданный верховным главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем 1/14 августа 1914г. В манифесте выражалась надежда на возможность восстановления исторических границ Польши, но если мысль о независимости, в том числе и от России, уже пустила глубокие корни в сознании поляков, манифест все же подчеркивал общее будущее России и Польши: «Может произойти объединение польских земель под скипетром русского царя. Под этим скипетром Польша возродится к новой жизни, свободная в выборе религии, языка, правительства». Обещание большей свободы было довольно туманно, и русская политика на территории Царства Польского накануне 1914г. не внушала полякам особого доверия. Слабостью изданного документа было и то, что он не был подписан царем, главой Российской Империи, а лишь великим князем, не имевшим реальной власти в решении польского вопроса. Тем не менее манифест был с радостью встречен в польских кругах, но особенно в среде русской либеральной интеллигенции. Внимание общественности привлекли обещания объединения польского народа, уважения его основных прав, возможности установления новых отношений между двумя народами. Но почти все русские символисты придавали важность польскому вопросу по несколько иным причинам. Польша была для них своего рода тестовой площадкой для наблюдения не только за процессами формирования политических и религиозных взглядов, но также и русского самосознания и осмысления исторических перспектив. Единственным из символистов, кто имел непосредственный контакт с повседневной польской реальностью, был Валерий Брюсов. Но еще до своего отъезда в Варшаву он уже сформулировал свои мысли по польскому вопросу. Стихотворение «Польше» символично написано 1 августа, в день издания манифеста. Эпиграф взят из стихотворения Федора Тютчева «На взятие Варшавы» (1813г.). Вскоре после того, как в 1830г. русские войска подавили польское восстание, Тютчев в своем стихотворении красноречиво защищает российскую политику как необходимое средство сохранения целостности империи и единения славянских народов под русскими знаменами. После очевидной демонстрации своего великорусского шовинизма Тютчев, как это ни странно, предсказывает возрождение «общей свободы» из пепла уничтоженной Польши. Выбрав именно эту заключительную строфу Тютчева в качестве эпиграфа, Брюсов как будто говорит о том, что тот самый заветный час истории настал. Советский критик Г. Дербенев, представлявший Брюсова как оппозиционный голос царской России, утверждал, что в противовес манифесту поэт говорит об исторических конфликтах, отравивших отношения поляков и русских. На самом деле нет никакого противоречия между брюсовским стихотворением и манифестом, который Брюсов в иной связи называл «историческим» и даже «благородным». Современная Брюсову критика даже называла это стихотворение поэтической версией русского манифеста. Основная мысль обоих текстов – политического и поэтического – заключается в том, что даже если в результате войны Царство Польское восстановит основную часть своей исторической территории, оно должно будет остаться в составе Российской империи. В стихотворении Брюсова Польша уподоблена воскрешенному Лазарю, а роль Христа приписывается России. Призыв «Лазарь, встань!» - это и есть метафора русского манифеста. В последней строфе два национальных гимна – «Польска не сгинела!» и «Боже царя храни» - сливаются в братский унисон. Наиболее радикальная часть стихотворения Брюсова «Польше» - это эпиграф и слова Тютчева о грядущей «общей свободе». Что именно понимал Брюсов под этой общей свободой для России, остается не до конца понятным, свобода же для Польши ограничивалась в манифесте свободой выбора религии, языка и местного управления. Эти обещания были с легкостью забыты, и Брюсов вскоре получил возможность в этом убедиться. Не смотря на тот факт, что в составе русской армии сражались более полумиллиона польских солдат, во фронтовых частях не предполагалось ни одного военного капеллана-католика. Местными русскими властями польский язык не признавался в качестве официального. Когда Общество красного креста организовало в Варшаве благотворительную акцию, все тексты распространялись только на русском. Брюсов стремился видеть в подобных фактах «досадные недоразумения», но реальность доказывала обратное. Не смотря на вполне определенное содержание и тон стихотворения «В Польше», оно послужило Брюсову по приезде в Варшаву прекрасным «рекомендательным письмом». Образованная часть польского общества была разделена именно по вопросу независимости от России, но доброжелательное отношение к знаменитому русскому писателю было повсеместным. Польский перевод «Польше» был опубликован еще до прибытия Брюсова в Варшаву, и поэт был сердечно принят польскими интеллектуалами. Вопреки своим традициям местные писатели и журналисты приняли русского поэта в свой круг. На банкете 23 августа (6 сентября), устроенном в честь Брюсова, «Польше» декламировали на польском языке и благодарили его автора за вклад в общее дело. Польские поэты Эдвард Слонский и Лео Бельмонт посвятили Брюсову хвалебные стихи, подчеркивая его роль в установлении связей между двумя народами. В качестве финального комментария по польскому вопросу и отдавая дань признательности своим польским друзьям, Брюсов написал стихотворение «Польша есть». Свидетельство существования народа – его культура, так пытался утешить себя и своих читателей Брюсов накануне германского наступления 1915г. Значение брюсовского произведения признавалось так же и в Москве. На польском вечере, организованным Московским литературнохудожественным кружком 13 января 1915г., Брюсов читал свои собственные стихи и переводы польской поэзии, а пять дней спустя на банкете Павел Милюков благодарил поэта за помощь членам Государственной думы в ориентации по польскому вопросу. И это были не просто слова, учитывая тот факт, что стихотворение «Польше» было включено в состав меморандума по польскому вопросу, составленного в 1916г. для внутреннего использования по приказу Николая II. К сожалению, для России польский вопрос так и остался в теоретической плоскости. Александр Блок имел более трезвый взгляд на русско-польские отношения. Он высказал принципиальное согласие принять участие в польской антологии, которую Сергей Городецкий и Алексей Ремизов намеривались издать в 1915г., но по неизвестным причинам это издание так и не увидело свет. Возможно, Блок собирался дать в этот сборник стихотворение «Над Варшавой», затем опубликованное в рождественском выпуске «Биржевых ведомостей» 1915г. «Над Варшавой» - отрывок из «Возмездия», длинной автобиографической поэмы, над которой Блок работал в годы войны. Тема Польши возникает в «Возмездии», поскольку герой поэмы – альтер эго самого Блока – едет в Варшаву, чтобы увидеться с отцом. По-видимому, Блок намеренно воздерживается от того, чтобы сообщить читателям «Биржевых ведомостей», что «Над Варшавой» - часть более крупного произведения и на самом деле имеет отношение к его собственному прошлому. Пристальный взгляд на этот текст обнаруживает еще один значимый и ранее не отмеченный момент. Значение стихотворения меняется добавлением во время публикации в «Биржевых ведомостях» единственной буквы в последней строфе: Не также ль и тебя, Варшава, Столица гордых поляко'в, Дремать принудила орава Военных прусских пошляков? На сегодняшний день, по-видимому, уже невозможно установить, кто же в действительности заменил «русских», как это стоит в рукописи Блока, на «прусских» в печатной газетной версии. Если при написании стихотворения Блок имел в виду заклеймить русских угнетателей, а не немецких оккупантов, то описанное выше может быть воспринято как проявление определенной смелости с его стороны – он предлагал стихотворение вниманию читателей газеты на Рождество, время прощения обид и примирения. Даже учитывая обыкновение представителей русской интеллигенции вскрывать исторические грехи и ошибки прошлого, надо признать, что мало у кого из них степень национальной самокритики была так высока, как в стихотворении Блока. Видимо, именно по этой причине «Над Варшавой» не упоминалось в числе русских комментариев по польскому вопросу. Как было показано выше, в своем стихотворении «Польше» Валерий Брюсов отсылает читателя к стихотворению Тютчева «На взятие Варшавы», но воздерживается от комментариев и размышлений на предмет концепции славянофилов, которая как раз и легла в основу тютчевского произведения. Общая судьба двух народов, связанных вместе общей кровью и провозглашенной исторической миссией, становится предметом творческого интереса для Константина Бальмонта, Фёдора Сологуба, Дмитрия Мережковского и Вячеслава Иванова. Бальмонт был горячим поклонником и проповедником польской культуры на протяжении многих лет. Во время войны он постоянно обращался к польской теме в стихах, статьях, переводах и публичных выступлениях. Еще находясь во Франции в начале войны, он написал два важных поэтических комментария по польскому вопросу «Праздник крови» и «Герб затаенного Месяца». Оба стихотворения демонстрируют не только польские симпатии поэта, но и его твердую убежденность в том, что ни в духовном, ни в политическом плане у Польше нет иного будущего, кроме как вместе с Россией. Сонет «Праздник крови» замечателен еще и потому, что это фактически единственная попытка Бальмонта описать войну с использованием присущей его поэзии яркой стихотворной техники: И польская, и русская земля, И русские, и польские владенья. Я вижу вас, родимые виденья, Там ветер ходит, снегом шевеля. Леса, болота, долы и поля. Свистит метель. Журчит гранат паденье. Визжит шрапнель. Жужжанье и гуденье. Рычит там праздник смерти, час свой для. О, долгий час. И сколько капель крови Еще исторгнет рок, пока до дна Не выпьет кубок красного вина. Но не навек нахмуренные брови, Идет к нам небывалая весна: Россия с Польшей! Две святые нови! Внутренний ритм, мастерское использование приемов звукоподражания, аллитерационных контрастов и традиционных фигур речи, таких как метафоры крови «красное вино», победы «весна» и синекдоха «нахмуренные брови». Бальмонт выразительно подчеркивает основную мысль стихотворения. Россия и Польша предстают в нем сиамскими близнецами, прочно связанными вместе уже в первых двух строчках с помощью инверсии. Географические границы между ними размыты, вместе они для поэта что-то близкое и родное. Россия и Польша обретают друг друга в годину испытаний, и в час победы «праздник смерти» оборачивается «праздником крови», метафора, подчеркивающая не только кровную связь двух братских народов, но и роль совместно пережитого военного опыта как исполнение связующего таинства. В сонете «Герб затаенного Месяца» Бальмонт эксплуатирует один из классических топосов «военной литературы» - великие воины прошлого поднимаются из могил, чтобы в трудный час быть вместе со своим народом. Один раз в год польский рыцарь обретает жизнь и направляет силу своего оружия против врагов родины. Две заключительные строфы отсылают все стихотворение к настоящему моменту: В этот час, когда Пруссаки, Сатанинские собаки, Поднимают резкий лай, Не пора ли нам, Славянам, Древним веря талисманам, Всем Полянам, всем Древлянам, Дружно встать за общий край? Рыцарь Польский, в жизнь влюбленный, Герб твой – Месяц затаенный, Встань, нас час зовет, звеня. О, простим при грозной сшибке Наши общие ошибки, Будем сильны, будем гибки Чрез Причастие Огня. Бальмонт призывает русских и поляков во имя великой цели быть выше того, что он именует эвфемизмом «общие ошибки». Общность славянского самосознания, географическое соседство и, вновь, война как соединение в таинстве Причастия должны подтолкнуть два народа к союзу. Это, по Бальмонту, одна из важнейших «функций» войны. Для мировой истории Россия и Польша – молодые нации, но их ждет великое будущее, если они создадут прочный союз. Польская тема вновь возникнет в творчестве Бальмонта в 1916г., и тогда он раскроет, что же для него значит эта общая миссия двух народов. В октябре 1914г. газета «Биржевые ведомости» провела опрос среди русских политиков, ученых и литераторов на тему «Как вам видится будущее русскопольских отношений». Жесткое вмешательство цензуры в обработку результатов этого опроса ярко продемонстрировало, насколько животрепещущим и неоднозначным оставался этот вопрос для русского общества. Например, ответ Евгения Чирикова подвергся такой сильной цензорской правке, что практически утратил свой первоначальный смысл и содержание. От символистов высказать свое мнение было предложено Сологубу, Мережковскому и Гиппиус. Их ответы объединяло благожелательное отношение к полякам и выражение надежды на преодоление разделения двух народов. Используя те же символы страдания и воскресения, что эксплуатировались в тексте официального русского манифеста, Гиппиус уподобляла польскую драму крестному пути Спасителя на Голгофу. Фактически уклонившись от конкретного вопроса, поставленного газетой, она ограничилась декларацией убеждения в том, что пройдя испытания Гефсимании и Голгофы, Польша должна воскреснуть, возродиться к новой жизни. В своем дневнике Гиппиус уже использовала базовую христианскую символику в связи с первым наступлением немцев под Варшавой: «Польша несчастна, так же как Бельгия, но не по причине одной беды, а сразу двух. Душа Бельгии неделима, а Польша распята на двух крестах». Эта же идея была переработана в центральный образ стихотворения «Три креста». Бельгия распята на одном кресте, Польша на двух крестах, не только физически, но и духовно. Основная мысль заключалась в том, что у Польши в отличие от Бельгии нет единой и определенной национальной идентичности, она разделена между тремя государствами, тремя культурами, однако использование Гиппиус описанной символики малоубедительно. Попытка творчески переработать содержание сцены распятия и заменить Христа и двух разбойников тремя образами Христа была обречена на провал. Кроме того, идея сопоставления страданий двух втянутых в войну народов с целью увидеть, кто из них «более распят», сама по себе довольно сомнительна, даже при том, что она объясняет, почему Гиппиус больше сочувствовала польской трагедии, чем оккупации Бельгии. В то время как Гиппиус ограничивается лишь обозначением собственных симпатий, совершенно очевидно опасаясь неверно использовать письменное слово и тем самым исказить национальную трагедию, Сологуб открыто проповедует нео-славянофильские идеи в «Биржевых ведомостях». Война – это борьба славянских народов против «капиталистического воинствующего пруссианизма». Поскольку только объединенное славянство способно победить германизм, славяне должны «построить общий дом, создать союз (вычеркнуто цензурой) народов и показать миру новый (вычеркнуто цензурой) мировой порядок». Совершенно очевидно, что цензоров очень волновало само слово «свободный», в то время как Сологуб старался больше сделать акцент на тяготении славянства к соборности, сознательном духовном единении на основе христианской любви, чем на идее освобождения и свободы отдельных ветвей славянства. Что касается существующей напряженности в отношениях Польши и России, Сологуб выражал надежду, что она со временем будет преодолена любовью. Но хотя антигерманские настроения действительно настраивали многих поляков на сближение с Россией, идеи панславизма и славянофильства представлялись им малопривлекательными вследствие своей концептуальной близости к великорусскому шовинизму. Первоочередной задачей представлялось завоевать доверие поляков, а это предполагало прежде всего искреннее покаяние русских в своих исторических прегрешениях перед Польшей. Именно этот аспект особенно выделяли Мережковский и Вячеслав Иванов, говоря на тему предполагаемого общего будущего России и Польши. В теории даже крупные европейские державы, существующие с 18 столетия под сенью идей Просвещения, не испытывали никаких угрызений совести перед лицом вопроса о разделении Польши. Что уж говорить о России, роль которой в «историческом мученичестве Польши» была особенно мрачной? И то что факт исторических преступлений был признан не только русским обществом, но и правящими кругами, Иванов считал еще слишком слабым утешением для Польши. Россия должна продемонстрировать свое раскаяние не только на словах, но и на деле, требовал Мережковский. Он не выражается со всей определенностью, хотя понятно, что в принципе разделяет идею Иванова о том, что возрождение возможно, историческую территорию Польши. только если Россия восстановит При этом для Мережковского и Иванова гораздо более значимо, чем воссоединение поляков, окончание вековой межнациональной вражды, достижение большей гражданской свободы. Польша – не только политическое и государственное образование, будущее которого для обоих символистов неопределенно, но прежде всего «живая душа», проникнутая славянским самосознанием. Это самосознание для Мережковского и Иванова определяется польским мессианизмом. Во время войны Мережковский внимательно перечитывал Парижские лекции Адама Мицкевича, в которых польский поэт утверждал, что поскольку путь человека к конечной истине неизбежно проходит через «распятие», поляки к этой истине находятся ближе других народов: Вряд ли найдется еще другой такой народ на Земле, рассеянный, стертый с европейской карты, гонимый, скитающийся, ставший «богоизбранным», «новым Израилем». Польша – это искупительная жертва всего человечества, «распятый народ». Отвергая идею польской исключительности, Мережковский тем не менее солидарен с тем, что горький исторический опыт действительно делает поляков носителями божественной истины. Если человечеству необходим польский опыт как искупительная жертва, русские должны использовать польский мессианизм как средство в борьбе против искаженной формы славянофильства. Мережковский особо подчеркивал отсутствие исключительности: польский мессианизм лишен той алчности, которой обладает его русский аналог, его призвание служить и жертвовать. В конечном счете, это не европейские ценности, которые русские должны усвоить от поляков, как, например, утверждал Иван Бунин, отвечая на вопрос газеты, это ценности христианские, универсальные. Иванов свидетельствовал о своих симпатиях Польше в нескольких публичных выступлениях. Для него привлекательность польского мессианизма заключалась не в его жертвенном и смиренном характере, а в его ориентации на уникальную, вселенскую миссию славян, существование которой Мережковский отрицал. Только в союзе с Россией Польша сможет исполнить отведенную ей роль во вселенской христианской драме, которая уже начала разворачиваться. Общая миссия понимается в религиозном плане, она должна быть исполнена в духе христианской соборности. Примечательно, что Иванов не придает никакого значения расколу между польским католицизмом и русским православием, вместо этого подчеркивая общее для обоих народов исповедание Христа. И если действительно приближается третий день пребывания во гробе – час воскресения Польши, начинается новый этап духовной истории человечества. В качестве объединяющего лозунга для России и Польши Федор Сологуб в конце 1914г. провозгласил "Варшава не должна быть сдана!" Тем не менее захват немцами столицы Польши летом 1915г., по-видимому, был неизбежен. Последовавшее отступление русских и оставление ими восточных областей Царства Польского парадоксальным образом явилось исполнением предсказания о грядущем объединении разделенной Польши. Поражения русской армии не только обнаружили ее военную слабость, но и знаменовали собой провал миссии, определенной манифестом августа 1914г. Константин Бальмонт откликнулся на эти печальные события двумя новыми сонетами. "Еще" и "Мученица" - вариации на тему страдания и мученичества. В стихотворении "Еще" Польша уподоблена Святому Себастьяну, пронзенному тысячью стрел, застывшему в безмолвной муке в ожидании последней стрелы, которая наконец откроет для него двери Рая. В стихотворении "Мученица" Бальмонт сообразно реалиям текущего момента отказывается от изображения воюющей Польши и вместо этого рисует картину крушения деревенской идиллии. Польша аллегорически представлена в образе женщины, одетой в горностаевую мантию, но принуждаемой отложить коронационные торжества. Горностаевая мантия, символ аристократического достоинства и монаршей власти, по мысли Бальмонта должна напомнить полякам обещание России возродить польское государство, при этом имеется в виду, что судьба Польши под сенью немецкой гегемонии будет абсолютно иной. Очевидно созданные под непосредственным впечатлением военных поражений оба стихотворения не дают никаких прогнозов на будущее. Германская оккупация и внутреннее разделение Польши представляются как пытка, обреченная длиться. А вот в стихотворении "Битва орлов" сентября 1915г. Бальмонт сообщает польской теме новое звучание. Военный конфликт Германии и Польши изображен как аллегорическая битва черного и белого орлов. На содержательном уровне образ прост и точен, так как орел на польских мундирах белого цвета, а на немецких черного. Белое против черного - это кроме того столкновение Жизни и Смерти, девственной чистоты и порочной тьмы, Бога и дьявола, таким образом выбор цвета демонстрирует взгляд Бальмонта на внутреннюю сущность войны. "Битва орлов" заканчивается пророчеством победы белого орла после того, как нежданный ветер с моря придет к нему на помощь. Теперь Бальмонт как поэт-романтик усваивает для себя роль пророка. Сны и видения сообщают ему то, что он облекает затем в поэтическую форму. Пользуясь авторитетом признанного символиста, он так комментирует "Битву орлов": "Всё так, как и должно быть. Потому что так мне привиделось. И видения поэта становятся явью". Поэтическое слово являет собой не только провидение, но и - в духе Сологуба - способность поэта воплощать свою волю в материальном мире. Как оказалось, у Бальмонта так же мало возможности влиять на развитие событий и творить желаемое будущее, как и у его собрата по символистскому цеху. Увлекшись предсказаниями, поэт не смог отразить всю сложность ситуации. Намеки на грядущую спасительную военную помощь, исходящую очевидно от англичан, так же не нашли своего воплощения в жизни. В 1916г. интерес русской интеллигенции к польскому вопросу обрел новую жизнь в связи с появлением в России польских беженцев. Влиятельной фигурой в кругу московских символистов стал писатель Тадеуш Мичинский. В начале 1916г. он организовал дискуссию, посвященную польскому мессианизму, в московских Религиозно-философских собраниях. В духе польских эмигрантов 1830-40 гг. Мичинский исповедовал веру в уникальность польской народной души и жертвенную миссию Польши. Судьба Польши подобна мученичеству Христа: но если Христос только миф, нет никакой надежды и на воскресение Польши. Иванов находился под большим впечатлением от этих лекций. Практически единственный в лагере неославянофилов он был счастлив обрести в лице Мичинского польского мыслителя, для которого польский мессианизм был действительной живой силой и который видел разрешение польского вопроса как части общеславянского, находясь, как и сам Иванов, в поиске синтеза польской и русской души. Встреча с Мичинским имела большое значение и для Бальмонта. В феврале 1916г. они вместе появились на вечере в честь польского поэта Юлиуса Словацкого. Показательно, что доклад Бальмонта был озаглавлен "Преображение жертвы. Мысли о Словацком и Польше". Еще одно выступление - "Слово о Польше" - состоялось в июле 1916г. на польском вечере в Москве и показало, насколько сильно Бальмонт был проникнут идеями польского мессианизма. Этот вечер провозглашался событием исторической важности, был исполнен новый польский гимн - с русским переводом, сделанным Бальмонтом. В своем докладе Бальмонт представил идеи, уже воплощенные в его стихах о Польше. Даже в ситуации, когда вся польская территория была занята враждебными России европейскими державами, Бальмонт отстаивает связь русского и польского вопросов и возможность грядущего общеславянского возрождения. Его ранние славянофильские симпатии основывались на интересе к славянской народной культуре и мифологии, теперь же он двигался в направлении идей панславизма. В семье славянских народов центральную роль он отводил России и Польше по историческим и национально-психологическим причинам. Вместе два этих народа отстаивают "целостность и нерушимость славянского характера, славянского гения", и как однажды в истории они вместе остановили агрессию монголов и тевтонцев, теперь они должны бороться против общего врага. Что касается будущего, Бальмонт пророчит территориальное объединение и освобождение Польши, тем не менее оставляя конкретное содержание этого вопроса неопределенным. Бальмонт считал восстановление мира между Россией и Польшей и признание взаимных претензий необходимым условием понимания войны и будущего. Полякам стоит подавить в себе оправданное чувство горечи и обиды на русских, а русским научиться уважать "характер" Польши. Опираясь на легенду о том, как дьявол украл солнце и обрек всех на страдание во мраке, Бальмонт выражает свои собственные опасения в отношении своей родины. Германия, этот дьявол современности, украла "солнце", Россия, "рыцарь", должна в нужный час освободить его. В то же время Россия должна позаботиться о том, чтобы не повторить преступление Германии, сохраняя "солнце" лишь для себя, скрывая его от других на груди великорусского шовинизма. Восхваляя польский народ, Бальмонт все больше критикует и упрекает русских, проявляя тем самым гораздо большую близость к полякам, чем к соотечественникам. Изучая наследие и творчество польских писателей, таких как Адам Мицкевич, Юлиус Словацкий, Станислав Выспяньский, Зигмунд Красинский и Тадеуш Мичинский, Бальмонт пришел к пониманию польского характера как деятельного, стремящегося переделать мир, и что самое важное, с развитым чувством индивидуальности. Верность этому чувству, «последнее отражение рыцарского духа», дает польскому народу силы не только сопротивляться немцам, но и сыграть важнейшую роль в только еще грядущих, смутно угадываемых свершениях, когда будет востребована сильная личность как «орудие Божественного промысла». Таким образом, размышляя об исполнении общеславянской миссии, Мережковский подчеркивал роль жертвенности и служения, Иванов восхвалял общеславянское чувство соборности, Бальмонт обращал внимание на идею свободной личности. Для всех троих символистов польский вопрос стал основой для эсхатологического философствования.