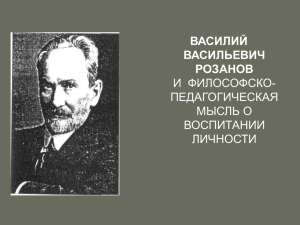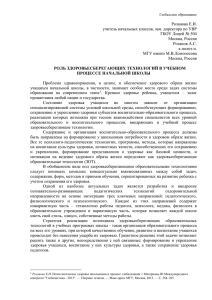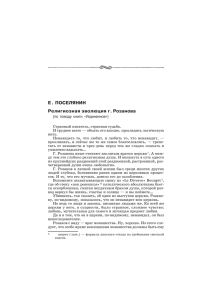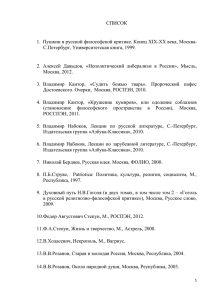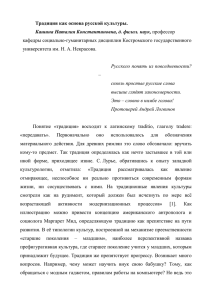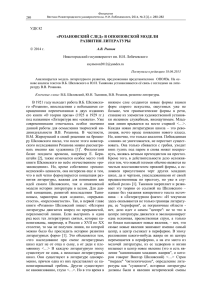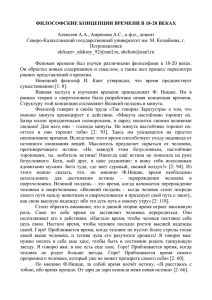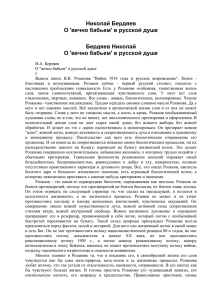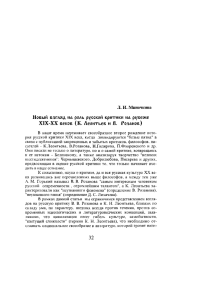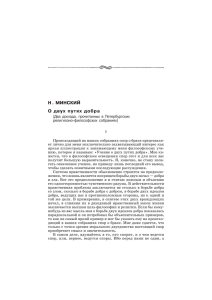Решетова Л.И. (Тула) ДИАЛОГ КУЛЬТУР В «ИТАЛЬЯНСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ» В.В. РОЗАНОВА
реклама

39 Решетова Л.И. (Тула) ДИАЛОГ КУЛЬТУР В «ИТАЛЬЯНСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ» В.В. РОЗАНОВА Среди проблем, в которых XX в. себя выразил наиболее полно, едва ли не самые важные и злободневные так или иначе связаны с культурой. Современный философ В.С. Библер констатирует: «В XX веке все чаще наше бытие (быт, мысль, сознание – социальность, духовность) сдвигается в средоточие культуры" [1]. На исходе XX столетия стало очевидно, что обозначенный процесс впервые заявит о себе в гуманитарной мысли Серебряного века, когда, по наблюдению, И.В. Кондакова, «творческая, расширительная предельно свободная трактовка привычных культурных областей и видов деятельности размывала границы между ними еще недавно казавшиеся вполне определенными и устоявшимися" [2]. С подобной динамикой было связано создание интегративного стиля в русском культуре [3]; установление новых диалогических, по преимуществу, отношений между текстами как внутри одной культуры, так и принадлежащих разным культурам. Именно тогда двадцатым веком был робко, как бы пунктирно, представлен один из возможных вариантов онтологии культуры как диалога культур. В смысловых сопоставлениях самых разных текстов культуры, они, подобно сопоставленным высказываниям, "обнаруживают диалогические отношения, если между ними есть хоть какаянибудь смысловая конвергенция (хотя бы частичная общность темы, точки зрения и т.п.)" [4]. В диалоге серебряный век открывал возможности для смысловой конвергенции разных феноменов культуры. В процессе диалогических отношений происходило и самоопределение русской культуры, уяснение своей собственной сущности, в том числе, в пределах диалогической пары Восток/Запад. Здесь важным оказалось обращение ее к истокам, к корню [5], к "общей родине" европейских культур, что ввело в горизонт серебряного века образы Италии. А.Блок, М.Добужинский, Д.Мережковский, П.Муратов, М.Осоргин, П. Перцов предложили свою интерпретацию итальянской культуры. К приведенному перечню нельзя не присовокупить В.Розанова с его "Итальянскими впечатлениями". Будучи записками путешественника, они, тем не менее, во многом отличаются от традиционных путевых заметок. Не случайно название: "Итальянские впечатления". Определение предполагало включение в число впечатлений не только того, что представляют собой по сути образы Италии, но и заданный ими ассоциативный ряд, сопрягающий воедино образы и тексты разных культур, разведенных во времени и пространстве, выстраивая их диалог. Слово "впечатление" в названии как бы отсыпает читателя к тому принципу восприятия, что утвердился к этому времени в искусстве, он имел в виду активность воспринимающего субъекта, его готовность и способность "мерить мир на себя". У В. Розанова он организует материал в самом произведении и мотивирует ассоциативный ход мысли, диалогические отношения автора-путешественника с текстами как высокой культуры, так и повседневной. Подобный момент взаимоотношения текста и воспринимающего субъекта с автором обозначался ранее: "На одно и то же впечатление всякая отдельная душа ответит разно, и именно в меру того содержания, которое с ней послано в мир" [6]. То есть впечатление – это и возможность обнаружить содержание ЛИЧНОСТИ наблюдателя, воспринимающего индивида. "Итальянские впечатления" явились тем текстом, в котором Розанов раскрыл себя как человек культуры, как произведение культуры, вступающее в диалог с иной культурой. Формула мыслителя: "Культурен тот, кто не только носит в себе какой-нибудь культ, но кто и сложен, т.е. не прост, не однообразен в идеях своих, в чувствах, в стремлениях, наконец, в навыках и всем складе жизни" [7], – предполагает, что поле обнаружение культуры достаточно широко. В заметках об Италии это заявлено со всей очевидностью. Множество разнородных текстов культуры позволили В. Розанову выстроить такие цепи диалогических отношений, как Розанов - Италия - Пушкин; Розанов Католичество - Православие [8]. Поездка в Италию в 1901 году была первым выездом Б. Розанова за пределы России, которую он, волею судеб, до этого объездил и неплохо знал. Италия же, по его словам, отворила двери "религиозного созерцания" и нарушила представление о тождестве понятий "русский" и "руссизм" с понятиями "христианин", "верующий", "христианство", "вера". Верное определение того, что было обнаружено Розановым в Италии, дает наш современник: "Только не совпадая с собственным смыслом, вступая с ним в диалог, индивид выходит в горизонт личности, цивилизации – в горизонт культуры" [9]. Поездка и была для русского религиозного мыслителя уяснением собственного смысла, открытием своего содержания, заявившего в таких личностных 40 ипостасях как "русский", "православный", "христианин", "историк", "землянин". Узкие рамки общественного интереса, в которых Розанову виделась заключенной личность, преодолевались предельно широким социокультурным пространством, в которое индивид начала двадцатого века помещал себя. В пределах серебряного зека не только русская культура в целом, но и отдельная личность обозначала пути своего самоопределения. Первые впечатления – это наблюдения над тем, в чем себя представило чисто внешне нерусское ХРИСТИНСТВО, т.е. западное, – католичество. Это те приметы несходства со своей верой, что могут быть замечены человеком из толпы, живущим более общими впечатлениями от церкви, нежели вхождением в ее подробности". И этому человеку, бродящему по улицам Рима, внутренний голос шептал: "Не то, не то! Это совершенно не то, что смиренная вера Москвы, Калуги Звенигорода, моей родной Костромы" [10]. Далее Розанов осуществляет вхождение в подробности церкви, от внешних наблюдений обращаясь к уяснению глубокой непохожести слежения католицизма и сложения православия, "гаммы души и веры православно с гаммой души и веры католической". Импульс к размышлениям об уяснении сложения каждой из Церквей, о разности двух тенденций в христианстве и выявлению между ними смысловой диалогичности был дан пением священников в Соборе св. Петра. Затем среди итальянских впечатлений самыми важными будут те, чья суть – "художественные воплощения отношения к Богу". Богослужения в Великий четверг, а Страстную пятницу, в день Пасхи в Соборе св. Петра, в Страстную субботу в Колизее формируют ассоциативную цепь, важное место в которой занимают условия и подробности русской обрядности; так как наблюдаемые сцены заставляют реконструировать аналогичные моменты в православной традиции, выйти к обозначению принципиально-важных моментов разности двух Церквей, которые для него не исчерпываются догматическими отличиями. Не менее значимы и их бытовые воплощения, определяющие собой склад жизни. "Целуй ночь, лежа в постели, я продумал об идее и психологии и основаниях поста и не пришел ни к чему ясному" (29). Однако в "Итальянских впечатлениях" появляются размышления о связи поста с душевным строем верующего: "Пост и вообще разделение года на полосы мясоедства и поста, в сущности, и в настоящее время обнимают всю бытовую, трудовую и религиозную жизнь восточного православного человека; и вот он живет не ровным темпом, а полосами, порывами, в сущности – увлечениями, то в сторону грусти, то в сторону необузданного веселья и всяческого невоздержания. Но, очевидно, русской крови, русской душе это пришлось "по душе", и она теперь живет, существует, то "шапку набекрень", то "с воздыханием" (29-30). В.Розанов подметил связь православной обрядности с ментальностью русского человека. Догматы дают свои культурные проекции в повседневность. В католичестве нет поста, "а нет поста – и не будет "разгавливания". Поэтому нет куличей и пасхи. Это очень скучно. То ли дело у нас: какое веселое и даже прямо восхитительное зрелище представляют в Петербурге и в Москве кондитерские в Великую субботу, а также и каждый дом, и каждая семья (28-29). Вхождение в подробности непосредственно цepковного богослужения обнаруживает для В.Розанова все более убедительную разность в сложении католичества и православия. "ТИХАЯ месса" и сидения, имеющие место быть в католических храмах, видятся автору впечатлений проявлением их камерности: "Итальянские и вообще католические церкви более частные и внутренние и интимные центры религиозного сосредоточения человека, нежели церкви восточные", а "наш храм есть официльное религиозное место" (53-54), но домашние церкви в России дают возможность осуществления личных молитв, тем самым близки католическим храмам. Переплетение в католической обрядности внутреннего и внешнего, личного и государственного, что, по мнению В.Розанова, отразилось и в существовании "тихой мессы", сделало возможным фреска Рафаэля, смелые концепции которого связаны с католицизмом. Здесь русский мыслитель, как и в размышлениях о месте поста в жизни православных, стремится к интегративному аспекту рассмотрения проявлений католицизма. На протяжении всей книги ее автор выстраивает диалог служителей католической и православной Церквей, глазная мысль которого: "католическое духовенство мало что имеет в себе общего с нашим"(44), католические священники "противоположны по всей своей нравственной и умственной и религиозной структуре" (44). В католичестве примечательна свобода поведения, следующая за свободой выбора, который делает итальянец в пользу служения католицизму. Католичество дает возможность личностного проявления, и потому все лучшее стремится сюда, поэтому "католицизм вобрал в себя все талантливое из расы", но у нас, пожалуй, "русская литература съела русский дух" (45). В.Розанов создает образ католической Церкви, полной значимости и величия, суть которого в том, что "это армия от Христа и что она не погибнет до скончания мира" (45). Такое заключение – результат соединения тонких наблюдений с весомыми фактами, как бы реализация авторского принципа – "действительно только через 1000 точек на нее зрения - и определяется". Вывод, объемлющий все впечатления путешествующего по Италии: "Да это – не разделение церквей, как пишут учебники, "это – не секта, не толк, не учение: это совсем разные религии – православие и католичество" (27). Под небом Италии В.Розанов чувствует себя не только православным, но и русским человеком. Реалии русской культуры постоянно дают знать о себе. Они введены в текст для того, чтобы зримо представить русскому читателю то, что открывалось взору путешествующего мыслителя. Автор отсылает 41 читателя к разнообразным текстам культуры, способствующим такой наглядности. Так возникают самые неожиданные и странные сближения: в каменной стене Капри есть "отверстие, похожее на устье русской деревенской кухонной печи"; Ватикан напомнил архиерейский дом; вилла в Боргесе – старый дворянский дом, а парк вокруг нее – Нескучный сад; горы Капри – совершенно Крымские; представление о Колизее, вмещающем в себя 87000 зрителей, может дать упоминание о том, что "это все население наших городов, как Калуга, Тула, Орел"; а этрусский музей не богаче, чем отделение этрусских ваз в нашем Эрмитаже". Подобное обращение к реалиям русской жизни приводит к причудливым диалогическим перекличкам, где момент конвергенции подсказывается всем контекстом повествования. Колизей, с одной стороны, как бы возвращает в прошлое, общее для всех христиан, католиков и православных, в то прошлое, когда лилась кровь мучеников; с другой, может быть, неожиданно, но в пределах "Итальянских впечатлений" вполне естественно, – в Москву. Сияющий электричеством памятник архитектуры напомнил, как "в коронационные дни императора Александра III Московский Кремль был впервые освещен светом". В этом пространстве оживает минувшее. Помпеи обратили память к гимназическим и студенческим годам изучения Цицерона и Плавта, через которых тогда не удалось проникнуть в античный мир. Ватиканская зооскульптура заставляет вспомнить далекое детство, когда мальчик наблюдал, как крадется за мышью кошка. Пространство этих впечатлений определено топикой России: Петербург. Москва, Смоленск, Кострома, Брянск, Павловск, Крондштат и, уже упоминавшиеся, Калуга, Тула, Орел. Другой способ введения текстов итальянской культуры в структурный ряд – экфрасисы. Они могут строго следовать тексту, избранному для представления в экфрасисе – зкфрасисы-описания, или перемежаться суждениями об изображенном – экфрасисы-интерпретации. "Митра, красивый юноша вo фригийском одеянии и шапочке, всунув два пальца левой руки в ноздри громадного быка, загибает ему голову к верху, а правой рукой вонзает нож в выпяченное горло: зрелище кровавое и неприятное. Поодаль этой главной сцены стоят две человеческие фигуры: стоящая впереди держит горящий факел наклоненным вниз. Это смерть, символ и показатель одной тайны нашего бытия, что все кончается, все умирает, как этот павший на передние колена жертвенный бык. Вторая фигура стоит сзади главной сцены и держит тоже зажженный факел, но поднятый кверху: жест указывает на неоконченность жизни в видимой смерти и что за гробом она зажжется вновь" (67). Приведенный зкфрасис-интерпретация работает на создание единого этического пространства от митрианцев до современников и соотечественников В.Розанова: "Тема, так тревожившая Ивана Ильича ("Смерть Ивана Ильича", по-видимому, тревожила и митрианцев.., 69). Полагая, что "эпоха догматического существования вообще прошла и выступает эпоха скорее художественных воплощений отношения к Богу, эпоха скорее художественных воплощений, нежели умственноконструктивная (догмат)" (125), Розанов и обращается к тем художественным воплощениям, где в пределах итальянской культуры проявляется язычество, что способствует выражению христианского содержания личности. Оформлению одной из арок фасада храма Януса – "жертвоприношение; огромного быка ведут четыре жреца. На другой стороне арки – того же быка закалывают" (38) – заставили осознать "контраст веры у зрителя и скульптора". "Конечно, я оттащил бы быка, - хоть за хвост, в сторону, и дал ему сена, и ни за что не дал бы его жрецам, т.е. для меня он – жертва в смысле несчастия" (38). Прочитав текст языческой культуры, Розанов дал ясное представление о ее сути и одновременно обозначит свое отношение к ней, отношение человеке двадцатого века, христианина. Возможен и еще один вариант введения текста итальянской культуры в диалогические отношения. Он лишь называется и, кажется, лишь затем, чтобы выстроился ассоциативный ряд впечатлений, достаточно протяженный, создающий огромное социокультурное пространство. В залах близ Сикстинской капеллы Розанов упоминает особенно поразивших его чудесным вымыслом "Афинскую школу" и "Спор о причастии" Рафаэля. Они так же, как и другие фрески, поражающие "свободой успокоенного вымысла", провоцируют рассуждения о свободе творческой фантазии, соответствующей свободе исторического момента, чем заявили о себе в художественном воплощении. Удивительное единство живописи великого художника и катакомбных рисунков было следствием единства крови, единства почвы, многовековой традиции от мученика Себастьяна до Рафаэля Санцио. Затем следует совершенно удивительное продолжение; "Как есть единство крови в "Запорожцах" и в Репине, который нарисовал запорожцев, и в "Богатырях" и в Васнецове, их изобразившем" (52). И далее, выстраивая диалогические отношения итальянской и русской культур, заключает: "У нас христианство - тихое, уже победившее; не из катакомб ворвавшееся во дворцы, но от князей переходившее к народу, который и принял его бережно, как княжеский дар, а князья приняли его бережно же из великолепной Византии в свою деревенскую, Киевскую и Владимирскую, простоту" (54). В своем диалоге с христианской культурой В. Розанов обнаруживает еще одну свою личностную ипостась – ипостась историка. В этом качестве он обращает внимание на то, мимо чего прошел бы человек массы, христианин православный россиянин. Тексты представляющие "общую родину", могут быть "нашими" и принадлежать иной не европейской культуре, и историк это обозначает: "РИМ – еще наш, от него остались Колизей и Капитолий", не Карфаген и его искусство, "и чудный узорный ум, и характер – уже вовсе не наш! И все – не наше! И боги, и наряды, и жизнь, и человек! Историк не может без волнения это видеть" (60) Ощущение себя историком в Италии Розанов переживает очень часто, ибо "вообще, путешествуя по Италии, дотрагиваешься рукою до истории; тогда как сидя дома, только думал о ней" (107). Личность, православная традиция и целые эпохи определяются через искусство, культуру. Всюду 42 обнаруживается связь человека с прошлым, без чего не началась бы история. Эстетические переживания творений Микель-Анджело открывают Розанову суть современного состояния русской жизни. Главное в ней – отсутствие той свободы, что явлена в произведениях титанов Возрождения. "Вот природной-то жажды к свободе, не подогретой, не искусственной в нас и нет, или ее мало; мало ее в американце и в русском, а в тех людях она была" (48). Здесь местоимение "мы" объединило современников Розанова на разных континентах; он и себя включает в число тех, в ком мало жажды к свободе. В других случаях это местоимение указывает на принадлежность автора к русским, православным, христианам, историкам. Упоминание жителя другого контитента весьма примечательно. Оно как бы преодолевает обозначенные географические границы, включает в процесс личностной самоидентификации еще один момент. В Италии, припав к корням европейской культуры, он одновременно с чувством своей принадлежности ей, осознавал в себе ранее не знакомое чувство "планетности нашей жизни". Подъем на Везувий задает новую точку зрения личности на себя, а вместе с тем и новый хронотоп, в преданиях которого "я" должно опять же определиться и обрести самое себя через диалогические отношения с окружающим миром. "Как все условно, как условен я, где низ, где верх, не знаю. Неаполитанский залив – точно над головой, до того далеко, до того в воздухе – как постоянно воздухе перед нами одно небо. Что же такое я? Точка, атом. И как я бессилен. И как боюсь. Как мал мой дух. О, я знаю, что я – в безопасности...>. Но я боюсь, метафизическим особенным страхом, боюсь своей малости и огромности" (83). Этот страх вызван прежде всего потерей душой точки опоры, она как бы оторвалась от нее подобно тому, как оторвался акробат от трапеции в своеобразном прологе главы «Чудовище», повествующей о восхождении на Везувий. Но это состояние свободы о почвы побуждает в авторе « … чувство планетности нашей жизни…Никогда ведь оно не доходит до сердца. Живем в Петербурге, а не на земном шаре, на Шпалерной улице, а не в части света, именуемой “Европа”» (79). Далее Розанов пытается определить и обозначить словами это новое впечатление, свое переживание чувства земного шара, которое оказывается ''огромным", "ужасным", новым". Его трудно вместить в себя и "Мне, конечно, захотелось домой". Домой – это, где ты русский, христианин, православный! Рискнем предположить, что здесь В. Poзанов обращает реплику диалога в будущее, в пространство двадцатого века, культуре которого будет дано освоить чувство планетности. И если единение Церквей – "мечты гимназиста класса", то единение тех, чьи культуры имеют общий корень, возможно в виду огромно чувства земного шара, в пределах которого человек – произведение культуры – пережив свою малость, где нарушены привычные связи и обнаружена относительность их. Введение христианства в пространство земного шара доставляет Розанову-христианину беспокойство за судьбу веры: "Далекая Америка живет без идей, и "существование без высших идей побеждает и едва ли не победит христианство, как христианство некогда победило классицизм" (112). "Итальянские впечатления" В.Розанова – это впечатления от "художественных воплощений отношения к Богу", от хронотопа, что они определили собой (катакомбы первых христиан и Америка, таящая угрозу христианской вере), от всего склада жизни в Италии ("где вся жизнь точно секундная стрелка"(75), а у нас в России – "точно часовая"). Все они оказываются соединенными в один ассоциативный ряд, где прослеживаются диалогические отношения разных культур. Так обозначается "неуловимое и цельное явление связанности и преемственности, без которой не началась история и продолжается только варварство" (113). Думается, что диалог культур, предложенный В.В.Розановым в "Итальянских впечатлениях", способствовал повороту "историков и философов (Л.П. Карсавин, НА. Бердяев, Н.Н. Кареев) в сторону Запада для сравнения традиций, хотя и разных, но христианских" (11). Примечания 1. Библер B.C. Культура XX века и диалог культур: тезисы с краткими комментариями // Диалог культур: Материалы научной конференции "Випперовские чтения" -1992. Вып. XXV. Ml., 1994. С. 5. 2. Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры (теоретический очерк). М., 1994. С. 153. 3. Там же. С. 152, 155. 4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1994. С. 321. 5. Примечательна фраза из письма о. П. Флоренского В. Розанову: "Наше сходство - это острая, до боли, любовь к конкретному, к сочному и, скажу определенно, к корню (выделено автором письма) - к корню личности, истории, бытия, знания" // Священник Павел Флоренский. Детям моим. Воспоминанья прошлых лет. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание/ Сост.: игумен Андроник (Трубачев), М.С. Трубачева, Т.В. Флоренская, П.В. Флоренский. М., 1992. С. 280. 43 8. Розанов В.В. Сумерки просвещения (Сост. В.Н. Щербаков). М., 1990. С. 13. 7.Там же. С. 29. 8.0 диалоге Розанов-Италия-Пушкин см. в статье: Хлодовский Р.И. Италия В.В. Розанова (Заметки и выписки о своего роде "диалоге": Розанов-Италия-Пушкин).// Диалог культур: Материалы научной конференции "Випперовские чтения-1992". Выл. XXV. М., 1994. С. 18. 9. Библер B.C. Указ. соч. С. 18. 10. Розанов В.В. Итальянские впечатления //Собр. соч.: Среди художников / Общая ред. и вступ. ст. А.Н. Николюкина. М., 1994. С. 27. Далее цитирую по этому изданию с указанием страницы в тексте статьи. 5. Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре: История: Миф, Время, Загадка. М.. 1994. С. 34.