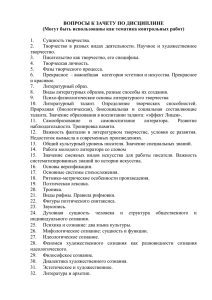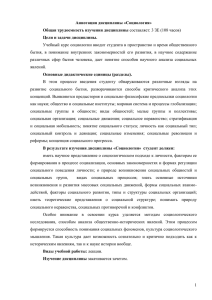Сборник научных статей ГРАНИЦЫ ИСКУССТВА И
advertisement

1 Памяти нашего учителя, коллеги и друга Аркадия Федоровича Еремеева 2 Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина Liberal Arts University – University for Humanities Гуманитарный университет The Boundaries of Art and Culture Areas Границы искусства и территории культуры Сборник научных статей Ekaterinburg 2013 Екатеринбург 2013 3 4 5 УДК 18+008 ББК 87.8+71.0 Г 77 СОДЕРЖАНИЕ Составители и научные редакторы: д-р филос. наук, проф. Л. А. Закс, д-р филос. наук, проф. Т. А. Круглова Г 77 Границы искусства и территории культуры : сб. науч. ст. / сост. и науч. ред. Л. А. Закс, Т. А. Круглова. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина : Гуманитарный университет, 2013. – 261 с. ISBN 978-5-7741-0220-4 Авторы статей – философы и культурологи продолжают исследование специфики современной художественности, начатое в сборнике «Онтология искусства» 2005 года. В настоящем сборнике представлен итог работы серии теоретических семинаров, в центре которых традиционно центральная проблема философской эстетики – природа искусства – исследуется сквозь призму концепта «границы». Идея подобного подхода принадлежит известному российскому эстетику А. Ф. Еремееву. В книге обобщаются методологические поиски внутренних границ искусства: показана неисчерпаемость классической парадигмы философии искусства, а также предлагаются к обсуждению новые концепции на базе освоения опыта современной западной и отечественной философии искусства, осмысляется трансформация художественной онтологии под влиянием новых культурных феноменов постиндустриального общества: электронных медиа, компьютерных игр, рекламы. Сборник адресован исследователям искусства и культуры (эстетикам, искусствоведам, филологам), преподавателям и студентам, всем, кто интересуется искусством, его сложным «устройством» и существованием. ISBN 978-5-7741-0220-4 © УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2013 © Гуманитарный университет, 2013 © Коллектив авторов, 2013 Предисловие .................................................................................. 6 Л. А. Закс Искусство в условиях территориальных порядков и границ культуры: классика, модернизм, постмодернизм.... 7 Б. В. Орлов Художественность, как она есть: проблема адекватной спецификации .................................... 30 Е. В. Рубцова Смысловая множественность современной художественности ........................................... 65 Т. А. Круглова Художественный консерватизм: исторический генезис, типология, социокультурные основания ................................................. 92 Е. В. Синцов Жесто-пластическая природа художественно-эстетических интенций ............................. 109 Н. Л. Быстров Пространственно-временная структура театрального мира Н. В. Гоголя и М. А. Булгакова: попытка сравнения ............................................................. 132 О. Б. Сергеева Антонио Менегетти: психологический подход к типологии искусства ............... 177 Л. Э. Старостова Произведение: коммуникация в эпоху игрового ................. 190 К. Федорова Телематическое искусство и мобильное картирование: эффекты дистанции ............................................................ 211 М. Ю. Гудова Особенности современной художественности на примере арт-проекта Кшиштофа Водички: Projekcja Weteranow Wojennych (Кrakow, 23.07.2013) ....... 236 А. А. Сухов Компьютерные игры и искусство (к постановке проблемы) ................................................... 247 6 7 Предисловие Настоящий сборник вышел в свет по инициативе ученых кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. Основателю кафедры – доктору философских наук, профессору Аркадию Федоровичу Еремееву, в 2013 году исполнилось бы 80 лет. А. Ф. Еремеев – известный российский эстетик и культуролог, автор учебников и монографий по философии искусства, по которым постигало законы эстетического сознания не одно поколение. Аркадий Федорович – создатель фундаментальной концепции сущности искусства, оригинальные идеи которой стимулируют исследования художественного бытия не одно десятилетие. Одна из последних книг Еремеева А. Ф. называлась программно – «Границы искусства», и для нас также чрезвычайно значима установка на изучение постоянно меняющейся конфигурации границ между художественным и нехудожественным, существенно влияющей на семантику понятия «искусство». Мы, с одной стороны, убеждены, что «художественное» имеет внутренние и устойчивые границы, свою необходимость и онтологию, но в то же время философско-эстетическая рефлексия ХХ века показала, что комплекс признаков искусства как социокультурного феномена необычайно разнообразен, подвижен, контекстуален, склонен к мобильным и пластичным трансформациям. Коллеги и ученики Аркадия Федоровича продолжают осмысление онтологии искусства, его социокультурной природы на теоретико-методологических семинарах, названных в честь нашего учителя – Еремеевские чтения. Сборник, предлагаемый вашему вниманию, составлен на основе докладов, прочитанных на Вторых Еремеевских чтениях «Границы искусства и территории культуры». Т. А. Круглова, Л. А. Закс Л. А. Закс* Искусство в условиях территориальных порядков и границ культуры: классика, модернизм, постмодернизм С ущность и специфика искусства – вечные вопросы эстетики. Но подойти к ним можно с очень разных сторон, ибо интуиция (взращенная не только опытом общения с искусством, но и опытом его системного видения) говорит нам, что в любом аспекте существования искусства, в любой его точке, любом проявлении мы сталкиваемся – так или иначе – с обнаружением этой единой сущности-специфики. Правда, это самое «так или иначе» само есть проблема: как именно всякий раз (и почему именно так) обнаруживает себя пресловутая «сущность-специфика» (или «сущность/специфика»), мы не вполне (а иногда совсем не) представляем. А. Ф. Еремеев, всю профессиональную жизнь думавший над проблемой сущности/специфики искусства, в своей последней большой книге по эстетике пришел к, условно говоря, пространственно-онтологическому взгляду на нее. Что и выразилось в соответствующем концептуальном образе: «границы искусства»1. В этом, несомненно, были и чисто логические, имманентные классическому дискурсу об искусстве, резоны: сущность искусства конституирует функциональную систему его существования – не только с ее особой (объективно-онтологической) структурой, но и с особым системным качеством * Лев Абрамович Закс – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, ректор Гуманитарного университета (г. Екатеринбург). 1 См.: Еремеев А. Ф. Границы искусства. – М. : Искусство, 1987. – 319 с. © Л. А. Закс, 2013 8 содержания, формы и самого существования целого и всех его частей. В результате и возникает, с одной стороны, внутренняя качественно-специфическая определенность (можно сказать – самоопределенность) искусства. Его, так сказать, «для себя- (и для его субъектов) бытие»2. А с другой, и тем самым, – его пространственная, бытийно-функциональная и качественно-феноменологическая (формально-содержательная, знаково-информационная) о т г р а н и ч е н н о с т ь от всего остального – того, что нехудожественно и н е е с т ь искусство. Но в этом «ходе» с «границами», помимо знания-убеждения в рамках определенной теоретической парадигмы, была еще, я думаю, и чисто эмпирического происхождения интуиция новых форм существования искусства и его новых активных отношений с «другими», что интеллектуально актуализировало и активизировало старую проблему «сущности/специфики» и, соответственно, его границ. Эти границы – достаточно неожиданно и в то же время вызывающе неправильно с точки зрения «классического» понимания искусства – утратили свои четкость, логичность и незыблемость. Что смущало (а порой и возмущало – у некоторых эстетиков это возмущение не прошло и по сей день), «путало карты», а если рассуждать рационально – подталкивало к новому видению, пониманию и объяснению одного из древнейших явлений человеческой культуры. Хотя, повторю, у чуткого к новизне явлений и идей А. Ф. Еремеева общий взгляд оставался заданным классической парадигмой (о своеобразии которой – в сравнении с новой реальностью и ее теоретическим осмыслением – речь пойдет дальше). 2 Автор данного раздела предложил свое видение онтологии искусства в единстве его объективного функционального социокультурного бытия, бытия функционально-художественного («в себе-и для себя-бытия») и художественно-образно-смыслового («для-нас-бытия» особой художественной реальности). (См.: Закс Л. А. Проблемные поля онтологии искусства // Онтология искусства. – Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2005. – С. 6–33). 9 Здесь уместно от А. Ф. Еремеева перейти к М. М. Бахтину, который еще в 1920-х гг. в культурфилософском масштабе обозначил ставший сегодня особенно актуальным онтопространственный план (срез, аспект) осмысления искусства. Молодой Бахтин тоже, несомненно, мыслил об искусстве классически (вслед за Кантом и неокантианцами). Но «добавленный» им в классическую картину (искусства как такового) ракурс-горизонт создавал новые повороты, новое напряжение в видении старой проблемы. Что же «добавил» Бахтин? Системное, по сути, видение культуры (точнее было бы сказать: духовной культуры) и видение необходимой и органической включенности в эту систему, зависимости от нее искусства (ранний Бахтин, таким образом, оказывается одним из зачинателей системно-культурологического подхода к искусству). Причем представил Бахтин эту зависимость не только чисто эссенциально, но и онтологически, топографически (саму топографию трактуя и изначально содержательно, смыслообразующе и предельно широко – как любое «место», любую данность существования, отношений). Цитирую давно всем известные и многократно повторяемые по разным поводам слова: «Проблема той или иной культурной области в ее целом – познания, нравственности, искусства – может быть понята как проблема границ этой области. <…> Не должно, однако, представлять себе область культуры как некое пространственное целое, имеющее границы, но имеющее и внутреннюю территорию. Внутренней территории у культурной области нет: она вся расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее, систематическое единство культуры уходит в атомы культурной жизни, как солнце отражается в каждой капле ее. Каждый культурный акт существенно живет на границах: в этом его серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым, вырождается и умирает. <…> Только в этой конкретной систематичности своей, т. е. в непосредственной отнесенности и ориентированности в единстве культуры, явление перестает быть просто наличным, голым фактом, приобретает значи- 10 11 мость, смысл, становится как бы некой монадой, отражающей в себе все и отражаемой во всем»3. Бахтин, как мы видим, особо акцентирует системную, универсально-сущностную связь конкретной «культурной области» с культурой. Поэтому для него границы (и их значимость) суть, прежде всего, конституирующие своеобразие и автономию данной области и потому проходящие повсюду: «через каждый момент ее» связи-отношения с целым. Отсюда и вытекает у Бахтина его, в общем, конечно, странное и, я думаю, не адекватное реальному положению вещей отрицание внутренней территории культурной области. Что не мешает Бахтину – практически тут же! – рассуждать об отношениях конкретных областей культуры между собой, в которых каждая и опирается в своем собственном отношении к миру на специфические плоды мироотношения других, как бы вбирает их в себя и, одновременно, утверждает-сохраняет свою специфику. А это все ведь как раз подразумевает наличие автономной и специфичной «внутренней территории», органично реализующей особую, пусть и определяемую извне – большой системой «внутреннюю сущность». Границы, таким образом, конституируются встречным движением двух логик – двух линий конституирующей территорию искусства детерминации. Это, условно говоря, «логика Бахтина»: макросистемное, идущее извне – от культурысистемы – «полагание» необходимости и специфической сущности «культурной области». И как бы идущая ей навстречу «логика Еремеева»: «полагание» самой этой сущностью – для своего самоосуществления – особого внутреннего, отграниченного от явлений иной сущности пространства. (Не могу не отметить, что ощущение необходимости и реальности особости, специфики и самих художественных феноменов, и произведенного для их бытия и воздействия пространства – в каких бы объективных пространственно-временных обстоятельствах в различные эпохи ни существовало искусство – 3 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М. : Искусство, 1975. – С. 24–25. всегда было важнейшей фундаментальной составляющей исследовательского сознания Аркадия Федоровича Еремеева, начиная с его ранней книги о первобытном искусстве4, но особенно рельефно и плодотворно это ощущение сказалось в его поздних теоретических и художественно-критических работах5.) В целом же границы связывают и разграничивают, соединяют и разделяют, полагают единство с другими, «причастность» к ним – и отличие от других (специфику), «автономию» (в кавычках – слова Бахтина). Как системно-сущностные и, связанные с ними непосредственно, содержательноформальные, так и бытийно-пространственные. Для искусства – в силу его особых социально-духовных задач и рожденной ими неукротимой энергии-тяги к существованию «в родстве со всем, что есть» (Б. Пастернак), или со-бытию (Бахтин), и смыслу – эти отношения и границы всегда, на протяжении всей его истории, носили не только значимый, но и неизменно активный, даже скажу сильнее – аттрактивный характер. Поэтому же для искусства всегда была релевантна не только многоплановая содержательность культуры, но и ее территориально-структурные «порядки», функциональные особенности (так сказать, статус) его многоаспектных внутренних и внешних границ. Все это – основа и материал художественного информациогенеза и художественной коммуникации, что особенно наглядно продемонстрировало искусство новейшего времени. Эта универсальная закономерность («статус и роль границ»), естественно, исторична: со временем (в зависимости от типа культуры) она меняется сама и, посредством территориально-онтологического влияния, вносит свой вклад в конкретно-историческую специфику искусства. Принципиально присущая искусству в силу его особой культурной природы поливалентность меняется вместе с системой куль4 Еремеев А. Ф. Происхождение искусства. – М. : Молодая гвардия, 1970. – 212 с. 5 См., например: Еремеев А. Ф. «Метель» А. С. Пушкина: тайна смысла и логика сюжета. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 172 с. 12 турных границ и через свои пограничные, трансграничные отношения приводит к изменению самого искусства. Для наших целей (осмысления современного искусства) вполне достаточно будет выделить три типа культуры с отличающими их, соответственно, тремя разными «пограничными ситуациями» (к категории К. Ясперса никакого отношения, разумеется, не имеющими). Замечу еще раз, что эти пограничные ситуации включают в себя как внешние границы искусства (с другими феноменами культурной жизни), так и границы внутри самого «мира искусства» – художественной культуры (морфологические, жанровые, стилевые, мироконцептуальные, ценностно-нормативные, интертекстуальные и т. д., причем для всех этих модификаций как синхронные, так и диахронные). При этом внешние и внутренние границы (как и стоящие за ними культурные подсистемы) имеют, скорее всего, различную историческую детерминацию и динамику, но мы, отвлекаясь от этих различий, их типологически уравниваем, сводя к трем общекультурным типам. Первый, исходный для нас тип культуры, охватывающий едва ли не всю историю искусства до рубежа XIX–XX веков, – классический. Что отличает его (и, соответственно, классическое искусство) в интересующем нас территориальном аспекте, аспекте внутренних и внешних границ? Классическое искусство, в полном соответствии со своей функциональной осваивающей природой, универсально, т. е. всеохватно, всеобъемлюще в своем отношении к миру, а потому и поливалентно. Специальных примеров, пожалуй, и не требуется. Но это универсализм и поливалентность на основе строгой и четкой, иерархически организованной системы «горизонтальных» и «вертикальных» ценностей, возглавляемой стоящими на ее вершине абсолютами (не только Богом, но и истиной-правдой, добром, красотой, справедливостью). И этой в главном незыблемой системе ценностей соответствует характер территориального порядка («разметки») культуры: классическая культура предполагает столь же строго определенное разделение-разграничение культурных областей (сфер), любых морфологически различных реалий. 13 И, соответственно, границы между ними прозрачны и проницаемы, но непререкаемы и незыблемы. Как бы тесно поэтому ни взаимодействовали в рамках классической культуры различия (воплощающие их территории), они остаются неколебимо самотождественны, не сводимы друг к другу и друг другом не заменимы. Они, впрочем, и не пытаются делать это. Характерно, что именно в классической культуре возникают «окончательно» оформленные, утвержденные Кантом идеи самоценности, внутренней самодостаточности основных сфер культуры: познавательной, этической и эстетической. И это относится не только к отдельным эстетическим ценностям («прекрасное должно быть величаво» – так Пушкин утверждает его самоценность вслед за Кантом и романтиками), но и к искусству в целом. Поэтому в классической культуре идея «служения» искусства Богу, истине, морали, государству органично уживается с противоположной по видимости идеей служения искусству «единого прекрасного жрецов», а потом и «искусства для искусства». Классическая культура нормативно и ментально, субъективно закрепляет свой строгий территориальный порядок, незыблемость границ6, «сторожит» их. Отражением, продолжением и закреплением строгих разграничительных линий культуры становится система оппозиций культурного созна6 Вдруг подумалось, что при этом жизненная (допустим, политическая и военная) практика классических эпох постоянно эту незыблемость нарушает, насильственно ломает, демонстрируя расхождение культурных порядков и «витального», «докультурного» содержания жизни. Такого рода противоречия, по-видимому, имманентны человеческому существованию, более того – они фундаментально значимы для него, составляя источник динамики и развития как жизни, так и культуры. Теоретически эти противоречия важны как пример бытийного зазора человеческого рода и способа его существования (культуры) и основание не слишком абсолютизировать формулу «культура – вторая природа», как минимум не забывая природу первую. Тем не менее, в нашем случае нужно помнить, что «вульгарная» практика только подстегивала ценностно-нормативную решимость культуры и ее субъектов, в том числе их верность незыблемости границ. Сошлюсь на «бунтаря» Чацкого: «…смешивать два этих ремесла есть тьма охотников – я не из их числа». 14 ния. Настоящее/прошлое, прекрасное/безобразное, поэзия/ проза, реальное/идеальное, высокое/низкое (и, как продолжение последней, элитарное/массовое), историческое/неисторическое, реалистическое/условное (аллегорическое, фантастическое и т. п.), изобразительное/неизобразительное, серьезное/смешное. Как и оппозиции внешних искусству сфер и границ: светское/религиозное, этическое/эстетическое, утилитарное/духовное (неутилитарное), наконец искусство/ жизнь. Строгость разграничений и четкость возникающего на их основе смыслообразования создают стабильность организации культурного мира, устойчивость и надежность его порядка и ориентации человека в нем. Эти высокие упорядоченность, ясность и надежность структурации («зонирования») культурного мира и сознания, или, если хотите, сознания и мира, становятся атрибутами и синонимами классики. Характер «строгости» территориальных делений и границ, разумеется, исторически менялся. Скажем, характерные для культуры XVII–XVIII вв. риторические отношения языков искусства и жизни сменились более «прямыми» и простыми, приближенными к реальной жизни и даже повседневности, стали менее «искусственными», более органически-безусловными. Точно так же внутри искусства менялись отношения между жанрами: от почти канонического деления на высокие и низкие и непроходимых границ между ними (в классицизме) – к их эстетическому равноправию («все жанры хороши, кроме скучного», по Вольтеру) и все более активному взаимодействию, образованию жанровых «микстов» в барокко и разных вариантах реализма. Это свидетельствует о том, что границы между жанрами стали проницаемыми. Но, заметьте, не перестали быть = выполнять свои разделительные функции, обозначая разнокачественные, во многом разноприродные, управляемые разными законами и нормами территории (языки, миры, смыслы)7. Искусство уже играет с этими границами, «тасует колоду» разнокачественных территорий (жанров, 7 Только в такой системе культурного мышления – системе, где и самые сложные, многозначные и динамичные отношения базируются на инва- 15 потом стилей), но – не отменяет их, игровым способом только усиливает, акцентирует их значимость. Примером такого рода игры с культурной полифонией – игры на границе (и с границами) жанров, стилей, традиций и обычаев искусства и жизни, даже персонально-авторских территорий выступает «Евгений Онегин», что глубоко осмыслил и хорошо показал Ю. М. Лотман. А остроумный А. Д. Синявский в блестящих «Прогулках с Пушкиным» подобным образом осмыслил все его творчество, как и жизненное поведение, акцентируя при этом – в логике уже совершенно другого типа культуры – радикально трансгрессивные их проявления, для Пушкина все же не главные и не типичные. Столь же ясны, строги и нерушимы (нормативны) границы искусства с другими содержательными сферами (областями) культуры: моралью, религией, философией, политикой. Тут та же корреляция самотождественной сущности и собственного (культурно самоценного) пространства, автономного и отграниченного по отношению к другим сущностям и пространствам. Для примера еще раз сошлюсь на Бахтина, чьи сказанные по другому поводу слова кажутся мне «типологическими». Развивая свою теорию «эстетического объекта», Бахтин подчеркивает его «своеобразное эстетическое бытие», вырастающее, между прочим, «на границах произведения путем преодоления его материально-вещной, внеэстетической определенности»8. И тут он выступает как последовательный антиредукционист, настаивающий (в полемике с влиятельными тогда материальной (лингвистической) и психологической эстетикой) на принципиальной качественной и онтологической несводимости эстетического (читай: художестриантности, самотождественности «исходных» элементов и сфер, могла появиться бахтинская теория «памяти жанров», распространяющая проблему границ на ось времени и возводящая их незыблемость, самотождественность конституируемых ими пространств к генетическим истокам. Та же система породила и эссенциалистский подход к толкованию явлений большой культуры, поскольку устанавливается корреляция существования (пространства) стабильных феноменов культуры и их сущности. 8 Бахтин М. М. Указ. соч. – С. 50. 16 17 венного) к чему-либо «иному». В общем плане он это формулирует так: «…растворяя логику и эстетику или хотя бы только поэтику в лингвистике, мы разрушаем своеобразие как логического и эстетического, так и в равной мере и лингвистического»9. Теория, как видим, здесь стоит на страже классической культурной парадигмы. Как она устанавливается на практике, т. е., в частности, каким образом обеспечивается самотождественность-неприкосновенность культурных территорий и нерушимость (при их проницаемости) границ между ними? Консенсусом между нормативно одобренной и территориально реализованной спецификой искусства и спецификой других областей строго определены не только чисто пространственные, но и, так сказать, качественные границы истины, добра, красоты, художественности и т. п. Только экстремисты-маргиналы позволяют себе их нарушить – и потому они а) всегда исключение из правил; б) всегда редкость и даже «экзотика»; в) всегда пользуются скандальной известностью и, чаще всего, табуированы. Как, например, де Сад и Барков. А вот Шекспир, который, по мнению классицистов, нарушает эстетические нормы и предлагает неприемлемый для большой части классики симбиоз эстетического с безнравственным (аморальным), как и, скажем, много более скромный, но тоже «нестандартный» в том же отношении аббат Прево, – целиком остаются в рамках классической парадигмы. Потому что за рамки моральных предписаний выходят король Ричард и Манон Леско, но не их авторы, через свои «образы-аномалии» утверждающие незыблемость и нерушимую чистоту добра и моральных императивов, но – в неменьшей степени – специфику и автономию искусства. Взаимоотношения (несомненно, художественно плодотворные) искусства с «отрицательными» ценностями в рамках классической культуры еще более рельефно и сильно (чем при сопряжении с положительными) утверждают незыблемость ценностных и территориальных границ в ней, автономию 9 Бахтин М. М. Указ. соч. – С. 43. художественности. Так, искусство по видимости «соединяется», скажем, со злом или моральными отклонениями (как у Шекспира, Прево или Ш. Бронте в «Грозовом перевале»), но, во-первых, им здесь не подчиняется, сохраняет суверенную ценностную дистанцированность, вненаходимость. А во-вторых, ведь точно так же не подчиняется, сохраняет духовный суверенитет, ту же вненаходимость-отграниченность и по отношению к ценностям положительным, т. е. к общей логике моральной сферы, – даже если с ними внутренне солидаризируется, их разделяет. Тут торжествует «для себя» и «для нас» собственная, художественная властная логика искусства. Опирающаяся на другие «логики», в том числе и на моральную, но к ним не сводимая. Дающая особые, уникальные духовно-информационные результаты: силу и прелесть языкового мастерства, неповторимую пластичность и выразительность стиля, магическую, покоряющую достоверность художественной реальности, наконец глубину, убедительность и обаяние художественной правды, даже подчас трудной, неприглядной и тягостной. Но и показывающей сложность и противоречивость человека, выходящую за нормативные рамки «моральности» и ее жесткого и потому весьма часто слепого оценочного ригоризма. Аббат Прево, например, наивно (хотя, возможно, и лукаво) в начале своей повести предупреждает читателя, что рассказывает историю Манон Леско с целью показать ему «как не надо», предостеречь, удержать в строгих границах добродетели. Сводись весь смысл повести к этому, ее бы давно забыли. Но логика художественности иная – она базируется на «положительно приемлющем» (М. Бахтин), любовном характере эстетического мироотношения, что позволяет ей видеть «всю правду»: сложную полноту, противоречивое богатство и неповторимость жизни и человеческого существа. Как сформулировал этот эстетический принцип Алеша Карамазов, «полюби жизнь – тогда и смысл поймешь». И десятки приверженных морали поколений с любовью и восхищением (наряду, конечно, и с осуждением, недоумением, изумлением, даже возмущением) сопереживают и восхищаются «неправильной» и «нехорошей», но 18 непредсказуемой, жаждущей удовольствий, бесконечно обаятельной, милой, прелестной, яркой, искренней, увлекающейся – словом, ж и в о й Манон. Или Кармен у Мериме и особенно к Бизе. Работа с территориями через границы в условиях незыблемости последних и ограничиваемой, ограждаемой и тем утверждаемой ими специфики, таким образом, «контрастно-контекстуально» усиливает и утверждает собственную специфику и суверенность искусства в классической культуре, как и строгий внутренний порядок последней. Этот порядок начинает трещать по швам, т. е. границам, с наступлением «неклассической» эпохи – культуры модернизма. Изменения касаются всей культуры, прежде всего ее ядра – системы ценностей. В сущности, это «тотальный» кризис ключевых ценностей классической культуры. Его существо – утрата уверенности (веры) в торжество некогда незыблемых, краеугольных для системы абсолютов: истины, добра, красоты, Бога, разума, смысла. А этот «сдвиг» влечет существенную перестройку территорий культуры и искусства, перестройку их внутреннего своеобразия. Там, где опирались и уповали на Бога, «Бог умер». Там, где верили в добро, восторжествовали имморализм и аморализм, утилитаризм и биологическая «воля к власти». На месте, некогда отведенном разуму, воцарилась иррациональность сущего, его хаос и непознаваемость. Где искали и находили смысл, вдруг с разочарованием и страхом нашли неизбывный абсурд бытия. Новое содержание и конфигурация ценностей и, значит, территорий не могут не менять и чуткого к жизни, органически связанного с культурой-донором искусства. Но главные изменения идут в искусстве «как бы» автономно, изнутри. Они касаются его собственных принципов творчества, отношения к действительности и своему языку. Они по-прежнему опираются на «имманентный» эссенциалистский подход: концепцию в основе своей неизменной и первичной сущности искусства, на рождающуюся внутри самого искусства концепцию-модель его художественности. Правда, содержательно это уже иные версии давних инва- 19 риантов, принципиально новаторские. То, что мировоззренчески-ценностно мы именуем модернизмом, методологически, смысло- и формотворчески, «языково» и «прагматически-поведенчески» в большей и основной своей части, в доминанте своей выступает как авангард. Например, это сформулированное теоретически, но выразившее практику русского авангарда понимание искусства как приема, искусства как обеспеченного языком эффекта остранения (ОПОЯЗ) или как столь же требующего нового языка прорыва в подлинную, высшую духовную реальность (Кандинский, Малевич). Или как спонтанно-автоматического способа «поимки»-фиксации и выражения другой версии подлинной реальности: недавно открытой жизни бессознательного (сюрреализм). И всюду на первом месте собственная творческая активность художественной субъективности, ее напряженная воля к высказыванию и самовыражению – независимо от того, ч т о выражается: отчаяние, ужас бытия, буйство личных сновидений и фантазий или требование коренной ломки всего и вся от повседневности до мирового устройства. Всё, чем живет художник-модернист, требует начать назревший пересмотр отношений с миром с переделки самой территории искусства, его внутреннего устройства и самосознания. «Общее состояние мира» (Гегель), накопленная за века классики и усиленная ее же кризисом всеобщая усталость от культуры осознается, прежде всего, в параметрах и определениях самого искусства – как потребность отказа от собственного приевшегося и утратившего вдохновляющий смысл «старого», от Традиции. Это не вопрос отдельных внешних частностей, формальных нюансов, это касается самого существа, фундаментальных принципов и целей художества. Отсюда – отказ от вековечного принципа мимесиса, а также от классических форм гармонической красоты и рациональности, понятности и моральности и других вполне внутренних, органических атрибутов классической эпохи. Нечто подобное происходит и в смежных областях. Системное качество, общий кризисно-радикальный дух модернистской культуры реализуется, таким образом, через ряд, так сказать, 20 параллельно осуществляющихся революций внутри каждой культурной области, от высших духовных сфер до политики и повседневной частной жизни. И, в общем, без посягательства на «чужие» территории и границы между ними (при, как всегда, активном межтерриториальном взаимодействии). Поэтому картина модернистской культуры (в нашем, онтопространственном аспекте) – это все те же, что и в классической культуре, территории и тот же порядок отношений и границ между ними, но пронизываемый и распираемый, взрываемый изнутри, наэлектризованный и «поставленный на дыбы» величайшим внутренним напряжением культурного кризиса. Как мир на картинах Ван Гога, Мунка или Кирхнера. Напряжением к тому же амбивалентным и крайне драматичным: бесприютной отчаянной утраты и нехватки фундаментальных абсолютов – и решительного радикального отказа от них, их преодоления и порыва к «неведомому новому». Удивительно, но этот порыв, витальная тяга живет не только в стихах футуриста-революционера Маяковского, но и в поэзии вовсе не уставшей от старой культуры, неоклассической Ахматовой: И так близко подходит чудесное К развалившимся грязным домам… Никому, никому неизвестное, Но от века желанное нам. Оттого же и в мире искусства живопись, даже радикально изменяясь, остается живописью, роман – романом, танец – танцем, хотя уже и не классическим – неклассическим дансмодерном Айседоры Дункан и Марты Грэм. Радикальное изменение идейных и языковых принципов, как и особенно черт «художественного поведения», общения с публикой происходит на фоне сохранения неких «метауровневых» структур художественного сознания и практики, «последних» позиций-оснований искусства. До поры не меняются законы живописи (например, концепция ее станковизма, «картинности»), логика музыкальной композиции и звуковысотная интонационная основа музыки или общий подход к созданию театральной реальности (действенность, мизансценичность, условность). 21 И главное: разрушая-опровергая классическое содержание и формы внутри искусства, модернизм/авангард почти не трогает «закона границы» – закона специфики каждой области. Остаются и влияют – иногда самим своим отсутствием, «апофатически», иногда играя возбуждающе-провокационную, но все равно нормативную роль – классические в своей основе правила. В науке – правила соответствия действительности, математической доказательности и верифицируемости; на них опираются и Эйнштейн, и Планк, и Шредингер. В морали остаются, несмотря ни на что, десять заповедей и категорический императив. В искусстве – видовое и жанровое своеобразие, «архетипические» сюжеты и метафоризм образов. Собственно, и сам художественный образ, классической культурой узаконенный в ранге differentia specifica искусства, а авангардом видоизмененный почти до неузнаваемости, все же остается и сохраняет эту свою роль. Да и выдвигаемые на первый план в качестве новых принципы – это нередко вполне традиционные особенности искусства, только впервые или заново («хорошо забытое старое») отрефлексированные и, в конце концов, также работающие на укрепление сущности/специфики искусства, на утверждение его тотальной («целевой», содержательно-формальной, онтологической) автономии и свободы. Так, Б. Брехт, обосновывая фундаментальную роль в искусстве принципа очуждения (verfremdungeffekt), который был терминологической переработкой остранения В. Шкловского и всей русской «формальной школы», ссылался на практику китайского искусства и живописный опыт П. Брейгеля-старшего. Поэтому в рамках модернизма есть смена соотношения территорий, есть известное размягчение границ, но не их преодоление, падение, ликвидация. Последнее происходит только на периферии, только в отдельных течениях, будто предвещающих грядущий новый тип культуры. Например, в дадаизме; показательно, что именно дадаисту Курту Швитерсу принадлежит и опередившая время, радикальная даже для первого поколения авангардистов «теоретическая» новация: «Искусство – то, что делают художники. А поскольку я художник, то все, что я нахаркаю, будет искусством». 22 Более показательны другие примеры. Революционер в театре, Мейерхольд не ликвидирует «отдельности» и «специфичности» театра. Он обращается к образцам (пусть давно не главным), рожденным в классическую эпоху: комедия дель арте, народный театр, театр барокко, мистерия и т. д. Другой театральный революционер, уже упоминавшийся Б. Брехт, возвращается к «эпическому театру» Аристотеля: актерскосценические основы древнего искусства остаются незыблемы. И еще одно незыблемо: некая судьбоносная, объективноорганическая связь искусства (авторского сознания и творчества) с личной духовной необходимостью художника и его индивидуальностью. Так сказать, обреченность на особое видение, проявление его в устойчивом стиле как способ подтверждения духовно-бытийной самотождественности и идентичности. Пикассо здесь скорее исключение, тогда как Матисс, Шагал, Филонов и П. Клее – норма. Но ведь и у Пикассо не все способы творчества одновременны, а «периоды» с доминантой одного, сейчас необходимого способа. Свобода здесь вырастает из глубинной духовной связи-зависимости, неповторимо и новаторски выражает судьбу, что-то, что выше просто «хотения», произвола фантазии и, тем более, шокирующего поведенческого эпатажа, этой внешней карнавальной упаковки серьезных исканий, внутренних вопросов и ответов авангардистов. «Это в сердце было моем», – мог бы сказать и «дореволюционный» Маяковский, как и автор потрясшей мир «Герники». Потому и сменить мировоззренческие или эстетические позиции «просто так», произвольно – невозможно. Пруст всегда Пруст. Кафка всегда Кафка. Как и Кандинский, Дали, Эйзенштейн или Феллини. Генри Миллер и Д. Г. Лоуренс дают весьма нетрадиционное видение, как и В. Набоков и А. Платонов – в русской литературе, но и они не могут, даже подвергаясь художественной критике или моральному (а то и материальному) давлению социальной среды, сменить свой способ видеть, чувствовать и понимать жизнь. И еще: для большинства модернистов кризис высших ценностей, падение абсолютов – вовсе не предмет восторга, как у Ницше, не случайно «знакового» философа следующего куль- 23 турного периода. Для них это, чаще всего, трагедия, причина чрезвычайного экзистенциального напряжения и страдания, иногда – стоически-упрямого поиска ответов на проклятые вопросы (как их ищет Юдит в опере Б. Бартока «Замок герцога Синяя Борода»), самоутверждения (Сизиф у Камю) или безнадежного ожидания (как ждут герои пьесы «В ожидании Годо» Беккета). Иначе говоря, здесь парадоксально работают отсутствующие, но все равно играющие конститутивную роль абсолютные ценности – и для культуры в целом, и для отношений между ее сферами. Совершенно другая смысловая и онтопространственная ситуация возникает (и продолжается) в постмодернизме – эпохе торжествующего универсализма, ценностного и онтологического многообразия, равноправия и релятивизма, эпохе невиданных объективных возможностей – ресурсов культуры и беспрецедентной субъективной свободы: снятия практически большинства не только технологических, но также и мировоззренческих, этических, эстетических, художественноязыковых и стилевых ограничений. «Всё могу и всё хочу попробовать», – могли бы сказать и человек, и искусство постмодернистской эпохи. И в данной культуре это практически означает: все может стать искусством. Аксиологическая основа этой ситуации – это, конечно, отмена абсолютов: взаимоотносительность и равновеликость, равнодоступность, равноинтересность добра и зла, правды и неправды, красоты (в ее любом варианте) и безобразного, уродливого и просто некрасивого (великий фотограф Борис Михайлов). Случайный, но показательный пример из телепередачи: А. Михалков-Кончаловский сказал об Инне Чуриковой (и так мог бы сказать, должен был сказать только постмодернист): «Чурикова – не великая актриса. Великая актриса может правдиво сыграть и неправду. А Чурикова не может; даже если и пробует, получается плохо». Пример из «другой оперы»: историзм/неисторизм. В прошлом это всегда было «либо – либо». Сегодня это уже не «оппозиция»: ее члены абсолютно взаимозаменимы и обратимы. Как само «культурное время» в качестве объекта постмодер- 24 25 нистского сознания. Искусство сделало из этих допусков мир фэнтези, квазиисторических романов и бесконечных вариантов как будто невозможного «сослагательного наклонения истории». Но и настоящих художественно-исторических исследований. История разыгрывается в любом – реальном или виртуальном – варианте. И это одно из многих проявлений всеобщей закономерности: постмодернистская реальность не только бесконечно разнообразна, но принципиально текуча, переливчато-трансформативна, обратима. В ней всё соединяется со всем, скрещивается, сплетается и переплетается (знаменитый делезовский образ ризомы-корневища), трансформируется и перетекает друг в друга, вступает в отношения эквивалентности, полного тождества и столь же ясного и активного несходстваразличия. Композитор В. И. Мартынов заявляет: «Мир, в котором мы живем, находится сейчас в состоянии грандиозного тектонического сдвига, повлекшего за собой фундаментальную смену цивилизационных парадигм. Если раньше, начиная с Пифагора и кончая Кантом (от себя добавлю: и много позже. – Л. З.), моделью идеального сознания (и всей культуры. – Л. З.) являлось неукоснительное и единообразное вращение звездного неба, то теперь в качестве такой модели всё отчетливее начинает выступать непредсказуемая изменчивость плывущих по небу облаков»10. В мире, вставшем, как верно замечает Мартынов, «на путь множественной неопределенности облаков», границы (и не только территориально-культурные, но и политические, государственные, ландшафтные, смысловые, стилевые – словом, л ю б ы е ) фактически в своей исходной функции перестают существовать, становятся условностью, сохраняют исключительно символическое значение. Постмодернистское искусство – органическая часть этого культурного мира. Поливалентное по природе, в постмодернистский век оно обнаруживает родство и сливается «со всем, что есть» (Пастернак). Оно – фрагмент и способ воспроиз10 Мартынов В. И. Пестрые прутья Иакова. Частный взгляд на картину всеобщего праздника жизни. – М. : ИД «Классика-ХХI», 2010. – С. 158. водства текучего, бесконечно мутирующего мира, преодолевшего всяческие культурные (а отчасти, и природные) границы – ставшего безграничным, универсальным и многоликим, как Протей. И само, следовательно, без-гранично, универсально в способности обратимого слияния со всем многообразием материально и идеально сущего, подчинения ему ради его подчинения себе, протеистического принятия его формобликов. У искусства на эти слияния-метаморфозы сегодня нет ни внешних, ни внутренних ограничений. «Свободно, наконец-то свободно!» Так, например, искусство относится к собственной классике: полная свобода «обращения»: видения, перетолкования, переоформления-переделки. Границапредел, повторю, символична. Ни на что не претендующая, не имеющая никаких прав, даже, фактически, изначального, от автора полученного права голоса, она живет лишь как напоминание о некогда бывшем опыте и дорогом для культуры образе. Как равная возможность творческого притяжения и отталкивания (что чаще), поклонения и глумления, диалога и монолога, обогащения и опошления «колонизующим» ее для любых собственных целей субъектом. Информационное богатство, теснейшее взаимодействие всех форм, модификаций и сфер культуры, доступность всего этого для большой массы людей, наконец, повторю, ликвидация жестких (а то и любых) норм, отмена абсолютов и иерархий, а значит, релятивизация и индивидуализация ценностей – все это ликвидировало роль границ как способа разграничения и изоляции, ограничения и воспрепятствования. Границы, наоборот, стали только знаками разнообразия, дифференциации, отличия и различения. Знаками не только прозрачными, но и – в качестве границы – условными и легко проницаемыми. Более того, они стали знаками, побуждающими к их преодолению. Стали аттракторами-провокаторами взаимодействий, сопряжения (но и различения) всевозможных специфик, всякого рода – во все стороны – культурных экспансий, симбиозов разных жизненных культурных сфер, материалов, языков, образов, смыслов, пластов группового и индивидуального опыта, традиций, ментальных и 26 поведенческих стилей и т. д. и т. п. Экспансий и слияний, часто совершаемых авантюрно, вслепую, наудачу и в силу одной необходимости: использовать представившуюся и присвоенную возможность. Так мы хватаем без усилий и «по дешевке» горящую путевку или льготный билет. Еще больше это похоже на игровой произвол ребенка, прихотливо и немотивированно распоряжающегося богатством принадлежащих ему игрушек. Так и с классикой происходит: она сама, самим фактом своего несходного с нашим существования, своей высокой, практически сакральной репутацией и, одновременно, беззащитностью перед нашей без-граничной свободой приглашает к ее колониальному покорению. Сам по себе этот факт, а теперь уже и закон постмодернистской культуры бессмысленно оценивать: он ценностно нейтрален и объективен, как погода. Оценивать надо затраты и результаты: чт мы получили, чт она обрела или (и) потеряла, насколько обогатилась или обеднела культура. В свете нового опыта старые теории, представления о сущности/специфике искусства, проверенные модели его выразительности, коммуникативности, эмоциональности, содержательности, интеллектуальной глубины и силы (ведь «мышление в образах»!), наконец, обобщенно говоря, художественности (как и стереотипы и привычки публики и самих художников) отступили, уступив место креативному потенциалу пограничных, трансграничных взаимодействий. В том числе и трансгрессивных – не случайно эта тема столь любима философами и художниками данного типа культуры. Еще одно следствие новой топографии и ситуации с границами: закончился, если не сказать рухнул, эссенциалистский подход к искусству в его теории. Закачалась и тоже отчасти рухнула традиционная специфика его культурных соседей: философии, религии (дублируемой, например, масскультом), морали (ср.: «после добродетели»), самой истории (Фукуяма). Возвращаясь к искусству: оказалась предельно расширена и феноменологически размыта живущая ныне на стыке и в теснейшем единстве-слиянии с бытом, вещным миром, спортом, играми, телесно-эстетическими и поведенчески- 27 символическими практиками реальная сфера искусства и ее сущность/специфика. Не зря некоторые американские философы искусства по существу отождествили произведение с любыми эстетически значимыми артефактами. Сейчас мы – на своем витке исторической спирали – похоже, возвращаемся к ситуации древних греков. Но с другим акцентом! У греков художественная деятельность вместе со своим продуктом входила в ряд «искусственного» = воспринималась как разновидность «технэ» (у Аристотеля что хороший дом, что горшок, что статуя – разницы нет). У нас сегодня, наоборот, искусственное (всякое!) получает – и реализует! – возможность художественного существования, т. е. превращения в произведение искусства. Сопряженное с художественной институцией и освященное художественным контекстом, целью, аурой, интерпретацией особых субъектов (искусствоведов, кураторов), оно становится в коллективных глазах воплощением художественного усилия, превращается в пусть не всегда понятное, не всегда содержательное для адресата, но «художественное» высказывание – в то, что можно назвать художественным поступком, или жестом, за которым проступает (ну, должна, может проступать) идеальная художественная реальность. Парадокс: в этом размыто-неопределенном искусстве, так непохожем на прежнее, традиционное (включая и модернистское), мы таки находим черты и эффекты (иногда, признаемся себе, минимальные) традиционной «эссенциалистской» модели художественности. Правда, взятой не в своем ортодоксально-догматическом (морально-гносеологическом) варианте. Какие же признаки искусства мы тут обнаруживаем? 1. Изолирующую и оформляющую волю, преобразующую исходный материал и создающую особую среду-контекст его существования. Этот контекст и эта изоляция-оформление в нас, реципиентах, формируют установку на «произведение» и на его эстетическое созерцание, прочтение, воображаемую игру с ним. 2. Концептуальность: воплощение какой-то духовной позиции, точки зрения, мысли, наблюдения и/или душевного 28 состояния по поводу некой реальности – объекта высказывания, а также – благодаря приданной форме – по поводу эстетических представлений, моделей «творчества по законам красоты». А это конструирует восприятие артефакта как эстетически организованного сообщения, или текста (в котором кем-то о чем-то что-то и как-то сказано). Чисто эстетическое восприятие, замечу, семиотические аспекты своего объекта подразумевает, учитывает, но бессознательно, спонтанно, вкусово. А тут возникает осознанная установка на текст-высказывание, на наличие и понимание его языка: о чем мне говорят? Что мне хотели сказать и сказали? Какое все это имеет отношение ко мне? И т. д. и т. п. Возникает ситуация коммуникативно-диалогическая, герменевтическая – ситуация понимания, интерпретации и оценки смысла, а не только «вещи». 3. Самое важное и самое трудное: в каждом из еще не сопряженных с глубинами и нюансами внутреннего мира человека, в размытых, малогибких и не всегда захватывающесуггестивных языках быта и «подручных» материалах должна явиться и порой является нам достигаемая и первым, и вторым, и всем контекстом власть артефакта (уже «арт-объекта») над нашим вниманием, воображением, чувствами и мыслями, над нашей игровой способностью и способностью идентификации. Я могу не понимать «о чем» и даже «как», но если я заинтригован, заворожен, отделен от остального мира, потому что подчинен этой «вещи», – значит, уже есть некая художественная реальность (пусть пока и смутная, гипотетическая), и с ней можно говорить и играть, с ней можно попробовать сживаться, ее можно понимать и оценивать, ею можно наслаждаться. (Другое дело, что этому – в силу ее новизны – нужно учиться, этого нужно хотеть, как то предполагалось и в традиционном искусстве.) Если же перед нами просто вещь – даже красивая, модная, брендовая, известного автора – искусства нет! Если есть «вещь-тезис», «вещь-концепт», т. е. воплощение какой-то идеи (даже остроумной, что сегодня почти нормативно, даже ин- 29 тересной и неожиданной), но нет иллюзии и магии самоценного мира и самодовлеющего существования в контакте с ним, – нет и искусства. Сила и магия возможных миров, неожиданных и парадоксальных, – вот чем берет сегодня нас нередко редуцированный содержательно, непривычный обликом, очень не похожий на то, что мы привыкли считать искусством, зато столь близкий нашему жизненному миру, иногда, на первый взгляд, знакомый до банальности, но пробуждающий внимание, интерес, фантазию, а потом и сопереживание «арт-объект». Иногда как раз вспышка интеллекта – находка остроумной мысли, нестандартность «хода», сила остранения знакомого и привычного, расхожего и банального рождают и эмоциональный отклик, и ауру, и онтологическое «самобытие» (вместе с событием). Всегда, замечу (напоследок напоминая о теме), на фоне и, значит, на границе окружения, обыденного опыта, неутоленной жажды сильных впечатлений и талантливых решений, подогретые обстановкой, ритуалом контакта, похожие и непохожие на привычное в искусстве и жизни. 30 31 Б. В. Орлов* Художественность, как она есть: проблема адекватной спецификации Светлой Памяти Любимой – Жене Наташе Посвящается1 П ожалуй, самое сложное – понять и воспроизвести художественность именно как таковую без ущерба для нее самой, поскольку при любой интерпретации пропадает своеобразие ее собственной специфики. Не потому ли в столь глубокой и, казалось бы, совсем бесперспективной задумчивости находится Художник на знаменитой гравюре А. Дюрера «Меланхолия I»? Согласно известной иконологической версии Э. Панофского, в этой аллегории меланхолическое настроение, в котором находится творческий гений, столь сильно и абсолютно во многом потому, что ему недоступны сокровенные истины, в том числе и об искусстве, разве что истины первого порядка (= «I»), несмотря на весь имеющийся в его распоряжении научнопрактический инструментарий. Не потому ли все предметные знаки-признаки, обозначающие инструментальную интенцию «Изме* Борис Викторович Орлов – кандидат философских наук, доцент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 1 Здесь и далее написание прописных/строчных букв дается в авторской редакции. – Ред. © Б. В. Орлов, 2013 ряющей Геометрии», в беспорядке разбросаны за ненадобностью, а «магический квадрат» акцентирован достаточно явно, становясь своеобразным символом, если хотите, «хронотопа» художественности, ее странного, мистического здесьи-сейчас бытия и не менее странным мерилом, но при этом более близким к ее загадочной специфике, чем, например, висящие рядом такие более знакомые измеряющие приспособления, как песочные часы, колокольчик и весы? В этой связи показательно и то, что в нижней строке магического квадрата находятся цифры, точно обозначающие год создания гравюры (1514). Но это, скорее, не маркировка реального факта творения, а его бытия художественно-ирреального, не случайно именно так – магически – «зацифрованного» автором. В. Пелевин в своем вдумчивом эссе «Запись о поиске ветра», позиционируя себя как сомневающегося и вопрошающего Литератора, по существу философски озабочен той же самой проблемой – означиванием (здесь – в вербальном варианте) того, что ощущается только как присутствие, дуновение ветра (можно вспомнить и Рильке: как «Дух пустот»). Подразумеваемая им художественность (точнее, литературность или поэтичность) понимается как нечто идентичное жизненному Пути и как то, что искажается при любом знаковом выражении, а потому адекватно не воспроизводится. «…Так как же сказать хоть слово о том, что никогда ничем не становилось? Поистине, трудно поведать о ветре, если знаки есть только для летящих в нем листьев», – вопрошает писатель и, отчасти преодолевая скепсис в его экстремальном варианте («Когда в нас рождается сочинитель, мы покидаем Путь. А когда у сочинителя рождается первая фраза, 32 в аду ликуют все дьяволы…»), приходит к такому решению: «…Мы протискиваемся сквозь лес невозможностей неведомо как, и тогда истина, которой нет и которую, даже появись она, все равно нельзя было бы выразить, внезапно возникает перед нами и сияет ясно, как драгоценная яшма в свежем разломе земли. Когда происходит такое, появляются слова, тайна которых неведома» (Пелевин В. Диалектика Переходного Периода Из Ниоткуда в Никуда. С. 379, 384). Предварительно заметим, что, скорее всего, это отчасти вариации на тему хайдеггеровской философии искусства, в которой особое значение придается истине как экзистенциальному озарению и смысловому просвету в бытии, а художественное творение предстает как истечение истины в действительность (см., например: Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы ХIХ–ХХ вв. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1987. С. 264–312), раскрывающее потаенность бытия, т. е. делающее его несокрытым и тем самым укореняющее и упрочивающее человеческое существование на фоне небытийствования (Ничто в терминологии Хайдеггера или Пустоты в терминологии Пелевина). «Только на основе изначальной явленности Ничто человеческое присутствие способно подойти к сущему и вникнуть в него. И поскольку само наше присутствие по самой своей сути состоит в отношении к сущему… в качестве такого присутствия оно всегда происходит из заранее уже приоткрывшегося Ничто» (М. Хайдеггер. Что такое метафизика?). Говоря несколько иначе, в интересующем нас аспекте, по всей видимости, адекватной художественности может быть только художественность как творимое «из Ничего» таинство искусства, как его «алхимия», далекая от научности и потому принципиально не позволяющая «алгеброй» ли, «геометрией» ли поверять гармонию. И к тому же это невербальное, «молчаливое» таинство «художественного творения» (Хайдеггер). Как же тогда превратить «философию молчания» искусства в философию его говорения о себе, в дискурс о самом себе как художественном феномене, позволяющий, выходя за 33 пределы художественного языка, все же сохранять первозданность «своего-в–себе-и–для себя» бытия художественности как творческого «впервые бытия» (В. Библер)? В этой связи, например, интересен и перспективен такой опыт применения В. Л. Рабиновичем данного ключевого, предельно креативистского концепта для рассмотрения, с его слов, «драматургии взыграния впервые бытия» в статье «Седьмой день творения» (http: // antropology.ru/ru/texts/rabin/ seven/html): «…впервые (без расчета на второй раз) обязывает. Ведь впервые, а далее, может быть, никогда. И поэтому – сразу и навсегда. Как творение из ничего; и далее до свершения времен<…>. Явление вида сотворенного – посередине». «Но первая – пред-(до-) творческая – пауза – вечная (по крайней мере туда – назад) пауза. Она, в некотором роде, вневременна. Но и вперед (вторая пауза) – тоже (потому что начало нового арте-акта – всегда проблематично… В этом смысле творчество простодушное и бескорыстное (=беспредметное?) – архетипично в своей возможной невозможности». Теоретическое решение проблемы отыскания (создания?) адекватного художественности нехудожественного дискурса, конечно же, нуждается в более тщательной и всесторонней методологической проработке. И для начала нужно хотя бы в первом приближении уточнить значение «художественности, как она есть», т. е. собственной специфики художественности, в контексте творческих возможностей современного философствования. Дело в том, что современная философия искусства, так же как и философия вообще, да и гуманитаристика в целом, если рассматривать ее в процессе условной «творческой эволюции», переживает новый парадигмальный сдвиг благодаря своеобразию пост- постмодернистской социокультурной ситуации, что, конечно же, влияет на набор и доминанты существования и применения конкретных методологических парадигм (методологем) осмысления художественности и не может не учитываться в аспекте создания, так сказать, «проективной философии художественности» (например, по аналогии с «Проективным философским словарем» 34 М. Эпштейна – см., например, такое его издание: СПб. : Алетейя, 2003). Парадигмальные сдвиги в современной философии искусства и основные методологемы художественности Наиболее значимы такие парадигмальные сдвиги, которые исторически следовали друг за другом и приблизительно обозначили временные рамки ХХ века: в «начале» (строгой датировки, конечно же, быть не может – важна сама ситуация debut de siecle) обозначился переход от Классической парадигмы к Неклассической (в своей поздней версии ставшей Постклассической), а в «конце» (fin de siecle) стал актуальным переход уже от Пост(Не)классики к тому, что, пожалуй, может быть названо «Протоклассикой», если продолжить ту же терминологическую линию, но акцентировать новое качество «пост-постклассики» как качество ее другого – и даже прямо противоположного – вектора. В данном случае можно согласиться с подходом М. Эпштейна, который в ряде своих работ рубежа веков, а особенно в книге «Знак пробела: о будущем гуманитарных наук» (М. : НЛО, 2004), обращает особое внимание на кардинальную смену вектора современной культуры – ее магистральной направленности не в сторону прошлого (пост), а в сторону будущего, по преимуществу. В его терминологии речь идет о «протеизме», т. е., говоря несколько иначе, по существу о протеистической парадигме и об ее отличиях от исторически предшествующих парадигм (т. е., в данном интересующем нас случае, – от «Классики» и «Пост(Не)классики»). «Протеизм, как культурное движение, – это альтернатива тому «пост-» (постмодернизм, постструктурализм, постутопизм, постиндустриализм…), которое отталкивалось от прошлого и вместе с тем было зачаровано им, не могло выйти из его магического круга. Прото-…соизмеряет себя с предстоящим и наступающим, а не с прошедшим. Протеизм, как гуманитарная методология, изучает возникающие, еще не оформленные явления в самой начальной, текучей стадии их развития, когда они больше предвещают и знаменуют, чем бытуют в собственном смысле…» (Эпштейн М. Проективный философский словарь. Новые термины и по- 35 нятия. [Электронный ресурс]. – URL: http://emory.edu/ INTELNET/fs_proteism). Впрочем, исторически Классика все равно первична, и именно она дает исходный, к тому же хорошо исторически фундированный фон в наборе основных методологем гуманитаристики и, следовательно, философии искусства. Если своеобразие современной культуры во многом и в значительной степени состоит в ее мозаичности и ризоматичности (здесь: переплетенности), когда Пост- и Прото-; Классика, Пост(Не)классика и Протоклассика соединяются и сосуществуют, тогда особо значимыми и востребованными оказываются возможности всех (и каждой из) методологий в их эвристической, креативной эклектике. В своей относительной самостоятельности классическая парадигма представлена двумя важнейшими взаимосвязанными, но оппозиционными методологемами, с помощью которых художественность трактуется достаточно традиционно и… со многими вытекающими отсюда последствиями разной, очень разной, степени значимости для ее аутентичной спецификации. Речь идет о достоинствах Аналитики и Систематики или, по возможности терминологически точнее, – о методологемах «аналитической и систематической художественности». Аналитика ориентирована по преимуществу на адекватное описание явлений в их эмпирической, фактической данности. Решающим предельным основанием при этом становится точное поименование предмета исследования и использование этого поименования по нормативным правилам, вводимым в результате языковой конвенции. В современной аналитической философии искусства, достаточно репрезентативно представленной в англо-американской эстетике, обращается особое внимание на фактичность, прежде всего, отдельного произведения искусства и, более того, на особую значимость его названия (т. е. конкретного поименования). По всей видимости, именно здесь находит Аналитика своеобразие художественности. Художественность в этой версии не есть общее свойство искусства, тем более его сущ- 36 ность, но только и только имя, под которым в контексте конкретного языка некий артефакт существует, а потому и признается художественным. Институциональное признание оказывается неизбежным, но идет вслед за языковой конвенцией, которая изначальна. То есть речь идет о «впервые бытии», но не «арте-акта», преобразущего артефакт в «художественное творение», а о творческом характере акта поименования, наречения, «окрещивания» – о своеобразной прагматике номинализма. «Художественность» предстает здесь как одно из возможных поименований искусства, а соответствующая ей «аналитика художественности» открывает перспективы работы со словарем близких художественности терминов, например, на основе идей Л. Витгенштейна о «языковых играх» и принципе «семейных сходств». Если не уходить при этом от собственно философии искусства в «общую лингвистику» (как это произошло еще в начале ХХ века у Б. Кроче в его знаковой работе «Эстетика как наука о выражении и общая лингвистика») или даже в логику, с неизбежностью занимая ad absurdum экстремальную позицию «против эстетики», то и здесь можно схватить «момент истины» об адекватной художественности, хотя бы и в ее адаптированном (например, к словнику поименований) аналитическом варианте. При обращении к Систематике открываются перспективы другого, и еще более гетерономного, пути. В этой методологии ставка делается на объяснение специфики явления через жесткую, однонаправленную «привязку» к его сущности: «Сущность Является». Применительно к спецификации художественности искусства это означает, что художественность есть прямое следствие «эссенции» искусства, т. е. его проявленная сущность. Эта эссенциалистская версия художественности предполагает существование общих оснований (или так называемых «общих знаменателей» в критической интерпретации американских аналитиков-антиэссенциалистов – см., например: В.Кенник. Основывается ли традиционная эстетика на ошибке? // Американская философия искусства: основные концепции второй половины ХХ века – антиэссен- 37 циализм, перцептуализм, институционализм. – Екатеринбург: Деловая книга ; Бишкек : Одиссей, 1997) у всех произведений искусства – в пределе – в виде системы необходимых и достаточных элементов, структур и функций, которые проявляются в отдельном произведении, а потому-то и оказываются его художественными свойствами и, соответственно, критериями художественности. Рассмотрим в этой связи достаточно явный «чистый случай» применения методологемы «систематической художественности» в ее предельном варианте. Это пример, казалось бы, очень прочно теоретически фундированной концепции художественной деятельности, которая стала центром философии искусства М. С. Кагана (см., например, пятую лекцию в его обновленном университетском курсе: Каган М. С. Эстетика как философская наука. – СПб. : Петрополис, 1997. С. 78–94). В системе человеческой деятельности художественная деятельность занимает особое – центральное – место потому, что она структурно подобна (изоморфна) всей деятельности в целом, взятой в аспекте ее необходимой и достаточной типологии. Выделив по этому принципу преобразовательную, познавательную, ценностно-ориентационную деятельность, общение и художественную деятельность, (М)удрый (С)истематик нашел художественную «квинтэссенцию» (здесь: наша аллюзия на пятый тип деятельности). Художественность в своем сущностном качестве предстала в виде органичного единства (синкретического тождества) преобразования, познания, общения и ценностной ориентации, которого художник добивается и которое, в идеале, достигается в результате его деятельности. Художественная ценность произведения искусства есть в таком случае как результат полноценной (т. е. наполненной другими деятельностными потенциалами) художественной деятельности, так и закономерное проявление синтетической сущности искусства (в поздней версии – синергетической). Искусство – в главном, основном, базисном – есть одновременно и преобразование, и познание, и общение, и ценностная ориентация, а художественность, следовательно, есть («как она есть»!) конкретная 38 39 Вдохновение Цвет Сюжет Гений Композиция Оригинальность Тайна Подлинность Леонардо да Винчи Мессонье Энгр Веласкес Бугро Дали Пикассо Рафаэль Манэ Вермеер Дельфтский Мондриан Техника проявленность такой «квинтэссенции» искусства, так сказать, в «арте-акте» и в «артефакте» (хотя МС и не употреблял этих терминов в качестве ключевых, но, пожалуй, они наиболее здесь репрезентативны – вспомним при этом еще раз о значении терминологических уточнений в аналитической методологеме). Но – Nota Bene! Мудрый Поэт Д. Самойлов: « Все есть в стихах: и Вкус, и Слово, и Чувства верного основа, и Стиль, и Смысл, и Ход, и Троп, и Мысль изложена не в лоб. Все есть в стихах – и то, и это. Но… только нет Судьбы поэта, судьбы, которой обречен, за что Поэтом наречен». Или, Мудрый (до безобразия) Художник С. Дали так определяет ценностные приоритеты своего творчества (см.: Сальвадор Дали. Триумфальные скандалы. – М. : Берегиня, 1993): Сравнительная таблица ценностей в соответствии с далианским анализом 17 5 15 20 11 12 9 19 3 20 0 18 0 12 19 1 17 19 19 1 20 0 15 1 11 20 1 10 9 18 6 20 0 19 3 15 19 1 17 18 20 4 20 0 20 0 0 20 0 19 20 20 0 20 0 18 1 6 20 0 18 16 20 4 19 1 19 2 6 20 0 17 7 20 5 20 1/2 20 17 10 15 0 19 2 20 0 20 0 20 18 20 20 15 19 7 20 14 20 3,5 И более того: «Что касается живописи, то цель у меня одна: как можно точнее передать конкретные образы Иррационального. Я пишу картины потому, что не понимаю того, что пишу» (Там же. С.30). И вообще, если главное для творца – Судьба (а иногда даже: «искусство есть Антисудьба». – А. Мальро) или «Завоевание Иррационального» (С. Дали), а система репрезентации этих разных смыслов может быть достаточно произвольной, то сть ли одна изначальная сущность искусства? Не вступая в дальнейшую и здесь излишнюю полемику по поводу самой деятельностной концепции художественности, отметим самое главное в интересующем нас – прежде всего, методологическом – аспекте. Это – в основном – насчет «структуры» разбросанных инструментов и «функции» циркуля в руках Художественной «Меланхолии» (кстати, В. П. Эфроимсон в своих исследованиях (см., например: Генетика этики и эстетики. – СПб. : Талисман, 1995) достаточно убедительно и естественно-научно обоснованно показал, что меланхолия – один из пяти (опять квинтэссенция, но какая!) «стигм» гениальности). «Систематическая художественность», даже несмотря на ее продвинутость в сторону синергетики, не дает реальной возможности адекватной спецификации, так как исходит не из идеи стихийности творческого «впервые бытия» и значимости его бессознательных компонентов, а из идеи сознательного целеполагания и целенаправленности деятельности художника на воплощение сущности искусства в произведении той или иной системной комбинации. Эта эссенциалистская «системная комбинаторика» весьма логично учтена в известном «альтернативном определении» произведения искусства В. Татаркевича: «Продукт сознательной деятельности художника тогда и только тогда является произведением искусства, когда он либо воспроизводит действительность, либо создает формы, либо выражает переживание и одновременно способен либо восхищать, либо трогать, либо потрясать» (Татаркевич В. Дефиниция искусства // Вопросы философии. – 1973. – № 5. – С. 75). Но, опять Nota Bene! Вспомним, например, «определения», полученные в другой – аналитической – методологеме: «Предметом изобразительного искусства может считаться любой объект, который его создатель считает искусством и при наличии еще одного человека, который соглашается 40 с тем, что это искусство» (определение американского суда по иску Стайхена – об этом показательном казусе см. у Эрнста Неизвестного в «Кентавре» (М., 1992. – С. 185)) или даже: «Любая вещь есть искусство, если она вырвана из ее бытовых связей или я показываю на нее пальцем» (М. Дюшан). Экстремальная предельность этих показательных высказываний о подразумеваемой аутентичной художественности (равно как и приведенные ранее «свидетельства» Д. Самойлова и С. Дали) переводит их смысл уже в другой методологический контекст, когда доминирует постметафизическое измерение, т. е. когда решающую роль играет не априорная установка на изначальность абстрактной сущности искусства и ее последующее явление, но – апостериори – феноменология его конкретного парадоксального существования, только и порождающего специфическую «художественную сущность» (если таковая, конечно, есть вообще). Именно по этому, более перспективному, пути спецификации «бытия сущего» (в терминологии Хайдеггера) применительно к искусству, точнее, как оказалось, к его эстетическо-художественному бытию, и пошла феноменологическая неклассическая эстетика, произведя упоминавшийся ранее первый парадигмальный сдвиг – от Классики к Постклассике. «Черный ящик»: «Не Гете создал «Фауста», а «Фауст» создал Гете!» (Юнг) От чего же отходила-исходила и к чему пришла Постклассика? Если для начала выражаться метафорически игриво, то все дело в попытке расшифровки «черного ящика» с тайной «художественного творения» и причиной «падениягибели (смерти) искусства». Своеобразным предельным итогом реализации методологических возможностей Аналитики и Систематики в классической парадигме стало представление об искусстве как о «черном ящике» в его информационно-кибернетической трактовке: на «входе» в «систему» находятся «сущности», на «выходе» – «имена», а «черный ящик» как-то «сделан» умельцемремесленником. Важнейший результат, который был истори- 41 чески в эстетике получен в связи с такой спецификацией художественности, очень и очень значим. Классически, Художественность – это или «Мимесис», или «Катарсис», или «Медиум», или «Технэ», или их системная комбинация В самом деле, обратим внимание на то, что именно такие сущности лежат и в основе наиболее распространенных теоретических инвариантов ответов на вопрошания «что такое искусство?»: искусство – это, например, мимесис или (и) катарсис, или… Именно такие подразумеваемые сущности и имена лежат как в основе теории художественной деятельности М. С. Кагана, так и в основе «альтернативного определения» В. Татаркевича (см. выше и сравни). Но важнее-то другое вопрошание, которое очень точно сформулировал Н. Гудмен в названии одной из своих статей: «When the Art Is?» и которое можно наиболее точно перевести, пожалуй, так: «Когда же искусство становится искусством?» Или, в нашей версии: когда же искусство обретает собственное качество – Художественность («Судьбу Поэта», или, например, особый «сюрреальный» смысл, или…)? То есть, продолжая играть в «языковые игры»: когда же «Фауст» искусства создает своего «Гете» художественности? когда же Циркуль в руках Художника становится ремесленнически необходимым, но творчески недостаточным? когда «Сальери» перестает убивать и – более того – не может убить «Моцарта»? Не(Пост)классика: феноменологическая герменевтика Ортега-и-Гассет в своей знаменитой «Дегуманизации искусства», философствуя на эстетические темы уже неклассически, пытаясь оставаться по преимуществу внутри, говоря его эссеистским языком, «эстетики в трамвае» искусства, ввел, казалось бы, очень странный термин – «художественное искусство», как будто бы искусство может быть и нехудожественным (что является нонсенсом в эссенциалистской интерпретации). Но это не-классическое о-странение искусства, конечно же, не случайно не только потому, что напрямую было связано с новым художественно-эстетическим опытом бытования неклассического – модернистского – искусства, 42 но и потому, что давало новое – собственно смысловое – измерение (но без Циркуля) и трактовку человеческого бытия как эстетико-художественного бытия, а искусства как эстетико-художественного феномена по преимуществу. Пожалуй, наиболее полно и точно методологема, так сказать, «герменевтической художественности» в ее предельнозапредельной постметафизической версии была разработана и применена Хайдеггером (конечно же, без умаления при этом уникального вклада, например, Ортеги и Бахтина), а позднее, и более адаптированно к современности, – его учеником и последователем Гадамером. В малоизвестной, но очень репрезентативной для хайдеггеровской феноменологии искусства лекции «Гёльдерлин и сущность поэзии» (см., например, перевод в следующем издании: Культуры в диалоге. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1992. – С. 172–183) Хайдеггер сосредоточен на самом главном в интересующем нас аспекте – на поиске аутентичной специфики, в его терминологии – «существенной сущности» феномена поэзии, чистым случаем которого он и считал поэтическое творчество Гёльдерлина. При этом, хотя Хайдеггер и отдает дань эссенциализму, под «существенной сущностью» искусства он понимает то, что выходит за пределы заранее установленного эссенциалистского масштаба, связанного с объясняющей методологемой «систематической художественности». Это возникающая или творимая, и специфическая именно в этом качестве, «поэтичность», т. е. «художественность» в нашем понимании (если даже иметь в виду только достаточно очевидную возможную экстраполяцию «поэзии» на «искусство» в целом). Заметим также, что Хайдеггер легко обходится при спецификации художественности и без таких классических маркеров-поименований, как «мимесис», «катарсис», «технэ» и «медиум». Впрочем, ведь это достаточно логично: Хайдеггер мыслит в другой парадигме, «думает думу» об искусстве при помощи иной методологии. То же обстоятельство репрезентативно и для подходов Ортеги и Бахтина, и даже для Гадамера, который хотя и попытался, вписав Хайдеггера в традицию классического философствования, показать, в связи с 43 этим, «актуальность мимесиса и прекрасного», но в качестве самого главного при спецификации собственно эстетикохудожественного бытия исходил из того, что в первую очередь связано не с сущностью, а с процессом существования, бытийствования искусства как значимого «присутствия при бытии» – из «темпоральности», «окказиональности», «игры», «символа» и «праздника», которые и творят его специфичность. Получается несколько иначе, чем у Хайдеггера, но в пределах его же основной методологемы, ориентированной на поиск истока эстетико-художественного творения бытия (См., например: Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М. : Искусство, 1991. – С. 266–323; см. также такую возможную интерпретацию основ онтологии искусства в концепциях Бахтина и Гадамера: Орлов Б. В. Субъект. Объект. Эстетика: версии Бахтина, Гадамера, Лукача. – Екатеринбург: УрГУ, 1992). Попытаемся, пока оставаясь в основном на этой методологической основе, предложить собственную устоявшуюся версию смыслового понимания своеобразия художественности, чтобы, как это для нас ни прискорбно, в дальнейшем осуществить ее «деконструкцию» и, что еще более важно, «потенциацию», если продолжать следовать неумолимой логике смены парадигм и, следовательно, соответствующих методологем. Экзистенциально-онтологическая версия художественности, или художественность как экзистенциал Художественность искусства – его важнейшая экзистенциально-качественная характеристика, предельное основание и критерий. Если следовать эссенциалистским версиям, то можно утверждать, что именно это и есть специфическая сущность искусства, отличающая его наиболее строго от неискусства на собственной основе, а не по критериям эстетическим, гносеологическим, нравственным и др. В связи с этим апелляция к другим сущностям искусства в качестве наиболее специфичных, например к эстетической сущности в качестве главной, есть не только логическая подмена, но и концептуальная ошибка, приводящая к обеднению понимания искусства прежде всего как относительно самостоятельного 44 художественного феномена, незаменимого в своей уникальности. Художественная уникальность искусства как его творимая сущность в этом аспекте миметична человеческой сущности, которая, если трактовать ее экзистенциально, есть всякий раз уникальный результат конкретного человеческого существования и смысловой просвет бытия. Искусство, как произведение «истины» в действительность, в своей «художественной сущности» и есть то, что не только раскрывает, но и творит уникальный смысл человеческого бытия – его художественный смысл. Художественность, если продолжать уточнять ее именно экзистенциальную специфику, может быть тогда понята, прежде всего, в качестве одного из экзистенциалов человеческого бытия, т. е. как то, что раскрывает экзистенциальное в человеческой жизни и так участвует в творческом становлении бытия. Экзистенциальное (или попросту экзистенция) может быть истолковано преимущественно в творческо-смысловом аспекте, т. е. как обретаемый человеком смысл жизни, который раскрывается конкретно через те или иные экзистенциалы. Экзистенциалы, или способы смыслового бытийствования, позволяют пребывать в мире философски, религиозно, нравственно, эстетически и (или) художественно с опорой на соответствующие смыслы. Они раскрывают (но каждый по-своему, в чем и состоит их уникальность) общий полифонический смысл свободного существования в предлагаемых обстоятельствах драмы человеческого бытия (так сказать, «невыносимую легкость бытия»). Художественность как экзистенциал специфична в этом контексте в своем отличии от других экзистенциалов рядом внутренне взаимосвязанных характеристик, среди которых доминантными оказываются продуктивное воображение, наличие художественной реальности как собственного мира произведения искусства, образное переосмысление и смысловая трансформация артефактов, художественная эвокация (эффективное побудительное воздействие) и проживание 45 других жизней в процессе художественного бытия (инобытийствование). Художественный смысл, трактуемый экзистенциально как творимый и обретаемый смысл бытия, тогда предстает как возможность воображаемого бытийствования в пределах художественной реальности. Иначе говоря, один из смыслов человеческой жизни состоит в свободе инобытийствования художественным образом (способом), и обрести этот смысл позволяет художественность как самостоятельный, уникальный, незаменимый акт творения бытия. Другой, казалось бы, наиболее близкий – эстетический – экзистенциал фундирован в своей специфичности иными доминантами. Эстетический смысл бытия, по всей видимости, состоит в свободе получения удовольствия от всего происходящего, т. е. во «вкушании» – в ощущении вкуса жизни, какой бы она ни была. В пределе – это катарсис, который и есть главный эстетический смысл человеческой жизни. Понятно, что художественность в этом случае может быть ни при чем, и наоборот, эстетический смысл может быть элиминирован художественностью (ярким репрезентативным примером чего может быть современное искусство, явно неэстетичное и даже антиэстетичное, но остающееся тем не менее художественным феноменом). Рассмотрение художественности в контексте онтологической эстетики с помощью экзистенциально-герменевтической методологии (подробнее см.: Орлов Б. Онтологическая эстетика // Онтология искусства. – Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2005; Он же. Постклассика и онтоэстетика // К 40-летию философского факультета: Труды преподавателей кафедры эстетики, этики, теории и истории культуры. – Екатеринбург : УрГУ, 2005; Он же. Художественность как бытийствование // Известия Уральского государственного университета. – № 42. – Серия 3 : Общественные науки. – Вып. 1. – Екатеринбург : УрГУ, 2006) позволило автору статьи выйти на такое «смысловое определение» (если пытаться сблизить «витализм» с «эссенциализмом») собственно художественного бытийствования, как «художественной сущности» искусства. 46 Взятый в своей имманентности, художественный феномен как таковой – прежде всего то, что своим собственным неповторимым существованием предшествует сущности искусства, высвечивая и предъявляя особое экзистенциальноонтическое первоначало. Так же как феномен человека рождается на стыке и в противоречии его существования и сущности при доминировании бытийности, а в этой ситуации «человек есть то, что он сам из себя делает» (Сартр), феномен художественный производен от оппозиции существования и сущности искусства. Вот почему художественность как феномен и нельзя понять через заранее установленную сущность искусства (познание, общение и т. п.), поскольку художественность в своей бытийной данности всякий раз оказывается неизмеримо богаче любого проявления искусства и его рационализации на такой основе. Непосредственно художественное бытийствование или бытийствование исключительно посредством художественности – специфический экзистенциальный акт, явно отличающийся от художественной деятельности (или ремесла) творческо-смысловым аспектом по преимуществу. Но при этом художественное бытие специфично и в сравнении с другими творческо-смысловыми экзистенциалами человеческого бытия: философским, религиозным, нравственным и эстетическим. И в этих случаях тоже можно говорить о соответствующих типах бытия посредством того или иного экзистенциала, например об «эстетическом бытии», казалось бы наиболее близком и в основном идентичном художественному бытию. Но принципиальная разница, которая существует между художественным и другими экзистенциалами, свидетельствует о доминантности художественного бытия именно как воображаемого (через образ, т. е. художественным способом) проживания других жизней в пределах художественной реальности произведения искусства. Философское бытие даже при наличии художественного аспекта (а ведь его вообще может не быть, например в сциентистской философии) экзистенциально акцентировано иначе и ориентировано на дискурс вербального вопрошания 47 о смыслах бытия и ответствования на концептуально-понятийной основе, на продуцирование идей, а не образов по преимуществу. Эстетическое бытие по сравнению с художественным также имеет другие доминанты: это жизнь преимущественно на основе вкушания (вкуса) выразительных форм, гедонистическо-катарсически акцентированная. Нравственно центрированное бытие специфично совестливой свободой поступка в любых (а не только предлагаемых искусством) обстоятельствах. Религиозное бытие на основе веры – всегда встреча с сакральным, медитативное со-бытие с Богом. На этом общем фоне разных возможностей бытийствования художественное бытие может включать в себя другие типы бытийствования и даже подменяться ими, т. е. быть их частным случаем или симулякром. Но самостоятельность, имманентность, незаменимость художественного бытия позволяет осуществляться и обратному процессу-реверсу – включению (вплоть до подчинения) философского, эстетического, нравственного, религиозного в художественное. В целом, вслед за Бахтиным можно утверждать, что бытию культуры свойственна полифония соположенных типов экзистирования и соответствующий полилог смыслов человеческого бытия – созвучие собственных «голосов» и множественность перекликающихся смыслов. Свой «голос» и собственный смысл художественного бытийствования в этом «ансамбле» отличны тем, что возникают в контексте такого значимого в экзистенциальном плане «присутствия при бытии» (Гадамер), когда решающая роль в игровом представлении бытия отводится непреднамеренности, случайности («окказиональности»), т. е. импровизационности в предлагаемых (по случаю) обстоятельствах. Именно в этом состоит один из собственных бытийных истоков художественного вымысла. Концептуальность, соучастность, символичность, праздничность (карнавальность) в онтологии художественной игры – творимого «перформанса бытия» – также важны, но при этом критериален для художественности преж- 48 де всего «хэппенинг» самого творения, так как именно с него и начинается художественное творение как «впервые бытие». Религиозное творение как наиболее близкое в данном аспекте (что и объясняет отчасти Божественность откровения интуитивного художественного акта), тем не менее осуществляется намеренно, планомерно и сознательно по воле Творца. Тогда как творчески бытийствующего художника отличает амбивалентность бессознательных импульсов желания: транссубъективация, относительное безволие – трансгрессия «мировой воли» (Шопенгауэр) и сверхчеловеческая «воля к власти» (Ницше), которая проявляется спонтанно, в виде стихийного творческого порыва. Но в отличие от эстетической событийности бытия, так же экстатически-чувственной, как и художественная окказиональность, художественный порывимпульс не созерцателен, но созидателен по преимуществу. Не только переживание состояния пребывания в «прекрасном и яростном мире» (А. Платонов), но продуктивное воображение – инобытийствование в других мирах, создаваемых разными произведениями искусства всякий раз заново – художественное впервые-бытие, которое и может быть одновременно эстетическим и не быть таковым, если не делает ставку на традиционные эстетические смыслы бытия – прекрасные, возвышенные, трагические, комические; может быть усилено нравственно, а может быть «по ту сторону добра и зла» (Ницше). Художественный импульс креативен как попытка «искусства жизни», преодолевающего «мастерство жизни» (см., например: А. Менегетти. Мудрец и искусство жизни. – Пермь : Хортон лимитед, 1993. – С. 8–9), т. е. как творчество, превосходящее ремесло, как «Моцарт» pro et contra «Сальери», как «Судьба» pro et contra «Системы», как «Сюр» pro et contra «Реальность». Своеобразие технэ художественного бытия состоит не столько в ремесле и совершенстве (его, например, нет в полной мере в «примитивном», «самодеятельном» etc. искусстве), сколько в умении использовать любой творческий порыв для создания новых вариаций на тему жизни/смерти/бессмертия через пространственно-временной 49 континуум художественного мира и его исходные единицы – «хронотопы» (М. Бахтин). В этой связи топос художественного бытия – это «произ-ведение мест» (см., например: Хайдеггер М. Искусство и пространство // Самосознание европейской культуры ХХ века – М. : Политиздат, 1991. – С. 98) – пространственных локусов «возможного человеческого обитания» в предлагаемых по случаю обстоятельствах. Хронос – трансформация времени человеческого бытия, «творческая эволюция» (Бергсон), «темпоральность» (Гадамер) и «энантиодромия» = «бегущая вспять» (Юнг), позволяющие художественно решить проблему необратимости времени человеческой жизни, включив прошлое и будущее в настоящее продолженное художественное время – подлинное время человеческого бытия. Пост(Не)классика: «дифферанс» эстетико-художественной ситуации в методологеме деконструкции Но если в пределах одной и той же парадигмы неклассическая герменевтика сделала ставку на понимание бытийного смысла искусства, то деконструкция в своей экстремальной постнеклассичности пошла другим – уже не витально-онтологическо-феноменологическим, а интертекстуалистским – путем Художника как Скриптора. При этом «антиставка» делалась на собственно текстовую представленность и соответствующую ей значимость языка «бытия сущего» (здесь: в привязке к исходной для парадигмы в целом терминологии Хайдеггера), а «сверхставка» – на гипертекст и его нонсенс, т. е. на полное отсутствие устойчивого смысла, в интересующем нас аспекте, как в специфике художественности, так и в ее интерпретации. (Дифферанс как феномен ускользания (отсрочивание) смысла?…) С. Зонтаг в своей известной статье «Против интерпретации» (см., например: «Иностранная литература». – 1992. – № 1) так весьма выразительно и эпатажно акцентировала этот знаковый переход от «Не» к собственно «Пост»: «Функция критики – показать, что делает его (произведение искусства. – Б. О.) таким, каково оно есть, а не объяснять, что оно значит. …Вместо герменевтики нам нужна эротика искусства!» (С. 216). 50 В этой связи понятен и столь же репрезентативен мощный посыл Р. Барта в направлении «Удовольствие от Текста», точнее – в «сад наслаждений» от возможностей гипертекста и «молчания смыслов». Но пока – для начала наших собственных рассуждений по этому поводу – все же сделаем еще один герменевтический круг и опять обратимся к Ортеге. Вспомним, что в «Дегуманизации искусства», кроме всего прочего интересного, есть небольшая главка с весьма симптоматичным названием «Немного феноменологии», в которой в контексте ортеговской, так сказать, «философии художественного искусства» рассматривается своеобразие эстетико-художественной ситуации и уточняется позиционирование эстетико-художественного субъекта. А если без излишней наукообразности, то речь идет вот о чем. Умирает знаменитый человек, и у его постели случай собрал разных людей, которые по-разному и в основном неэстетично реагируют на происходящее в комнате Умирающего, т. е. позиционируют себя в основном не как эстетические субъекты. А Ортегу интересует, так сказать, «чистый случай эстетизма» в данной конкретной ситуации. Кто же оказывается искомым «эстетом»? По логике Ортеги – это не Жена, поскольку она совсем убита горем, полностью втянута в происходящее и поэтому же не находится в эстетическом отношении, но это и не Врач и не Репортер, реагирующие на событие в основном профессионально (и даже утилитарно). И только Художник, как считает Ортега, и есть собственно эстетический субъект, поскольку он сосредоточен не на ситуации, максимально от нее отстранившись, а на процессе художественного творчества и уже начал в него погружаться, замыслив написать картину на данный сюжет. Не вдаваясь в нюансы возможной полемики с авторитетным Ортегой (например, обратим внимание хотя бы на явную подмену «эстетического субъекта» «художественным субъектом» и небесспорность его концепции «эстетической дистанции»), сосредоточимся на первоосновах его методологии, примененной здесь очень конкретно-ситуативно. «Ра- 51 циовитализм» (как он сам именовал свое философствование) несомненно феноменологичен и герменевтичен, причем в экзистенциально-онтологическом аспекте, и это дает ему возможность получить результат, парадигмально схожий с более поздней по времени хайдеггеровской спецификацией эстетико-художественного феномена. Все дело в художественном творении, а исток этого творения – не художник, а его экзистирование как выход вовне ситуации (т. е., в нашем понимании, «ино-бытийствование»), задаваемой сущим, к «истине», или, другими словами, к творимому смыслу как условной «художественной сущности». Подход же в методологеме «деконструктивной художественности» всякий раз ориентирован прежде всего не на какоето туманное «художественное про-из-ведение» и его, казалось бы, еще более туманный «бытийный смысл», а на создаваемый конкретный гипертекст как «текст о текстах», дающий не смыслы, а их рассеивание (т. е., их ускользание – дифферанс), не про-из-водящий смыслы (например, как «существенные сущности»), но только и только продуцирующий новый гипертекст. Гипертекст становится «экономомимесисом» произведения искусства, а художественность растворяется в гипертекстовости как своеобразной продуктивной «эротике текста». Решается ли при этом проблема адекватной спецификации художественности, и если да, то в какой мере? Скорее всего, она вообще снимается в данной методологеме, поскольку нонсенс здесь проявляется в том, что «художественностью» становится любой текст о художественности в любых его взаимотношениях с другими любыми текстами, т. е. сам конкретный дискурс (о) художественности, и тогда дискурс заменяет художественность. Но ведь даже и в этом «методологическом нонсенсе» есть свой смысл, хотя бы и извращенный. Напомним здесь, что исходная общая постановка проблемы виделась нам в том, чтобы отыскать в современной философии искусства наиболее адекватный «вариант» применения нехудожественного дискурса о художественности с тем, чтобы найти «инвариант» художественности «как она 52 есть». И чтобы попытаться его перспективно выявить в аспекте наиболее интересующей нас парадигмы Протоклассики, связанной с «проективной философией художественности», попробуем гомеопатически «пролечить» Пост(не)классику через создание и осмысление конкретного феномена интертекстовости в связи с «гипертекстовой художественностью Случая с Умирающим». Но для отдохновения и, надеюсь, продуктивного освежения ментальности, сначала – Nota Bene! – «пассаж о дифферансе» из Поэмы Венедикта Ерофеева «Москва– Петушки», которого ведь тоже весьма оправданно, и не только в духе Хайдеггера, можно считать «поэтом поэтов» и творцом «пойэзиса» как художественного смысла бытия против «праксиса» как смысла деятельностной прагматики, не говоря уж о чем-то постмодернистски большем относительно гениальной ерофеевской «эстетики в электричке». «Петр все глядел на меня, стоя надо мной. И все еще мало что понимал. – Отведи глаза, пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты – смотришь. Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню, был Гегель. Он говорил: «Нет различий, кроме различия в степени различия между различными степенями и отсутствием различия». То есть, если перевести это на хороший язык: «Кто же сейчас не пьет?» Есть у нас что-нибудь выпить, Петр? – Нет ничего. Все выпито» (Ерофеев В. Москва – Петушки. – М. : Изд-во СП «Интербук», 1990. – С. 116). Вот это Вопрошание-Ответствование применительно к спецификации художественности!!! Но у нас-то с собой было… Речь идет вот о таком нашем вкусном Тексте-«Коктейле», спонтанно приготовленном (так сказать, окказионально) По Случаю «Случая с Умирающим» (все подробности об Авторе текста и прочем в этой связи см. После Прочтения). «“В мире компонентов нет эквивалентов”, как говорили старые алхимики, а они-то знали, что говорили...» – помянем еще раз добрым словом Великого Ерофеева. 53 Немного деконструкции: гипертекст «Всякая тварь…» «В известной дилемме, начинающейся вопросом «Тварь ли я дрожащая..?», во мне победила именно тварь… иначе как еще объяснить то, что я решился пойти в дом умирающего? Мало того, что черт дернул меня начать работать корреспондентом этой идиотской желтой газетенки, так ведь еще и имел глупость нахвастать там, что являюсь другом семьи К. – самого известного писателя в нашем городе. А вот сегодня сорока на хвосте принесла: писатель умирает. А мне… Да кому же, как не мне – нужно отразить это событие в газетной колонке. Нет, поначалу я не сильно обеспокоился: написать о хорошем писателе легко. Но я забыл, где работаю: этим шакалам требуется не литературный анализ его творчества, а подробности смерти «из первых рук». И как я не плюнул им в лицо? Тварь…кто же я еще? Да, я тут действительно бывал, хотя насчет «друга семьи» – соврал, конечно. Впрочем, в квартиру К. я попал без хлопот – то ли лицо мое показалось знакомым, то ли сказалась моя многолетняя привычка всюду пролезать со своим длинным носом… В комнате, где на огромной двуспальной кровати лежал один из последних классиков современности, кроме меня и ЕГО, трое: жена, врач и еще один типчик – известный пьяница и прощелыга, именующий себя художником. По стечению обстоятельств я знаю их всех достаточно хорошо, и, признаюсь, лучше бы не знал! Желтое месиво лица прижизненного классика асимметрично. Трудно себе даже представить что-либо менее эстетичное: триумф разлагающейся плоти, уже утратившей даже признаки могучего когда-то интеллекта. Собравшиеся рядом кажутся мне стаей гиен возле издыхающего льва: молодая жена, старательно изображающая скорбь на лице. Ее глазки то и дело выглядывают из-под опущенных век, чтобы поймать взгляд доктора. Уж кто-кто, а я-то знаю, что этот врач тут не случайно: еще полгода назад фото его 54 обнаженного мускулистого торса, обнимающего плечо этой ныне страдающей от скорби Дианы, украшали стенд нашей редакции… Перед кем они играют комедию? Разве что перед этим…с позволения сказать, художником. Трупоед! При одном взгляде в его сторону меня аж передернуло от отвращения. Нашумевшая выставка им лично забальзамированных тел, непристойно смешанных с мусором, найденным на помойках. Последний писк искусства, которому был в нашей газете посвящен целый разворот… Бр-р-р… А сам я? Чем я их лучше? Тусклый свет электрической лампочки в комнате умирающего разлился по обоям, как разводы мочи по стенам общественного сортира. Чтобы хоть как-то совладать с чувствами, обуявшими меня, я прибег к старому и испытанному методу: воткнул в ухо кнопку плеера и нажал кнопку «PLAY». О блаженство! Прямо в мозг мне влетел Умберто Эко, чьим голосом, который не смог испортить ни перевод, ни дикция чтеца, Адсон вдруг провозгласил: «Внезапно девица предстала предо мною той самой – черной, но прекрасной – возлюбленной Песни Песней. На ней было заношенное платьишко из грубой ткани, не слишком благопристойно расходившееся на груди. На шее бусы из цветных камешков, я думаю – самые дешевые. Но голова гордо возвышалась на шее, белой, как столп из слоновой кости, очи были светлы, как озерки Есевонские, нос – как башня Ливанская, волосы на голове ее как пурпур. Да, кудри ее показались мне будто бы стадом коз, зубы – стадом овечек, выходящих из купальни, выходящих стройными парами, и ни одна не опережает подругу…» И случилось чудо – в эту страшную комнату вошла ОНА. И уже не с уст Адсона, а с моих собственных губ сорвалось: «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Волосы твои как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, как лента алая губы твои, половинки гранатового яблока – твои ланиты под кудрями твоими. Шея твоя как столп Давидов, тысяча щитов висит на нем». И я спрашивал себя в ужасе и в восхищении, кто же эта стоящая передо мною, блистающая 55 как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная как выстроенное к битве войско? И пропала мерзкая комната вместе с ее обитателями. И провалился в тар-тарары весь этот грешный мир, потому что в этот момент я не в силах решить: бежать ли прочь или броситься к ней навстречу, и кровь гремела в моих висках, как трубы Навиновых армий, повалившие стены Иерехонские, и пока я жаждал коснуться ее и страшился этого, она улыбнулась, будто в великой радости, тихо что-то простонала, как нежная козочка, и взялась за тесемки возле шеи, державшие ее платье, и распустила их, и платье скользнуло вдоль тела, как туника, и она стала предо мною как Ева перед Адамом в Эдемском саду: «Те сосцы пригожи, что выпирают несильно… Что возвышаются еле…» – шептал я, ибо перси ее походили на двойни молодой серны, пасущиеся в лилиях, а живот – на круглую чашу, в которой не истощается ароматное вино, чрево же – на ворох пшеницы, обставленной лилиями. И помню только, что был окружен ее объятием, и вдвоем мы падали на пол, и неизвестно, ее ли стараниями или собственными, я избавился от всего на меня надетого, и мы не стыдились ни себя, ни друг друга, и все было хорошо весьма… Очнувшись, потрясенный, на ветру, который задувал мокрый снег на мою непокрытую голову, все, что я мог – это прийти пешком сюда, в мой дом, вот к этому ненавистному мне компьютеру и написать это… А вот сейчас, как не отдаляю я этот миг, мне нужно писать то – другое – для газетной колонки. И я напишу, конечно, и, как тварь дрожащая, буду делать это с грустью. Впрочем, всякая тварь грустна после соития. Omne animal triste post coitum». (В цитируемом выше тексте почти полностью сохранено правописание его Автора – Алексея Шорина, но я бы рискнул от себя еще добавить полное значение латинского высказывания, приписываемого Аристотелю: «…praeter mulierem gallumque» – «...кроме женщины и петуха».) 56 В этом блестящем произведении есть изначальная прагматика, связанная с тем творческим заданием, которое я дискурсивно предложил студентам-философам на одной из лекций по эстетике, рассмотрев «Случай с Умирающим» и дав свою версию позиционирования эстетического субъекта и «истока художественного творения». Основные предложенные в ответ версии другого – неортеговского – нахождения «чистого эстетического субъекта» в этой «темной комнате» (при этом для меня значима и аллюзия на внутренность «черного ящика») были мне уже известны заранее: чаще всего обращалось внимание на Умирающего и на самого Ортегу. Это укладывалось в Постклассику и хорошо «дополнительно» работало в контексте моей экзистенциально-онтологической концепции эстетического и художественного; в общем, лекция удалась. Каково же было мое удивление, когда на следующий день Алексей принес на очередное занятие свой «маленький шедевр» – пикантность ситуации состояла еще и в том, что он оказался профессиональным репортером… Пришлось с ходу не столько оценивать и осмысливать «про-из-ведение» философского смысла в суровую действительность преподавания философской эстетики, но, что более релевантно и симптоматично, реально связывать эту спонтанно возникшую конкретную философскую креативность с абстрактной идеей парадигмального сдвига от «звезд» Классики в сторону «лилий» Протоклассики через пока непонятно что («лесные дебри» ли – по Хайдеггеру? «ризому» ли – по Делёзу? «то ли Объединение, то ли Уединение» – по Камю (см. финал его притчи «Иона или художник за работой»)? исчезающие «следы» – по Деррида? – в версии Постклассики, ориентируясь и по звездам, и по следам, и по запаху (аромату?) лилий. Что же получилось в «Случае со Здравствующим»? С одной стороны, Он позиционирует себя явно постмодернистски, как Пишущий, как Скриптор, а прежний Автор-Писатель и есть Умирающий, что и создает цинично-холодный Гипертекст. С другой стороны, есть трепет «дрожащей твари», есть доминирование эротики в ее смысловой витальности, есть инобытийность, есть и прочая «экзистность» бытия – «жи- 57 вая», а не «искусственная» художественность. Кто же тогда на самом деле есть Он – Здравствующий Художник «как он есть» и что есть тогда художественность в возникшей версии – с какой методологемой ее связать по преимуществу, помимо герменевтической и деконструктивистской (гипертекстовой)? Допустим, что это случай с Умирающим Искусством: несколько персон в поисках «Автора» художественности В этой гипертекстовой «истории о художественности», рассказанной Литератором Философу, особенно важны те новые возможности, которые порождает гипертекст и которые при определенных условиях и переводят его из качества текста как артефакта артефактов в качество художественного произведения. То есть важна особая потенциальная обусловленность эмерджентности именно этого скачка, который и есть здесь искомый творческий импульс «впервые бытия» художественности и становления Художника в его уникальном позиционировании. Гипотетически, так. В рассматриваемой ситуации, которую метафорически можно считать явленной «смертью искусства» – в ее авторском варианте – от «варварского» нашествия «виадуков» (см. П. Клее) = гипертекстов, совсем не исчезает, но обостряется тема и смысл художественности. Возникает другая, гетерономная художественность – обновляющая и «восполняющая» ее связь с не-искусством как с тем, чего еще нет в искусстве и что расходится с его прежним опытом и соответствующими конвенциями. В методологеме деконструкции: художественность и есть то, что обеспечивает дифферанс искусства – его саморазличание. А художественное произведение как сотворенное и поименованное существо и создает новое искусство и его новые конвенции из неискусства, и в этом аспекте, действительно, «Фауст» художественности создает «Гете» искусства. Дионисийская избыточность художественности и ее творческая бессмысленность («неинтенциональность», т. е. «направленность на то, не знаю что и как») дарует Культуре Другое искусство, которое затем опять аполлонизируется. Не случайно здесь вспомнился Ницше, нужно иметь в виду терминологически 58 условный «сверхсмысл» художественности, но, скорее, не ее «сверхчеловечность» (хотя и этот смысловой контекст важен: человеческое/слишком человеческое – нечеловеческое/дегуманизированное – сверхчеловеческое/сверхсмысловое), а ее «Сюр» как имя и феномен, специфицирующиеся уже в непосредственной связи с «Бессознательным», «Желанием», «Ирреальным» и др. терминами в гипотетическом «Словнике семейных сходств художественности». Но – ближе к «Существам» дела. Феноменологически продвинутый Философ (извините, но уж в основном так я себя тогда методологически позиционировал) в ситуации «после Ортеги и Хайдеггера» исходил из того, что как эстетическое, так и художественное по своему истоку связано, прежде всего, с экзистным, смыслотворческим модусом человеческого бытия, основанным на спонтанном возникновении смыслов в ситуациях «здесь-и-сейчас», а не с деятельностным, когда главным становится целеполагание значимых результатов (ценностей) и процесс их достижения. На примере «Ситуации с Умирающим» хорошо было видно, почему при ее эссенциалистско-деятельностном прочтении собственно эстетическому и художественному в ней нет строго определенного места, на что, кстати, и обратил внимание Ортега, сильно акцентировав тему предельной отстраненности-дистанцированности своего холодного «эстетохудожника». При этом герменевтически более тонкой и концептуально более оправданной выглядела версия Бахтина, который большее значение «во всей этой истории» драматического бытийствования человека и его осмысления придавал не «холоду отчуждения», а «теплоте любви», не только «вненаходимости», но и «внутринаходимости» и, что еще более важно, их противоречивому единству, которое, по всей видимости, воспроизводило, репрезентировало важнейшую особенность – амбивалентность – ситуации «заброшенности в мир». Человек деятельностно как субъект погружен в мир и зависим от него, но, как творец, он участвует в «мироустроении» и обладает свободой творить смысл своего бытия. 59 И, применительно к «Ситуации…», получалось так, что эстетическим или художественным «субъектом» мог стать каждый, персонально в ней «задействованный», при условии, когда деятельностный модус переставал быть главным, а главным становился экзистный с его «сверхценностными» – «сверхсмысловыми» ориентациями, например, не на Праксис, Логос и Эрос, а на Пойэзис, Мифос и Танатос. При этом менялся и статус субъекта деятельности (заметим, что в «ортеговской ситуации» реально никто ничего уже или еще не делает!) – на статус условного «экзистирующего субъекта», что хотя терминологически есть нонсенс, но отчасти все же маркирует доминанту принципиально иного позиционирования. А применительно к еще в большей степени интересующему нас Художнику выходило так, что основой его особого позиционирования была, конечно же, не деятельностная интенция, а экзистная. Его дистанцированность читалась весьма знаково – как указание на мощное влияние другого модуса бытия и его творческо-смысловых ориентаций, т. е. на «исток художественного творения» (и опять возврат к великому Хайдеггеру – см. ранее, еще один круг замыкался). Но, похоже, не случайно я только что, чуть выше, неожиданно сделал ошибку, набирая слово «исток». Получилось «как бы по Фрейду»: бессознательно-спонтанно, непреднамеренно «процарапалось» слово «сток», что показалось еще более знаковым, если не символичным. Более того, по «следу» стал возникать креативный «нонсенсный смысл»: гипертекст как языковой «сток художественности». Пишущий (Литератор), а точнее, созданный им Гипертекст «Всякая тварь…» поведал Философствующему (Философу) о первостепенности «письмотворчества» = «процесса писания» (ecriture по Деррида, что переводится традиционно более просто и чаще как «письмо»; см., например, в этой связи откровения опытного философствующего переводчика/интерпретатора: Автономова Н. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии. – М. : Ad Marginem, 2000. – С. 24, 93). Пишущий именно в своем Письме не породил художественности (и поэтому гипертекст не есть исток художествен- 60 ности), но, рассказывая о ней, осуществил создание условий для ее «стока» – процессуальности творческого самодвижения, процесса ее «впервые бытия». То есть – обусловил возникновение оптимальных условий не по системно-деятельностному «принципу необходимости и достаточности», а, так сказать, по полярному «принципу случайности и недостаточности» или, говоря возможно более точно, – по «экзистенциальному принципу» окказиональности и неполноты человеческого бытия. Возникал ответ на вопрос «Где возникает художественность?» – получалось, что, как «поток» (опять, заметьте, новое слово появилось в «семейном сходстве» и заняло свое полноправное место смысла: «исток – сток – поток»), – в «русле» (и опять новация) гипертекста, но все-таки не было точного ответа на главный вопрос: когда «художественность есть, как она есть» и почему в «поток» нельзя поэтому «войти дважды» (вечная благодарность Гераклиту). Ответ «тогда, когда сменяется модус бытийствования и возникает особый экзистенциальный смысл», полученный в герменевтической методологеме, по-прежнему все еще оставался слишком абстрактным, уязвимым со стороны деконструктивной методологемы и нуждался в конкретизации при аутентичной спецификации. Но дифферанс явно прирастал и нарастал (не очень ли это оптимистично сказано?). А Философ и Литератор, тем не менее, нуждались в еще большей помощи самого Художника. «Гипертекстовая методологема плюс», предельно и парадоксально граничащая (ad marginem) с художественностью, реализованная в опусе «Всякая тварь…», призывала в большей степени и даже экстремально обратить внимание не на Профессионального Художника, а на Маргинального Художника, так сказать, не на Умершего или, наоборот, очень «Здорового», а на Здравствующего как Выздоравливающего (возможно, от убийственной любви «Себя в Искусстве», возможно, от «яда Сальери», возможно, от… кто знает?). Художественное Существо: «…или право имею?» «Репортёришка» – через Письмо – превращался в особого «экзистенциального субъекта» – творилось, возникало новое существо, живущее по-другому внутри этой ситуации и тем 61 раскрывающее ее нереализованные возможности. В этом и состоял главный художественный смысл, который был идентичен не Сущему или (и) Сущности или (и) Существованию, но Существу. Художник оказывался «Оживающим», «Выздоравливающим» существом, придававшим «Живой смысл» искусственному – артефактам и его языковым пределам – текстам – тем, что им, как следствие, творилось воображаемо на бессознательной основе в виде фантазмов. Художественность в новой парадигме специфицировалась как возникновение, взаимосвязь и взаимоотношения – «со-существование» каких-то особых («сюрчеловеческих»? «виртуальных»?) существ, имеющих полное право на самостоятельное бытийствование. «Художественное творение» трансформировалось в «художественную тварь» (уж «извините за ассоциацию»), а ее «истоком» становилось, как вариант, «неудовлетворенное желание» инобытийствования в вымышленном, иллюзорном, виртуальном мире и реализация «принципа удовольствия» и «эротики текста» на этой первооснове. В близкой версии – в контексте психошизоаналитического дискурса – речь могла идти и об «архетипе художественности», который, по всей видимости, Юнг имел в виду, трактуя специфичность произведения искусства, например, через малопонятные только в контексте герменевтической методологемы концепты «самосущность» и «автономный психический комполекс» (см. Юнг К. Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Карл Густав Юнг. Феномен духа в искусстве и науке. Собр. соч. : в 19 т. – Т. 15. – М. : Ренессанс, 1992. – С. 104, 113). Или почти о том же философско-эстетизированном «существоведении» (используем здесь этот эвристический концепт М. Эпштейна) находим у не менее психошизоаналитически странного «поэтического рационалиста» Г. Башляра, так восхищенно «вкушающего» и сотворчески «проживающего» «Библию М. Шагала»: «…изобрести новый цвет для художника – поистине райское наслаждение! Именно в таком состоянии художник восстанавливает (от фр. «regarder», что, в отличие от версии переводчика, лучше бы пере- 62 63 вести попросту как «видит». – Б. О.) то, что он не видит (и тут уж лучше тогда перевести как «невидимо». – Б. О.): он творит. У каждого художника свой рай. …Кисть художника творит мир живых существ подобно деснице Бога. Первые животные из книги Бытия – это слова из Словаря, которым Бог научил людей. Но и художнику ведомы импульсы творчества. Мы хорошо чувствуем, как он сопрягает все времена глагола «творить»; он знает, что такое счастье творчества. …Все существа Шагала – это плод озарений. И в своих космических картинах он остается художником жизненного начала. Тысячи колокольчиков звенят в небе от полета быстрокрылых птиц. Сам воздух у Шагала крылоносен» (Башляр Г. Введение в Библию Шагала // Новый рационализм. – М. : Прогресс, 1987. – С. 354–355). М. Шагал. Сотворение человека Наброски проективной философии художественности В любом случае поиска других более «о-существовленных» методологий «впервые бытия» возникала перспектива выхода за пределы дурной бесконечности интертекстуализма ad absurdum, когда, казалось бы, самым адекватным художественности становился рассказ о рассказе о рассказе о… и, о Боже, тогда, прежде всего, мой собственный, весьма витиеватый. А важнее-то была возникающая, прорастающая, творящаяся, живая ризоматичность самой художественности, и появлялась надежда, отчасти и вслед за Делёзом и Гваттари, возможного выхода из тупиков рассмотренных методологий в исследовательском «лабиринте художественности». Но еще в большей степени оказывался значим подход М. Эпштейна (конечно же, не случайно уже упоминавшийся ранее), и приобретали более четкие очертания, применительно к философствованию о художественности, как названная им «Протеизмом» новая парадигма Протоклассики, так и соответствующий парадигмальный сдвиг к ней от Постклассики. Попробуем в этой связи основных парадигм, которая уже образует вполне определенную синтагму, «зацепиться», хотя бы частично, за конкретную методологему, поименованную автором «концептивизмом», убедительно и достаточно полно им разработанную, т. е. сделаем сейчас основную ставку на «концептивистскую методологию» и ее креативную проективность. «Критика кинического разума»: а может быть, все дело в архетипе «собаки», свернувшейся у ног художника? «В тот день, когда вы постигнете искусство жизни, жизнь предстанет перед вами как полотно, которое вы, как истинный художник, будете писать своими красками и кистью. Жизнь будет созидаться и направляться по желанию художника. Чудовище – ненасытная судьба исчезнет, и бронзовые ворота падут. Будет существовать только свободная воля, ограничивать которую сможет лишь гармония фантазии, соединившей в себе созерцание и действие. Роковая богиня с повязкой на глазах свернется, как верный пес, у ног художника, который вопреки всеобщим представлениям хра- 64 65 нит в себе цельность главного принципа: бытие есть, небытия нет» (А. Менегетти. Мудрец и искусство жизни. – Пермь : Хортон лимитед, 1993. – С. 33). Е. В. Рубцова* Смысловая множественность современной художественности О С. Дали. «Дали! Дали!» «Если живопись не полюбит тебя, вся твоя любовь к ней будет безрезультатна» (С. Дали. Десять наставлений тому, кто хочет стать художником // Триумфальные скандалы. – М. : Берегиня, 1993. – С. 77). …А может, действительно, все дело в «собачьей» взаимной любви-привязанности к Художественности, и кто ее знает, чт Она На Самом Деле Есть? Но… у Дали «собака» – упитаннее, чем у Дюрера! каком смысле идет речь, когда мы размышляем о художественном смысле? Тот ли это «смысл», который художник «закладывает» в свое творение, а зритель «расшифровывает»? Или, может быть, искусство в разные эпохи, в разных вариациях, различными способами выявляет важные человечеству смыслы, относящиеся к самому Бытию? Как же быть тогда с искусством сегодняшним, с его зачастую программной установкой на бессмыслие совершаемого действия, с нарочитым отказом художника от признания собственной позиции как позиции демиургической по преимуществу? При первом приближении к проблеме смысла, реализуемого в искусстве, ясно одно: в сфере искусства понятийный смысл не тождественен смыслу художественному. Немецкий художник и теоретик искусства Ю. Клаус так прокомментировал настойчивую попытку расширения искусством своих собственных границ: «Искусство сегодня открыто: открыто вопреки своему самосознанию, своему развитию, своему понятийному смыслу»1. Эта явно декларируемая «открытость» зачастую ведет к стиранию границ между жизнью и искусством, между вещью и произведением, значением и смыслом. «Искусство – это открытый способ действия»2, – * Елена Валерьевна Рубцова – кандидат философских наук, доцент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 1 Цит. по: Батракова С. П. Искусство и утопия: Из истории западной живописи и архитектуры ХХ века. – М., 1990. – С. 151. 2 Цит. по: Афасижев М. Н. Зарубежные концепции художественного творчества. – М., 1990. – С. 142. © Е. В. Рубцова, 2013 66 утверждает и Г. Розенберг. Если принять во внимание программный открытый характер современного искусства, то следует признать и смысл, продуцируемый им, смыслом открытым, не ограниченным жесткими критериями и функциями, что идентично самой современной художественности. Достаточно длительное время культурные смыслы, воплощающиеся в первую очередь в сфере искусства, были достаточно прозрачны: так, известно, что центральным смысловым компонентом, подчиняющим себе все сюжетные линии практически во всех трагедиях эпохи классицизма, была дихотомия «долг (общество) – чувство (индивид)». В эпоху Просвещения устойчивые смыслы и социальные структуры также не допускали вариативности в области искусства – человек находил порядок в природе («объективные законы природы»), искал и находил подобный же порядок в социуме и искусстве. Другая, «чужая» речь или поступок интерпретировались как принадлежащие «моему» миру в уже известных, заданных самой культурой понятиях и образцах. В противоположность культуре классицизма, предстающей как замкнутая система со своими законами, «натуральная школа» XIX века исповедовала принцип тождественности обыденного и художественного дискурса, осознанного детерминистски – как цепь причин и следствий. Отсюда резко негативное отношение к принципу художественной условности, вернее, его полное отрицание. Художественный смысл, соответственно, приравнивался к обыденному. В эпоху расцвета реализма в сферу искусства «отбрасывались» смыслы, которые не могли быть немедленно воплощены в реальность, – смыслы, связанные с проектом. С этого времени механизмом трансляции художественно-эстетических смыслов в сферу культуры стала литературная критика. Именно в ней художественные смыслы становились смыслами культуры. Кардинальное изменение смыслового поля искусства происходит начиная с символизма. Отображение реальности, выявление «подлинных» смыслов более не являются принципом искусства, оно само признается реальностью, но иной – 67 высшего порядка. С этого времени разорванная реальность, стремясь воссоединиться в новую целостность, пытается диалогически соотнести свои смыслы. Р. Вентури – известный архитектор ХХ века – утверждал: «Скрытые значения я считаю столь же важными, как и явные. Я предпочитаю “и то, и другое”, а не “то или другое”, “черное и белое, а иногда и серое”, а не “черное или белое”… Но архитектура сложности и противоречия имеет и особые обязательства в отношении целого: ее истина должна заключаться в отношении с целостностью»3. Однако, по замечанию Е. Надеждиной, новая целостность, реализующая себя посредством попытки такой диалогичности в пространстве только лишь одной из со-бытийствующих культурных программ, невозможна: «Каждое из них плотно заполнено смыслами и не предполагает существование чего-либо, кроме себя самого. Такой глобальный антисократизм может быть разрешен только в “ничьем” пространстве»4. Таким «ничьим пространством», полагает она, способна стать художественная литература. Но представляется, что можно говорить о «ничьем пространстве» художественного текста, понимаемого, вслед за Бахтиным, как «пространство взаимного становления меня другого и самой культурной реальности»5, т. е. пространстве самого искусства. Тогда смысл, выступающий как «несуществующая сущность», реализует стратегию произведения как «безместного места», актуализируя «открытый» характер искусства. «Смыслы непоименованные, отброшенные от реальности в прошлом, направляются агентом на “пустоту” художественного текста, тем самым порождая и новое имя (имена), и новый механизм смыслоозначения»6, – отмечает Е. Надеждина. 3 Цит. по: Козловски П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития. – М., 1997. – С. 186. 4 Надеждина Е. В. Художественный текст в структуре реальности // Общественные науки и современность. – 2001. – № 1. – С. 190. 5 Там же. – С. 190. 6 Там же. 68 69 «Пустота» современного искусства, его абсурд, нарочитое обессмысливание идут вразрез с господствующей долгое время установкой на то, что в произведении должен быть смысл, который следует эксплицировать, сделать понятным. Представления о бессмысленности современного искусства берут свои истоки в попытке сведения произведения искусства до уровня его функционально-вещного существования, но тогда произведение, теряя свою художественность, становится лишь фактом существования в этом мире, наряду с множеством других фактов, и тем самым перестает существовать как явление искусства. Произведения, определяющие себя как процесс, растрачивают смысл, если представлены всего лишь как чистый результат. «Альтернатива, – пишет Т. Адорно, – открывающаяся в ходе кризиса, состоит в том, чтобы или “выпасть” из искусства, или изменить понятие, определяющее его сущность»7. Адорно фиксирует сложную трансформацию смыслосообщающего порядка, связанную с исторической изменчивостью категорий и проблематизирующую само понятие смысла. Но эмансипация произведений искусства от телеологического смысла также оказывается смыслонаполненной: «Произведения искусства, которые отказываются от видимости осмысленности, не утрачивают в результате этого своего сходства с языком. Они высказывают с той же определенностью, как и традиционностью, свой позитивный смысл как смысл их бессмысленности»8. Отрицающие смысл произведения, пусть даже против воли создателя, находясь в пространстве интертекстуальности, все же реализуются в смысловых контекстах. Тотальность произведения искусства, по Адорно, определяется как тотальность определенного смыслового контекста, поскольку «смысл, в который синтезируется произведение искусства, не может быть создан только произведением, как и не может быть его воплощением. Тотальность произведения, представляя и эстетически продуцируя смысл, воспроизводит его»9. Все зависит от того, 7 Адорно Т. В. Эстетическая теория. М., 2001. – С. 92. Там же. – С. 224. 9 Там же. – С. 223. 8 присущ ли смысл отрицанию смысла в произведении искусства – подвергается ли рефлексии смысл или его кризис, или же он не артикулируется и остается тайной. Рассуждая об известных музыкальных алеаторических произведениях (в частности, оценивая творчество композитора Дж. Кейджа), философ полагает, что, повинуясь, словно закону, неумолимой случайности, они тем самым обретают «нечто вроде смысла» – принимают выражение ужаса. Вместе с тем, полагая бессмысленность «другим» смыслом, Адорно призывает исследователей к поиску любого смысла, приняв во внимание «эстетический императив», согласно которому все в произведении является самым главным, в нем нет ничего второстепенного. Любое художественное произведение обладает индивидуальным пространством смысла, где смысл свободен, «скользит от одного предела выражения к другому, не покидая границ скольжения»10 и уходит от попытки его жесткой фиксации. Учитывать скольжение, а не углубление, видится Ж. Делёзу важнейшей задачей при исследовании смысла: «…скользить на всем протяжении так, чтобы прежняя глубина вообще исчезла, свелась к противоположному смыслу – направлению поверхности. Скользя так, мы переходим на другую сторону, ибо другая сторона – не что иное, как противоположный смысл – направление»11. Ускользание смысла В. Подорога назвал его онтологическим свойством («…смысл – само ускользание»12). «Любой смысл (произведения, поступка, жизни) не локализуем в “вещи”, “сумме значений”, он нависает линией горизонта над формой выражения и, подобно горизонту, постоянно ускользает от нас, когда мы стремимся его достичь»13. Смысл всегда ускользает от формы выражения, оставляя, однако, следы этого ускользания. Он располагается 10 Подорога В. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии: С. Кьеркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер, М. Пруст, Ф. Кафка. – М., 1995. – С. 25. 11 Делёз Ж. Логика смысла. – М., 1995. – С. 23. 12 Подорога В. Указ. соч. – С. 26. 13 Там же. 70 на границах произведения, и, поскольку эти границы подвержены флуктуации не в меньшей степени, чем сами произведения в интертекстуальном пространстве, то и ускользающий от фиксации смысл рассеивается, приобретает многозначность. Художественность, явленная таким образом, предстает как постоянно трансформирующееся поле множества смыслов, возникающее на пересечении автора, зрителя (читателя), произведения (текста). Смысловому полю принадлежит не только то, что сознательно внес в него автор, но и то, что вносит в него воспринимающий в своем с ним полилоге. Более того, смысл (смыслы) произведения оказывается теснейшим образом связан и с историческим контекстом его создания, и с тем местом, которое занимает данный текст внутри художественной эволюции – во множественном интертекстуальном пространстве: «Поэтическое означаемое отсылает к иным дискурсивным означаемым таким образом, что в поэтическом высказывании становятся читаемыми множество дискурсов. В результате вокруг поэтического означаемого создается множественное текстуальное пространство, чьи элементы могут быть введены в конкретный поэтический текст»14. Американский художник-концептуалист Дж. Кошут в работе «Искусство после философии» также утверждает интертекстуальный характер художественности: «Каждое произведение искусства остается таковым, только когда существует внутри единой большой структуры (проекта), и каждый проект становится значимым только внутри большей структуры (исследования), каждое исследование приобретает смысл только внутри большей структуры (моего искусства), и мое искусство живет внутри большей структуры (концептуального искусства), а концептуальное искусство есть концепция, имеющая конкретное значение в конкретном времени, но существующая лишь как идея, рождаемая живыми художниками и действующая исключительно как информа14 Цит. по: Ямпольский М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. – М., 1993. – С. 39. 71 ция»15. Только в пространстве интертекстуальности реализуется раскрытие полноты смысла, явленного в многообразии, ведь, по замечанию М. Ямпольского, «полнота смысла всякого текста возникает именно в результате его соотнесения с текстами-предшественниками, а иногда и последователями»16. Р. Барт, защищающий, по сути, позиции символического истолкования искусства, также настаивает на том, что художественное произведение, как символ, несет в себе множество смыслов. «… Произведение, – пишет он, – разом содержит в себе несколько смыслов в силу своей структуры, а не в силу ущербности тех людей, которые его читают. Именно в этом и состоит его символичность: символ – это не образ, это сама множественность смыслов»17. В работе, посвященной разбору новеллы О. де Бальзака «Сарразин» – «S/Z», Барт делает радикальный шаг от представления о «множестве смыслов», которые можно вычленить в произведении в зависимости от установок воспринимающих, к идее «множественного смысла», образующего тот уровень произведения, который Барт назвал уровнем Текста. Произведение, полагает он, в силу самой своей структуры обладает множественным смыслом, что порождает возможное существование двух различных видов дискурса: с одной стороны, можно попытаться раскрыть сразу все смыслы, а именно – всеобщий полный смысл, который служит основанием для множественности; с другой – лишь какой-либо один из этих смыслов. Но в любом случае произведение будет лишь «эффектом Текста», результатом его работы. «Тексту присуща множественность. Это значит, что у него не просто несколько смыслов, но что в нем осуществляется сама множественность смысла как таковая – множественность неустранимая, а не просто допустимая. В Тексте нет мирного сосуществования смыслов – Текст пе15 Цит. по: Художественные модели мироздания. ХХ век. – Кн. 2 : Взаимодействие искусства в поисках нового образа мира. – М., 1999. – С. 302. 16 Ямпольский М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. – С. 14. 17 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. – С. 351. 72 73 ресекает их, движется сквозь них; поэтому он не поддается даже плюралистическому истолкованию, в нем происходит взрыв, рассеяние смысла. Действительно, множественность Текста вызвана не двусмысленностью элементов его содержания, а, если так можно выразиться, пространственной многолинейностью означающих, из которых он соткан (этимологически “текст” и значит “ткань”)»18, – заявляет Барт. Сам же Текст предстает как парадоксальный интертекст. Его метафора – сеть: органическая цельность Текста не имеет значения, его можно дробить и сочленять. По сути, Текст должен обладать теми характеристиками, которые выделили Ж. Делёз и Ф. Гваттари для ризоматической системы (множественность, фрагментарность и т. д.). Текст остается «позади» произведения, но произведение «напитано» всей недифференцированной массой культурных смыслов. Поэтому смысл произведения предстает не как некая предзаданность, на которую следует опираться, а как то, что возможно обнаружить лишь в процессе чтения. При этом по ходу чтения (прослушивания, просматривания и т. п.) вполне естественна потеря приобретаемых смыслов: важно нахождение не итоговых смыслов, а отправных точек смыслообразования. «Парадигматическое сознание, – пишет Барт, – определяет смысл не как простую встречу некоего означающего и некоего означаемого, а, по удачному выражению Мерло-Понти, как самую настоящую “модуляцию сосуществования”»19. В рамках этой модуляции коннотативные смыслы не фиксируются ни в грамматике языка, на котором написан текст, ни в словаре, ни в словосочетаниях. «С топологической точки зрения, – утверждает Барт, – коннотация обеспечивает рассеяние (ограниченное) смыслов, подобных золотой пыльце, усыпающей зримую поверхность текста (смысл – это золото)»20. В то же время, с операциональной точки зрения, выявляемые смыслы «удостоверяются» не художниками, читателями или крити18 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – С. 417. Там же. – С. 249. 20 Барт Р. S/Z. – М., 1994. – С. 18. 19 ками, а лишь собственной систематичностью: «Доводом в пользу того или иного прочтения текста может служить лишь последовательная систематичность самого прочтения, т. е. правильность его функционирования»21. Таким образом, выявляя рассеянные сигналы смыслов, мы стремимся установить только множественность, а не истину (глубинную, стратегическую структуру) Текста, т. е. обнаруженные смысловые единицы невозможно наделить каким-то метасмыслом, якобы воплощающим завершенность Текста. Это, по мнению Барта, происходит в современном мифе – под ним он имеет в виду вторичный «метаязыковой» знак-миф, с помощью формы опустошающий изначальную полноту первичного мира – смысла. «…Где кончается смысл, там сразу же начинается миф»22, – утверждает Барт. Важнейшее свойство мифа – способность превращать смысл в форму, поскольку как только смыслом завладевает миф, он превращается в пустую форму: «Смысл уже завершен, им постулируется некое знание, некое прошлое, некая память – целый ряд сопоставимых между собой фактов, идей, решений»23. Форма мифа питается смыслом, который не уничтожает полностью, но лишь обедняет, дистанцирует его. В исходной мифологической системе смысл самодостаточен и полон: «…в смысле уже заложено некоторое значение, и оно вполне могло бы довлеть себе, если бы им не завладел миф и не превратил внезапно в пустую паразитарную форму»24. Но это конкретножизненное, сюжетное содержание мифа («некое знание, некое прошлое, некая память») «захватывается» вторичной семиологической системой, обращается в пустую форму, наполняемую уже новым, внесюжетным, идеологическим содержанием: «Смысл заключает в себе целую систему ценностей <…> В форме все это богатство устраняется; форма обеднела и должна быть наполнена новым значением…»25 Таким но21 Барт Р. S/Z. – С. 21. Барт Р. Мифологии. – М., 2000. – С. 248. 23 Там же. – С. 242. 24 Там же. 25 Там же. – С. 243. 22 74 75 вым значением является понятие, означаемое мифа, но в нем форма присутствует в своей пустоте, а смысл – отсутствует в своей полноте. «Создается впечатление, что общество с недоверием относится к чистому смыслу: чтобы он был (пользуясь языком кибернетики) окружен помехами, делающими его менее отчетливым»26, – замечает Барт. С понятиями непосредственно сталкивается язык, где смысл очень редко утверждается изначально во всей своей неискаженной полноте. И лишь искусство, в частности поэзия, противостоит мифу, стремясь к обратной трансформации знака в смысл, и идеалом ее является, в тенденции, дойти не до смысла слов, а до смысла самих вещей. Таким образом, художественность, выявляемая через художественный смысл, приобретает онтологический статус, раскрывая собственный универсальный характер – обращаясь не к сущности, а к существованию. Р. Барт обосновывает и идею введения понятия «открытый смысл». Его он применяет для анализа кинематографа, выявляя в кинофильме то «фильмическое», что и делает произведение подлинно художественным. Барт различает три уровня смысла, на каждом из которых его можно различными способами маркировать: 1) информативный уровень: смысл как коммуникация; 2) символический уровень: смысл как значение; 3) уровень «означивания»: открытый смысл. Первые два уровня (информативный и символический) находятся полностью во власти так называемого «естественного смысла»: на этих уровнях смысл дает нам информацию (о чем произведение) и раскрывает значение в рамках данного произведения. Так, у Эйзенштейна, на примере творчества которого Барт анализирует возможные вариации смысла, он теряет многозначность «благодаря прибавлению определенной эстетической ценности, благодаря пафосу. Эйзенштейновская эстетика не образует некоего независимого уровня, она принадлежит “естественному” смыслу, а “естественный” 26 Барт Р. Camera lucida: Комментарий к фотографии. – М., 1997. – С. 57. смысл у Эйзенштейна – это революция»27. Но утрата этой многозначности компенсируется выявлением новых аспектов смысла, выводящих его на последний, третий уровень – уровень означивания. Только здесь и выявляет себя так называемый «открытый» смысл. Барт обозначает смысл как «открытый», поскольку он «принадлежит породе словесных игр, буффонад, бессмысленных трюков, он безразличен к моральным и эстетическим категориям (тривиального, пустого, искусственного, подражательного), он пребывает в области карнавального»28. Более четко определить этот смысл сложно, так как он – «означающее без означаемого». Кроме того, его означающее – редкость и, скорее, принадлежность будущего, чем реальное вхождение в практику какого бы то ни было художника. В противоположность смыслу естественному, миметическому по преимуществу, открытый смысл ничего не копирует, именно поэтому он не может быть описан. Как описать то, что ничего не представляет, – задается вопросом Барт, – ведь сделать это видимым при помощи слов не представляется возможным. Эта мысль созвучна вопрошанию М. Бахтина: «В какой мере можно раскрыть и прокомментировать смысл (образа или символа)? Только при помощи другого (изоморфного) смысла (символа или образа). Растворить его в понятиях невозможно»29. Но произведение все же ставит ловушки «открытому» смыслу, определяя его не через реальные вещи, понятия, категории, но проявляя через индивидуальный способ каждого творца «читать» саму жизнь, а следовательно, и реальность. Поэтому всякое оригинальное произведение представляет собой самостоятельную модификацию художественности. Процесс художественного «чтения», по Барту, осуществляется вне артикулированного языка, но внутри разговора. При этом 27 Барт Р. Третий смысл // Строение фильма. Некоторые проблемы анализа произведений экрана : сб. статей. – М., 1984. – С. 179. 28 Там же. – С. 178. 29 Бахтин М. М. К методологии литературоведения // Контекст-1974. – М., 1975. – С. 209. 76 77 смысл, как бы оправдывая свое обозначение как «открытого», стремится к постоянному преодолению границ. В частности, у Эйзенштейна, по мнению Барта, «качеством этого третьего смысла… становится преодоление границы, отделяющей выражение от лицедейства, и лаконичная передача колебаний между тем и другим, при посредстве эллиптического пафоса…»30. То есть третий – открытый – смысл иначе структурирует произведение, и только на его уровне выступает, наконец, собственно «фильмическое» (filmique). «Фильмическое в фильме, – по словам Барта, – есть то, что не может быть описано, это представление, которое не может быть представлено. Фильмическое может проявиться лишь там, где кончается язык и артикулированный метаязык»31. Третий смысл «переступает» язык, стремясь к «означиванию» и даже к «акту творения» фильмического. Но, находясь в сложной ситуации современной художественной неопределенности, фильм, как истинное дитя своего времени, несмотря на бесконечное число кинокартин, производимых в мире, все же, по мнению Барта, настолько редко порождает «фильмическое», что позволяет автору утверждать: «Фильм, так же как текст, еще не существует»32. Итак, выявление художественности возможно только на метауровне – у Барта этим метауровнем является Текст во множественности его смыслов. Но тогда каждое отдельное художественное произведение не может выступать как репрезентативное для художественности вообще: «открытий смысл» рассеивается, оставляя только следы своего ускользания. Фиксируемое современной философией и искусством ощущение невозможности единого смысла обращает мыслителей и художников к поиску смысла, не сокрытого в глубине, а скользящего по поверхности. В трактовке И. Смирнова художественный смысл определяется не как то, что артикулируется, а как то, как артикулируется – сам звуковой, графический или мимико-жестику- ляционный акт. Автор, анализируя художественные смыслы и их развитие и изменение, характеризует развертывание художественной системы во времени следующим образом: «Дополняясь, всякая система отрицает самое себя: она живет самоотрицанием, и как только дополнение оказывается невозможным из-за того, что превращения смысла уже исчерпаны (актуализированы), она начинает репродуцироваться. Повторения стабилизируют художественную систему, указывают на то, что повторяется (т. е. на самих себя), отчего семантический потенциал системы резко убывает, а знак становится синтаксическим знаком в первую очередь. Теряющее смысл обречено на гибель»33. Искусство, таким образом, предстает как система с открытыми возможностями: социально-культурная ситуация, принимая либо блокируя постоянные трансформации, создающие семиотический фундамент в сфере искусства, эксплицирует или скрывает различные аспекты искусства, влияя и на индивидуальные семантические системы. А. Генис характеризует мировоззренческие системы, поразному выявляющие категорию смысл – как «парадигму лука» и «парадигму капусты» – и рассматривает их также в историческом аспекте. В «парадигме капусты» движение к смыслу центростремительное: «Снимая лист за листом слои ложного бытия, мы добираемся до кочерыжки – смысла»34. Предполагая, что в глубине реальности содержится смысл всей культурной модели, все, что не маркировано через этот смысл, признается фальшивым. Эта парадигма, по сути, описывает эссенциалистский подход к художественности. Формулой для искусства становится «обрывание листьев в поисках кочерыжки», а само оно в своей сущности признается инструментом познания реальности. В качестве примеров реализации такой парадигмы Генис называет произведения «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого и «Облако в штанах» В. Маяковского. 33 30 Барт Р. Третий смысл. – С. 183. 31 Там же. 32 Там же. – С. 186. Смирнов И. П. Смысл как таковой. – М., 2001. – С. 153. Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. – М., 1997. – С. 115. 34 78 79 «Парадигма капусты» исчерпывает себя, как только обнаруживается пустота вместо смысла. На смену ей приходит «парадигма лука», где пустота – не кладбище, а родник смыслов. «Это – космический ноль, вокруг которого наращивается бытие. Являющаяся сразу всем и ничем, пустота – средоточие мира. Мир вообще возможен только потому, что внутри него – пустота: она структурирует бытие, дает форму вещам и позволяет им функционировать»35, – пишет Генис. В «парадигме капусты» хаос – снаружи, а порядок – внутри; в «парадигме лука», наоборот, хаос – зерно мира. Движение здесь не центростремительное, а центробежное: смыслы выращиваются, а не открываются. Искусство предстает как вид магии, механизм, вырабатывающий реальность. Генис указывает на целую плеяду современных российских авторов, работающих со смыслами, вырабатываемыми в «парадигме лука», – В. Ерофеева, С. Довлатова, Э. Лимонова, В. Сорокина, В. Пелевина. Эти авторы воссоздают в литературе такую «шизореальность», в которой не остается никакого «настоящего» смысла. Главным «героем» оказывается пустота в мире распавшихся знаков. Примечательно название одного из романов В. Пелевина: «Чапаев и пустота», а также заглавие статьи – исследования М. Эпштейна, посвященного творчеству И. Кабакова, – «Пустота как прием». В романе «Норма» В. Сорокина этой пустоте соответствуют строчки повторяющейся буквы «а», либо чистые страницы, либо абракадабра. Автор как бы включает «парадигму капусты» в «парадигму лука», снимая непреодолимый разрыв между ними, материализуя, «овеществляя» метафоры из хрестоматийных советских стихов, лишая ключевые слова переносного, фигурального значения. Таким образом разрушается не только «здравый» смысл, но и «общезначимый», направленный на тождественность означаемого и означающего. Парадоксализация, как один из признаков художественности в рамках современной парадигмы, выступает на первый план и становится основным смысловым приемом: если так называемый «здравый» смысл утверждает свою принципиальную определенность, то «шизоидный» тип сознания, утверждая смысл как «несуществующую сущность», нацелен на утверждение двух и более смыслов одновременно, предполагая их парадоксальную множественность. «Парадокс – это то, что разрушает не только здравый смысл (bon sens) в качестве единственно возможного смысла (sens unique), но и общезначимый смысл (sens commun) как приписывание фиксированного тождества»36, – определяет Ж. Делёз. Смысл предстает не тем, что делает истинным или ложным предложение или произведение. Смысл – это само событие «в той мере, в какой он отделяется и отличается от положений вещей, которые производят его и в которых он осуществляется»37. То есть смысл никогда не совпадает с тем, в чем он выражается, но в то же время он не расположен где-либо вне своего выражения. Он также не тождественен предложению, в котором может быть выражен. Поэтому невозможно сказать, что смысл, как нечто выраженное предложением, существует, скорее, он «упорствует или обитает». «Смысл – это и выражаемое, т. е. выраженное предложением, и атрибут положения вещей»38, – поясняет Делёз. В таком случае мы не можем говорить о каком-либо определенном смысле любого события: само событие и есть смысл, как таковой, в той самой мере, в какой он отличается от вещей, производящих его. Не являясь ни двойником предложений-высказываний о смысле, ни дублером положений вещей, смысл нейтрален, его главное качество – формирование. Это формирование сходно с маршрутом кочевника, представляющего собой полную противоположность проложенной дороги: кочевник реализуется только в открытом пространстве – неочерченном и несвязном. Основатель шизоанализа настаивает на производном происхождении смысла, который всегда предстает как нечто порожденное, а не изначальное. Однако такое порождение 36 Делёз Ж. Логика смысла. – С. 15. Там же. – С. 252. 38 Там же. – С. 38. 37 35 Генис А. Указ. соч. – С. 117. 80 81 может иметь множество направлений и задавать варианты пути, по которым может следовать смысл. Для уточнения смыслонаполненности современной художественности важен заочный диалог Т. Адорно и Ж. Делёза по поводу становления шизофренического дискурса. Т. Адорно, рассматривая творчество великого композитора ХХ века И. Стравинского, уподоблял его музыкальные конфигурации психотическому поведению. Полагая центральным произведением в творчестве композитора «Сказку о беглом солдате и черте», философ утверждал, что в нем наиболее наглядно представлен распад органико-эстетического единства, присущего классическим произведениям: «Чтец, сценический процесс и видимый публике камерный оркестр рядополагаются, что бросает вызов самой идентичности основного эстетического субъекта. Неорганический аспект препятствует каким бы то ни было вчувствованию или же отождествлению. Этот аспект формируется самой партитурой»39. Праформой шизоидного расщепления эстетических функций в «Солдате…» философ считает невыразительную балетную музыку, характеризующуюся физической телесностью, но ускользающую от взаимосвязи между ощущениями. Действительно, произведения Стравинского наполнены пассажами, где место мелодии занимает пауза, а основным «голосом» выступает движение тела. Эта неэкспресссивность, принципиальный отказ от выражения, свидетельствующий об интересе Стравинского к деперсонализации, по словам Адорно, в анализе шизофрении имеет клинический эквивалент, называемый гебефренией – безразличием к внешнему миру: «“Безразличие к миру” доходит до лишения “Не-Я” каких бы то ни было аффектов, до нарциссического равнодушия к уделу человеческому, и равнодушие это эстетически прославляется как смысл такового удела»40. Но при этом не стоит сводить эту видимую холодность чувств и эмоциональную поверхностность к обеднению самой душевной жизни. «Зас39 40 Адорно Т. В. Философия новой музыки. – М., 2001. – С. 277. Там же. – С. 280. тывшее внутреннее» Стравинский делает достоинством своей музыки: выразительность как музыкальный прием отходит на второй план, пропуская вперед безучастное ко всякой выразительности гебефреническое равнодушие. По свидетельству Адорно, у некоторых шизофреников после распада «Я» происходит обособление моторного аппарата, что приводит к бесконечному повторению жестов или слов. Аналогично этим процессам, музыка Стравинского находится под знаком навязчивых повторений, что также характеризует «шизофреническую» направленность творчества композитора. Современная музыка в лице Стравинского отказывается от выражения здравого смысла, от показа картин «правильной» жизни; вместо этого музыка воплощает идею об отсутствии жизни, смысла и самой себя. Адорно утверждает: «Вместо французского выражения bien fait выступает искусственное mal fait: музыка о музыке дает понять, что она представляет собой не сбывшийся в себе микрокосм, а рефлексию сломленного и опустошенного. Ее рассчитанные ошибки сродни открытым, опровергающим всякую замкнутость образа картины контурам “легитимной” живописи таких современников Стравинского, как Пикассо»41. На первый взгляд Адорно действительно справедливо вычленяет все «шизофренические» элементы в композиции Стравинского. Однако композитор во всех видах эпатажа этой шизофренической машины достаточно предсказуем. К тому же использование и деформация различных стилей в его произведениях строго выверены, и все инструменты и подходы, работающие на шизофренический эффект, поддаются исчислению и классификации. «Следовательно, – отмечает исследовательница К. Чухров, – все симптомы шизофрении Стравинским скорее миметируются и имеют место на макроуровне произведения, т. е. навязываются структуре извне и не порождаются из внутренних микросвязей (Делёз назвал бы это различием внутри молекулярной органики)»42 . 41 42 Адорно Т. В. Философия новой музыки. – С. 294-295. Там же. – С. 31. 82 83 В концепции Ж. Делёза опровергается позиция Адорно, согласно которой Стравинский размножением стилей демонстрирует шизофреническую неспособность сказать «Я». В работе «Философия новой музыки» Адорно, наряду с творчеством Стравинского, рассматривает и подход к музыке А. Шёнберга и его последователей – так называемой «нововенской школы», во многом их противопоставляя. Делёз также считает их разнонаправленными фигурами, но видит шизофреническое размножение, напротив, в творчестве Шёнберга, обновившего современную музыку, введя в обиход двенадцатитоновый сериальный метод композиции. На чем же основан подобный вывод? Делёз делает акцент на произвольности, спонтанности музыки Шёнберга. Шизофренический эффект прорывается через рационально выверенное единство и направляется в первую очередь на слушателя, который, несмотря на математическую выверенность сериального метода, не может вычленить основные элементы, образующие композицию, а воспринимает эффект дифференциации как выведение из равновесия, выход за собственные границы. В концепции Делёза мы видим смещение акцентов с самого художественного объекта на художественное отношение, конституирующее множественное смыслопорождение. «Я» остается на месте, но существует на пороге взрыва, и додекафонические потоки, способствующие этому, представляют шизофреническое расщепление «Я» гораздо больше, чем полный инструментальный отказ от него. У Шёнберга Делёз отмечает неконтролируемую множественность, которая хоть и предсказуема в методе развития, но непредсказуема в каждом отдельном шаге. Дифференциацию в композициях Шёнберга можно рассмотреть через делёзовскую концепцию «различия и повторения». На вопрос о сущности, открывающейся в произведении искусства, Делёз отвечает: «Это – различие, предельное и абсолютное различие. Различие, что составляет бытие и заставляет нас его постигать»43. В свою очередь, предельное и абсолютное различие рассматривается не как внешнее и эмпирическое, а как внутреннее, различие как таковое. Всякий субъект, полагает Делёз, выражает абсолютно различный мир. Однако повторение и различие противопоставляются только внешне. «Не существует такого великого художника, о произведении которого нельзя было бы сказать: “То же самое и, однако, нечто другое”»44, – утверждает философ, фиксируя одновременно универсальность и историчность художественности. С этой точки зрения, Стравинский принимает различие как расподобление подобного: по сути, его интересует переход от нарушения к прежнему сбалансированному течению, но такие кратковременные отклонения лишь утверждают прочность подобия. У Шёнберга, напротив, дифференциация соединена с инерцией различения, которое неразрешимо и предстает как бесконечная возможность его трансгрессии. В итоге Шёнберг демонстрирует удвоенное различие – нетождественность звука с самим же собой и его «побег» от предыдущего. При этом композитор сохраняет осмысленность произведения, если следовать логике Делёза: «То, что называют структурой, системой связей и дифференциальных элементов, является также и смыслом с генетической точки зрения, в соответствии с теми отношениями и современными терминами, в которых она воплощается»45. В концепции Делёза различие и повторение выступают как нераздельные, соотнесенные друг с другом движущие силы смысла как «несуществующей сущности», которая, по мысли автора, всегда художественна, поскольку только на уровне искусства она может полностью раскрыться. Во всех других областях жизнедеятельности человека сущность попадает в ловушку материальных знаков, предметов, субъективностей, тогда как только в сфере искусства знаки нематериальны. Вернее: каждое произведение благодаря абсолютно духовному смыслу «переводит» материальные знаки в подлинное единство сущности. Будучи свойством мира, сущность никогда не 44 43 Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. – СПб., 1999. – С. 67. 45 Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. – С. 75–76. Делёз Ж. Различие и повторение. – М., 1998. – С. 236. 84 85 тождественна предмету, в котором может быть воплощена, но именно она наделяет произведение неповторимостью и художественностью. «Художественная сущность открывает нам первичное время, превосходящее темпоральные ряды и измерения»46, – пишет Делёз. Более того, искусство в лице любого художника выражает сущность той области Бытия, которая приоткрывается субъекту: поскольку искусство продуцирует поиск бытийных смыслов, то это единственная вещь на свете, которая сохраняется в своем сущностном единстве. Сделать так, чтобы произведение «стояло само собой» – вот что должно быть главным законом творчества художника. «Стоять само собой – это не значит иметь верх и низ, это не значит стоять прямо (ибо даже дома, бывает, стоят покосившись и пьяно покачиваясь), это просто акт, которым однажды сотворенное составное целое ощущений сохраняется само в себе»47, – отмечают Делёз и Гваттари. Создавая произведения, художник должен иметь в виду их по большому счету подсобный характер для исполнения важнейшей («великой») задачи – постоянного восстановления «первозданных топей». Поскольку искусство, по словам родоначальников шизоанализа, стремится создавать конечное, дающее бесконечное, то у художника складываются непростые отношения с порядком и хаосом. С одной стороны, он делает новые разрезы на теле культуры, фиксируя и упорядочивая часть реальности, но, с другой, он призывает хаос – единственный источник вдохновения. «Искусство преобразует хаотическую переменную в хаоидные разновидности… Искусство борется с хаосом, но для того, чтобы сделать его ощутимым, порой даже через самую очаровательную человеческую фигуру, через самый волшебный пейзаж…» – полагают философы48. Опирающаяся на подобные теоретические размышления художественная целостность носит по преимуществу непредсказуемый и взрывной характер, поскольку основывается на противо- речивом понимании хаоса. Попытка ухватить его может вести как к дальнейшему рассеиванию всяческих определенностей, так и к моделированию самого хаоса и поиску тех скрытых «ризом» и «рассеянных структур», которые преобразуют хаос в хаосмос. И искусство здесь играет первостепенную роль. Особенности конфигурации и функционирования искусства меняются применительно к различным его видам – литературе, живописи, музыке, театру, кинематографу. Но все эти формы, в которые облекается и современное искусство, объединены единым принципом: они подчинены скорости бессознательного шизопотока, являются его вариациями. «Литература – совсем как шизофрения: процесс, а не цель, производство, а не выражение», – утверждают авторы в исследовании «Капитализм и шизофрения»49. Воплощением шизо-литературы выступает творчество А. Арто («Арто-Шизо»), реализующего идеальную модель писателя-шизофреника. В живописи эту модель представляет В. Ван-Гог. В театре – К. Бене. Подлинный гений, по мнению Делёза и Гваттари, по сути, революционен в своей попытке, вне зависимости от эпохи, прорваться к новому искусству. И тогда признаком художественности такого искусства будет являться активность: в живописи – активность линий, мазков; в музыке – звуков и т. д. Шизоанализ предлагает исследовать современное художественное творчество как становление ноознаков-симбиозов типа «оса-орхидея», «человек-вирус». Взаимопроникновение одного в другое свидетельствует об орхидейном становлении осы и осином становлении орхидеи или о человеческом становлении вируса и вирусном становлении человека – все возможные типы связей генерируются единым принципом становления. Так, Делёз рассуждает о птичьем становлении музыки Моцарта, что означает становление в момент творческого акта композитора птицей, а птицу – музыкальной. Тем самым признается бытийный характер творчества: всякое произведение творит не конкретный автор – человек – ху- 46 Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. – С. 89. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – М. ; СПб., 1998. – С. 208. 48 Там же. – С. 261. 47 49 Цит. по: Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000. – С. 100. 86 87 дожник, а человек, становящийся животным в тот момент, когда животное превращается в музыку или чистый цвет. Подлинно художественное становление означает отождествление себя с меньшинством, превращение в кого-то другого – важен сам процесс множественного превращения, перманентной творческой трансформации. Как зигзагообразную абстрактную линию можно графически изобразить подлинную становящуюся субстанцию искусства, образующую экологию творчества. Эту суть искусства Делёз и Гваттари называют «ризомой»: «Орхидея детерриториализируется, создавая образ, кальку осы; но оса ретерриториализируется в этом образе; однако она детерриториализируется, становясь деталью в аппарате воспроизведения орхидеи, транспортируя пыльцу. Оса и орхидея, будучи гетерогенными, вместе составляют ризому»50. Изменение смысловых акцентов, выявленное шизоанализом, не ведет к потере художественной специфики искусства. Реализация подобных призывов, в согласии с концепцией Ж. Бодрийяра, возможна в мире симулякров, составляющем современную культуру и искусство. Бодрийяра интересует переживание неподлинности мира, данного нам в культурном опыте, что присуще в поздний период творчества и Р. Барту («Мифологии»). И если Барт это переживание истолковывал с семиотической точки зрения, демонстрируя, что «мифологизация» мира осуществляется путем включения первичных культурных знаков (языковых или каких-либо иных) в коннотативную знаковую систему второго порядка, которая использует естественный смысл как оправдание, алиби для своих собственных ценностных значений, то Бодрийяр пытается, скорее, остаться на онтологическом уровне, осознавая, впрочем, что и этот уровень, как и любой другой, в современной ситуации предельно мифологизирован. Термин «миф», означающий у Барта неподлинный смысл, Бодрийяр заменяет термином «симулякр». В историческом развитии европейской цивилизации от Возрождения до наших дней он выявляет сменяющие друг друга формы симулякров: «подделка – 50 Делёз Ж., Гваттари Ф. Ризома: введение (перевод в рукописи). – С. 3. производство – симуляция». Такая схема, по мнению мыслителя, приложима и для рассмотрения развития смысловых коррелятов, ведь смысл, по сути, аналогичен товару. И если долгое время не возникало проблем перепроизводства и потребления как в случае с товаром, так и в случае со смыслом, то сегодня ситуация кардинально иная: «…смысл повсюду, его производят все больше и больше. И недостает уже не предложения, а как раз спроса. Производство спроса на смысл – вот главная проблема системы», – считает Бодрийяр51. Для сегодняшней фазы симуляция характерна в том смысле, что господствует ситуация, в которой знаки достигают предельной степени эмансипации, что означает свободный обмен знаков друг на друга, а не на что-либо реальное. Прежнее правило «детерминированной эквивалентности», характерное для эпохи промышленных революций, сменилось правилом недетерминированности и неразличимости, позволяющим вести бесконечные подстановки и комбинаторные игры, свидетельствующие о стадии всеобщей полной относительности. Такую стадию Бодрийяр называет фазой замораживания смысла, которую характеризуют так называемые cool-знаки. «Coolness – это чистая игра дискурсивных смыслов, подстановок на письме, это непринужденная дистантность игры, которая по сути ведется с одними лишь цифрами, знаками и словами, это всемогущество операциональной симуляции. Пока остается какая-то доля аффекта и референции, мы еще на стадии hot. Когда же сообщением становится само средство коммуникации, мы вступаем в эру cool»52, – полагает философ. Примечательно, что американский философ Д’ан, рассуждая о постановке проблемы смысла в постмодернизме, высказывает сомнение в существовании в современных условиях смысла как такового, полагая, что смысл постмодернистского опуса во многом определяется присущим ему пафосом 51 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. – Екатеринбург, 2000. – С. 34. 52 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М., 2000. – С. 76. 88 89 критики медиа. Как отмечает Д’ан, постмодернистские произведения демонстрируют проблематичность той картины действительности, которая формируется в недрах массовой культуры, разоблачая процесс мистификации, происходящий при воздействии медиа на общественное сознание. Обращение к критике медиа в данной ситуации представляется неслучайным. Развитие этой сферы во многом предоставляет почву смыслам и знакам, которые стремятся к собственной «чистоте» парадоксальным образом – самодублированием. Э. Уорхол, как художник, работающий с избыточными знаками, одним из первых уловил эту тенденцию: его многочисленные копии банки супа или фотографии М. Монро являют собой как смерть оригинала, так и конец собственно репрезентации. «В итоге этого воспроизводительного процесса, – пишет Бодрийяр, – оказывается, что реальность – это не просто то, что можно воспроизвести, а то, что всегда уже воспроизведено. Гиперреальность»53. Реальность сегодня гиперреалистична, и искусство, картографирующее эту реальность, также реализуется в сфере гиперреальности. Но не означает ли это конец как реальности, так и искусства в силу их полного взаимопоглощения? Бодрийяр полагает, что нет: «…гиперреализм есть высшая форма искусства и реальности в силу обмена, происходящего между ними на уровне симулякра, – обмена привилегиями и предрассудками, на которых зиждется каждое из них»54. Главное качество гиперреальности – это симуляция. По мнению автора, мы живем в «эстетической» галлюцинации реальности: эта эстетичность реализуется уже не благодаря замыслу или художественной дистанции, как это было ранее, а в силу возведения реальности во вторую степень, на вторую ступень. С другой стороны, искусство также манипулирует знаками художественности и начинает дублировать само себя, вступая, тем самым, в процесс бесконечного воспроизводства: «Все, что дублирует само себя, даже если это банальная реальность быта, тем самым оказывается под знаком искусства, становится эстетичным»55. В таком случае, по мысли Бодрийяра, искусство и промышленность могут меняться знаками: искусство становится репродуктивной машиной (например, творчество уже упомянутого Э. Уорхола), но не перестает быть художественным. Преобладающим принципом и над принципом реальности, и над принципом художественности становится принцип симуляции – повсюду реальность (гиперреальность), повсюду искусство. Но подлинное искусство, по Бодрийяру, реализуется лишь в символическом дискурсе. В дискурсе сигнификации художественные элементы лишь внешним образом связаны друг с другом, но они не «говорят» – такой дискурс, полагает Бодрийяр, был предложен У. Эко в работе «Открытое произведение», где тотализация смысла реализуется через «цепную реакцию» и бесконечное умножение означаемых. В сфере же искусства (т. е. в символическом дискурсе), напротив, «инстанция смысла сломана и все конститутивные элементы языка начинают обмениваться, отвечать один другому»56. Исходя из такого понимания множественности художественного смысла, Бодрийяр определяет, например, поэзию как «восстановление символического обмена в самом сердце слов»57. Разбирая словосочетание, употребленное Бодлером, – «сладострастная мебель», – которое привела Ю. Кристева в качестве примера реализации поэтичности, Бодрийяр полагает, что собственно поэтичность возникает не из какого-то семантического эффекта или добавочного эротического смысла, а «она возникает оттого, что в этом коротком замыкании двух слов мебель уже не является мебелью, а сладострастие сладострастием; мебель становится сладострастной, а сладострастие – “мобильным”; от разделенности двух ценностносмысловых полей ничего не остается. Ни один из двух этих элементов сам по себе не поэтичен, и их синтез тоже; они 55 53 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – С. 151. 54 Там же. – С. 151. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – С. 154. Там же. – С. 340. 57 Там же. 56 90 91 становятся поэтичными, лишь исчезнув один в другом»58. В художественном произведении разнонаправленные смысловые «валентности» аннулируются: смысл прирастает не простым сочленением ранее известных значений, но возможностью «бесконечности своего кода», осуществлением одновременно в качестве «осы и орхидеи». Именно этим поэзия отличается от дискурса – поэзия в частности и искусство вообще представляют собой «множественный» дискурс, тогда как собственно дискурс – однокодовый, монологичный. Таким образом, может быть выявлен особый статус художественного смысла как основы художественности. Декларируемый открытый характер искусства предполагает и открытый смысл, не ограниченный жесткими рамками. Более того, такой смысл предполагает собственную многозначность, вследствие нелокализуемости в единой точке произведения. Располагаясь на границах произведения, смысл рассеивается и приобретает многозначность. Главное его качество – формирование на поверхности. Исходя из такого «расположения» смысла, мы оказываемся способны, согласно Р. Барту, установить только множественность открытого смысла, а не его сущностную, глубинную структуру. То есть невозможно наделить какое-либо произведение метасмыслом – единым и истинным. Открытый смысл представляет собой «означающее без означаемого», и пребывает он в области игры и карнавала, столь свойственных современной культуре. Реализация и раскрытие его возможны только в особой реальности –реальности самого произведения. Современное искусство эту реальность возводит в ранг «шизореальности», где смысл оказывается «несуществующей сущностью», реализующей стратегию «безместного места», и важным становится процесс самой художественной перманентной трансформации. В художественном произведении, явленном нам только в процессе восприятия – погружения в иллюзорную реальность, смысл прирастает не как простое сочленение ранее 58 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – С. 360. известных значений, а как возможность «бесконечности своего кода», осуществлением одновременно в качестве «осы и орхидеи». В этом случае художественность предстает как постоянно трансформирующееся поле множества смыслов, возникающих на пересечении «культурных линий», носящих ризоматический характер. 92 93 Т. А. Круглова* Художественный консерватизм: исторический генезис, типология, социокультурные основания** Н аша задача в рамках данной статьи заключается в том, чтобы, не занимаясь определением абстрактно понятого художественного консерватизма, объяснить его как неизбежную сторону современности, – если понимать под ней не просто исторический отрезок времени, а специфическую эпоху, в которой «современное» стало сутью, высшей ценностью, целью существования. Разговор о такой характеристике искусства, как консервативность, редко становился предметом рефлексии со стороны эстетики. И в классической, и в неклассической философии искусства природа художественного высказывания связывалась с расширением, развитием и обновлением смыслового арсенала культуры, а в человеческом плане – с гениальностью творца. Еще сравнительно недавно западная философия искусства описывала художественный процесс современности как прогрессивную смену парадигм, основной механизм развития виделся как преодоление неадекватности языка искусства современности. В подобной оптике консервативное мыслится как антипод модерну, а значит, и современности. Отступления от этой схемы, например искусство тоталитарных стран (в том числе * Татьяна Анатольевна Круглова – доктор философских наук, профессор кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). ** Статья подготовлена в рамках российско-французского гранта РГНФ № 13-23-08002 «Трансформации в литературных полях СССР и Франции: циркуляция «левой» идеи в период с середины 1920-х до середины 1950-х годов». © Т. А. Круглова, 2013 соцреализм), трактовались как «несовременные», а источник этих не справившихся с вызовами современности культур виделся либо в их недостаточной модернизированности, либо в ее имитации. Так или иначе, изнутри этой схемы типы искусства, возникшие в недрах антизападной, антикапиталистической, антилиберальной социальности, не получают объяснения, несмотря на то, что на протяжении всего ХХ века были успешными игроками в поле мировой культуры. Понятие консерватизма применялось к некоторым социальным или культурным явлениям, ограничивающим или даже тормозящим художественное развитие и в целом природе современного искусства несвойственным. Кроме того, концепт консерватизма в культуре Нового и Новейшего времени нес в себе неявно выраженные негативные коннотации. Теоретики, художественные критики и практики искусства предпочитали говорить о более позитивно окрашенных «традиционализме» и «классичности», используя эти предикаты в пользу утверждения тезиса о том, что искусство по своей природе есть память культуры, память о прошлом. Но прошедший ХХ век оставил нам историю, в которой так называемое «консервативное искусство» представлено довольно масштабно, и философия искусства должна, наконец, обратить внимание на это обстоятельство. В объемном труде, представляющем лексикон художественно-эстетической культуры ХХ века, есть всего одна небольшая статья, посвященная этому понятию. Ее автор, В. Бычков, предлагает термин «консерватизм» в качестве условного обозначения «для всей совокупности художественно-около-художественных явлений в искусстве ХХ века, противостоящих или не вписывающихся в магистральную для этого столетия линию развития: авангард – модернизм – постмодернизм. Консерватизм – это пестрая и бескрайняя охранительно-академизированно-коммерциализированная сфера художественной культуры, ориентированная на сохранение и поддержание жизни классики путем подражания традициям художественной культуры прошлого (прежде всего ближайшего – реалистически-академического искусства ХIX века) с вклю- 94 95 чением каких-либо новаторских элементов, чаще всего механически заимствованных у модернизма»1. В трактовке В. Бычковым консерватизма есть противоречие, которое им никак не осмысляется. С одной стороны, по его мнению, это творчество мало соответствует духу техногенной цивилизации и поэтому консерватизм не дал каких-либо заметных и тем более выдающихся явлений или имен в искусстве ХХ века. В его описании остается за скобками объяснение широкой распространенности и причин востребованности этого типа художественной культуры. С другой стороны, он утверждает, что консерватизм достиг размаха и стал мощной, влиятельной силой, получив государственную поддержку в странах тоталитарных режимов. «Здесь он принял форму тотальной политической “мифологии” и вплотную сомкнулся с художественно-идеологическим кичем. В его поле зародился и существовал соцреализм»2. Еще один парадокс: консерватизм маргинален («отклонение от магистральной линии художественного развития ХХ века»), но масштабен и влиятелен. Тем не менее, для первого шага в осмыслении этого сложного и заметного явления художественной культуры нам важно обратить внимание в трактовке В. Бычкова на особый характер соединения художественного и нехудожественного, размещение на границах искусства с коммерцией, политикой, властью. Консерватизм ХХ века чрезвычайно разнороден, включает в себя совершенно противоположные эстетические платформы, в том числе и нонконформистские (примером может служить проект «Новый русский классицизм», созданный лидером петербургского андеграунда Тимуром Новиковым в 1990-х годах), и не может быть сведен только к собиранию общих мест. Практически его подлинное теоретическое описание еще и не начиналось. Идеологически консерватизм может опираться на самые разные основания: религиозный фундаментализм, авторитарный политический дидактизм, имперскую идею, художественный неотрадиционализм (реализм, неоклассицизм, академизм и т. п.). Семантика консерватизма чрезвычайно размыта, неуловима еще и потому, что те, кто квалифицируется как консерватор в искусстве, крайне неохотно формулирует свое кредо и вообще не занимается рефлексией своей позиции в поле культуры. Обратим внимание на то, что консервативное всегда напряженно соотносится с революционным/авангардным, при этом оппозиции носят асимметричный характер (хотя бинарное видение мира всегда асимметрично). Это видно хотя бы по тому, что «о своей принадлежности к левым или революционным кругам в искусстве говорится открыто и даже интенсивно, настойчиво, а о правой или консервативной ориентации – негромко и гораздо реже заявляется. В то время как в социально-политической сфере примыкать к консервативному крылу – нормально и даже во многих случаях респектабельно»3. Бинарная пара консервативное/инновационное (старое/новое, прошлое/современное) чаще всего используется для описания внутренней логики развития искусства и относится к универсальным культурно-историческим оппозициям. Обострение чувствительности к дискурсу оппозиций является существенным признаком символических революций, так как разделение на консерваторов и новаторов «в символическом пространстве обладает особой силой внушения и предписания, которая наделяет писательские позиции особыми ожиданиями»4. Как заметил Карл Манхейм, социальные перевороты ускоряют кристаллизацию новых поколений, которые начинают себя определять прежде всего в логике консерватизма/новаторства, прогресса/охранительства. Анализ произведений искусства в категориях «революционное», «консервативное», «правое», «левое», «прогрессивное», «отсталое», казалось бы, довольно далек от решения собственно художественных задач, от философско-эстетического 1 Лексикон нонклассики. Художественно–эстетическая культура ХХ века / под общ. ред. В. В. Бычкова. – М. : РОССПЭН, 2003. – С. 247. 2 Там же. – С. 248. 3 Сапиро Ж. О применении категорий «правые» и «левые» в литературном поле // Республика словесности. – М. : НЛО, 2010. – С. 295. 4 Там же. – С. 313. 96 исследования художественности. Но искусство, даже если оно изнутри художественного сознания не мыслит себя в системе социально-политических координат, провозглашая свою свободу, независимость, автономность, попадает в пространство публичности, в котором все имеет значение. Важнейшим вопросом и художественной практики, и эстетики по-прежнему остается вопрос об отношении искусства к действительности, причем это вопрошание чрезвычайно болезненно именно в период символических революций. Тогда искусство становится вещью небезобидной и даже опасной с точки зрения общества, оно может не только объединять, но и разделять людей, и вовсе не по вкусовым параметрам. В поле искусства ХХ века идет, то затухая, то усиливаясь, гражданская война смыслов, в которой клеймо или звание «консерватора» используется как орудие в борьбе за переустройство мира или за успех. В любом случае исследование приводит нас к неизбежной констатации идеологического ядра в семантике «консервативного искусства». Необходимо структурировать идеологическую семантику концепта «консервативное искусство», так как представление о монолитности тех или иных культурно-исторических феноменов всегда чревато выпадением из научного дискурса и мифологизацией понятий. Концепт «консерватизма» в первую очередь влечет за собой социальные коннотации, причем очень широкого спектра. Риторика о консервативном/революционном искусстве звучит на фоне обсуждения проблем соотношения искусства и демократии, позиционирования художественных процессов с точки зрения социальной иерархии (власти) – господствующих и зависимых, элиты и массы. Неизбежно подобная риторика возникает и в интерпретациях искусства в рамках проблемы соотношения социального порядка и хаоса. Культурные коннотации также очень разнообразны: классицизм и романтизм, разум и чувства, ограничения и свобода. «Консервативное» чаще всего связывается с «элитарным», господствующим, аристократическим. Ж. Сапиро, написавшая ряд работ, посвященных исследованию социального бытования 97 французского искусства, обосновывает переменчивость значений концептов консервативное/революционное, правое/ левое в зависимости от изменения соотношения сил в поле культуры, вплоть до полного переворачивания семантики, инверсии оппозиции. Она пишет о консерватизме как об аналоге «правого» спектра сил в поле, часто употребляя эти понятия как синонимы: «В то же время его социальная сущность двойственна: профессионализм доступен лишь элите по законам успеха в автономном поле, таким образом литература может быть инструментом укрепления чувства превосходства, но литература может быть и орудием, подрывающим это господство, руководствуясь как раз риторикой “демократического”, “доступного” массам искусства. “Умом я правый, а сердцем левый”», – говорил Андре Жид в 1941 году»5. Начнем с того, что мы понимаем под художественностью системную характеристику искусства, включающую в себя наряду с содержательно-формальным ядром функционально-институциональные аспекты и концепцию автора, поэтому консервативная художественность должна быть рассмотрена также системно. Необходимо избежать ошибки трактовать ее только как сохранение определенного типа художественной формы. В пределах данной статьи мы не претендуем на полноту построения системы всех свойств консервативного искусства, но постараемся наметить ее основные контуры. Точка отсчета – социокультурная рамка, в которой консерватизм будет осмыслен как естественное и неизбежное явление. Эта рамка – процессы осуществления проекта модерна. Оттолкнемся от самого распространенного определения консерватизма, данного через отрицание: антимодернизм. Действительно, с точки зрения магистральной истории искусства ХХ века от рубежа 1920–1930-х и до начала 1950-х годов в странах, где шли активные процессы модернизации, отмечается тенденция к реставрации домодернистской кар5 Цит по: Сапиро Ж. О применении категорий «правые» и «левые» в литературном поле // Республика словесности. – М. : НЛО, 2010. – С. 321. 98 99 тины мира. Признаки реставрации носят системный характер: в сфере политики – смена «левых» на «правых», в сфере публичной – установление языка конформизма и требование «единства», в сфере мировоззренческой – ностальгия по «традиционным ценностям», в сфере художественной – вытеснение авангарда на периферию, как явления, ответственного за дегуманизацию и дестабилизацию. Консерватизм есть симптом того, что социальные новации опережают культурно-антропологические изменения. Консерватизм подпитывается системными кризисами модернизации, а в наиболее радикальных случаях – ее провалами. Актуализация различных форм неотрадиционализма видится в начале ХХI века как константа культуры модерна, а не как отход от ее магистральной линии. Здесь мы сталкиваемся с позицией, поддержанной довольно большим кругом исследователей, которые увидели за антимодернистской тенденцией логику развития самого модерна. В этой связи необходимо обратить внимание на теорию циклического развития модерна, в которой революционные новации чередуются с процессами реставрации. В. Паперный первый предложил циклическую модель («Культура 2») для описания нелинейного развития отнюдь не монолитного советского проекта, вписав сталинскую культуру в общий реставрационный поворот западной цивилизации в середине ХХ века6. В 1930-х годах авангард повсеместно вытесняется традиционалистскими и неоклассицистскими направлениями и стилизациями. В искусстве любовь к порядку, тоска по гармонии и положительному герою проявилась несколькими способами: выходом на поверхность, оформлением и окончательной легализацией массовой культуры; новым витком популярности интернационального неоклассицизма; оживлением региональных, локальных, фольклорных, национально-этнических элементов; возвращением к образному стилю и фигуративности; актуализацией катего6 1996. Паперный В. Культура – Два. – М. : Новое литературное обозрение, рий классической эстетики, особенно в ее античном и ренессансном вариантах7. В проекте модерна открывается не только способность производить новации, но и энергичное консервативное начало: порожденная модерном «дегуманизация» начинает раскручиваться в обратную сторону. Итак, первая позиция утверждает, что консерватизм и модернизм – разные стадии развития искусства, порожденные единым процессом. Иначе говоря, эстетически это разные типы искусства, но исторически возникающие как реакция друг на друга. Вторая позиция заключается в том, чтобы увидеть консервативные, реставраторские, архаические, фундаменталистские элементы не как проявления отказа от модернизации, а как обратную сторону проекта модерна. Иначе говоря, разглядеть в модерне его внутреннюю художественную амбивалентность, сложную диалектику консервативного и неконсервативного. В этом случае консерватизм предстанет не как отдельный тип художественной практики или определенный исторический этап, а как скрытая сторона конфликта с современностью. Лежащий в глубине модерна миф о «вечном возвращении» программирует в качестве выхода из кризиса челночное движение вспять, в нулевую точку генезиса, в архаику или, что бывает чаще, в химерический образ прошлой гармонии. Искусство, порожденное фордистской индустриализацией с ее дисциплинирующим господством, выполняло по отношению к безудержному техническому прогрессу и ускоренной модернизации общества амбивалентную роль. По мнению Б. Гройса, «русский авангард – прыжок через прогресс», с самого начала был не нападающей, а защищающейся стороной: он ставил перед собой цель нейтрализовать разрушительное действие, произведенное вторжением техники, а вовсе не разрушать самому. Б. Гройс стремился продемонстрировать иррационализм и консерватизм авангарда, воз7 Круглова Т. А. Советская художественность или нескромное обаяние соцреализма. – Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2005. – С. 265. 100 101 никшего, по его словам, как естественная реакция на технический прогресс. Отличие авангарда от традиционализма, по Б. Гройсу, состоит вовсе не в том, что он радуется разрушительному воздействию современной техники, а в том, что он убежден в невозможности противостоять этому «опустошению» традиционалистскими методами8. Необходимо ввести историческую рамку периода, когда начинает четко оформляться влияние категории «консервативное» на поле культуры и искусства. В результате культурных процессов эпохи Просвещения, в Западной Европе и России возникло автономное поле искусства. Внутри этого поля сложились, например во Французской академии в ХIХ веке, две устоявшиеся классификации: писателей обыкновенно подразделяли на «профессионалов» и «любителей», на светских и богему. После «дела Дрейфуса» писатели Академии начинают делиться на правых и левых академиков. Между мировыми войнами усиливается «тенденция смешивать эстетические позиции и идеологические постулаты, которая присутствует уже в самом термине “авангард”»9. Литературные школы уступают место движениям объединения на другой основе: регионалистская литература, католическая, пролетарская и т. д. «Чаще всего такие формы объединений свидетельствуют о неудачном положении внутри литературного поля», агенты не могут получить доступа к престижным инстанциям легитимизации, а «следование определенным этическим или даже политическим доктринам увеличивает популярность этих писателей»10. Ж. Сапиро, как и другие представители исторической социологии искусства, постоянно употребляет понятия «правое» как синоним «консервативного», часто заменяя одно другим. Ж. Сапиро прослеживает становление этих оппозиций в период между мировыми войнами и обнаруживает, 8 Гройс Б. Искусство утопии. – М. : Художественный журнал, 2003. – С. 34. Сапиро Ж. О применении категорий «правые» и «левые» в литературном поле // Республика словесности. – М. : НЛО, 2010. – С. 309. 10 Там же. – С. 310. что «категории правого и левого накладываются на уже существующие оппозиции, в чем-то совпадая с ними, в чем-то отличаясь от них»: светский/богемный (социальный), старый/ юный (поколенческий срез), именитый/новичок (по количеству символического капитала), арьергард/авангард (художественные новации). Перенос политических категорий в литературное поле с использованием их в качестве классификационных схем начался в начале ХХ века. Произошла их универсализация и легитимизация в рамках литературного поля. По нарастающей шел процесс активной мобилизации писателей обоими оппозиционными лагерями. Во Франции этот процесс сопровождался закреплением этого размежевания в соответствующих социальных сферах (литературные салоны) и институционализации в форме ассоциаций и лиг»11. Политическая классификация так или иначе сказывается на принципах отбора и оценки, происходит сближение политической характеристики произведений и литературных премий. Консерваторы становятся связующим звеном различных фракций в поле власти, утверждая границы критической мысли и слова. Консерваторы чаще говорят об интересах государства, а антиконсерваторы – о всеобщих ценностях сознания. Та картина, которую мы узнаем в описании французского социолога, сильно напоминает нам сходные процессы в СССР. Это очень интересно, так как Франция и СССР в тот период представляют собой противоположные стороны цивилизационного развития: либерального и тоталитарного. Общая тенденция – доминирование политических классификаций в автономном поле искусства, высокий уровень ожиданий от художников проявления их социальной позиции, конкуренция между идеологическими художественными проектами в борьбе за адресата и ресурсы, наконец переход символической власти от «левых» к «правым», от авангарда – к консерватизму. Все это позволяет квалифицировать опи- 9 11 Сапиро Ж. Указ. соч. – С. 300–301. 102 103 санный выше процесс как проявление «консервативной революции», трактуемой нами как вид символической революции. Консерватизм, в отличие от других частей социальнополитического спектра, всегда характеризуется нечеткостью и расплывчатостью своих мировоззренческих элементов, он как бы ускользает от рационализации, от четких словесных формул. Консерваторы редко пишут манифесты, не занимаются активным продвижением своих взглядов в публичную сферу. Тем не менее, вполне возможно выделить определенные и преемственные идеологические конфигурации того типа консерватизма, который сложился в рассматриваемый нами период «консервативной революции» в Европе. В этом нам поможет статья Б. Тренчени, посвященная феномену «консервативной революции» в межвоенной Восточной и Центральной Европе, так как автор занят поиском идеологических констант культурного консерватизма. Б. Тренчени показывает сближение и перекличку таких феноменов, как антимодернизм, «консервативная революция» и «политический романтизм». Основа сближения – «национальная характерология», набирающие вес «представления об уникальности и неповторимости каждой идеологической системы»12. Общие региональные и национальные черты – «сдвиг по направлению к “онтологизации” национальной принадлежности»13. Культивируется превосходство, игнорирование общих связей с другими культурами, своего рода «отказ от историзма». Все это достигло своего пика в начале 1940-х годов, «когда под давлением нового – тоталитарного – европейского порядка сложился дискурс, в центре которого стоял вопрос “что данная нация дала миру”, вытеснивший преды12 Тренчени Б. Бунт против истории: «Консервативная революция» и поиски национальной идентичности в межвоенной Восточной и Центральной Европе // Антропология революции : сб. статей / сост. и ред. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. – Новое литературное обозрение, 2009. – С. 207. 13 Там же. дущий дискурс самоопределения, сосредоточенный на культурном заимствовании из Европы»14. Б. Тренчени пишет о различии в идеологической структуре национализма в ХIХ и ХХ веках, о соотнесении новых дискурсов с проектом модерности: «Симптоматично, что если консерваторы в ХIХ веке главным образом отсылали к “ancien regime” и отстаивали политическую, социальную и институциональную преемственность с домодерными структурами, то после Первой мировой войны в консервативной среде сформировалось твердое убеждение, что эта преемственность разрушена»15. На наш взгляд, яркая метафора, выражающая эту особенность, принадлежит Ф. Штерну: «политика культурного отчаяния». Отметим крайне важную для нашей задачи идею, высказанную автором по поводу связи эстетики и политики применительно к консерватизму: «Реакция на кризис модерных политических институтов: бунт против современности “изнутри”, политизирующий ее эстетические параметры» 16 . Медиатором между политикой и эстетикой становится романтизм. Именно для философии романтизма характерно разочарование в линейном историческом прогрессе и возникновение представлений о новой цикличности, о возвращении к чему-то исконному, органичному и по своему существу гармоничному – к тому, что было некогда разрушено самим ходом истории. Консерватизм, трактуемый как новая историческая форма романтизма, предлагал свой путь решения сложной дилеммы модерна. Речь шла о версиях «третьего пути», стремлении удержать достижения современности и избежать ее негативных проявлений. Разброс этих консервативных версий, замешенных на наследии романтизма, так велик и противоречив, что возникает определенная опасность в попытке их интерпретации. Ведь очевидно, что этот разброс имеет, по крайней мере, два се14 Тренчени Б. Указ. соч. – С. 208. Там же. 16 Там же. – С. 209. 15 104 105 мантических полюса – умеренный и радикальный, что, конечно же, касается и искусства. Консерватизм М. Булгакова совсем другого сорта, чем любого классика соцреализма. Об этом же предупреждает и Тренчени: «Было бы огромным упрощением объединять в рамках одной аналитической категории… либеральные, демократические и республиканские проекты (представление о времени вписывается в рамки “прогрессивного” исторического дискурса, который должен был создавать новые формы существования и выйти за границы текущих социальных и политических противоречий) и фашистскую программу Муссолини (включающей в себя разнообразные модальности – от футуристической гиперсовременности до регрессивного утопизма). В то же время важно чувствовать взаимодействие различных модальностей»17. Все версии имели самые разные академические и эстетические результаты. Такой общей модальностью стала новая модель самоописания культуры через идеал коллективной идентичности, господствующую роль местного образа жизни (неважно, на базе социальных или почвенных элементов), переоценка массовой культуры и стремление создать новую автохтонную высокую культуру, основанную на фольклорных мотивах. Это опять настраивает нас на аналогию с третьим путем, синтезирующим архаику и модерн, символический капитал национальной классики и мобилизационные задачи современного искусства. Всем версиям консерватизма периода «консервативной революции» свойственен глубокий скепсис по отношению к Западу, разочарование в базисных ценностях цивилизации. Предложенные конструкции национального характера «были своего рода ловушками коллективного самосознания – если и не катализаторами кризиса идентичности, то невротическими реакциями на эти кризисы, включенными в работу защитных механизмов самоутверждения. Вместе с тем они имели зачастую немалый интеллектуальный вес»18. Самая сложная проблема заключается в том, чтобы адекватно понять границу между концептами «художник-консерватор» и «консервативная художественность». Значения первого концепта задаются в первую очередь столкновением и напряжением позиций в поле искусства, которое возникает и становится особенно интенсивным в период символических революций. Еще раз подчеркнем важную мысль Сапиро о том, что социально-политические классификации накладываются на уже имеющиеся принципы размежевания в автономном поле культуры, иначе говоря, на те, которые напрямую маркируют художественную специфику творцов. И в этом смысле, добавим мы, как бы даже и не зависят от того, чт сам художник думает о своем творчестве: ярлык консерватора или либерала, «левого» или «правого» на него «навешивают» другие агенты – и из художественного сообщества, и из социума в целом. Значения второго концепта можно вычленить на основе анализа поэтики и эстетики автора, путем осторожного соотнесения доминирующих и устойчивых мирообразных структур с идеологической семантикой консерватизма. Ось, по которой соотносятся искусство и идеология консерватизма, – отношение к времени – центральной проблеме современности. Современность – это ориентация на текущее время, на процессуальность, на становление, деяние, конструирование действительности. Проекту модерна свойственно свободное от всех исторических связей осознание современности. Если традиционализм находится внутри исторического дискурса, то консерватизм модерна взрывает континуум истории, помещая современность в состояние пост-истории19. 18 Тренчени Б. Указ. соч. – С. 236–237. Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм»: проблема художественно-теоретического консерватизма. – СПб. : Алетейя, 2007. 19 17 Тренчени Б. Указ. соч. – С. 210. 106 107 Послание «консервативной революции», на наш взгляд, является травматической реакцией на невозможность адаптации к переменам. Философско-художественная мысль этого периода фиксирует эту ситуацию как проблему порочного круга, выход из которого предлагается в концепциях «третьего пути». Назовем некоторых известных мыслителей, которые обосновали программу «третьего пути» и вошли в историю философии искусства как представители «художественного консерватизма»: А. Гелен, Х. Зедльмайр20, М. Лифшиц, критикующие модерн с культурно-консервативных позиций в период 1920–1940-х годов. Советский философ М. Лифшиц, активно рефлексирующий антимодернист, всегда подчеркивал консервативную, реакционную роль современного искусства, называл модернизм «регрессом», «новым средневековьем», «современной мистикой», «евангелием нового варварства». Сегодня российская гуманитарная мысль переживает некое возвращение наследия М. Лифшица благодаря его ученику и комментатору В. Арсланову. По Лифшицу, философская основа модернизма, как и фашизма – философия жизни21. Необходимо напомнить, что и Т. Манн также видел связь между формализмом как эстетической идеей и фашизмом как крайней формой извращения политики. Парадоксальным образом это утверждение оказалось перекликающимся и с концепцией Б. Гройса, обнаружившего в соцреализме глубинное родство с авангардом 22, или с трактовкой А. Жолковским эстетики С. Эйзенштейна как «тоталитарной». Выход из порочного круга М. Лифшиц видит в программе «демократического консерватизма», в обосновании «высокого реализма» как альтернативы «характерному для ХХ века протесту против классики, против пре20 См.: Лиссман К. П. Философия современного искусства. – СПб. : Гиперион, 2011. 21 Арсланов В. Г. Постмодернизм и русский «третий путь». Tertium datur российской культуры ХХ века. – М. : Культурная революция, 2007. – С. 29. 22 Гройс Б. Указ. соч. – С. 34. красного и доброго как свойств истинного бытия»23. В качестве аргумента в защиту консерватора и антимодерниста М. Лифшица В. Арсланов использует его высокие оценки творчества М. Булгакова. Интересно, как В. Арсланов сопоставляет позиции В. Беньямина (представляющего противоположный полюс) и М. Лифшица в их отношении к тому процессу, который называют «реставрацией» – периоду конца 1920-х – начала 1930-х годов. В. Беньямин, побывав в Москве, так же, как и В. Маяковский, видит в успехе «Дней Турбиных» М. Булгакова поражение «левой» идеи: «…пьеса Булгакова – совершеннейшая подрывная провокация… Сопротивление, оказанное постановке коммунистами, обосновано и понятно»24. «Между тем у Булгакова и Лифшица гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Хотя бы потому, что Лифшиц и его единомышленники развивали некоторые идеи А. Воронского, А. Лежнева (опубликовал в середине 20-х годов роман «Белая гвардия»)»25. На наш взгляд, драматическая судьба М. Лифшица, непонятого современниками и потомками, как считает В. Арсланов, вытекает из утопизма идеи «золотой середины», которая спровоцировала практику насильственного внедрения этой программы независимо от степени личного участия ее автора. Крайним вариантом программы «золотой середины», концепции «третьего пути» стала сталинская культурная политика «возврата к классикам», каноны соцреализма, а вовсе не «высокий реализм». Более того, в контексте «консервативной революции» творчество позднего В. Маяковского, вплотную приблизившегося, добровольно и искренне, к соцреалистической эстетике, после смерти вознесенного на вершину, популярного и известного, выглядит более консервативно, чем модернистский роман позднего М. Булгакова. Суть модернизма в искусстве и культуре, а проекта модерна – в философии – заключается в диагнозе кризиса реп23 Арсланов В. Г. Указ. соч. – С. 125. Беньямин В. Московский дневник. – М., 1997. – С. 36. 25 Арсланов В. Г. Указ. соч. – С. 129. 24 108 резентации. Получается, что утопическая попытка реставрировать классическую целостность, связность, репрезентативность искусства, покоящиеся на принципе мимезиса, отвечающего на связь искусства и других сфер действительности, – чревата в модернизационную эпоху тотальностью эстетико-политических проектов, которая может быть обеспечена только различными формами творческой регламентации (цензуры, насилия, репрессий и т. п.). 109 Е. В. Синцов* Жесто-пластическая природа художественно-эстетических интенций И деи о жестовой, пластической природе искусства не раз высказывались эстетиками. Одна из таких последовательно развитых идей принадлежит Ж. д’Удину. В его книге «Искусство и жест», изданной в С.-Петербурге в 1911 г., изложена синестетическая теория, в основе которой лежит догадка, что все чувства человека восходят к единому жесто-осязательному основанию. Например, зрительное восприятие – своеобразный аналог «осязания на очень далеком расстоянии». Вкус – как бы непосредственное осязание; обоняние/ осязание на расстоянии, слух – на далеком расстоянии. Осязание увязывается д’Удиным с движением. Единство этих двух начал и формирует пластические основания художественного творчества, которое понимается автором как выражение эмоций с помощью телесных движений. Особенно это относится к музыке, которая трактуется д’Удином как некий язык жестов. Но связь пластики и музыки видится ему достаточно узко: как следствие танцевальной стихии. Именно она, в первую очередь через ритм, проникает в другие виды искусства, обнаруживая в них скрытое присутствие жесто-пластических оснований (особенно в декоративно-прикладном). Жест в его ритмическом воплощении и становится той базой, что обеспечивает «перевод» разных видов искусства друг в друга. Д’Удин считает, что такой «перевод» – лишь разные способы означивания эмоционально-жестовой сферы, лежащей в основании всех искусств. * Евгений Васильевич Синцов – доктор философских наук, профессор кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет» (г. Казань). © Е. В. Синцов, 2013 110 Концепция д’Удина представляется во многом достоверной и обоснованной. Она органически входит в широкий и авторитетный контекст исследований начала XX века, разрабатывавших теорию пластического. Ряд имен упоминает сам Д’Удин. Он пишет, что многим обязан Ле Дантеку и Далькрозу, упоминает А. Дункан, М. Нордау. К этому списку можно прибавить отечественных исследователей теории пластического, например С. Эйзенштейна, О. Бринкмана. Идея жестопластических оснований музыки прочно вошла в умы музыковедов (в первую очередь, благодаря Б. Асафьеву). Философы-материалисты отводили руке колоссальную роль в формировании человека, его интеллектуальных способностей, социальных функций. Достаточно упомянуть лишь «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса, идеи которого активно развивались отечественной философией, в частности эстетикой. Вяч. Вс. Иванов неоднократно высказывал догадку о единых жестовых основаниях искусства. Благодаря этим изысканиям жесто-пластическая теория не только заняла прочные позиции в эстетике и в искусствознании, но и потеряла потенциал своего дальнейшего развития. Жест, трактованный в его материально-телесной форме, воспринимался как некая весьма обобщенная детерминанта, порождающая и пронизывающая самые разные формы деятельности человека. Не было вычленено собственно эстетическое, художественное качество жесто-пластики. Этого не сделал д’Удин, редуцировав жест до ритма и тем самым оперевшись на эстетические теории своих предшественников. Даже попытка Г. Вельфлина – авторитетнейшего эстетика – кардинально не переменила отношения к пластическому. Он, следуя И. Канту, рассмотрел пластическое в оппозиции «живописному», т. е. лишенному контура-границы... Как мне кажется, основная причина «пробуксовывания» теории пластического происхождения и форм бытия искусства – в исходном понимании пластики, пластического как жесто-телесной формы человеческой активности, неразрывно связанной с материальной субстанцией. Жест, сообщающий, придающий форму материалу или воссоздающий исходные 111 природные формы (тело человека, например) не обладает еще ни эстетическими, ни художественными особенностями. Он слишком «прагматичен», ситуативно означен «пользой» и «целью». Например, «пользой» и «целью» познания объектов внешнего мира и собственной телесной природы, как это отразилось в наскальной росписи древнего человека или в его скульптурных, архитектурных сооружениях, танцах. Либо «пользой» и «целью» магического обладания свойствами зверя, воды или огня, духов и божеств... Не случайно рисункиконтуры, например, не отнесены учеными лишь «по ведомству» искусства. Уж слишком разнообразны возможные контексты функционирования и интерпретации того жесто-пластического усилия, что запечатлел облик-контур мамонта, антилопы, охотника... Жест, чтобы обрести художественно-эстетические качества, должен был хотя бы частично оторваться от своих материальных носителей; лишиться явных связей с представлением о «пользе» и «практическом смысле». А для этого, очевидно, он должен был быть осознан не только как телесноматериальный акт, но и как мыслительно-духовное усилие, направляющее и управляющее деятельностью той же руки. У такого мыслительно-духовного усилия не должно было быть никакой иной цели, кроме самоопознания, самосозерцания, явления самому себе в некоем качестве избытка, игры формотворящих сил. Причем они, эти силы, чтобы предстать в своей духовно-мыслительной природе, должны были как бы «очиститься» от связей с прагматическими целями материально-вещного мира, максимально ослабить зависимость жеста, как мыслительного усилия, от материала, вещи, облика любого существа... Поразительно, что древнее искусство, казалось бы нерасторжимо «вписанное» в синкретические контексты своего бытования, а значит, и в прагматические формы деятельности, оставило нам такие прообразы «незаинтересованного созерцания», творчества без цели, без связи с конкретными материальными формами. Это образцы странных «разводов» чуть расставленными пальцами по мягкой когда-то поверх- 112 ности. Отпечатки подобных неглубоких параллельных бороздок – некое абсолютное в своей чистоте явление жесто-пластических усилий человеческой руки. Их создатель предавался удивительной «причуде»: творил странные, ничего не значащие и бессмысленные (= бесцельные) узоры, постигая в момент творения свою руку как некий инструмент, управляемый усилиями своей воли-воображения, изменчивых желаний, неясных побуждений... На первый взгляд, он, вроде бы, просто заполнял свободное пространство, как бы «помечая» его своим присутствием. Неслучайно рядом часто обнаруживаются отпечатки кистей рук – некий аналог следа. Но человек также получал возможность в процессе созерцания осознавать свою руку не как само-действующую, а как орудие, творить которым, быть активным (жестово активным) заставляет его (орудие-руку) сам человек, его дух. Поэтому узоры-бороздки на стенах пещер, соседствуя с «реалистическими изображениями» животных и людей, закладывали начало той духовно-творческой составляющей искусства, которую принято теперь называть его эстетическим качеством. Древний автор, созидающий «образ жеста» как духовно-творческой активности, достигал его максимального освобождения от любой иной цели, ориентированной на материально-вещностную заинтересованность. Он осваивал (присваивал) через жест свою собственную духовную природу, запечатлевая ее бесформенно оформленную сущность в пространстве, созерцая ее в этом пространстве как лишенную всякого иного смысла и цели, как только быть явленной для созерцания. На психофизиологическом же уровне возникала устойчивая связь активности мозга, руки (тела) и глаза, где глаз играл роль посредника-проводника между «невидимой» работой духа и ее зримым явлением в жесто-пластических усилиях руки. Глаз, не творя жест непосредственно, «учился» ему сразу у двух «наставников» (руки и духа), «снимая» их активность в некоем третьем качестве, где духовное усилие (желание, воля и т. п.) переходило в подобие реального «ощупывания» (вспомним движения глаза по контурам и поверх- 113 ности вещи) и наоборот. Таким третьим качеством и стало, по-видимому, переживание жеста, где в двигательно-пластической форме сходились два несоединимых, казалось бы, типа активности – духовная и жесто-телесная. Таким образом, следует, очевидно, дифференцировать понятие жеста, вычленив три его составляющих: 1) духовножелаемый (интенциональный); 2) реально-телесный и 3) зримо-«осязаемый» (в д’удинском понимании осязания). Только третья из этих составляющих обеспечивает возможность интеграции двух остальных и интерпретации жеста как потенциально эстетического феномена. Зрительная жесто-пластика лишает творчество его жесткой привязанности к материально-вещностному «носителю». Глаз, подчиняясь желанию, воле, воображению человека, оказывается способным тысячекратно «перелепливать» законченную, казалось бы, вещь, предмет, слово, звук и т. п. Он может увидеть «множество в одном», следуя велению духовно-интенциональных сил. Но видит он эти «веления» и «фильтрует» их по тем жесто-пластическим аналогам, которые «диктуются» телесной природой человека и которым глаз «обучен» в процессе созерцания жестов руки и других частей тела. Не случайно, очевидно, художественно-эстетические качества зрения-созерцания обеспечили ему статус преобладающего фактора в формировании видов искусств. Визуальным принадлежит наибольший сектор по разнообразию и силе воздействия1. Одним из доказательств, что в визуальных искусствах художник запечатлевает не столько образы действительности, сколько созидающий, воссоздающий эти образы жест, может быть исследование М. Мерло-Понти2. Он пишет о своеобразной «жестовой сетке», которая как бы наброшена на изображение в живописи и может быть опознана по характеру мазков, например. Из этого он выводит свою концепцию о скрытом присутствии телесных переживаний в акте живописания. 1 2 Каган М. С. Морфология искусства. – Л., 1972. – С. 6. Мерло-Понти М. Око и дух. – М., 1998. 114 Также не случайно, очевидно, в основу понимания художественного положен некий аналог визуального представления о «целом» и его «частях», которые мыслятся не столько в отвлеченно философском плане, сколько в пространственно-«органическом». Художественное целое принято уподоблять «единому организму», где каждая часть теряет свою относительную обособленность, выражая целое. В таком понимании заложен некий аналог зрительно-жестовому усилию, «собирающему» части в целое и схватывающему (созерцающему) как разновозможную комбинацию таких частей. Влияние «зримого осязания», вобравшего в себя жестовую активность художественно-творческой природы человека, сказалось и на других видах искусств, базирующихся на иной чувственной основе. Например, на слухе. К звуку человек относится как к еще одной разновидности пространства, где он может явить для себя и других свою жесто-творящую активность. Ее зримым воплощением можно считать, к примеру, искусство дирижера, который как бы «лепит» звуковую массу в процессе ее порождения. Неслучайно древнеегипетский способ записи музыки носил жестовый характер. Отсутствие «полноценных» видов искусств, возникших на иных чувственных сферах человека, можно также, по-видимому, объяснить с этих позиций. У вкусовых и осязательных ощущений нет «обозримого пространства», а значит, и возможности быть жестово выраженными и запечатленными для созерцания. Не находя воплощения вовне, они переживаются как сугубо субъективный акт, проявляющийся, по преимуществу, во вкусовых оценках (по типу: нравится – не нравится, гармонирует – не гармонирует). Ведь «пространство» запаха или «пространство» вкуса – такие пространства, где нет места жесту, его пересоздающим («лепящим») усилиям. Кроме того, они слишком непосредственно связаны с телесностью, что лишает их способности быть перемещенными в сферу идеально-возможного. Даже если эти усилия переживаются кулинаром или парфюмером, они не могут быть столь явственно выражены для воспринимающего. Жест, «складывающий» запах или вкус в единое органическое целое, утра- 115 чивает в плодах труда свою процессуальную природу, а следовательно, перестает быть жестом. Духи, вкус блюда – всегда лишь конечный результат, а знание о том, как они были созданы (жестово скомпанованы) не только не усилит наслаждения ими, а либо разочарует, либо отпугнет (ласточкины гнезда, улитки, составляющие плаценты и т. п.). Таким образом, жест, перемещенный в сферу зримую, созерцаемую, претерпел буквально революционную трансформацию. Из реально-осязательного контакта человека с внешним миром, из способа узнавания и «поимания» (А. Ф. Лосев) этого мира, он (жест) переместился в сферу идеально-воображаемую, в область возможного. Он превратился в удивительный род духовно-творческой активности, когда стал возможен некий бесконтактный способ воздействия человека на предметы и вещи, данные в созерцании, что прекрасно осознал и описал М. Мерло-Понти в уже упомянутой ранее книге. Жест, становясь психическим образованием, переместил телесно-пластические формы человеческой активности в его духовно-мыслительную сферу. Он стал специфическим мысле-жестом. У этого образования появился ряд новых характерных особенностей, отличающих его от жеста-прародителя (телесно-физического). Во-первых, у мысле-жеста исчезает непосредственная связь с формами материального пространственного бытия. У мысле-жеста как духовно-психического феномена на первый план выдвигается его времення специфика. Н. О. Лосский считает, что временная форма бытия – отличительная особенность психических явлений, в отличие от материальных, для которых характерны пространственновременные формы существования3. В отношении мысле-жеста, очевидно, можно говорить лишь о преобладании временного плана бытия, поскольку жест не может быть осмыслен вне некоего пространства. Про3 Лосский Н. О. Учение о перевоплощении и интуитивизме. – М., 1992. – С. 143. 116 117 странство в этом случае становится, по-видимому, также психически воображаемым образованием, обретая черты, подобные временнму разворачиванию, процессуальности, «длению». То есть формирование мысле-жеста качественно меняет характер интенциональных актов, в основе которых лежит отнесенность сознания к внешнему миру. Это интенции, чреватые потенциальной расположенностью. Такая потенциальная расположенность (в хайдеггеровском понимании) как бы «свернута» в интенции, существует как «сгусток возможностей» быть явленной в относительно подходящем пространстве физического мира. «Подходящем» ожиданиям, пространственным представлениям, связанным с интенцией. Таким образом, мысле-жест представляет собой такой феномен, где интенциональность (в понимании Гуссерля) и расположенность (в трактовке Хайдеггера) потенциально связаны в некий противоречиво единый узел… Возникает подобная связь, вероятно, уже на самых глубинных уровнях мыслительной активности. Мысле-жест, по-видимому, составляет один из самых нижних слоев энтелехийных процессов. Это уровень «психоидного бессознательного». Он, как считал К. Юнг, является третьим, самым глубинным слоем бессознательного. Над ним надстраиваются коллективное и индивидуальное бессознательное. Психоидное бессознательное – «наиболее фундаментальный уровень бессознательного, обладающий свойствами, общими с органическим миром, и относительно нейтральным характером, в силу чего оно, не будучи полностью ни психическим, ни физиологическим, практически полностью недоступно сознанию»4. Воображаемый жест, без сомнения, является одним из таких первичных «срастаний» психического и «органического» миров. Это был жест, выстроенный в пространстве физического мира. Но это был и жест, отделившийся от своего телесного источника, перешедший в сферу воображения, по4 Овчаренко В. И. Осознание бессознательного // Вопросы философии. – 2000. – № 10. – С. 35. строивший мысль, саму основу духовно-интеллектуальной сферы человека по образу и подобию телесно-жестовой активности. Соответственно, первичная готовность сознания воспринимать мир, выстраивать «мироотношение», порождать первичные смысловые образования сформировалась именно в этой сфере – в глубинах психоидного бессознательного. Поэтому можно предположить, что интенции (в их самой глубинной составляющей, связанной непосредственно с «психоидным бессознательным») возникали на основе совокупности мысле-жестов. Их нерасчленимое единство можно определить как пластифицирующую интенциональную активность. Она, по всей видимости, формирует некий единый интенциональный фон личности, т. е. специфическую глубинную готовность человека раскрыть свои духовно-творческие усилия в отношении внешнего мира, любых его материально-пространственных форм. В основе таких духовно-творческих усилий лежит, очевидно, собирательный образ («набор») мысле-жестовых форм и способов духовной активности, способных разновозможно «пластифицировать» пространства и формы внешнего мира, являть через них бесконечную игру духовных сил, являющих себя как возможности. А поскольку пространственные образования потеряли для мысле-жеста свою явную «закрепленность» за той или иной формой материи, пластифицирующеинтенциональная активность превратила все сферы человеческого существования в некие потенциальные пространства для своего обнаруживания (явленности, если пользоваться понятием С. Франка). Тем самым была сформирована некая потенциальная база культуры, в основание которой, согласно О. Шпенглеру и целому ряду его последователей, положен некий принцип отношений человека к пространству. Значит, мысле-жест потенциально «заряжен» постоянным «трансцендированием в пространство», причем в некое неопределенное, воображаемое, в специфический «образ пространства». Ведь мысле-жест, утратив непосредственную связь с материальным, превращает пространство также в не- 118 кий мыслимый (воображаемый) феномен. На пространство, таким образом, как бы набрасывается некий флер идеальности, духовности мысле-жеста (один из «горизонтов» ожидания). Так возникает очень важная предпосылка относительного «разрыва» мысле-жеста с какими-то конкретными пространствами (в смысле их материальных «носителей»). Поэтому мысле-жест не только потенциально чреват расположенностью, но и является своеобразным носителем «зазора» между интенциональной активностью и ее реальной возможностью оказаться пространственно расположенной… «Интенция пространства», скрытая в мысле-жесте, способна сообщить некие пространственные характеристики (помыслить его как пространство) практически любому явлению. Именно из этого качества мысле-жеста и рождаются такие его неспецифические материальные воплощения, как звук, речь, предметы быта, продукты питания, запахи, человеческие волосы (парикмахерское искусство), одежда и т. п. Причем все эти весьма своеобразные «пространства», одухотворенные мысле-жестом, обретают и своеобразные пластические формы бытия. Человек относится к ним по тому же критерию, принципу, что и реальный физический жест – к конкретному материальному пространству: они как бы «лепятся», «ощупываются», пластически «по-имаются» по велению мысле-жеста. Даже такая «непространственная», казалось бы, категория, как время, стала восприниматься как некое «пространство дления», обретя личностно-психологическую окраску. Об этом блестяще писал А. Бергсон, понимая психологическое время как неоднородный поток, способный то замедляться, то течь быстрее, по сравнению с физическим. В таком «спрессовывании» или «растягивании» достаточно отчетливо обнаруживается жестовая активность психических актов. Очевидно, время, его дление определяется количеством и интенсивностью воображаемых (возможных) жесто-пластических усилий, формирующих некий разновозможный «образ дления». Разворачивание жестовых усилий позволяло человеку как бы «держать» (термин М. К. Мамардашвили) своеобразный 119 «образ времени», мысля его как потенциальное «разворачивающееся пространство». Это переживание времени имело, очевидно, два взаимодополняющих качества. С одной стороны, оно было континуально в своем охвате всего процесса жесто-пластического «держания». С другой стороны, оно было дискретно, так как «плотность» и интенсивность временнго «тока» определялись типом и характером того конкретно воображаемого жеста-усилия, который переживался в тот или иной период «держания». Эти две взаимодополняющие характеристики времени и обеспечивали его собственно художественное качество. От каждого временного отрезка, составляющего акт «держания», зависело его целостное переживание в данный момент, возможность развиваться дальше с той или иной степенью интенсивности. Любопытный аналог этому процессу – переживание музыкантом-исполнителем длинного звука в той или иной пьесе. Звук все время меняется, движется, течет в своем самотождественном качестве. Каждый новый момент его разворачивания-становления обеспечен жесто-пластической активностью музыканта, который «лепит» его своими духовнофизическими усилиями: то давлением смычка, то подачей воздушной струи, то интенсивностью вибрато пальцев, то губами, то языком... В результате звук приобретает некое самостоятельное временное измерение, порой теряя даже непосредственную соотнесенность с временным развертыванием всей пьесы. Время дления звука становится почти осязаемым, становится актом воплощенного переживания его тока, неоднородного по своей психологической природе, но единого в разворачивании некоего «образа движения»... Создается ощущение порой, что дление такого звука может продолжаться бесконечно и музыкант лишь усилием воли совершает еще один жесто-подобный акт: переходит к иным звучаниям. Этот пример свидетельствует о некоей потенциальной бесконечности взаимопереходов времени и жеста в той сфере человеческой активности, которую принято называть иде- 120 альной, воображаемой. В этой сфере время и пространство выступают взаимодополняющими характеристиками жеста, сливаются в интенсивности и амплитуде его развертывания. Такой жест превращает все материальное лишь в повод и способ для самообнаружения. Чтобы длиться и самоосуществляться, он должен быть явлен своему творцу в акте держания. И явление это должно происходить в формах, качественно отличных от реальных (материальных) форм существования времени и пространства. Иначе духовно-воображаемый жест потеряется, сольется с породившей его реальной жестовой «средой». Чтобы такого слияния не происходило, сфера воображаемых жестов должна была сформировать свой язык, собственную систему знаков, отличных от привычных форм фиксации телесного, «материального» жеста. Проецирование такого интенционально-жестового языка должно было осуществляться по принципу «паразита». Он мог обнаруживать свое скрытое присутствие в любом реально существующем семиотическом пространстве, закрепленным за определенными пространственными формами бытия. Его задачей становилось не просто внедрение в это пространство, что формировало его неоднородность (в синергетическом смысле), хаосогенность. Интенционально-жестовое присутствие должно было все время порождать различие (в трактовке Ж. Делёза), заявляя о своей идеальной природе, как бы отталкиваясь от пространства исходной семиотической системы, на которой «паразитировал» интенционально-жестовый язык. При этом такому языку было относительно безразлично, на каком другом языке он будет «паразитировать». Лишь бы исходное семантическое пространство могло держать в своих пределах интенционально-жестовые усилия, лишь бы оно было способно «пластифицироваться» под их воздействием, разрушаясь в своей исходной однородности, «хаотизируясь», завихряясь в своих связях вокруг новых знаков-аттракторов, вносимых в исходную семиотическую систему интенциональными мысле-жестами. 121 Воссоздание такого жестового языка, связанного с работой воображения, «горизонтами» ожидания сознания, – дело будущего. Но изначально ясно, что наиболее устойчивые формы его явленности в материально-знаковых системах представляет искусство. Именно в этой сфере творчества важен не сам текст, не набор привычных (конвенциональных) семиотических конструкций, а то невыразимое, что удается угадать как бы «за текстом». Это специфическое «реяние смыслов», которое не поддается никаким привычным средствам выражения, а может быть лишь угадано, опознано благодаря работе интуиции, подсознания, предсознания, сверхсознания, т. е. всех тех таинственных составляющих мышления, что сопровождают любой сознательный творческий акт, окутывают его некоей аурой динамических досмысловых, предсмысловых усилий. Именно их присутствие в исходных материальных языкахносителях делает произведения принадлежностью искусства, сообщая им качество художественности5. Интенционально-жестовый язык, очевидно, и есть то активное начало, что порождает феномен невыразимого в искусстве, стирая принципиальные границы между его видовым морфологическим разнообразием, превращая все разнообразие видов, родов, жанров в неоднородное «семиотическое пространство» – поле своей деятельности. Но помимо этих устойчивых, сформировавшихся и закрепившихся «каналов» своего обнаружения во внешнем мире, жестовый язык воображения и мышления постоянно ищет новые пространства и возможности для своего осуществления. Ведь ни один из существующих языков, в силу своей связанности материальными носителями, не в силах выразить весь спектр интенциональных притязаний, что несет с собой жесто-пластический язык мышления и воображения. Поэтому у искусства, помимо устоявшегося жанрово-видо5 См. об этом подробнее: Дадианова Т. В. Пластичность как физиогномическая характеристика искусства и категория художественного творчества. – Ярославль, 1993. 122 123 вого и родового разнообразия, всегда есть некое качество ризомы, т. е. способности хаотически и в единичных проявлениях разрастаться, образуя неожиданные «симбиозы», новообразования, сращения с самыми разными пространствами культуры (термин «ризома» принадлежит Ж. Делёзу и Ф. Гваттари). Отсюда – «привкус» художественно-творческой деятельности у кулинарии, парфюмерии, спорта и т. п. О том, что представляет собой язык интенциональножестовых притязаний и может ли он быть в полной мере определен как «язык», пока можно строить лишь догадки. Но в практике искусствознания, литературоведения, без сомнения, отдельные наблюдения за его проявлениями можно найти, особенно если в исследованиях анализируется присутствие невыразимого в том или ином искусстве. Например, мысле-жест способен формировать особого рода «разрывы», «зияния» в динамике реального пространства-времени. О таких разрывах (паузах, например, в поэзии) пишет, в частности, В. С. Библер, отмечая, что в них-то и фиксируется художником некая идеально-духовная субстанция мышления6. С. Т. Вайман отмечает специфическую «логику ветвлений», своеобразных изломов в развитии ткани литературного произведения7. О паузах же, их колоссальной степени воздействия на процесс восприятия упоминает Б. Асафьев, анализируя музыку. Очевидно, на активизацию жесто-пластических усилий мышления направлен и знаменитый прием «остранения», исследованный Б. Шкловским. Неожиданный, как бы несуразный элемент, вписанный в пространственно-временной континуум, диктует поиск разных возможностей, его соотнесения с целым эпизода, части, всего произведения, активизируя тем самым жестовые основы духовно-творческой усилий. Возможно, что ту же природу имеет распространенный в искусстве прием соположения взаимоисключающих (по смыслу, контекстам, функциям) предметов и значений. 6 7 Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры. – М., 1991. Вайман С. Гармонии таинственная власть. – М., 1989. Эпатажные формы он принимает в дадаизме, экспрессионизме, сюрреализме. Но существует и в более традиционных формах художественного алогизма (например, у Гоголя), оксюморона или художественного «фокуса» (понятие Л. Толстого, наиболее последовательно развитое в научных трудах Ю. Г. Нигматуллиной). Можно высказать предположение, что все авангардное искусство ХХ века было экспериментом в сфере поиска новых форм и способов проявления мыслительно-жестовой активности в искусстве и культуре в целом. Кроме вышеперечисленных приемов, апеллирующих, в первую очередь, к работе воображаемого жеста, к его идеальной составляющей, возможны другие способы явления мыслительно-жестовой активности. Например, запечатлевание неких «пиктограмм жеста». К ним можно отнести переплетение линий, изображающих ветви дерева, складок одежды, которые как бы «лепят» угадываемое под тканью тело. Это наиболее простой и явный способ обнаружения мыслежестовой активности. Но самым интересным представляется система орнаментальных знаков, получивших в искусстве колоссальное развитие в виде бесчисленных модификаций. Наблюдения над орнаментом позволяют сделать заключение, что он является своеобразным знаком тех потенциальных возможностей варьирования формы, которые пытается «удержать» художник. Орнамент – знак его мыслительных творящих усилий, идеальных потенций, как облако окутывающих в его восприятии предмет, подвергая его внешнюю форму постоянным рекомбинациям, деконструкциям, пересозданиям. Внешняя форма и возникает, и существует лишь как своеобразная граница, на которой «пересекаются» разновозможные «векторы» (интенции) потенциальных, угадываемых, идеально-возможных форм. Их скрытое и одновременно явленное присутствие и означено орнаментом. Он – «наглядное воплощение» творческих пластифицирующих мыслительных усилий художника, т. е., являясь элементом, частью внешней формы, он знаковой своей функцией связан с внутренней фор- 124 мой, вернее, с множеством внутренних форм, сосуществующих по принципу диамонологического взаимодействия на «границе» внешней формы. В этой своей способности орнамент уникален тем, что означивает наиболее древние, архаичные потенции художественного жесто-пластического мышления. Орнамент хранит художественно-историческую память об этих способах освоения, «присвоения» человеком пространства, о первых попытках создать проницаемые границы между внешним миром, находящимся вне человека, и внутренним миром. Орнамент – один из первичных способов проецирования человеком себя во вне, проецирования своей мыслительной активности на внешний мир для постижения себя, своей жесто-мыслительную активности через отчуждение, для созерцания ее как бы со стороны. Психофизиологическое обоснование этих эстетическо-семантических идей можно найти в работе немецкого ученого Пентфильда. Он выяснил, что, в процентном отношении, в телесно-тактильных ощущениях наибольший «удельный вес» принадлежит рту, затем руке и гениталиям. Все остальные части тела (спина, например) имеют наименьшую концентрацию ощущений. И, как результат исследований, предлагается изображение тела человека (его «внутреннего пространства») с огромными языком и губами, колоссальной рукой и внушительными гениталиями. Наблюдения Пентфильда позволяют сделать заключение, что три сферы человеческой пластической активности нашли последовательное развитие и закрепление на психофизиологическом уровне. Развились и утончились в своих ощущениях именно те части тела, благодаря которым человек устанавливал границы с внешним миром (пространством) и со своим внутренним самочувствованием. Изучение наиболее универсальных конструктивно-семантических принципов орнамента как воплощения художественно-мыслительной активности обнаруживает скрытую связь с исследованиями Пентфильда. 125 Обнаружить эту связь можно, прибегнув к редукции, позволяющей проникнуть в самый «корень» конструктивнооформляющей силы, положенной в основание орнаментики. Наблюдения такого рода позволили выявить три своеобразных «орнаментальных архетипа». Как «архетипы» их можно трактовать весьма условно, понимая под этим термином К. Юнга метафорически-образные трансформации трех доминант психоидного бессознательного, сформировавших первичный слой интенционально-жестовой активности человека. Возникли такие «орнаментальные архетипы», судя по всему, по аналогии с чисто физиологическими возможностями человека осуществлять тот или иной тип жестов. Можно предположить, что человек начинал мыслить, опираясь на три основных способа активного взаимодействия со «средой»: через работу руки, благодаря сексуальной активности и через ощущения ротовой полости. Все эти три формы активности визуализировались в орнаментах, позволяя человеку не только созерцать свою активность как бы со стороны, извне, но и формируя три исходных типа мыслительных «операций», три способа взаимодействия с внешним миром, подаренных природой. Сексуальная форма активности – самая простая из них и легко угадываемая. Эта форма проявляется в создании орнаментов, построенных на однообразном повторении одних и тех же элементов, расположенных чаще всего по принципу зеркальной симметрии. Обычно это орнаменты линейного типа или типа плоскостных решеток с монотонно повторяющимся узором. В почти недифференцированном однообразии фрагментов подобных орнаментов угадывается феномен «мелькания», который Р. Барт связывает с сексуальным переживанием8. Подбор элементов для орнамента, воплощающих эту форму активности, происходил по аналогии с характером движений, свойственных тем или иным природным явлениям: с однообразным бегом волн, с колебаниями цветов и трав, с ритмичными трудовыми процессами. Воз8 Барт Р. Избранные работы. – М., 1994. 126 можность бесконечного продолжения, дления этой формы активности воплощалась в практически бесконечной линейной форме орнаментов, порой свернутых в кольцо на той или иной вещи. Этот орнамент был выражением представления, исходного знания о цикличности, повторяемости любых природных процессов; кроме того, он может восприниматься как проявление некоего «маскулинного начала» жесто-мыслительных усилий. Он символизирует сам процесс обретения единства человека с внешним миром. Наложенный на вещь, такой однообразно ритмичный орнамент означал, очевидно, процесс однообразных усилий, не просто нацеленных на освоение ее пространства, но на проникновение в нее (вещь), в ее «вещественную суть». Ведь сексуальноподобная форма активности строится на взаимопроникновении. Имитируя ее, закрепляя в форме орнаментики, человек воспроизводил специфическое усилие «поимания» предмета, нацеленное на слияние с ним, на сообщение ему некоей идеально-возможной «мужской» сути, «посылаемой» мысле-жестом… Прямо противоположная задача у рукоподобного орнамента: не проникнуть в вещь, преодолев и пережив ее материальное сопротивление, не замкнуть ее, не отграничить от других пространств (аналитическое усилие!), сделав ее объектом творческих притязаний художника, а разомкнуть ее внешние границы, «стереть» контур созданной формы, продемонстрировать тем самым как бы переход вещи, предмета в окружающее пространство, подчеркнуть скрытое единство с ним создаваемого произведения. Подобная «идея формы» изначально предполагается орнаментом, основанным на лучевой симметрии. Это своеобразный знак, который можно воспринять как аналог центру-ладони и лучам-пальцам. Конкретные способы воплощения данного типа орнамента могут быть различны. Например, центром может стать солнце, цветок, круг, точка, дуга и т. п. В любом случае это будет орнаментальный узор с отчетливым или едва намеченным центром, вокруг которого по тому или иному типу расположены окружающие его элементы. Не обязательно, чтобы был соблюден принцип лучевой симметрии. Важна лишь 127 идея некоего «окруженного центра». У такого типа орнаментов функции в целом сходны с деятельностью руки. Это захват пространства и ощупывание его. В таком типе жесто-мыслительных проявлений можно усмотреть некий «женский тип» мыслительной активности, основанный на стяжении разнородных пространств и явлений по принципу «генид», как их назвал О. Вайнингер в своей книге «Пол и характер»9. Существование двух типов «орнаментальных архетипов» позволяет предполагать, что в области психоидного бессознательного существуют две доминанты, активность которых характеризуется «дополнительностью» (в понимании Н. Бора). Это «мужская» и «женская» доминанты, своеобразные «ян» и «инь» самого глубинного уровня бессознательного. Они определяют два дополняющих принципа интенциональных притязаний. Первая из них порождает мыслительный жест аналитического типа, жест, нацеленный на соединение (аналог соитию) духовного, идеально-возможного и материального. Это мысле-жест, конструирующий воображаемое пространство, стремящийся проникнуть, раствориться в материальном, пересоздав его по образу и подобию желаемого, навязав ему волю человека… Вторая доминанта, напротив, порождает слой интенциональных притязаний мысле-жестов, заявляющих о себе, лишь касаясь поверхностей вещей, их «внешнего пространства». Это тип интенций, пересоздающих связи вещи с окружающими ее предметами и явлениями по желанию человека. Это интенции, определяющие некие антропоморфно-жестовые принципы соотнесения предметов и вещей материального мира. Поэтому такого рода интенциональные потоки не стремятся к слиянию с материей, некоему относительному «растворению» в ней. А напротив, призваны как бы «реять» над вещно-материальным… Это, в первую очередь, духовно-мыслительная активность «пластифицирующего» типа, «пере9 Вейнингер О. Пол и характер. – М., 1991. 128 лепливающего» внешние формы предмета и его связи с окружающим. Не эти ли две доминанты психоидного бессознательного порождают в человеческом отношении к миру то, что древние называли «эйдосом» и «меоном», т. е. конструктивно-определенное, структурированное и неясное, текучее, вечно изменчиво-становящееся?.. Но важно не просто существование по способу дополнения «мужской» и «женской» доминант психоидного бессознательного. Их жесто-духовная активность, чреватая потенциями отношения к любым явлениям как к пространствам, где может эта активность быть явлена, порождает неизбежное возникновение между ними «полей притяжения». Каждая из них относится к другой, к ее «сгустку» мысле-жестов как к потенциально возможному «пространству». В результате такое «поле напряжений» способно породить некую третью доминанту психоидного бессознательного, существующую как разновероятностное «пересечение» двух вышеописанных типов. О присутствии такой третьей доминанты психоидного бессознательного свидетельствует все тот же орнамент, его третий «архетип». Рукоподобная и сексуальноподобная типы мыслительной активности интереснейшим образом взаимодействуют в рамках третьей – ротоподобной. В ней однообразно-ритмичные движения, направленные на механическое дробление пищи (преодоление ее сопротивления, жесткости, упругости), неразрывно соединяются с ощущением ее «захвата», ощупывания, поглощения и растворения в человеческом организме. Причем функцию смакования, «ощупывания» выполняет не просто рот в целом, а и как бы отдельные, но единые в своих усилиях органы: губы, язык, небо, гортань. Таким образом, «центр удовольствия» оказывается не жестко фиксированным. Он может смещаться, оставаясь в то же время сфокусированным в области рта. Весь этот нерасторжимый комплекс ощущений и создает впечатление, что рот – некое сложное сращение двух различных форм активности: подобной сексуальной и подобной мануальной. 129 Но соединение этих форм активности формирует совершенно иную направленность человеческих усилий. Если «мелькающе»-сексуальная и рукоподобная направлены вовне, в окружающий мир, то оральная обращена на «усвоение» и «присвоение» мира через «растворение» его в телесности человека. Одной из форм образной рефлексии и означивания такой формы мыслительной активности стали орнаменты. Как правило, это орнаменты с несколькими возможными центрами (доминантами). Каждый из этих центров способен сформировать свою структуру связей, обнаружив в узоре новый принцип повторяемости. Другими словами, такой орнамент представляет собой сложную комбинацию, «наложение» нескольких возможных самостоятельных узоров. Простейший пример такого рода орнаментов – решетки с чередованием двух элементов, «вписанных» в контуры друг друга. Глаз в этом случае как бы обрекается на выбор: какой же из элементов создает конструктивную опору ажурного рисунка? В зависимости от выбора того или иного элемента в качестве основного, решетка «выстраивается» в новом ракурсе, обнаруживая тот или иной принцип повторяемости. Основная функция описываемого типа орнаментов – не в механическом соединении сексуальноподобной и рукоподобной активности. Их совмещение, взаимодополнение призвано передать возможный образ внутренней (скрытой в тайне человеческого тела) активности – активности, сопряженной с представлением о внутреннем пространстве человека (телесном, духовно-мыслительном и др.). В этой своей функции ротоподобный орнамент почти безразличен к вещи – его носительнице. Он смещает все внимание на себя, требует тщательного рассматривания, приковывает к себе бесконечно меняющейся игрой связей. За этим разглядыванием, диктуемым подобным орнаментом, вещь как бы забывается, возникает предельный отрыв от ее утилитарной функции. Вещь становится лишь поводом для создания орнамента, а орнамент – способом воплощения духовно-творческой активности человека. От наблюдателя как бы требуется восприятие этой 130 творческой игры, восхищение ею, постижение через нее пространственно-жестовых представлений художника. Такой орнамент способен полностью пересоздать вещь, сообщив ей совершенно невозможные (с точки зрения ее назначения) свойства. Но главным всегда останется задача вызвать восхищение работой художника, заставить созерцать вещь, а не пользоваться ею. Развивая эту мысль в духе наших размышлений, можно предположить, что все многообразие видов искусства родилось из «зерна» ротоподобного орнамента. Каждый из новых видов искусства призван был создать и передать образ внутреннего пространства человека и таящихся в нем активных начал, изначально созданных и запечатленных орнаментальным искусством. Но черпались эти представления о внутреннем из образов внешней активности, также запечатляемым и «собираемым» при помощи орнаментального языка. Другими словами, орнамент позволял человеку создавать образ самого себя, тайны своего «я» по проекции своей же сексуально- и рукоподобной активности. Орнамент стал первой «границей», позволившей частично устранить, «размыть» неизбежное разделение человека с окружающим миром. Орнамент позволил ему выстроить свой внутренний творческий образ по подобию внешней активности. Одновременно орнамент способствовал осознанию, что внутренний мир «я» несводим к механическому соединению двух «внешних форм» активности. Их новое, третье качество, существующее как возможность проникнуть в загадку «я», сформировало ореол тайны вокруг внутреннего мира человека. Поскольку его пространство и образ активности можно было лишь угадать по его сексуально- и рукоподобной деятельности, образ внутреннего пространства человеческого «я» стал извечным «прикидыванием», угадыванием, игрой в бесконечные комбинации взаимодополняющих свойств сексуально- и рукоподобной активности. Эту «игру» в выстраивание внутренних пространств «я» до поры ограничивали лишь пять органов чувств – пять «границ» во взаимодействии человека со средой. Какой бы спе- 131 цификой ни обладало каждое из этих чувств, несомое им представление об образе внутреннего «я» должно базироваться, очевидно, на аналогиях с ротоподобным орнаментом. В том или ином образе пространства-активности внутреннего «я» возможны были различные комбинации сексуально- или рукоподобного (временные и пространственные виды искусства?). Но, несмотря на всю их специфику, обусловленную и способом восприятия (воздействия), и материалом, задача их оставалась единой: создать и передать образ внутреннего «я» личности, ее скрытой творческой активности. Глубинное единство создаваемых возможных «проектов» внутренних пространств «я» сохранялось благодаря «ротоподобным приемам» и способам орнаментирования. Именно они, по всей видимости, и легли, в первую очередь, в основу некоего «метаязыка искусства», породившего ощущение глубинного родства всех его столь различных видов, форм, жанров. Выявление трех антропоморфных архетипов орнаментальных форм мышления позволяет сделать первые выводы о происхождении невыразимого в искусстве и культуре. Оно, по всей видимости, имеет телесно-жестовую природу, «преломленную» в трех доминантах психоидного бессознательного. Переместившись в сферу воображения, мышления, эти жесты обрели новое качество: идеальные формы бытия. В этом новом качестве воображаемый жест стал активной порождающей силой, провоцирующей энтелехийные процессы, порождающие самодвижение художественной мысли. Одним из первичных форм ее осуществления стали, очевидно, орнаменты – зримое воплощение невыразимого в искусстве, его связей с мысле-жестом. В этом смысле орнамент, орнаментика в целом – одна из начальных стадий формирования жестового метаязыка искусства и культуры. Возможно, что в дальнейшем именно орнаментальные формы мышления стали важнейшим каналом проникновения невыразимого в другие виды, роды искусства, обеспечивая тем самым их внутреннее родство, глубинное единство в том качестве, которое М. С. Каган назвал «декоративностью», а Ю. Г. Нигматуллина связала с понятием смыслового «фона» восприятия. 132 133 Н. Л. Быстров* Пространственно-временная структура театрального мира Н. В. Гоголя и М. А. Булгакова: попытка сравнения Р ассмотрение пространственно-временной структуры «театральных миров» Гоголя и Булгакова следует начать с анализа тех отношений, которые моделируют процесс движения событий (развитие сюжета) и их внутреннюю смысловую «конструкцию»; речь идет о пространственных отношениях типа верх/низ, центр/периферия, замкнутое/открытое, правое/левое и т. д. Исходным порождающим механизмом театрального пространства у Гоголя и Булгакова мы будем считать прием «театр в театре», или «сцена на сцене». Этот прием реализуется двояко: путем прямого включения самого театрального действия или некоторой «театральной темы» в содержание пьесы, либо посредством своеобразного «удвоения театра», когда события, представляемые на сцене, в свою очередь являются лишь «разыгрыванием» реальности – вольным или невольным (пример последнего – «Ревизор»). «Театр в театре» – это пространство в пространстве, т. е. пространство осуществляемой (или обсуждаемой – как в «Развязке «Ревизора») персонажами театральной игры, включенное в пространство сцены. Результатом такого усложнения/удвоения пространства является встраивание одного хронотопа в другой, возникновение «биспациальной» («двупространственной») структуры, в которой совмещаются сходные * Никита Львович Быстров – кандидат философских наук, доцент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). © Н. Л. Быстров, 2013 (по принадлежности к одному и тому же миру театральной иллюзии), но одновременно различные (по смыслу и положению в общей картине мира) планы реальности. Рассмотрим некоторые особенности этой структуры. Сквозной темой драматургии Гоголя является тема обмана. На обмане строятся сюжеты «Ревизора» и «Игроков», близкое к обману основание (разыгрывание ситуации, в которую герой не желает включаться) подводится под событийный ряд «Женитьбы». Не будет преувеличением сказать, что обман здесь – начало, конституирующее сюжетное пространство, т. е. определяющее некоторые существенные (конечно, не физические, а смысловые) его параметры. То, что есть «по видимости», т. е. на уровне простой очевидности, в ситуации обмана реально не существует. Поэтому воспринимаемое зрителем событийное «наполнение» пространства оказывается иллюзорным, семантически пустым или ускользающим от понимания, стремящимся к превращению во чтото другое. Все, что должно быть воспринято как живое и достоверное, предстает искусственным и ложным. В результате пространство утрачивает свою естественную динамичность: оно становится сценой, населенной безжизненными масками. Об этом писал еще Андрей Белый: «Гоголем был осознан прием умерщвления движения с переходом жеста в застывшую мину»1. Маска и есть такая «застывшая мина» – личина вместо лица, неподвижность вместо движения, условный типаж вместо живого «Я». Там, где действуют маски, пространство, по словам Белого, не «органично», а «механистично»: недаром в «Ревизоре» «за последним явленьем отчерк; и – заглавие: «Немая сцена»; в ней – описание умерших жестов и поз» (курсив автора. – Н. Б.)2. Действие «Ревизора» построено так, что эта немая сцена оказывается его интенциальным пределом, т. е. тем пунктом, в котором окончательно раскрывается механическая сущность представляемой (разыгрываемой) реальности. 1 2 Белый А. Мастерство Гоголя. – М., 1994. – С. 178. Там же. 134 135 Ю. М. Лотман заметил, что в пространстве «Ревизора» (и вообще в «бытовом» пространстве у Гоголя) «самое движение представляется разновидностью неподвижности: оно разбивается на ряд статических поз со скачкообразными – вне художественного времени – переходами от одной к другой»3. Действительно, вся внутренняя динамика пространства основана здесь на дробных и как бы неупорядоченных жестах. Бобчинский и Добчинский всегда бегут (суетность, бессмысленность этого бега ярко передается одной фразой: «Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками»), всегда говорят вразнобой, перескакивают с темы на тему. Их движения – это жесты механических кукол: рассказывая, беспорядочно машут руками, хватают друг друга за руки; в гостинице Бобчинский непрестанно «выставляет голову в дверь», а затем, когда «дверь обрывается», «летит вместе с ней на сцену», отчего получает «сверх носа небольшую нашлепку». Хлестаков «ходит и разнообразно сжимает свои губы», говорит то «громким и решительным голосом», то «голосом вовсе не решительным», пугается, «бледнеет и съеживается», но уже через минуту «бодрится», а потом и вовсе важничает и высокомерничает. Он же за ужином у Городничего, несмотря на всю значительность позы, «поскальзывается и чуть не шлепается на пол», и этот жест соответствует истерической порывистости его речи. Что касается жестов Городничего, то это, как говорит Андрей Белый, «дерг: вздергивает палец, дергается гримасой, хватается за голову, нахлобучивает на себя бумажный футляр; выпучив глаза и руки по швам, замирает надолго, чтоб дернуться дрожью; внезапно чихает, судорожно грозит себе кулаком, бьет каблуком»4. Эти хаотичные движения наполняют пространство «Ревизора», но, что гораздо важнее, – они его выстраивают. Пространство словно бы прорезано беспорядочно пересекающимися траекториями жестов. Оно поэтому само дробно, т. е. 3 4 Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. – М., 1988. – С. 263. Белый А. Мастерство Гоголя. – С. 178. само состоит из дискретных частей, плохо связанных друг с другом и каждый миг готовых распасться. Оно не распадается, лишь пока его форма удерживается энергией обмана или, точнее, разыгрыванием некоей «реальности». Но как только обман раскрыт, всякое подобие согласованности между отдельными элементами исчезает и происходит как бы мгновенный коллапс пространства: оно становится неподвижным, однородным и пустым. Лучше сказать – мертвым. Собственно, оно всегда и было мертвым; изобличение обмана, придававшего ему некоторое сходство с пространством жизни, лишь помогает это обнаружить. Иначе говоря, само пространство «сбрасывает маску» в тот момент, как она сброшена с лица героя. Попутно заметим, что В. Э. Мейерхольд в своей знаменитой постановке «Ревизора» (1926 г.) пытался именно так организовать пространство спектакля, чтобы оно постепенно – от сцены к сцене (у Мейерхольда – «эпизоды») – раскрывало свою «замаскированную» безжизненность. Для этого были созданы специальные вкатные площадки. «Служебная роль площадок, – писал П. Зайцев, – в том, что они помогают зрителю осознать образ всего спектакля как процесс постепенного оплотнения и омертвения жизни, процесс, развертывающийся градациями, нарастая с каждой новой сценой, с каждой новой картиной. Это нарастание оплотнения, начинаясь и отталкиваясь от призрака, бесплотного голоса Ревизора во второй сцене, и возникая в виде маски на лице Коробкина, проходит сквозь фигуру застывшего от страха на стуле Хлопова и закономерно заканчивается немой сценой, сценой кукол, фантомов, только что за минуту перед тем живых, наделенных страстями, вожделениями и желаниями людей, сейчас покинувших свои оболочки, – фантомов, разоблачающих в своей застылости моральное уродство и животную природу их недавних обитателей» (курсив наш. – Н. Б.)5. 5 Зайцев П. «Ревизор» у Мейерхольда // Гоголь и Мейерхольд. – М., 1927. – С. 61. 136 137 Сюжетное пространство «Ревизора», равно как и других пьес Гоголя, – это пространство сугубо бытовое. Гоголевский быт вообще «низок», в нем господствует то низменное начало, которое писатель обычно именовал пошлостью (обманом, замещением истинной жизни, фикцией, стремящейся представить себя как единственно возможную истину)6, а потому он всегда негативно отмечен и противопоставлен подлинной «действительности». Следовательно, пространство быта, являющееся формой осуществления этой негативности, как бы оттеснено на отрицательный полюс художественного мира. Но что мы обнаруживаем на полюсе положительном? Идеал «истинной красоты человека», по Гоголю, недостижим в пределах земного мира. Этот идеал не может быть выявлен и художественными средствами: он всегда остается отвлеченной идеей, невоплощенным религиозным принципом. Поэтому в гоголевском мире мы не находим скольконибудь внятного его выражения. Положительный полюс здесь, по существу, отсутствует, однако его функции передаются сценическому пространству (пространству театра как такового), которое создано только для того, чтобы указать на возможность и необходимость иной жизни. «Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека!»7 В этих восклицаниях – вся философия гоголевской сцены. Дело здесь, конечно, не ограничивается тем, чтобы просто выставить Городничего или кого-то еще (в пределе – всех) на посмешище; дело в том, чтобы посредством осмеяния сделать прозрачной материю бытового мира. 6 Андрей Белый в статье о мейерхольдовской постановке писал: «Действующие лица «Ревизора» – концентрация пошлости общечеловеческой, а не только режима иль скобок времени; пошлость питают и лучшие люди, и мы; у Гоголя – не только карикатуры» (курсив наш. – Н. Б.). – Белый А. Гоголь и Мейерхольд // Гоголь и Мейерхольд. – С. 27. 7 Гоголь Н. В. Сочинения : в 6 т. – М. : ГИХЛ, 1952–1953. – Т. IV. – С. 95. (Далее ссылки на это издание даются в тексте, с указанием тома римской цифрой, а страницы – арабской). Именно прозрачность выступает основной характеристикой сценического пространства: оно позволяет отчетливо видеть обман, пронизывающий сферу быта, и оно же открывает «просвет» в идеальный мир. Оно развенчивает иллюзии, срывая маски с того, что лишь представляется реальным, и при этом связывает обыденность с идеалом. Таким образом, прием «театра в театре» реализуется у Гоголя путем конфликтного соотнесения двух пространств: пространства сюжета и пространства сцены. Первое пространство «встроено» во второе, притом что «силовые центры» (вещи, жесты, движения, речь, индивидуальные и групповые положения), порождающие и организующее второе пространство, в то же время воспроизводят образ первого, заданный текстом пьесы. Первое соответствует отрицательному, а второе – положительному полюсу художественного мира Гоголя (в этом отношении они выступают как осуществление гоголевского принципа двоемирия). Граница между этими пространствами трудноуловима, однако ясно, что первое формируется развитием сюжета, а второе – развитием сценического действия. Одни и те же актеры создают оба пространства, но – лишь потому, что им приходится играть таких персонажей, которые сами по сюжету, по логике обмана, обычной для гоголевского театра, «играют» кого-то другого. Если вообразить некоторую линию, отделяющую демонстрацию театральности поведения персонажей от представления/ разыгрывания этого поведения, то, очевидно, она и будет границей между сценическим и сюжетным пространствами. Средством к различению этих последних может служить только рецептивная позиция (проще говоря, точка зрения) зрителя: сосредоточенность либо на том, что происходит, либо на том, как представляется происходящее. Эффект «театра в театре» и – как его проявление – совмещение в едином театральном пространстве двух «хронотопов» в значительной мере свойственны и драматургии Булгакова. Так, например, пьеса «Багровый остров» построена на постоянных переходах из представления репетиции спектакля в представление театрального представления. Соот- 138 139 ветственно, здесь – два пространства: театр на сцене и театр в пьесе (вне всякого сомнения, «биспациальная» конструкция гоголевских комедий явилась для Булгакова образцовой). Однако, в отличие от Гоголя, Булгаков не противопоставляет друг другу эти пространства; они воспринимаются как два плана одной и той же пародийной, карнавальной игры. Пространство сюжета насыщено событиями, пародирующими официальные советские идеологемы; в пространстве сцены дается пародия на советский театр: и то и другое есть репрезентация одной действительности. Мы видели, что у Гоголя оба пространства взаимодействуют неявно, т. е. так, что зритель этого непосредственно не воспринимает. В «Багровом острове» же гоголевская «двупространственность» доведена до своего логического предела: здесь одно пространство периодически вторгается в другое, и происходит это зримо и откровенно. Ср., например, перебивку действия во второй картине третьего акта: «ЛЕДИ. Лорд. Я поеду с вами. Я хочу видеть своими глазами, как схватят эту негодяйку и воровку Бетси. ЛОРД. Хорошо. Одевайтесь! Суета. ПАСПАРТУ (вбегает, растерян). Лорд! Лорд! Лорд! ЛОРД. Какая еще пакость случилась в моем замке?! ПАСПАРТУ. Савва Лукич приехали!! В оркестре немедленно поднимаются любопытные головы музыкантов. СУФЛЕР (из будки) Геннадий Панфилыч, Савва Лукич! МАТРОСЫ (с корабля на мотив «Типперери»). Савва Лукич… в вестибюле… снимает калоши!..»8 Та легкость, с которой совершается переход из одного пространства в другое, свидетельствует о принципиальной проницаемости границ между ними. Так и должно быть: между сценой и спектаклем нет непреодолимых преград, особенно когда дело касается репетиции (а «Багровый остров» – это, по сюжету, генеральная репетиция спектакля). Ясно, что здесь – не просто физическая проницаемость, но и свидетельство онтологической (бытийной) близости двух пространств. И то и другое – театр (ср.: «Мир увиден Булгаковым как большой театр, где все вовлечены в общее представление»9). А два плана одного театрального пространства не могут друг другу противоречить; они могут вступать в чисто игровое взаимодействие. Игра же возможна лишь в том случае, когда между этими планами нет разительного противоречия, характерного, например, для гоголевских пространств. У Гоголя элементы игры пространством сцены и пространством сюжета также имеют место; ср. эксперименты с «опрозрачниванием» «четвертой сцены» в «Ревизоре»: например, знаменитое «Чему смеетесь? – Над собой смеетесь», – слова Городничего, обращенные непосредственно к публике, поверх границ сюжетного пространства. Но эта игра, в сущности, периферийна по отношению к основной для Гоголя двоемирной модели пространства, – проще говоря, к непримиримому и едва ли не трагически осмысленному противостоянию сюжета и сцены. В драматургии Булгакова мы не встретим признаков подлинного двоемирия. Иное дело – булгаковская проза. Здесь различные измерения бытия (в их пространственном выражении) подчас довольно резко контрастируют друг с другом. Так, например, Максудов, герой «Записок покойника», с помощью «волшебной камеры» создает у себя на столе подобие гармонического, прекрасного мира театральной сцены. Театр для Максудова – антитеза обыденности, и потому, даже представленный как откровенная иллюзия, он принадлежит к экзистенциально подлинному пространству, к миру идеала. Столь же противоречащим «бытовому» миру предстает бал у Сатаны в «Мастере и Маргарите». Здесь пространство внутренне безгранично и, кроме того, совершенно независимо от времени. В сравнении с ним пространство внешнее выглядит ущербным, скудным, тесным, изменчивым. 9 8 Булгаков М. А. Пьесы 20-х годов. – М., 1990. – С. 333. Химич В. В. «Странный реализм» Булгакова. – Екатеринбург, 2004. – С. 31. 140 141 Но вернемся к «Багровому острову». Игра пространственными (и шире – смысловыми) измерениями в этой пьесе может быть осмыслена как зеркальное уподобление, имеющее несомненную связь с карнавальной культурой. «Смешное и в то же время сатирически резкое, – пишет В. В. Химич, – возникает здесь вследствие того, что Булгаков намеренно включает в зеркальные связи со значением тождества лица, предметы и понятия разных смысловых планов, в реальной жизни не имеющих между собой ничего общего»10. Та же исследовательница отмечает, что едва ли не каждый персонаж обладает здесь зеркальными «двойниками»: Никанор – помощник режиссера, но он же – слуга Паспарту, он же говорящий попугай, он же ставит самовары Геннадию Панфиловичу; Василий Дымогацкий одновременно Жюль Верн и Кири-Куки, авантюрист и, как сказано в пьесе, «проходимец» при туземном дворе. Сам факт существования за текстом его литературного оригинала, по отношению к которому этот текст – лишь искаженное зеркальное подобие, снижает его, превращает в пародию. Образы романов Жюля Верна предстают здесь лишенными всякого романтического колорита и вообще всякого обаяния. Это – фельетонные карикатуры; их «вторичная», зеркальная природа подчеркивается наличием у каждого из них двойников – не за пределами сюжета, а в самом сюжете. В данном случае мы можем говорить об эффекте двойного отражения – героев пьесы Булгакова в персонажах Жюля Верна и героев пьесы Дымогацкого – в героях Булгакова (прием и вообще-то сходный с «театром в театре», но здесь прямо выступающий одной из форм его осуществления). «У Гоголя – не только карикатуры», – заметил Андрей Белый, имея в виду гоголевское нежелание (и, по всей видимости, неспособность) ограничиваться карнавальными шаржами. В «Багровом острове» – пьесе, наиболее открыто и последовательно проводящей прием «театр в театре», – мы име10 Химич В. В. Указ. соч. – С. 80. ем дело, прежде всего, с карикатурами – живыми, яркими, смешными, но все же сугубо пародийными. Зеркало, взятое в качестве исследовательской метафоры, бывает, по крайней мере, двояким. Оно, по словам Ю. Левина, «может служить метасемиотической моделью совмещения двух независимых сообщений на одном носителе. Бесконечное многообразие возможных соотношений между этими сообщениями (изображениями) чревато богатыми семиотическими потенциями. В частности, оппозиция видимого сквозь/ отраженного может интерпретироваться как оппозиция действительности/иллюзии, чужого/своего, внешнего/внутреннего»11 – все эти оппозиции поддаются истолкованию в парадигме двоемирия, когда один их член соответствует посюстороннему, а другой – трансцендентному миру; таково зеркало у Гоголя. Но зеркало можно представить и в качестве непрозрачного объекта, сквозь который мы не видим ничего (никакого «зазеркалья»), кроме такого отражения, которое выявляет черты, в обычной жизни нами не замечаемые, но всегда нам присущие. Таково кривое – выпуклое или вогнутое – зеркало. Именно с ним мы чаще всего сталкиваемся у Булгакова. Именно оно и порождает отражения карнавально-пародийного плана. В булгаковской драматургии есть только одно пространство, которое явным образом противостоит фантомному миру всеобщей карикатурности и «театральности». Это – пространство дома. В пьесе «Дни Турбиных» дом – подлинный центр бытового, экзистенциального и даже мирового пространства. За его стенами свирепствует война, разрушающая все, что обладает хотя бы самыми зыбкими очертаниями стен, углов, очага. В нем же сохраняется атмосфера уюта и стабильности. Ср.: «Жилище Турбиных изображено как особый мир не только с собственной топографией, но и с “собственным” временем, текущим медленнее, чем за стенами… Быт выглядит своеобразным воплощением мифологического времени11 Левин Ю. И. Избранные труды. – М., 1998. – С. 563. 142 143 пространства, и “растворение” в нем принципиально внеисторично»12. Любопытно, что Булгаков берет слово «дом» не в конкретно-предметном, а скорее в условно-мировоззренческом значении. Ясно, что семья Турбиных занимает лишь часть дома, т. е. квартиру, но их жилище воспринимается именно как дом. Ср., например: «Он принимает наш дом, т. е., пардон, дом твоих братьев и наш, за постоялый двор»; «Вообще, дом Турбиных произвел на меня самое приятное впечатление. Здесь, несмотря на все эти ужасные события, как-то отдыхаешь душой…»13 Дом больше, чем простое место обитания. Дом – это сфера такого существования, к которой как бы стянуты родственные человеку (творящие и сохраняющие жизнь) силы Вселенной. Это живой символ освоенного, возведенного в «собственность» пространства, целостный образ «космоса», модель антропомерного (т. е. соразмерного человеку) мира. «Дом и мир, – пишет Гастон Башляр, – не просто соседствуют в пространстве. Дом и мир взаимодействуют, обмениваясь импульсами…»14 Главное в доме – это его нераздельное, в буквальном смысле телесное единство с человеком (ситуация, когда между местом, в котором находится человек, и самим человеком нет дистанции): «В своей первичной реальности дом доступен зрению и осязанию. Он построен из ровно обтесанных камней, хорошо пригнанных балок. Прямая линия в нем господствует. Отвес отметил его знаком трезвости и уравновешенности. Казалось бы, такой геометрический объект должен сопротивляться метафорам человеческого тела и души. Однако транспонировка в человеческий регистр происходит сразу же, едва мы воспримем дом как пространство успокоения и сокровенности, пространство, призванное быть конденсатором и стражем сокровенности. Тогда, помимо всякой ра12 Яблоков Е. А. Художественный мир Михаила Булгакова. – М., 2003. – С. 200. 13 Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. – С. 41, 91. 14 Башляр Г. Избранное. Поэтика пространства. – М., 2004. – С. 55. циональности, открывается область ониризма»15 (курсив наш. – Н. Б.). Именно такое понимание дома мы встречаем у Булгакова. В этом отношении показательна типично «булгаковская» оппозиция дома и квартиры. Если дом Турбиных – действительно дом, т. е. пространство, которое онтологически неотделимо от человеческого существования, то жилище их соседа Василисы или Зойки из «Зойкиной квартиры» – именно квартира, представленная как место «проживания», как «жилплощадь», целиком внешняя по отношению к человеку, ее «занимающему». Квартира – ложный дом, в известном смысле, дом «наоборот». В «Мастере и Маргарите», например, «именно квартира становится сосредоточением аномального мира. Именно в ее пространстве пересекаются проделки инфернальных сил, мистика бюрократических фикций и бытовая склока»16. То же – и в пьесах, прежде всего, в «Зойкиной квартире». Здесь не происходит ничего «инфернального», однако «бытовая склока» со всеми ее последствиями (порой чудовищными) в высшей степени органична этому ущербному пространству. Дом с его бытийным статусом (обратным сугубо бытовой значимости квартиры) может быть осмыслен в категориях космического порядка. М. С. Петровский, например, сравнивает дом, в котором живут Турбины, с фольклорным вертепом: «Подобно кукольному вертепному дому, дом на Алексеевском спуске (речь идет о доме в романе «Белая гвардия», – это тот же дом, что и в «Днях Турбиных». – Н. Б.) разделен на два отсека по вертикальной оси – на “землю” внизу и “небо” наверху, причем Турбины оказываются “небожителями”, а отвратительный Василиса со своей тоже несимпатичной Вандой пресмыкается у них под ногами»17. Конечно, «небожительство» в данном случае – не простое следствие того, что 15 Башляр Г. Указ. соч. – С. 59. Лотман Ю. М. Семиосфера. – СПб., 1995. – С. 314–315. 17 Петровский М. С. М. Булгаков: киевские театральные впечатления // Русская литература. – 1989. – № 1. – С. 74. 16 144 145 турбинский дом располагается на этаж выше жилища Василисы. С мифопоэтическим «верхом» (светлым, позитивным уровнем бытия) его сближает другое, а именно те признаки имманентной «космичности» (или, более точно, антропокосмичности), о которых мы уже говорили. Что бы ни происходило, дом всегда причастен «небу», поскольку любой человек связывает с ним представление о вечном, неразрушимом (т. е. всегда равно реально присутствующем если и не наяву, то в памяти, в мечтах) мире, который является одновременно и началом, и конечным пределом всех жизненных скитаний. Таким образом, пространство абсурдной, сновиденческой реальности «уравновешивается» у Булгакова пространством дома. Оппозиция этих двух пространств с максимальной ясностью раскрывает сущность булгаковского двоемирия. Надо сказать, что для Гоголя тема (и проблема) дома тоже была актуальна. Как известно, одним из важнейших порождающих механизмов его художественного мира является оппозиция внешнего и внутреннего пространств, последнее из которых обычно (чаще всего – в период малороссийских повестей) предстает в форме дома или усадьбы. Например, в «Старосветских помещиках» домашний мир, при всей его затхлой неподвижности, все же противостоит эгоизму, взаимной отчужденности и разобщенности людей, т. е. всему тому, что свойственно именно внешнему (чужому и чуждому) миру. «…Поместье старосветских помещиков, – пишет Ю. М. Лотман, – и есть Дом с большой буквы. Обитатели его не считали пространство, ограниченное деревьями, плетнем, частоколом, галереей, поющими дверьми, узкими окнами, теплотой и уютом, одним из многих подобных гнезд (так смотрит автор), – все за пределами внутреннего мира есть для старосветских помещиков мир внешний, наделенный полностью противоположными их поместью качествами»18. Конституирующим элементом этого внутреннего пространства являются вещи. Привязанность к вещам, «очарованность» вещами у героев повести поистине невероятны. Обыч18 Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. – С. 268–269. ные предметы – стол, столовая утварь, шкап, кровать – своей привычной «родственностью», всегдашней близостью, неизменностью своего расположения вызывают к жизни то состояние дома, которое является существеннейшим определением «домашности» как таковой, – состояние уюта. По сравнению с уютом дома Турбиных, это – совсем иной уют. У Турбиных вещи позволяют сохранить, удержать теплоту, возникающую в отношениях между людьми, причем – не только принадлежащими к уже сложившемуся семейнодружескому кругу, но и приходящими извне (такими, как Лариосик). Здесь уют создается именно этими отношениями, а вещи составляют материальный субстрат и чисто функциональное «обрамление» его. В «Старосветских помещиках», напротив, уют порождается взаимодействием человека с вещами и опосредованно – с другим, непременно близким и родным человеком. Укорененность в вещах для этого патриархального мира первична; при ином состоянии вещей (скажем, при изменении их пространственного расположения или утрате привычного функционального назначения) уют разрушается. Можно сказать, что Гоголь воспринимает дом и атмосферу «домашности» сквозь призму вещи. На ней сфокусировано все его представление о тепле, уюте, тихом семейном счастье, замкнутых в границах внутреннего пространства. Гоголевский дом вырастает из вещи как ее «развертка», как мир, созданный по ее структурному «плану». Гоголь обладал совершенно уникальным чувством вещи. По словам В. Н. Топорова, «в русской литературе нет писателя, который в такой степени ощущал бы… окликнутость вещью, как Гоголь. Она переживалась им как нечто универсальное, постоянное, настоятельно-требовательное и была для него почти маниакальным состоянием, привязанным к пространствам России и русской песне как образу или душе этих пространств» (курсив наш. – Н. Б.)19. 19 Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. – М., 1995. – С. 33. 146 Если вещь действительно «окликает» человека, то она испытывает потребность в его отклике – потребность в нем самом как возможном устроителе и хранителе ее жизни. Переживая «окликнутость вещью», человек не может остаться в рамках спокойно-безразличного отношения к ней: «окликающая» вещь тревожит, заставляет слушать себя, включается уже не просто в сферу повседневного обихода, где она – всего лишь полезная или «служебная» вещь, а в эмпирически неочевидный горизонт человеческого бытия-в-мире. И если вещь способна «окликать», значит, у нее есть собственный голос. А собственный голос, в свою очередь, может свидетельствовать об онтологической самостоятельности его носителя. У Гоголя мера такой самостоятельности (самобытийственности) вещи чрезвычайно высока. Строго говоря, Гоголь никогда не описывает и даже не изображает вещь. Он, скорее, дает ей возможность свободно выразить себя, представляет ее читателю – именно так, как она предстает его собственному взгляду в своем самобытном, независимом и совершенно необиходном существе. В гоголевском мире каждая вещь имеет свой собственный масштаб, не совпадающий с масштабом других вещей. Когда установлена такая разность масштабов, оптическим центром изображения оказывается уже не глаз художника, а сама изображаемая вещь. Именно она задает порядок зримого пространства, определяет его метрические особенности, устанавливает его границы. Заметим, что в данном случае речь может идти только о собственном пространстве/месте вещи, но не о каком-то общем (сплошном и гомогенном) пространстве. Вещь выступает его порождающим началом, а оно, в свою очередь, оказывается как бы «разверткой» силовых энергий вещи. Но это значит, что любая картина, включающая в себя изображение более чем одного предмета, располагается в сложном – разноуровневом и разнокачественном – пространстве, увиденном как бы в «обратной перспективе». Таков у Гоголя способ построения внутреннего, «домашнего» пространства: оно конституируется вещами, каждая из 147 которых обладает своим собственным голосом и своим незаменимым местом в структуре мирового бытия. Однако в период создания основных гоголевских пьес это пространство как бы тускнеет в сравнении с пространством внешним, точнее – вселенским, безбрежным, открытым, «аннигилирующим» индивидуальность вещей. Речь идет о том пространстве, которое изображено в знаменитом отрывке из «Мертвых душ»: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства… <…> Открыто-пустынно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? <…> Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!» (V, 229–230; курсив наш. – Н. Б.). Михаил Вайскопф называет это бесконечное и пустое пространство «отрицательным ландшафтом», полагая, что его неоформленность, бескачественность, невыразительность отождествляются у Гоголя с чем-то вроде внешне «безвидного» платоновского царства идей, куда возносится колесница души: «…отрицательный показ бесконечной страны есть, одновременно, патриотический вариант негативной теологии, в которой искомый абсолют дается только через снятие любой локализующей данности – в данном случае, через отвержение европейского рельефа с его языческими соблазнами»20 . Негативная теология – это метод поиска Абсолюта за сферой его предметных манифестаций, метод восхождения к нему через ряд отрицательных (редуцирующих и как бы «опрозрачнивающих» все небожественное) определений. Воспринятое 20 Вайскопф М. Птица-тройка и колесница души. – М., 2004. – С. 228. 148 в таком ракурсе, пространство русских равнин оказывается пустыней, в которой нет ничего, но все еще только будет (так – в цитированном отрывке: и мысль еще когда-нибудь родится, и «богатырь» когда-нибудь «развернется и пройдется» по земле). Сама пустота бесконечной России оценивается здесь как предзнаменование ее столь же бесконечного насыщения духом подлинно христианской жизни; т. е. «пустыня» – это своего рода «нулевой» топос, исходное место, сквозь которое должно «прорасти» благодатное русское будущее. Пространство гоголевских пьес, несмотря на то что оно, как правило, замкнутое, «домашнее», является как бы частью этой пустой беспредельности. Оно так же пусто и скудно, как само пространство России. «Домашность» его оказывается, по существу, иллюзорной, как иллюзорны (или, по выражению Ю. Манна, «миражны») у Гоголя сюжетная интрига и, в известном смысле, сами персонажи. Дом Городничего, например, устроен совсем не так, как дом старосветских помещиков: признаки спасительной обособленности, стабильности, неизменности, столь характерные для усадебного быта, здесь очень слабо выражены. Этот дом – просто локальная форма проявления общей пустоты, причем о самой локальности в данном случае можно говорить лишь условно. Локальность требует более или менее строгой отграниченности объекта и его «места» от всего другого, наличия у них собственного способа пространственной организации, иначе говоря – структурной самостоятельности. В «Ревизоре» же все (лишь по видимости) локализованное выступает чем-то изоморфным общему пространству. Когда Городничий предлагает Хлестакову погостить у него, уверяя, что в его доме «есть прекрасная… комната, светлая, покойная» (IV, 37), то это не сулит никаких существенных изменений в положении Хлестакова. В доме Городничего просто комфортнее, чем в гостиничной комнате, но – не более. Это – не другое пространство, не тот мир спокойного, неподвижного уюта, который мы находим в малороссийских повестях и отчасти – в «Мертвых душах» (как дом Коробочки, по своей атмосфере напоминающий усадьбу Афанасия Ивановича и 149 Пульхерии Ивановны). Это зримое проявление извечной пустоты российского пространства, способной воплощаться не только в беспредельности наших «просторов», но также в формах городского и домашнего быта. Все, что связано с интимно-человеческим, незаместимо-индивидуальным пространством, здесь является простым обманом чувств. Именно поэтому мы не можем доверять нашему непосредственному видению (видится, по существу, то, чего нет), однако сама иллюзорность видимого создает возможность мистического предвидения «от противного»: в обмане открывается пустота, в пустоте – «пустыня» (с отчетливо религиозными коннотациями – «пустыня» как подобие монашеской «пустыни»), в глубине/подтексте «пустыни» – эсхатологически толкуемое будущее. Из сказанного можно заключить, что театральное пространство Гоголя и Булгакова строится по одной концептуальной схеме: есть два мира – мир пошлой, нелепой, фантасмагорической обыденности и чистый, предельно «антропомерный» мир идеала. Изображение первого по принципу «от противного» отсылает ко второму. У Гоголя первый мир тотален, в том смысле, что он охватывает собой всю эмпирически данную действительность (на самом деле – псевдо-действительность); мир идеала, напротив, всегда остается трансцендентным, т. е. вынесенным за границу эмпирического и никак не проявленным на уровне сценического действия. В художественной реальности Булгакова, строго говоря, нет ни трансцендентного измерения, ни отчетливого пути к нему, ни сколько-нибудь внятного стремления к нахождению этого пути. Отсюда сугубо «посюсторонняя» трактовка идеала – как такого образа мира, который может быть воплощен в пределах «здешней» действительности. *** Если пространство – это структура, задающая внешний порядок протекания каких-то процессов (действий, событий и т. д.), то время – внутренняя характеристика самих этих процессов, показатель их изменчивости или устойчивости, 150 151 обратимости или необратимости, континуальности или дискретности. Анализ художественного времени позволяет: а) точно определить позицию автора и его персонажей по отношению к прошлому, настоящему и будущему; б) понять природу событийности в той или иной художественной системе; в) прояснить экзистенциальное значение длительности; г) реконструировать инвариантную для данного автора модель изменчивости. Вначале – о времени в драматургии Гоголя. В целом гоголевское восприятие времени можно определить как негативное, часто даже враждебное. «…Неприятие времени, воля к его преодолению, – пишет М. Вайскопф, – носили у него не только “умышленный”, идеологический характер, но коренились в каких-то глубинных слоях его творческой личности, обретая выражение в самых разных произведениях, не связанных единой идеологической установкой»21. Неудивительно, что мотив быстротечности жизни, распада и тлена является у Гоголя по-настоящему сквозным. Он звучит уже в ранних произведениях, в противовес господствующему здесь карнавальному образу неумирающей жизни. Ср. в «Сорочинской ярмарке»: «Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо. Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело, и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему» (I, 37). Здесь же время представлено в образе «зловещего парикмахера», дополненном портретами старух, «на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы». В более поздний период гоголевский «антитемпорализм» (первоначально созвучный общим настроениям романтической эпохи) приобретает форму тяготения к ахронному, «пус21 Вайскопф М. Время и вечность в поэтике Гоголя. – С. 235. тому», как бы остановленному времени. Так, например, в «Записках сумасшедшего» временной порядок постепенно сменяется хаосом безвременности. Но если здесь безвременность (пусть даже сопряженная с безумием) еще может быть понята как показатель внутреннего «освобождения» от времени, то, например, в «Мертвых душах» она абсолютно бессмысленна и безблагодатна. В автокомментарии к поэме Гоголь отмечает: «Как пустота и бессильная праздность жизни сменяется мутною, ничего не говорящею смертью. Как это страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. Еще сильнее между тем должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни» (курсив наш. – Н. Б.)22. В «нетрогающемся мире» нет времени. Любое движение, любое действие совершаются здесь впустую, но – не потому, что они таковы ситуативно, в силу каких-то подлежащих изменению обстоятельств (каковые имел в виду Пушкин, когда говорил в «Евгении Онегине» о «современном человеке» «с его озлобленным умом, / Кипящим в действии пустом»), а потому, что они по природе своей подобны тому пустому, безжизненному миру, в котором нечему меняться, поскольку в нем никогда ничего не происходит. Время в этом мире подобно непрерывно возобновляющейся вспышке: оно рождается и тут же сгорает, затем рождается и сгорает снова, и так – до бесконечности. М. Вайскопф по этому поводу заметил, что образ рождения/сгорания времени отчетливо коррелирует с одной деталью в описании усадьбы Манилова: «На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядами. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени» (V, 33)23. Здесь также возможна аналогия с вещами в доме Плюшкина, точнее, с характерным для Плюшкина способом пользования вещами, которые приобретаются, 22 Гоголь Н. В. Сочинения / под ред. В. В. Каллаша. – Т. 4. – СПб., 1914. – С. 268. 23 См.: Вайскопф М. Время и вечность в поэтике Гоголя. – С. 248. 152 153 отыскиваются, где-то подбираются, однако, не находя никакого осмысленного употребления, превращаются в пустые, погибшие вещи. Цепь сгорающих мгновений не образует времени; внутри нее время не развертывается, а стоит. Это стояние нельзя сравнивать с неподвижностью так называемого «статического» времени (т. е. времени целостного, в себе завершенного, длящегося неэкстенсивно); скорее, оно подобно чему-то такому, что гаснет уже в точке своего начала, – неначинающемуся, как бы навсегда отложенному движению. События, которые все же происходят и имеют какую-то последовательность, иллюзорны, а участвующие в них субъекты – «мертвые души», театральные куклы, мнимо одушевленные механизмы. Так, по словам В. В. Розанова, в гоголевской поэме «совершенно нет живых лиц: это крошечные восковые фигурки, но все они делают так искусно свои гримасы, что мы долго подозревали, уж не шевелятся ли они. Но они неподвижны. <…> Все… передвигают руками и ногами, но вовсе не потому, чтобы хотели это делать; это за них автор переступает ногами, поворачивается, спрашивает и отвечает: они сами неспособны к этому. И это не потому, что они бессмысленны: бессмысленность – второе, что уже само собою вытекает из безжизненности»(курсив наш. – Н. Б.)24. В драматургии Гоголя мы сталкиваемся с той же безжизненностью и неподвижностью, что и в «Мертвых душах». Здесь так же «смерть поражает нетрогающийся мир», и так же господствует неподвижное время, в котором что-то происходит, но ничего не совершается. Что же происходит в этом времени? Если говорить о «Ревизоре», то его время наполнено событиями, пусть и немногочисленными, но все же значительными, масштабными. 24 Розанов В. В. Мысли о литературе. – С. 163. В таком духе писали о Гоголе многие; ср. у Г. Флоровского: «Он (Гоголь. – Н. Б.) изображает точно остановившиеся, застывшие, неподвижные лица – почти не лица, но маски… И верно было замечено о Гоголе, что видит он мир под знаком смерти, sub specie mortis…» // Флоровский Г. Пути русского богословия. – Киев, 1992. – С. 261. Появление мнимого ревизора нарушает спокойную, сонную, бессобытийную жизнь провинциального города. Как писал М. М. Бахтин, «такой городок – место циклического, бытового времени. Здесь нет событий, а есть только повторяющиеся “бывания”. Время лишено здесь поступательного исторического хода, оно движется по узким кругам: круг дня, круг недели, месяца, круг всей жизни»25. Но появился «ревизор», и течение времени изменилось: «цикличность оказалась взорванной, события пошли по возрастающей линии, возникла история…»26 Это историческое (по форме) время захватывает всех жителей города. В вегетативный ритм быта вторгается «большая», не просто общегосударственная, но, некоторым образом, и космическая жизнь с теми ее проблемами и загадками, которые до этого момента как бы еще не прояснились в сознании персонажей. Сквозь блеклую предметную ткань жизни всеми забытого города (вспомним: «Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь») проступает пугающий и одновременно манящий Петербург, а вместе с ним высвечивается и вся Россия. Время «спрямилось» – в том смысле, что все, происходившее в ритме бессвязных повторений, сдвинулось в сторону своего финального разрешения, свершения, раскрытия. Возникла цепь причинно-следственных зависимостей: определенные поступки действующих лиц должны были раскрыться здесь как причина данного «положения вещей», но – не просто раскрыться, а быть оцененными по «макроисторическим» (и даже метаисторическим, т. е. нравственно-религиозным) критериям. Но вот вопрос: чем разрешается (завершается) история в «Ревизоре»? – Ничем. Точнее, немой сценой. «Немая сцена, венчающая “Ревизор”, – пишет исследователь, – есть как бы застывшее в изваяниях психологическое состояние действующих лиц (ужас, растерянность и пр.); и наряду с этим немая 25 26 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – С. 396. Манн Ю. Поэтика Гоголя: Вариации к теме. – С. 392. 154 155 сцена словно аккумулирует в итоговом смысле, доводит до статического предела предшествовавшую ей суматошную мобильность суетных персонажей; она – сумма и воплощение накопленных движений» (курсив наш. – Н. Б.)27. Если динамика пьесы «суммировалась» в немой сцене, то ее (пьесы) действие либо изначально не было реальным (неиллюзорным), либо это было такое действие, которое образовано противонаправленными силами, в какой-то момент «аннигилировавшими» друг друга. Предполагать наличие в самом сюжете каких-то борющихся сил, на наш взгляд, нет оснований: действие «Ревизора» построено на сочетании относительно однородных, качественно друг другу тождественных, хотя и, как верно отмечает М. Вайскопф, «суматошно» перепутанных динамических линий – линий, порожденных одной и той же энергией обмана (имеется в виду не только обман осознанный, как у Городничего и других чиновников, и не только относительно «невольный», как у Хлестакова, но такой, который является как бы независимым от человека «порождающим механизмом» этой псевдодействительности). Если в пьесе реального движения не было, а было только его иллюзорное подобие, то немая сцена – это подлинный интенциональный предел всего происходящего и, кроме того, зримое выражение истинного (не искаженного обманом) состояния гоголевского мира. Она не просто разыгрывается в финале пьесы, но составляет скрытое содержание всего действия, проступает в каждом его мгновенном срезе, т. е. буквально во всех планах, взятых раздельно. Она – во всем, и все – это она, представленная в оболочке мнимой жизненности. Когда сброшена эта оболочка, более ничего уже не может произойти, и мы видим, что перед нами – «нетрогающийся мир» с неподвижными персонажами, с остановившимся, а точнее, никогда не начинавшимся временем. Мы понимаем, что все события «Ревизора» – не что иное, как постепенная материализация немой сцены. 27 Вайскопф М. Время и вечность в поэтике Гоголя. – С. 237. Таким образом, размыкание круга цикличности и включение провинциального быта в историческое время приводит к выявлению имманентной пустоты жизни, ее статичности и, следовательно, ахронности. Реального, осмысленного, продуктивного времени в «Ревизоре» нет. Ощущение распада и остановки времени порождается здесь, по крайней мере, двумя обстоятельствами. Первое – подмена действительности некоей идеальной иллюзией. Жизнь, которую изображает Хлестаков за ужином у Городничего, – это жизнь, о которой он может только грезить, мечта, не имеющая ничего общего с реальностью; и, как всякая мечта, она вневременна. Управление департаментом, арбуз в семьсот рублей, пар от супа, «которому подобного нельзя отыскать в природе», «тридцать пять тысяч одних курьеров» – для Хлестакова это символы вечного (поскольку идеального) счастья. Вечное заслоняет временное, вытесняет его, утверждается на его месте. Показательно, что Хлестаков в своих фантазиях использует, главным образом, настоящее время: «Я ведь тоже балы даю»; «Да, и в журналы помещаю»; «О! я шутить не люблю» и т. п. В данный момент он живет этой вневременностью, его переживаемое настоящее возвышается над течением эмпирических событий. И не важно, что в следующую минуту он может почувствовать себя совсем другим (включиться в другую роль)28, – важно, что сейчас он освободился от власти времени. Так же и Городничий. После сватовства Хлестакова генеральство для него – не просто мечта, но как бы уже переживаемое состояние. Ср.: «Да, хорошо, когда ты был городничим; а там ведь жизнь совершенно другая». Нынешняя должность Городничего уже в прошлом; хотя «другая жизнь» еще не началась, она уже в какой-то мере проживается, от28 Ср. у Ю. М. Лотмана: «Хлестаков каждую минуту как бы рождается заново. Он чужд всякого консерватизма и традиционализма, поскольку лишен памяти. Более того, постоянное изменение составляет его естественное состояние. Это закон его поведения, и когда он объясняется в любви, и когда он мгновенно переходит от состояния затравленного должника к состоянию вельможи…» // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. – С. 307. 156 157 меняя тусклое настоящее и перенося героя пьесы в царство свершившегося, завершенного времени. Другой показатель ахронности действия в «Ревизоре» отмечен М. Вайскопфом; это – рассогласованность причинноследственных связей. Мы привыкли отождествлять последовательность событий с их каузальной зависимостью друг от друга: одно событие выступает причиной другого, другое – третьего и т. д. Нарушение причинного порядка обычно воспринимается как «деформация» времени. Так происходит, например, в тех случаях, когда причина и следствие меняются местами, например в движении от еще не совершенного поступка к наличной ситуации (от будущего к настоящему, т. е. от следствия к причине): «Городничий. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы? Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!» Почтмейстер объясняет свое поведение тем положением вещей, о котором он узнал только после прочтения письма, но которое выглядит как оправдание этого поступка, т. е. как обстоятельство, к нему (поступку) побудившее29. Ср. также случай «стягивания» будущего к настоящему в «Женитьбе»: «Подколесин. Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце… только я хотел бы прежде знать, не покажется ли оно вам странным? Агафья Тихоновна. Что же такое? Подколесин. Нет, сударыня, вы скажите наперед: не покажется ли вам странно? Агафья Тихоновна. Помилуйте, как можно, чтобы было странно, – от вас все приятно слышать. Подколесин. Но этого вы еще никогда не слышали» (IV, 153). Возможна здесь и такая ситуация, когда причина элиминируется (стирается, сводится к нулю) при наличии следствия; так происходит, например, в «Женитьбе»: «Кочкарев. …Да зачем вам жениться? Жевакин. Как зачем? вот, позвольте заметить, странный немножко вопрос! А известное дело зачем» (IV, 142). Взаимоналожения времен, перепутанность причин и следствий, ситуации типа «будущее без настоящего» и «насто29 См.: Вайскопф М. Время и вечность в поэтике Гоголя. – С. 249–250. ящее без будущего» – все это лишний раз свидетельствует о том, что гоголевский мир не знает времени (или, по крайней мере, тяготеет к его незнанию)30. Ясно, что так понятая вневременность должна противостоять иной темпоральной ситуации, – приблизительно так же, как сюжетное пространство у Гоголя противостоит пространству «истинному», онтологически подлинному. Как мы уже выяснили, антагонизм этих пространств не может быть прямым (непосредственным), поскольку все онтологически подлинное, в силу его трансцендентности «здешнему» миру, практически неизобразимо. Поэтому он опосредован пространством сцены (собственно актерской игры). В порядке аналогии можно утверждать, что отношение ахронности и «истинного времени» опосредуется временем сцены, т. е. тем временем, в котором последовательно раскрывается сущность «нетрогающегося мира». Теперь – о времени в драматургии Булгакова. Его специфика во многом определяется историософской и эсхатологической ориентированностью мировосприятия писателя. Б. М. Гаспаров отмечает, что у Булгакова «мы сталкиваемся с незамкнутостью действия, с идеей “кануна”, не находящей окончательного и однозначного разрешения»; в булгаковских произведениях звучит «пророчество о гибели, которое одновременно и сбылось, и сохранило свою актуальность на будущее – так сказать, конец света, не имеющий конца»31. Ср. также у Е. А. Яблокова: «Эсхатологизм мироощущения Булгакова очевиден; его излюбленная тема – “конец света”, куль30 Указанные моменты отчасти сближают комедии Гоголя с европейским театром абсурда. Как показали в свое время О. Г. Ревзина и И. И. Ревзин, абсурдное действие строится путем систематического игнорирования «постулата нормального общения», важнейшим модусом которого выступает принцип детерминизма (всякое следствие должно восходить к своей причине). См.: Ревзина О. Г., Ревзин И. И. Семиотический эксперимент на сцене (Нарушение постулата нормального общения как драматургический прием) // Труды по знаковым системам. – Т. 5 : Ученые записки Тартуского госуниверситета. – Вып. 284. – Тарту, 1971. 31 Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы : Очерки русской литературы XX века. – М., 1994. – С. 49, 56. 158 159 турно-исторический крах, подобный тектоническому разлому, смена культурной парадигмы»32. Ситуация перехода от одной эпохи к другой, жизнь в некоем историческом «междумирии», когда старое уже перестало существовать, а новое еще не сформировалось – вот основной предмет художественной рефлексии как в прозе, так и в драматургии Булгакова. Состояние «междумирия» пережито самим писателем, и поэтому все его произведения в той или иной мере автобиографичны: «О ком и о чем бы ни писал Булгаков, на первом плане он сам. Даже когда к числу персонажей принадлежат Христос и Дьявол, все же автор занят, прежде всего, тем, что произойдет с ним самим. Его романы при множестве персонажей моноцентричны»33. При такой значимости автобиографического элемента художественное время неизбежно приобретает экзистенциальную окраску. «Конец мира», словно бы растянутый в «междумирии», переживается как происходящий не только вовне, но и внутри, в сознании автора. Положение «между» при этом не является чисто внешней позицией, при которой человек способен сохранять целостность и определенность своего бытия; оно характеризует само это бытие: временной раскол оказывается данностью внутренней жизни. Что это значит – быть в ситуации «междумирия»? Это значит – не чувствовать принадлежности ни к ушедшей, ни к наступившей эпохе, не переживать наличное временное состояние как исторически позитивное. «Междумирие» – катастрофа, перелом (или, по-гамлетовски, «вывих») времени. Продолжительность этого перелома, его неразрешимость в обозримом будущем создает ощущение некоего «бесконечного конца», очевидным выражением которого является деонтологизация (расшатывание, размывание) привычного жизненного порядка. Не важно, что сама жизнь может казаться вполне стабильной, комфортной, безопасной: сквозь ее внешнее 32 Яблоков Е. А. Указ. соч. – С. 90. Иванов В. В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. – Т. 2. – М., 2000. – С. 603. 33 благообразие просвечивает пустота и, как показатель пустоты, безвременье. Эта жизнь лишь по видимости реальна; на самом деле она – иллюзия, небытие, мираж или, лучше сказать, театральное представление, способное прерваться в любой момент, но длящееся только в силу какой-то нелепой инерции. Как уже отмечалось, в мире Булгакова жизнь – это театр. Думается, саму «театральность» этой жизни следует понимать как синоним нереальности или полуреальности, т. е. такого состояния, которое, не будучи в полном смысле существованием, представляет собой лишь его (существования) подобие. Непонятно, какие силы управляют этим миром, кто «режиссирует» эту драму, кто ее автор. Неясно, где ее начало, когда следует ждать ее конца; сами «актеры» чаще всего не сознают, что они только исполняют навязанные им роли, «разыгрывают» собственное бытие. В этой ситуации (ситуации незнания) жизнь становится непредсказуемой; события начинают развиваться не по разумным законам, а в соответствии с принципом «все возможно». Неудивительно, что атмосфера фантасмагории характерна для подавляющего большинства булгаковских произведений, даже для тех, в которых отсутствуют ярко выраженные абсурдистские и фантастические элементы. Абсурдно все то, что выходит за пределы привычного хода событий, – например, приключения героя «Дьяволиады». Но для Булгакова, как и для Гоголя, имманентно абсурдной (что в данном случае значит: онтологически неполноценной) является также простая обыденность, мир повседневной жизни. В формировании булгаковского мира основная роль принадлежит взаимодействию полярно противоположных сил – условно говоря, сил «быта» и «бытия». Понятийным эквивалентом первого может служить время, второму же приписывается свойство вневременности. Поскольку все, относящееся к «быту», не обладает подлинным существованием, а только на театральный манер «изображает» таковое, постольку и время здесь является ущербным, «неантропомерным», деструктивным. Как пишет Е. А. Яблоков, время у Булгакова «предстает как состояние гносеологического (и, соответственно, этического) дискомфорта; искомое единство человека 160 161 с миром – не пантеистическое “растворение”, а обретение гносеологической уверенности в себе, успешная самоидентификация… Соответственно, вечность, рассматриваемая с “внутренней”, личностной точки зрения, – это состояние тождества субъекта объекту»34. Несмотря на перегруженность философской терминологией (слишком часто соблазняющей литературоведов), это суждение понятно: речь, вообще говоря, идет о том, что время не позволяет человеку достичь единства с самим собой, а вечность, напротив, дает ему ощущение устойчивой связи с его собственными эмпирическими состояниями. Способность разрушать целостность человеческого «я» – наиболее очевидное свойство эмпирического времени, вызванное тем, что время само нецелостно. «Время нашей мировой действительности, – писал Н. А. Бердяев, – время нашего мирового эона есть время разорванное; оно есть время дурное, заключающее в себе злое, смертоносное начало, разбитое на прошлое, настоящее, будущее. Время не только разорвано на части, но одна его часть восстает против другой. Будущее восстает на прошлое, прошлое борется против истребляющего начала будущего»35. В таком времени человек действительно обречен на дискретное, дробное существование. Он – не «я», равное самому себе («я» всегда вневременно), а, скорее, калейдоскоп непрерывно сменяющих друг друга двойников, ряд отражений мнимого, призрачного единства. Во многом именно с таким переживанием времени связана мнимость «бытовых» персонажей Булгакова. Если человек не обладает целостным «я», то, в известном смысле, 34 Яблоков Е. А. Указ. соч. – С. 114. Бердяев Н. А. Смысл истории. – М., 1990. – С. 54–55. Ср. в «Самопознании»: «Наибольшее противление у меня вызывает всякая объективация ада и всякая попытка построить онтологию ада, что и делают традиционные богословские учения. Я вижу в этом догматизирование древних садических инстинктов человека. У человека есть подлинный опыт адских мук, но это лишь путь человека и лишь пребывание в дурном времени, бессилие войти в вечность, которая может быть лишь божественной» (курсив наш. – Н. Б.) // Бердяев Н. А. Самопознание. – М., 1991. – С. 265. 35 он и не существует. В этой ситуации право подлинного существования нередко «передается» тем структурам, которые призваны служить его знаковыми репрезентантами – телу, должности, имени. Означающее как бы лишается означаемого и начинает жить собственной жизнью. Так, например, в «Дьяволиаде» за фамилией Кальсонер скрываются абсолютно разные персонажи, однако сама фамилия воспринимается как принадлежащая одному человеку, точнее, выступает некоей вполне «объективной» (самостоятельной, автономно «живущей») сущностью. Подобным же образом Коровьев в «Мастере и Маргарите» напрямую связывает существование и несуществование Алоизия Могарыча с наличием или отсутствием записи (имени) в домовой книге: «Нет документа, нет и человека, – удовлетворенно говорил Коровьев, – а это – домовая книга вашего застройщика? <…> Кто прописан в ней? Алоизий Могарыч? – Коровьев дунул в страницу домовой книги, – раз, и нету его, и прошу заметить – не было. А если застройщик удивится, скажите, что ему Алоизий снился. Могарыч? Какой такой Могарыч? Никакого Могарыча не было»36. Ср. здесь же ситуацию «замещения» исчезнувшего председателя зрелищной комиссии его костюмом: «За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстуке, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук»37. Если знак способен существовать обособленно от обозначаемой реальности, то, значит, проблема существования/ несуществования может решаться в пределах знаковой сферы как таковой. Показателен в этом смысле следующий диалог персонажей «Зойкиной квартиры»: «Зоя. <…> Меня дома нет. Аллилуя. Так вы ж дома. 36 Булгаков М. А. Романы: Белая гвардия, Театральный роман, Жизнь господина де Мольера, Мастер и Маргарита. – Кишинев, 1990. – С. 686. 37 Там же. – С. 607. 162 163 Зоя. Нет меня. Аллилуя. Дома ж вы. Зоя. Нет меня. Аллилуя. Довольно-таки странно. <…> Зоя. Меня нет. Умерла Пельц. Больше с Пельц разговоров нету»38. Аллилуя, конечно, не верит Зое, однако неверие это выглядит каким-то слабым, неустойчивым. Дело в том, что слово здесь, как и вообще в «бытовом» мире Булгакова, способно выступать не только свидетельством существования, но и его носителем. Слово, речь, языковая (знаковая) реальность в широком смысле – это и есть само существующее; то, что относится к миру вне языка, таким статусом не обладает. Любопытно, что некоторые фабульно значимые персонажи у Булгакова живут только в языковом представлении – как мифы. Таков, например, Петлюра в «Днях Турбиных»: «Алексей. <…> Знаете, что такое этот ваш Петлюра? Мышлаевский. Пакость порядочная. Алексей. Это не пакость. Это страшный миф. Его вовсе нет на свете. Это черный туман, мираж. Гляньте в окна. Посмотрите, что там видно. <…> Там тени с хвостами на головах и больше ничего нет»39. То же – и в «Белой гвардии»: «Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф, столь же значительный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый»40. В «подтексте» последнего примера можно усмотреть отсылку к своеобразному «мифу» о Чичикове в «Мертвых душах»: Петлюра так же мифологизирован общественным мнением, как и Чичиков, и он так же не существует в реальности, как не существует и Чичиков-Наполеон или ЧичиковАнтихрист. Миф у Булгакова живет в мире разноречия, он многоименен и многолик, хотя свидетельствует как будто бы об од38 Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. – С. 163, 165. Там же. – С. 51–52. 40 Булгаков М. А. Романы… – С. 71. 39 ном и том же лице. Особенность его состоит в том, что это лицо, как правило, вынесено за скобки мифа, в некую «нулевую» реальность. Миф поэтому замещает личность; множество имен и лиц заслоняют собой одно имя и единственное лицо. Иначе и не может быть в условиях господства «бытового» времени. В этом смысле показательно нежелание героя «Мастера и Маргариты» обладать именем. «Я – мастер, – он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой «М». <…> У меня нет больше фамилии, – с мрачным презрением ответил странный гость, – я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней» (курсив наш. – Н. Б.)41. Отказаться от имени – то же самое, что отказаться от места в мире враждебной творчеству обыденности; это означает также отвергнуть существование в качестве знака отсутствующей личности42. Кроме того, человек, отказавшийся от имени, отказывается и от бытия во времени, точнее, от власти времени над собой. Это жест, перемещающий «я» в область неиллюзорной (как, скорее всего, считает Булгаков) самоидентичности, а следовательно, вытесняющий его из деструктивного временного порядка. Конечно, нельзя сказать, что одно 41 Булгаков М. А. Романы… – С. 566. Здесь возможна параллель с ранней прозой Андрея Белого (прежде всего, с «Симфониями»), где также затрагивается проблема «истинного» и «неистинного» существования. Эта проблема осмыслена здесь в призме многозначной символики зеркала. Ср.: « “Зеркало” – символ разрушения единства, начало “двойничества”. Ни один герой в “симфониях” не тождествен себе, каждый “затерян” среди собственных зеркальных подобий. “Зеркальный” мир отрывает человека от его сущности, отражение замыкается на себе, забывая о том, отражением чего оно является, не имея возможности прорваться к своему прообразу. Человек превращается в калейдоскоп сменяющих друг друга и не знающих себя двойников» ( Быстров Н. Л. О символике зеркала в «Симфониях» Андрея Белого // Дергачевские чтения – 2004. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. – Екатеринбург, 2004. – С. 228). Любопытно, что люди, увиденные в качестве «зеркальных отражений», оторвавшихся от своего «оригинала», в Третьей симфонии названы «усталыми знаками» // Белый А. Симфонии. – Л., 1991. – С. 174. 42 164 165 только нежелание называться по имени уничтожает время и заменяет его некоей благотворной, спасительной «вневременностью». Нет, такое нежелание лишь направляет «я» в сторону от времени, указывает путь освобождения от него. Само по себе оно еще не достигает «вневременности», однако, безусловно, является ее предпосылкой. Во всяком случае, можно утверждать, что «безымянное» «я» внутренне – уже вне времени. В этом отношении интересен булгаковский мотив душевной болезни, точнее, такого психического расстройства, которое чаще всего сопровождается чем-то вроде раздвоения личности. По точному замечанию Е. А. Яблокова, шизофрения в «Мастере и Маргарите» – это «болезнь не столько “медицинская”, сколько философская»43. Шизофреническая раздвоенность может быть понята как проявление нецелостности субъекта во времени, как симптом его неспособности обрести самоидентичность, быть тождественным самому себе. Причем болезнь эта поражает лишь тех, кто, сознательно или бессознательно, чувствует неудовлетворенность наличным бытием. Мастер не просто тоскует по миру без Латунского и Аримана, он тяготится самой обыденностью. Даже если бы он не пострадал от гонений со стороны официальной критики, то все равно не смог бы удовлетвориться жизнью, не достиг бы внутреннего согласия (единства) с собой. Такое единство, согласно общей концепции «Мастера и Маргариты», достигается лишь за гранью эмпирического времени. Аналогами шизофренической раздвоенности выступают случаи своеобразной «потерянности» во времени или внезапной утраты чувства реальности (когда эта последняя оказывается неотличимой от миража, наваждения, сновидения). Ср., например, следующий диалог Голубкова с Корзухиным в четвертом действии «Бега»: «Голубков. <…> Значит, вы отказываетесь от живого человека! Но ведь она же ехала к вам! Помните, ее арестовали? Помните, мороз, окна, фонарь – голубая луна? Корзухин. Ну да, голубая луна, мороз… Контрразведка уже пыталась раз шантажировать меня при помощи легенды о какой-то моей жене-коммунистке. Мне неприятен этот разговор, господин Голубков, повторяю вам. Голубков. Ай-яй-яй! Моя жизнь мне снится! Корзухин. Вне всяких сомнений» (курсив наш. – Н. Б.)44. Ироническое восклицание Голубкова тем более оправдано, что вся его жизнь похожа на сон, превращающий бывшее – в небывшее, знакомое – в неизвестное, реальное – в иллюзорное. В этом смысле «моя жизнь мне снится» – не только фигура речи, но и констатация истинного положения вещей, самосвидетельство «больного» сознания. Жизнь именно снится, и она может быть забыта, как забываются сны; ср. диалог Серафимы и Голубкова в финале пьесы: «Серафима. Что это было, Сережа, за эти полтора года? Сны? Объясни мне. <…> Я хочу все забыть, как будто ничего не было. Голубков. Ничего, ничего не было, все мерещилось! Забудь, забудь!»45 (Показательно, что именно после этой сцены забили часы «на вертушке», до этого долго молчавшие, как будто время только началось – подлинное, «настоящее» время, вызванное к существованию совсем не иллюзорной надеждой на новую жизнь.) О значении снов в творчестве Булгакова довольно много написано. «Резкая характерность художественного мира Булгакова, – отмечает В. В. Химич, – во многом связана с пристрастием писателя к определенным, многократно повторяющимся приемам, основанным на “ложном способе” употребления чудесного. Среди них – форма “сна”, неизменно проявляющаяся и в первых рассказах, и в больших романах на протяжении всего творчества»46. Сон – одна из константных форм существования в булгаковском мире. При всей своей многозначности, он свидетель44 43 Яблоков Е. А. Указ. соч. – С. 114. Булгаков М. А. Пьесы 20-х годов. – С. 286. Там же. – С. 294. 46 Химич В. В. Указ. соч. – С. 97. 45 166 167 ствует об одном – об абсурдной неразличимости реального и ирреального, т. е. о таком состоянии, в котором истина и ложь, действительность и наваждение перепутаны и нет никакой возможности отделить одно от другого. «Жизнь есть сон», но – исключительно в обыденном, повседневном ее измерении. Сон теснейшим образом связан с «бытовым» временем, он родствен самому временному движению, стирающему границы, размывающему формы, скользящему сквозь тела и вещи, бесконечно изменяющему все, что находится в его власти. В известном смысле сон и время – синонимы: и в том и в другом жизненный порядок отличается крайней неустойчивостью. Показателен в этом смысле мотив бессонницы – «некий минус-прием, знак предельной встревоженности, вздернутости человеческой души, ее несогласия с законами обесчеловеченного мира»47. Бессонница – это антипод сна и, следовательно, форма противостояния времени. Бессонницей страдает Пилат в романе Мастера, ею же мучается во время полнолуния вышедший из больницы Иван Бездомный. И сам Мастер не спит, терзаемый светом луны, когда он «с лунного балкона» впервые входит в палату к своему соседу. Не спит Хлудов в «Беге» (Серафима два месяца «слышит по ночам его бормотание»); не спят, собираясь вместе ночами, герои «Дней Турбиных»; не спит, посвящая ночи творческому труду, главный герой «Жизни господина де Мольера»; не спит Максудов из «Театрального романа». Не спят все те, кто внутренне переместился из «бытового» в «бытийное» время (пусть даже оно и не реализуется во внешне-эмпирическом плане). Но если пустое, деонтологизированое бытовое время (оно же, только в предельно проявленной форме, есть время «междумирия») можно оценивать только негативно, то какая темпоральная позиция в произведениях Булгакова выступает если не идеальной, то, по крайней мере, оптимальной? Очевидно, это должно быть такое время, которое органично 47 Химич В. В. Указ. соч. – С. 116. порядку не столько «быта», сколько «бытия». А «бытию» у Булгакова, как уже было сказано, в самой высокой степени соответствует дом или «одомашненное» пространство (ср. определения дома, данные в предыдущем разделе статьи: живой символ освоенного, т. е. ставшего «своим», пространства, целостный образ «космоса», модель максимально антропомерного мира). Значит, «бытийственное» время – это, условно говоря, время дома. Каковы его особенности? Чем оно отличается от времени обыденного? По каким признакам мы можем прояснить его принадлежность к «бытийному» плану булгаковского мира? Попытаемся ответить на эти вопросы. Прежде всего надо отметить, что в атмосфере дома у Булгакова время кажется неподвижным. Это не значит, что оно совсем не длится (время не может не длиться, длительность – его имманентное свойство); это значит, скорее, что оно длится неэкстенсивно. «Малое пространство дома Турбиных, – пишет Н. И. Великая, – хранит привычную прочность быта. <…> Это, отгороженное стенами, пространство вмещает в себя вечное – бессмертные творения искусства, века культуры. Время материализовано в нотах музыкальных шедевров, в бессмертном “Фаусте”, в “Капитанской дочке”, в “Саардамском плотнике”. Вечное, замкнутое в малом пространстве дома, противостоит времени историческому, преходящему, сумятице жизни, которая охватила большие просторы России и содержит в себе опасность разрушения вечных ценностей»48. Понятно, что сама по себе «привычная прочность быта» не может быть носителем необыденного времени. Необходимо, чтобы эта «прочность» была включена в контекст того особого мироощущения, которое имеет не «бытовое», а «бытийственное» основание. Равным образом и произведения культуры, заполняющие пространство дома, только в том случае способны генерировать атмосферу недеструктивного, статичного времени (или, в традиционных терминах, «вечного 48 Великая Н. И. «Белая гвардия» М. А. Булгакова: Пространственновременная структура произведения, ее концептуальный смысл // Творчество Михаила Булгакова. – Томск, 1991. – С. 39. 168 169 настоящего»), когда при их активном посредстве человеческое бытие возвышается над бытом. Будучи простыми предметами обладания (вещами среди вещей), они не могут играть такой роли. Их миросозидательная энергия должна быть актуализирована в повседневности живущего ими человека. Думается, что вовсе не «бессмертные» произведения конституируют пространство булгаковского «дома». Здесь на первом плане – не культура в ее «высоком» измерении, а скорее экзистенциальная близость любящих друг друга, душевно родственных друг другу людей. Она важнее, «первичнее». Она «материализуется» в чем-то таком, что значимо для человека на «докультурном», витальном, телесно-чувственном уровне, по отношению к которому «Саардамский плотник» и прочее – проявления гораздо более сложной и, в известной мере, искусственной (хотя и не отвергаемой ни автором, ни его персонажами) жизни. Это, конечно, знаменитые «кремовые шторы» из «Дней Турбиных»: «Господа, кремовые шторы… за ними отдыхаешь душой… забываешь об ужасах гражданской войны. А ведь наши израненные души так жаждут покоя <…> Кремовые шторы… Они отделяют нас от всего света»49. Ср. также в «Белой гвардии»: «Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен». (В. Баранов предположил, что этим высказыванием, а по существу, императивом или даже сжатой «формулой» булгаковского «домашнего» мира писатель выразил свое отношение к восприятию подобных вещей как символов «мещанского», мелкобуржуазного быта50.) Взятые сами по себе, эти простые вещи абсолютно нейтральны к атмосфере дома. Но, будучи включенными в порядок, устанавливаемый человеческими отношениями, они приобретают свойство антропомерности, т. е. становятся «соразмерными» человеку как в чисто психологическом, так и в мировоззренческом плане. Что может быть обыденнее штор и аба49 Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. – С. 122. См.: Баранов В. Сюжетно-композиционные особенности советского романа 1920-х годов. – М., 1972. – С. 78–79. Речь здесь идет в основном о «скрытой полемике» Булгакова с оценкой быта в «Рукописи, найденной под кроватью» А. Н. Толстого. 50 жура? С другой стороны, что может быть привычнее и ближе? Что для человека может быть органичнее вещи – любой вещи, независимо от того, какое место ей отводится в иерархии ценностей? Вещь – это не просто «объект», «предмет» или «явление». В самом существе вещи всегда живет нечто большее, чем ее прагматическая функция. В нем живет и через него «просвечивает» мир. Так, например, Хайдеггер говорил, что всякая вещь объединяет в совместном бытии людей (поскольку она служит человеку), богов (поскольку она хранит в себе память о служении богам), землю (так как она физически связана с землей) и небо (поскольку земля неотделима от неба). «Вещь дарит пребывание четверице. Вещью веществится мир. Всякая вещь дает пребыть четверице как пребыванию – здесь и теперь – одно-сложности мира»51. В данном случае «односложность» есть единство в сложности, т. е. единство самостоятельных начал, высветивших посредством вещи свою собственную сущность. Хайдеггер полагает, что только в «вещественности вещи» достигают устойчивого, незыблемого пребывания четыре элемента, конституирующие мир, и вместе с ними сам мир открывает себя как пребывающую и соразмерную человеку «одно-сложность». Вещи булгаковского быта обнаруживают ту же «погруженность» в мир и одновременно «наполненность» миром. Поэтому ни абажур, ни «кремовые шторы» не могут быть здесь объектом пренебрежительного отношения. В них «пребывает» мир, а если мы всерьез можем говорить о «пребывании», то, значит, в этих вещах время как бы останавливается, вернее, идет по некоему внутреннему (т. е. внутри его прочерченному) кругу – кругу полноты человеческого бытия. Интересно, что Тальберг – персонаж, совсем не органичный дому Турбиных, – на протяжении всего первого разговора с Еленой непрерывно следит за временем: «Что теперь будет. Гм… Половина десятого. Так-с… Что теперь будет? <…> Лена. Мне сейчас нужно бежать. <…> В Берлин. Гм… Без двад51 Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993. – С. 325. 170 171 цати девяти десять. <…> Дорогая моя, не «хочу», а иначе не могу! Пойми, катастрофа! Поезд идет через полтора часа. <…> Елена, Елена, Елена! Я не узнаю тебя. Вот плоды общения с Мышлаевским! Замужняя дама, изменить! Без четверти десять! Я опоздаю!» (курсив наш. – Н. Б.)52. В образе Тальберга, считающего время, в турбинский дом словно бы вторгается мир рассудочных, расчетливых и прагматичных чужих. И это вовсе не мир истории, не то, что исследователи Булгакова обычно называют «большим временем». Булгаковская история – это стихия; как таковая, она хаотична, лишена конкретных измерений и, следовательно, сама для себя неизмерима, непостижима рационально. Тальберг – персонификация той псевдореальности, которая равно чужда и «малой вселенной» дома, и «большому времени» истории. О Тальберге мы знаем очень мало, однако тех нескольких штрихов, которыми его обрисовал Булгаков, вполне достаточно, чтобы составить о нем целостное представление. Для него тоже важнее всего то, что называют «течением событий» – именно течением, внешним (экстенсивным), подлежащим счету и планированию движением. Вероятно, и вещи воспринимаются Тальбергом прежде всего как носители функций, погруженные в текучее время и оттого способные «забывать» своих исконных владельцев (вещь, понятая функционально, всегда есть не более чем объект владения). Ясно, что при таком взгляде «место» не обладает экзистенциальной «весомостью», т. е. не связано раз и навсегда с единственным и уникальным существованием человека. Внешним образом «обжитое» место, как только оно покинуто, ускользает, «течет», оттесняется в прошлое, становится прошлым. И это прошлое уже не присутствует в настоящем, но исчезает. Вместе с ним в потоке непрестанного исчезновения течет и сама жизнь. Подобная восприимчивость к экстенсивному движению жизни не характерна для «ближнего круга» семьи Турбиных. Специфически «турбинское» чувство бытия как бы выхватывает реальность из времени, утверждает ее в некоем не52 Булгаков М. А. Пьесы 1920-х годов. – С. 116–117. прерывно длящемся, «вечном» мгновении. В известном смысле настоящее оказывается единственно актуальным временным модусом. Все, что объемлется этим настоящим, образует некое силовое поле, в котором между человеком и вещами создаются отношения глубокой внутренней близости, укореняющие человеческое существование в вещественном мире и тем самым сообщающие вещам несвойственную им от природы меру «человечности». Вещи обретают способность к «пребыванию». Нельзя сказать, что на них совсем не действует время: подобно другим вещам, они изменяются, деформируются, разрушаются. Но при этом они пребывают – как нечто такое, что, будучи «погруженным» в человеческий мир, является его вместилищем, или, проще говоря, «местом». Когда вещь – «место» мира, ее применимость не может быть ограничена практическими функциями; напротив, эти функции оттесняются на второй план, а то и вовсе утрачивают значение. Первичной, важнейшей оказывается не практическая, а символическая ценность вещи: «кремовые шторы» или абажур настольной лампы значимы именно как символ уюта, покоя, равновесия, полноты существования, уединения (или, по выражению Лариосика, «отделенности от всего света»), единства – словом, всего того, что мы привыкли связывать с понятием «пребывание». «Дни Турбиных» – произведение драматургическое и, в силу своих жанровых особенностей, ограничивающее возможность остраненного описания мира вещей. В романном тексте такое ограничение снимается. То, что в «Днях Турбиных» мы усваиваем в основном из речи персонажей (Лариосика, Мышлаевского), в «Белой гвардии» может быть показано, продемонстрировано как некая самостоятельная «предметно-атмосферическая» данность53. Возьмем следующий пример: «Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо за53 В. В. Химич справедливо замечает: «Белая гвардия», в сущности, единственное произведение Булгакова, кроме «Дней Турбиных», где вера писателя в гуманистические основы была воплощена в теме дома» // Химич В. В. Указ. соч. – С. 41. 172 крыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай…»54 Эта, казалось бы, совершенно нейтральная (т. е. объективистски представленная) картина на самом деле является фрагментом той предельно одухотворенной предметной среды, которая одновременно и генерирует, и хранит в себе особую атмосферу дома Турбиных – атмосферу пребывания. Здесь символически важными можно считать, во-первых, указание на «неслышимость» часов, а во-вторых, ту общую светлую тональность описания, которая свидетельствует не столько о колористических свойствах и материальных признаках самих предметов (белизна, свежесть, сверкание), сколько о качестве действия, о своеобразной «энергетике события», излучаемой человеком и хранимой вещами. Ощущение вневременности («часов не слышно») усиливается, когда мы читаем описание застолья в конце романа: «Обедали в этот важный и исторический день у Турбиных все – и Мышлаевский с Карасем, и Шервинский. Это была первая общая трапеза с тех пор, как лег раненый Турбин. И все было по-прежнему, кроме одного – не стояли на столе мрачные, знойные розы, ибо давно уже не существовало разгромленной конфетницы Маркизы, ушедшей в неизвестную даль… Не было и погон ни на одном из сидевших за столом, и погоны уплыли кудато и растворились в метели за окнами» (курсив наш. – Н. Б.)55. «Все было по-прежнему», и вряд ли могло быть иначе. Не было роз, «уплыли куда-то» погоны, но при этом «все попрежнему». Розы, погоны – это внешнее; могли бы исчезнуть и другие атрибуты – те, которые, при всей их действительной или кажущейся существенности, не специфичны для турбинской жизни (в том смысле, что не являются чем-то характерным именно для нее). Главное, что остается, – круг людей, 54 Булгаков М. А. Романы: Белая гвардия, Жизнь господина де Мольера, Театральный роман, Мастер и Маргарита. – С. 31. 55 Там же. – С. 205. 173 объединенный домом, и дом, по своему внутреннему «устройству» (по атмосфере и «энергийной» наполненности вещей) глубоко органичный этому кругу. Здесь время не разрушительно: уничтожая то, что является преходящим по своей природе, оно сохраняет внутренний строй жизни, в принципе не длящийся в эмпирическом времени и потому способный быть неизменным, незыблемым56. Думается, что булгаковский идеал экзистенциально целостного (и в этом смысле неподвластного времени, «пребывающего») существования может быть сопоставлен с идеалом подлинного существования у Л. Н. Толстого. Во всяком случае, в нем больше «толстовского», чем «гоголевского». Вспомним, например, слова Наташи Ростовой о вечности: «Отчего же трудно представить вечность?.. Нынче будет, завтра будет, всегда будет, и вчера было, и третьего дня было…»57 Это – не умозрительное, а, скорее, интуитивное представление, которое исходит из переживания вечности как имманентного измерения повседневной жизни, а переживание это, в свою очередь, порождается чувством непреходящей («пребывающей») гармоничности сосуществования с близкими людьми. «Нынче», «завтра», «всегда» – это относится именно к миру семьи Ростовых, к светлой атмосфере родственных и дружеских отношений, к тому внутреннему строю 56 В данном контексте уместно привести следующее суждение М. К. Мамардашвили, которого всегда интересовали явления, существующие в «дискретном» (творимом, не связанном с законом причинности и в этом смысле требующем «держания», повторения) времени: «Нельзя сказать: предположим, то-то и то-то воспринято, узнано… Такое предположение не может быть само собой разумеющимся, здесь нужно каждый раз устанавливать, воспринято или не воспринято. Восприятие не есть нечто само собой разумеющееся, оно должно случаться в качестве эмпирического события в мире» (курсив автора. – Н. Б.) // Мамардашвили М. К. Кантианские вариации. – М., 1997. – С. 39. Повторения, «событийности» требуют все состояния, порождаемые свободным усилием и существующие только благодаря такому усилию – мышление, любовь, нравственность и т. д. Все они не длятся во времени, а воспроизводятся, повторяются независимо от действия на нас закона причинности. 57 Толстой Л. Н. Собр. соч. : в 12 т. – Т. 5. – М., 1974. – С. 283. 174 175 бытия, который постигается только непосредственным («простым», как сказал бы Толстой) чувством, не содержащим в себе никаких элементов рассудочности или отвлеченного интеллектуализма. Здесь именно простота и важна; то, что надстраивается над нею, оказывается в той или иной степени несущественным, искусственным, отдаленным от человеческой природы. Не случайно, говоря о доме Ростовых, Толстой постоянно обращает внимание на факторы «атмосферического» плана. Ср., например: «Никогда в доме Ростовых любовный воздух, атмосфера влюбленности не давали себя чувствовать с такой силой, как в эти праздники». Или: «Как только Николай вошел в залу, его охватила та любовная поэтическая атмосфера, которая царствовала в эту зиму в их доме…» (курсив наш. – Н. Б.)58. Для Толстого исключительно важно все, что связано с «атмосферическим» чувством, а особенно с чувством имманентной чистоты человеческих отношений в их фундаментальном, «родовом» (как бы внеличностном) измерении. В этом плане весьма показательны суждения о Наташе Ростовой в эпилоге романа. Семейная жизнь с ее «простыми» ценностями, любовь к мужу и ребенку (как некое смысловое завершение обычной «влюбленности», генетически ей родственное, но гораздо более высокое по своему бытийному статусу), забота о сохранении именно «атмосферы» семьи, несущей в себе всю возможную полноту добра, – вот что составляет основной предмет попечений толстовской героини, и это же – едва ли не предел всех человеческих стремлений для Толстого-мыслителя. Конечно, нельзя утверждать, что Булгаков вполне разделял толстовское понимание смысла жизни. Сходство между ним и Толстым определяется не столько близостью мировоззрений, сколько общностью подходов к проблеме подлинности человеческого существования. Для обоих писателей первостепенную роль играют те связи, которые обнаруживаются на уровне повседневного со-бытия любящих друг друга, внут58 Толстой Л. Н. Собр. соч. : в 12 т. – Т. 5. – М., 1974. – С. 49, 61. ренне необходимых друг другу людей. Генерирует и сохраняет это со-бытие дом, т. е. замкнутое, обособленное от «большой» истории, но в то же время микрокосмическое пространство. История, конечно, вторгается и сюда, однако она не властна над миром дома, потому что дом изначально – в глубине человеческой души; дом – это первичная «структура» души, ее сокровенная «внутренняя форма». Отчуждаясь от этого дома в себе, человек тем самым отчуждается от себя самого, превращается либо в толстовского «эгоиста», живущего «иллюзией своей особенности», либо в булгаковского обывателя, связанного с реальностью (в том числе и с реальностью дома, отождествляемого с «квартирой» и представляемого исключительно в контексте «квартирного вопроса») сугубо внешним образом59. Дом разрушить нельзя; он – то вечное, что равнозначно человеческой природе, и в этом смысле он первичнее и выше истории. Из сказанного следует, что внутренняя динамика драматургического мира Булгакова имеет как бы центростремительный характер (то же самое можно сказать и о его художественном мире в целом). Все многообразные движения, все векторы скитальчества, все блуждания в «междумирии» и безвременье, все ориентиры надежды стянуты здесь, явно или скрыто, к одной центрирующей точке – к дому. Дом равно противостоит и спокойной повседневности «других» (обывателей, людей метафизически бездомных), и бурной стихии «большой» истории. Деструктивное время, господствующее за стенами дома, в нем угасает, точнее, преображается (насколько это возможно в эмпирическом мире). Оно уже не разрушительно; оно поддерживает, воспроизводит целостность жизни, превращая быт – в бытие, позволяя переживать каждое мгновение как знак равенства между «было» и «будет». Художественная реальность Гоголя организована иначе: она не центростремительна, а, скорее, центробежна. Прост59 См. у В. В. Химич о взаимосвязанности в творчестве Булгакова оппозиций «быт/безбытность», «дом/бездомность», «человечность/бесчеловечность» // Химич В. В. Указ. соч. – С. 40. 176 ранство гоголевских пьес, будучи замкнутым, «домашним», по существу так же пусто и хаотично, как пространство всей гоголевской России. Оно оторвано от обжитого, уютного центра, вообще децентрировано. Любая его точка похожа на другую, поскольку границы между ними призрачны (и Петербург, и город «ревизора», и прочие места локализации художественного мира Гоголя, при всех их внешних различиях, заражены одним и тем же «вирусом» пошлости, принадлежат к одному и тому же уровню неполноценного бытия; это уравнивает их, делает их в существенном плане одинаковыми). Но у Гоголя истинным центром и, в известном смысле, истинным «домом» человеческой жизни является трансцендентный мир, или, как писал он в одном частном письме, наше «высокое небесное гражданство». Именно на него указывают и хаотичность пространства, и та ахронность (иллюзорность, спутанность, дезорганизованность времени, демонстрирующие его неприятие писателем), о которой много было сказано выше. 177 О. Б. Сергеева* Антонио Менегетти: психологический подход к типологии искусства А нтонио Менегетти – современный итальянский эстетик, психолог, художник и общественный деятель, создатель оригинальной систематики искусства, позволяющей по-новому взглянуть на психологию искусства, а также на актуальные проблемы современной художественной практики. Менегетти не только разработал эстетическую теорию, но и применил ее на практике, создав художественное направление «ОнтоАрт» (искусство Бытия). В основе систематики Менегетти лежит принцип отношения художника к действительности. Это отношение определяется тем, на какой стадии развития находится художник как личность. Согласно Менегетти, эстетический субъект возможен лишь на основе этического субъекта, достигшего экзистенциальной зрелости и аутентичной самореализации. Цель этического этапа для субъекта – познать и исторически воплотить собственное духовное начало (ин-се), которое связывает его с целым Бытия. Менегетти оперирует понятием души вне религиозного смысла. Душа – это онтическое начало в индивиде, формальный разумный принцип, осуществляющий самостановление в истории1. На пути реализации личность становится точной функцией души. Лишь на основе этической зрелости такого рода субъекту открывается эстетическое как способность созерцать и создавать красоту. * Ольга Борисовна Сергеева – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Уральского государственного педагогического университета, директор образовательно-психологического центра «Интуитос» (г. Екатеринбург). 1 Менегетти А. Тезаурус. – М., 2007. – С. 137. © О. Б. Сергеева, 2013 178 179 Менегетти рассматривает искусство как знаковую проекцию пути художника к собственной душе как центру Бытия. Исходя из этого, Менегетти подразделяет искусство на два типа: искусство проекции и искусство откровения. Первый тип искусства создается на пути становления и выражает этическую (экзистенциальную) проблематику. Второй тип искусства создается на базе достигнутой зрелости и выражает духовное содержание (откровение). Можно сказать, что если «искусство проекции» создается ищущим, тем, кто в пути, то искусство откровения создается нашедшим, тем, кто достиг цели пути. Искусство проекции, в свою очередь, делится на два подтипа: а) искусство патологической проекции и б) искусство этической проекции2. Если художник как личность отказывается от становления, то он создает искусство, которое имеет черты патологической проекции и носит психологически негативный характер. Если художник находится в стадии экзистенциального роста, то его произведения имеют черты этической проекции и носят психологически позитивный характер. Если же художник «сдал экзамен зрелости» и превзошел нормальный уровень биологической, социальной, личностной функциональности, то он может превзойти личную проекцию в творчестве. Его сознанию становится доступно откровение, а его творчество выходит к «чистой эстетике». В этом случае создаваемое им искусство является не просто личным высказыванием, но эпифанией (проявлением Бытия). Так возникает искусство Бытия, или ОнтоАрт. Оставаясь в рамках «искусства проекции», художник говорит исключительно «от себя», хотя и от себя разного. В искусстве патологической проекции он говорит от ложного «Я», а в искусстве этической проекции – от истинного «Я». Истинное «Я», по Менегетти, – это развивающаяся личность, совершающая прогрессивное историческое самостановление в соответствии с собственной индивидуальностью (ин-се). Но, выйдя на уровень чистого искусства, художник говорит уже не только от себя, но и «от Бытия». Первый тип – искусство проекции – отражает мучительную фазу становления личности. Тематически и на уровне формы это искусство выражает проблемы, с которыми художник (или общность людей, чье «послание» он выражает) сталкивается в процессе становления. Однако в рамках данного типа возникают две противоположные стратегии: патологическая и этическая. Патологическая проекция есть следствие остановки в развитии и фиксации на проблеме, а этическая проекция – результат жизнеутверждающего преодоления жизненных противоречий. Искусство патологической проекции порождено негативной психической динамикой, оно оперирует комплексами, стереотипами, мэмами. Искусство этической проекции, напротив, порождено позитивной динамикой экзистенциального роста и устремленности к рождению подлинного «Я»3. Первый тип искусства Менегетти именует «проективным», поскольку в нем автор всегда обусловлен проблематикой собственного существования и, следовательно, ограничен личной проекцией, негативной либо позитивной. Здесь художник не способен выйти за рамки личной истории и проекции, чаще всего бессознательной. Художник проецирует свой психический статус даже в тех случаях, когда отдает предпочтение отвлеченным темам или вообще обходится без темы, например в абстракционизме. Искусство патологической проекции рождается из экзистенциальной ограниченности. Художник проецирует свой внутренний мир в художественный образ в соответствии с тем, насколько он обусловлен своим жизненным поражением. Если когда-то он остановился, не сумев преодолеть некую жизненную проблему, то, как результат, он создает произведения, в которых символически выражает свою неудачу4. 3 2 Менегетти А. ОнтоАрт. Ин-се искусства. – М., 2010. – С. 71–96. 4 Менегетти А. ОнтоАрт... – С. 75. Там же. – С. 74. 180 181 В этом случае появляются образы, которые указывают на отказ от развития, на тенденцию к ослаблению, вплоть до аннулирования значимости человека как главного действующего лица в собственной жизни и в истории в целом. Это проявление отчужденного коллективного бессознательного. Такое искусство является выходом вовне внутренней расщепленности, документирует индивидуальное и коллективное экзистенциальное поражение. Проблема патологии в искусстве становится особенно актуальной в XX и XXI веках. Подавляющая часть современных произведений, по мнению Менегетти, несет послание болезни, отчуждения и агрессии 5. Искусство патологической проекции, по Менегетти, небезопасно для восприятия. Когда реципиент внутренне входит в контакт с подобными образами, он оказывается психоплазмирован (заражен) негативной информацией. В зрителе активизируются те чувства, которые автор вложил в произведение (страх, вина, боль, бессилие и т. п.). Менегетти неоднократно подчеркивает, что необходимо быть внимательными к подсознательным посланиям художественных произведений, так как искусство способно «засеивать патологию» через ментальные пути6. Для художника творчество по типу патологической проекции выполняет функцию психотерапевтичного самовыражения. Глубинной мотивацией художника в данном случае является облегчение внутреннего напряжения и изживание вытесненных чувств. Большое внимание психотерапевтической функции искусства уделяется в психоанализе. «Настоящее наслаждение от произведения объясняется освобождением от напряжения душевных сил», – писал З. Фрейд7. Однако данная психотерапия, как отмечает Менегетти, не ведет к решению проблемы, а лишь дает временную разрядку. Искусство патологической проекции, по мнению Менегетти, рождается из стремления художника игнорировать этику и оказаться свободным от необходимости самосозидания. Художник пытается войти в пространство эстетики, не пройдя школы этики. С точки зрения Менегетти, эстетика есть более высокий этап, который не может быть освоен, пока не решены этические задачи становления личности. Патологический художник претендует на свободу самовыражения, не считая, что это право зарабатывается в процессе становления. Он «инфантильно мошенничает», «перескакивая» через этический момент существования, в котором он, сотворенное создание, может лишь «обозначать, чтобы быть», т. е. делать все, чтобы обрести реальность через утверждение ценностей бытия8. Пытаясь «бороться с бытием», создавая негативное искусство, в котором превозносится болезнь, безобразное, художник оказывается замкнут в пространстве собственного морока, который он символически транслирует в социум. Реконструируя логику, в которой Менегетти подходит к проблеме отношения художника к действительности, можно предложить следующую аналитическую схему. Чтобы обеспечить себе прогрессивную творческую эволюцию, художник должен «сотрудничать с бытием», т. е. утверждать в своем искусстве позитивные ценности. Последние проникают в творчество художника как следствие его собственного экзистенциального роста. Успешно преодолевая проблемы реальной жизни, художник тем самым обретает позитивное мировоззрение, которое, как следствие, формирует его эстетику. Продвигаясь по этому пути, на определенном этапе своего развития художник получает возможность выйти за границы самовыражения, получить опыт «откровения» и овладеть универсальными ценностями, имеющими трансцендентный характер и сверхличное содержание. Так художник получает шанс обрести величие. «Чтобы быть великим художником, нужно быть великим человеком» – таково кредо Менегетти. Отказываясь от личностного становления, художник теряет 5 Менегетти А. ОнтоАрт... – С. 72. Там же. – С. 76. 7 Цит. по: Выготский Л. С. Психология искусства. – М., 1986. – С. 100. 6 8 Менегетти А. ОнтоАрт... – С. 93. 182 183 шанс выйти за рамки самовыражения, которое носит характер компенсации, терапевтической самопомощи и несвободы. В этом случае художник не может преодолеть ограниченность своего видения. Его взгляд остается узким, а интенциональность – негативной. Художник может считать, что «борется со злом», однако это «зло» коренится в его внутреннем мире. Искусство «этической проекции» отличается тем, что в рамках этого типа самовыражения художник создает образы, указывающие на позитивное решение проблемы становления, на действие, ведущее к экзистенциальному прогрессу. Как и в случае с патологическим искусством, здесь мы имеем дело с личной проекцией художника, однако это проекция роста, а не упадка. Решая жизненные проблемы, художник как личность постепенно продвигается в направлении онтовидения (видения бытия), т. е. познания через действие, а не представление9. В рамках искусства данного типа находит выражение интенциональность, устремленная к Бытию. В произведениях искусства, принадлежащих к «этической проекции», художественная форма, как правило, эстетична; она преодолевает проблематичное содержание, порождая эстетическое удовольствие. Даже работая с трагическим, апоретичным материалом, художник придает ему такую форму, которая приводит к утверждению смысла и ценности жизни. В рамках искусства этической проекции у художника проявляется мотивация к творчеству, которую Менегетти формулирует так: «Обозначать, чтобы быть»10. Такое искусство благотворно для восприятия, особенно теми, кто, пребывая в поиске, самореализуется. Это искусство вдохновляет и помогает преодолевать трудности жизни. Однако данный тип творчества еще нельзя назвать собственно креативностью и чистой эстетикой в концепции Менегетти. Здесь решаются проблемы этики, а не эстетики. Речь идет не о бытии, а о существовании: о решении жизненных проблем, о достижении зрелости, функциональности, аутентичности. И созда9 Менегетти А. Тезаурус. – С. 134. Менегетти А. ОнтоАрт... – С. 93. 10 ваемые художником образы отражают именно этот процесс роста. Только после выполнения этических задач индивид становится господином собственной жизни и для него открывается возможность искусства как чистой игры, свободы и креативности11. На пути от «искусства проекции» к «искусству откровения» Менегетти вводит некий «этический порог», который нужно преодолеть художнику, чтобы прийти к свободе творчества. До этого момента художник несвободен в двояком смысле слова. Негативно ориентированный художник несвободен, так как закрепощен собственными экзистенциальными и психическими препятствиями, комплексами и стереотипами, которые программируют его воображение, заставляя постоянно возвращаться к нерешенной проблеме и компенсировать свою фрустрацию через определенные темы, формы и образы. Позитивно ориентированный художник на стадии становления также несвободен, поскольку он еще только «учится у бытия», но не является его выразителем и «соавтором». Как уже отмечалось, этика для Менегетти – это базовая предпосылка для занятий искусством. Имеется в виду этика не как ответ на требования бытующей культуры, но как ответ на требования первоначального дизайнера – души, онтического начала. Построив самого себя по проекту души, художник обретает свободу творчества, возможность превзойти ограничения видимого мира. Только при этической зрелости такого рода, по Менегетти, обретается право применять собственную фантазию как власть над реальностью. Наступает «свобода творчества», возможность изобретать любые художественные формы. По Менегетти, свобода творчества является жизненным завоеванием, к которому ведет аутентичная этическая позиция художника. Когда сдан «экзамен зрелости», желания и фантазии художника перестают носить характер комплекса и бессознательного «выплеска»; они обретают истинность, поскольку их разделяет сама реальность. 11 Менегетти А. ОнтоАрт... – С. 95. 184 185 Достигнув этической зрелости, не только художник, но и любой человек может жить артистически, превратив свое существование в искусство и поставив эстетику во главу угла12. Чтобы художник мог создавать красоту, необходимо, чтобы его личность (логико-историческое «Я») научилась быть функцией души. Этот этап есть этика, но еще не эстетика. Менегетти различает идеологическую и экзистенциальную этику. Последняя состоит в том, чтобы осуществить свой природный проект, самореализоваться13. Если личность стала этичной, научилась служить нормальной функцией для онтической интенциональности, какой она предусмотрена природой, то художественная практика такого субъекта движется в сторону эпифании бытия, выливаясь, в конце концов, в «искусство откровения». Согласно Менегетти, самовыражение художника не может стать эстетичным, пока оно не стало этичным. Прийти к чистой эстетике – к искусству без прикладных задач, без терапевтической и помогающей функции – значит не игнорировать, а превзойти этику в области самовыражения. Чтобы создавать образы, свободные от проекции и обладающие реальностью бытия, художник должен знать, как бытие исполняется в нем самом. Этот личный опыт не может заменить ни техническое мастерство, ни теоретические знания. Реализованный человек может говорить от имени бытия, а не только от себя как индивида. Выражаясь языком раннего Маркса, в этом случае в индивиде воплощаются «родовые силы» человека. Используя терминологию Канта и Гуссерля, можно сказать, что через личность художника выражается трансцендентальный субъект. Однако, как подчеркивает Менегетти, при этом нет больше ни Бога, ни его раба. Оба становятся одной и той же, исполненной лиризма, игрой 14. Мы переходим к рассмотрению высшего типа искусства, согласно типологии Менегетти. Речь идет о «чистом искус- стве», искусстве Бытия. Термин «чистое» в данном случае подразумевает, что искусство свободно от любых проекций, как позитивных, так и негативных. На место проекции здесь приходит откровение, или эпифания. «Эпифания» (epiрhania, греч.) означает раскрытие Бытия в существовании. В христианской терминологии под эпифанией (или теофанией) понимают богоявление. Менегетти употребляет термин «эпифания» вне религиозной семантики. Речь идет о том, что между индивидом и реальностью, как она есть, больше не стоит искажающих препятствий, продиктованных личной ограниченностью художника. В этом смысле понятие «эпифания» может применяться ко всем проявлениям, в которых то, что установлено как сокрытое (трансцендентное), в определенный момент раскрывается как доступный для восприятия эмпирический опыт. «Через жест художника свершается вотбытие трансцендентности»15. Эпифания, таким образом, – это момент откровения. Отсюда создавать красоту – значит сотрудничать с бытием в его самораскрытии. Существенно, что речь идет о «самораскрытии» бытия, и художник соучаствует в этом процессе как партнер. Менегетти следует традиции толкования откровения и эпифании, где субъект не управляет трансцендентными событиями, а лишь совершенствует себя для того, чтобы быть их восприемником и соучастником. Как отмечал Хайдеггер, бытие никогда не является объектом и индивид может лишь соучаствовать в со-бытии бытия, но не создавать его16. Менегетти также подчеркивает, что бытие является творящей причиной существования, и задача индивида – позволить бытию сбываться в своей жизни и тем самым продолжить творение17. Цель эпифанического, или чистого, искусства состоит в том, чтобы через видимую материю произведения, через его знаки и образы проявилось априорное начало, «показался» 12 15 13 16 Менегетти А. ОнтоАрт... – С. 82. Там же. – С. 77. 14 Там же. – С. 86. Менегетти А. ОнтоАрт... – С. 63. Хайдеггер М. Время и Бытие. – М., 1993. – С. 151. 17 Менегетти А. ОнтоАрт... – С. 135. 186 187 абсолют. В данном типе искусства меняется наполнение образа: он выражает не проекцию автора, а момент проявления самого бытия. Фантазия художника становится откровением. Выполняя функцию эпифании, художественный знак становится «прозрачным» для явленности духовной сути. Заниматься художественной практикой в данном типе искусства – значит уметь открыть бытие для «славы», чтобы его «возлюбили и восхвалили»18. На первом этапе становления художник живет и творит вынужденно, резюмирует Менегетти. Его воображение и фантазия находятся под давлением со стороны бессознательного. Вольно или невольно художник проецирует в произведение свои проблемы и неудовлетворенные потребности, так что говорить о чистом искусстве на данном этапе невозможно. В своей реальной жизни художник должен найти ответ на эти вызовы, в противном случае его сразит комплекс вины перед самим собой и результатом будет лишь патологическое искусство. Но на этапе зрелости, на пути к ОнтоАрту, Менегетти говорит о художнике как о человеке, который сумел справиться с жизненными вызовами. Речь идет о реализованной личности, которую Менегетти называет «человеком без мифов», что означает, в том числе, и «без проекций». Перед человеком без мифов открывается иная реальность, ему становятся доступны свобода творчества, игра, мудрость и праздность19. Лишь закончив анализ становления художника, Менегетти переходит к раскрытию классической эстетической категории «игра». Как возможны игра и сопутствующая ей свобода, по Менегетти? Прошедший всеми дорогами существования, «человек без мифов» приходит туда, где Бытие есть. Это не означает, что все напряжения и проблемы исчезают из его творчества. Но в искусстве эпифании проблемы и противоречия существования выглядят «притворством играющего бытия». Игра – это единственная потребность Бытия. Создавая существование, Бытие ничем не принуждается, а лишь играет. Онтохудожник занимается чистым искусством, когда творит подобно Бытию – ради игры, свободно, а не по необходимости20. В искусстве патологической проекции, как мы видели, творчество является компенсацией, разрядкой и изживанием вытесненного. В искусстве этической проекции творчество также не является игрой, выражая борьбу за утверждение позитивных ценностей. Резюмируя, можно сказать, что если «патологический» художник своим творчеством отрицает Бытие, а «этический» художник – борется за Бытие, то онтохудожник играет с Бытием и созерцает его. В связи с категорией игры Менегетти вводит понятие «мудрость». Жизнь раскрывается как игра только для мудреца, подчеркивает автор. Мудрец – «человек без мифов» – знает, что проблематичность жизни нереальна, поскольку таковой она выступает лишь для сотворенного создания, но не для того ума, который забросил его в это существование. Мудрость означает, что субъект не стремится к Бытию как к чемуто запредельному, так как Бытие уже исполнилось в нем. Для мудреца Бытие больше не есть нечто далекое и отвлеченное. Напротив, трансцендентное присутствует больше всего остального, метафизическое оказывается наиболее реальной вещью. Некогда ограниченное восприятие сменяется онтовидением. Бытие становится соприсутствующим, синхронным с действием мудреца21. Мудрец артистически идет по жизни просто для того, чтобы существовать, у него нет больше цели быть, ведь Бытие его уже настигло. Однако ему все еще нравится творить, соучаствовать в «лирической игре бытия»22. Так, согласно Менегетти, изменяется сознание субъекта-художника, решившего этическую проблему существования. На этом уровне художник впервые обретает подлинную свободу творчества. Он больше не должен давать функцио20 18 Менегетти А. ОнтоАрт... – С. 86. 19 Там же. – С. 88. Менегетти А. ОнтоАрт... – С. 85. Там же. – С. 89. 22 Там же. – С. 95. 21 188 189 нальный ответ, поскольку уже справился с ним. Свобода в данном случае возникает не как право игнорировать правила, а как новое качество личности, которая освоила и превзошла правила. Лишь на этом этапе художник может отказаться от канонов и изобретать любые художественные формы. Какую бы форму ни создал такой художник, она будет прекрасна и будет порождать эстетическое удовольствие, так как исходит от аутентичного человека. Последний знает красоту практически, изнутри, поскольку он сумел построить по законам красоты (по проекции души) собственную личность. На этапе искусства эпифании изменяется и мотивация к творчеству. Если на этапе патологической проекции мотивация художника – самотерапия, на этапе этической проекции – утверждение позитивных ценностей, то на этапе чистого искусства творчество – это возвышенное удовольствие. Онтохудожник занимается искусством из удовольствия «обозначать, чтобы обозначать». Творчество здесь – это естественная экзистенциальная практика, действие, которое «восхваляет само себя». Занимаясь творчеством, художник познает себя на опыте в полном режиме, а искусство знаменует собой успешный исход экзистенции23. Как видно отсюда, психика художника, пришедшего к искусству откровения, полностью изменилась. От невротика и становящегося индивида Менегетти переходит к рассмотрению личности, которой открыты высшие измерения реальности, откровение и мудрость. «ОнтоАрт – это экзистенциальный выбор, движение в направлении истинной эстетики. Художник должен быть зрелым и здоровым человеком не только для утверждения подлинных ценностей, но и для того, чтобы позволить ситуационно-историческое рождение бога. Нечестно приводить бога в конюшни… вы должны обладать зрелой личностью, если хотите сделать ваши работы прекрасными»24. 23 24 Менегетти А. ОнтоАрт... – С. 82–85. Meneghetti A. OntoArte. – Roma, 1988. – Р. 23. Таблица Сравнение трех типов отношения художника к действительности в эстетике А. Менегетти Содержание воображаемого Смысл образа Отношение к Бытию Отношение к проблематике существования Мотивация творчества Отношение к становлению Искусство патологической проекции Негативная проекция автора Искусство этической проекции Позитивная проекция автора Проекция экзистенциального поражения Отрицание Бытия Фиксация на проблеме Проекция экзистенциального роста Борьба за Бытие Обозначать, чтобы получить облегчение Патологическая фаза сопротивления росту Обозначать, чтобы быть Созерцание Бытия Притворство проблемой, или игра Обозначать, чтобы обозначать Этическая фаза роста Эстетическая фаза созерцания Решение проблемы Чистое искусство Эпифания (проявление) Бытия Откровение 190 191 Л. Э. Старостова* Произведение: коммуникация в эпоху игрового П рактика современного искусства, как, впрочем, и всей сферы массовых коммуникаций, демонстрирует широкую распространенность игрового начала в искусстве и культуре. Игровые практики пронизывают собой всю социокультурную среду – от пространства художественной галереи до повседневности городских улиц, и это побуждает теоретиков обратить особое внимание на феномен игры. Первыми, кто вывел игру из статуса инструмента воображения в позицию базового художественного принципа, стали модернисты. Как писал в своей знаменитой работе «Дегуманизация искусства» Х. Ортега-и-Гассет, одним из атрибутов модернистской (авангардной) творческой программы является «стремление понимать искусство как игру, и только»1. Постмодернизм расширил понятие авторской игры, включив в него манипуляции с уже существующими в искусстве и культуре в целом образами и смыслами. Как отмечает М. И. Шапир, «в отличие от авангарда, постмодернизм демократичен: текст, разбухший до размеров все-текста и превратившийся в не-текст, деперсонализуется. Всячески поощряется множественность равно необязательных прочтений, * Людмила Эдуардовна Старостова – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, доцент кафедры маркетинга и международного менеджмента Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург). 1 Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М. : Искусство, 1991. – С. 228. © Л. Э. Старостова, 2013 и авторское я бесповоротно вытесняется читательским мы»2. Модернисты играли выразительными средствами, поскольку считали себя свободными от диктата реальности (необходимости ей подражать), художники-постмодернисты продолжают играть, но уже с артефактами культуры, скрещивая их, меняя местами в нетерпении увидеть: а что получится? Игра, таким образом, имманентна современному искусству. Игра как предмет философско-культурологического анализа Понятие игры уже более ста лет является одним из самых интригующих в философской, культурологической и эстетической мысли. Игра в качестве неотъемлемого компонента человеческой жизни и культуры исследовалась И. Кантом, Ф. Шеллингом, Г. Г. Гадамером, Й. Хейзингой, М. Маклюэном. Большой интерес к теории игры проявили и теоретики постмодернистской философии: Ж. Деррида, Ж. Лакан, Ж. Бодрийяр. Философская традиция в лице И. Канта, Ф. Шиллера, Г. Г. Гадамера рассматривала игру как атрибут художественного мышления. Игра трактуется как освобождение, и освобождение от реальной логики дается в опыте искусства – в игре восприятия, игре творчества (Кант: игра познавательных способностей; Ф. Шлегель: искусство – свободная игра фантазии). Определение Ф. Шлегеля получило развитие в эстетике романтизма. Немецкие романтики воспринимали свое творчество как способ бегства от мира в воображаемую реальность искусства, основное достоинство которой состояло в свободе творческого самовыражения и иронической игры. «…Именно эстетизм романтиков, истолковывавших высшую реальность как игру, создал возможность принять любую реальность, ибо ни одну он не принимал всерьез»3. Игровая установка романтика позволяла ему подняться над обыден2 Шапир М. И. Эстетический опыт ХХ века: авангард и постмодернизм. – С. 142. 3 Гайденко П. П. Трагедия эстетизма: опыт характеристики миросозерцания С. Киркегора. – М. : Искусство, 1970. – С. 134. 192 ностью, открывая двери в мир фантазии, источником которой является исключительно игра воображения. Й. Хейзинга в книге «Homo ludens. Человек играющий» обосновывает игру как основополагающее свойство культуры. С точки зрения голландского исследователя, культура представляет собой систему игр и, собственно, возникает в форме игры. Как утверждает Й. Хейзинга, «культура первоначально разыгрывается», в играх общество «выражает свое понимание жизни и мира»4. Смысл игры в общественной деятельности, игра по природе интерактивна. Игра – это правила, условность и подвижность правил. Вот как выглядит определение игры, данное нидерландским исследователем: «…с точки зрения формы мы можем теперь назвать игру свободной деятельностью, которая осознается как “невзаправду” и вне повседневной жизни выполняемое занятие, однако она может целиком овладевать играющим, не преследует при этом никакого прямого материального интереса, не ищет пользы, – свободной деятельностью, которая совершается внутри намеренно ограниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по определенным правилам и вызывает к жизни общественные группировки, предпочитающие окружать себя тайной либо подчеркивающие свое отличие от прочего мира всевозможной маскировкой»5. В этом объемном определении мы можем выявить сразу несколько атрибутов игры, приписываемых ей Й. Хейзингой: 1. Игра – это свободная деятельность. 2. Игра не есть обыденная жизнь, она – вымысел. 3. Игра всецело «завладевает» играющими. 4. Игра самоценна, т. е. она не преследует материального интереса. 5. Игра обособляется от обыденной жизни и разворачивается в определенных временнх и пространственных рамках. 4 Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня. – М. : Прогресс : ПрогрессАкадемия, 1992. – С. 60. 5 Там же. – С. 23. 193 6. В игре всегда действуют правила, о которых играющие условились заранее, то есть игра устанавливает свой порядок. 7. Игра способна создавать общественные группировки. Захватывает сам процесс игры и условность принятой на себя роли (показать, как играть чужую роль, легче, чем сыграть собственную). Игра – это цельность, сложенная из динамической сложности. Единство само по себе – это скука. Сложность как таковая – взвинчивающий разлад. Но вместе они формируют условную реальность, манящую человека возможностью хотя бы на время целиком погрузиться в себя. Вовлечение человека в игру в качестве участника или соучастника игрового зрелища представляют собой широко распространенный прием и в рекламной коммуникации. С точки зрения постструктуралиста Ж. Бодрийяра, игра начинается там, где приостанавливается действие Закона и в силу вступает правило, о котором игроки договорились заранее: «игра, игровая сфера вообще раскрывают нам страсть правила, умопомрачительность правила, силу, идущую не от желания, а от церемониала»6. Ж. Бодрийяр подчеркивает ритуальность игры – в ней соблюдение правила заменяет собой осмысление действий. Игра освобождает участников не только от действия закона, но и от необходимости осмыслять себя, главное в игре – соблюдать (умопомрачительно, – подчеркивает Бодрийяр) условно принятые правила. В игре реализуется дух соперничества. Бодрийяр принципиально дистанцирует игру от сновидения (в пику сюрреалистам), которое может быть в любой момент прервано, что нелогично. Бросать игру «неспортивно». В общем-то Ж. Бодрийяр следует здесь логике Г. Г. Гадамера, который в «Истине и методе» утверждает, что субъектом игры является не играющий, а сам процесс игры (цель игры – порядок и структура самого игрового движения). Это значит, что игра подчиняет участников, взамен предоставляя им удовольствие от соблазнения правилом, игра освобождает от ре6 Бодрийяр Ж. Соблазн. – М., 2000. – С. 231. 194 195 альности тем, что искушает устранением свободы. Можно сказать, что, согласно Бодрийяру, соблазн игры заключается в искушении правилом. В правило нельзя даже верить, его просто соблюдают. Получается, что игра устанавливает новую реальность, само принятие условности которой и доставляет игроку удовольствие. Игра «избавляет от принуждения выбора, свободы, ответственности, смысла!»7. Но освобождает не анархически, а включая в реальность, в которой все принципиальные вопросы уже решены, но поскольку сделано это на время и понарошку, поскольку включение в игру происходит добровольно, то игра является желанным средством освобождения от власти Закона (вспомним средневековый карнавал у М. Бахтина как временное ментальное освобождение от гнета феодальной и церковной власти). Таким образом, Ж. Бодрийяр рассматривает игру в том числе как форму эскапизма. Однако в искусстве преимущественно игровой подход к творчеству, последовательно реализуя принцип игрового освобождения, размывает границы художественного, допуская в него проявления дилетантизма, любительства. Игровое пояснение «я так вижу» заслуженно навлекло на себя немало иронических комментариев. Игра и современные медиа По отношению к искусству важен и другой аспект игры: игра захватывает человека не только как участника, но и как зрелище. На генетическую связь игры и зрелища указывает И. Б. Шубина: «Преображение исполнителя, система вовлекающих указаний, организованных соответствующим образом, наличие зрителя – все это характеристики художественного зрелища как игрового действия»8. А зрелище – одна из существенных составляющих современной массовой культуры вообще и «mass media» в частности. 7 Бодрийяр Ж. Указ. соч. – С. 239. Шубина И. Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь : учеб.-метод. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – С. 35. 8 Как писал М. Маклюэн, массовая культура создается профессионалами и ориентирована на массовую аудиторию. Одним из самых массовых медиа современности является телевидение. Современное телевидение – это медиа по преимуществу развлекательное, то есть зрелищное. «Принудительная внушаемость такого зрелища определяется двумя началами – опрощением образа максимальной остротой игровой ситуации»9. Большинство ток-шоу толкут в ступе досужие рассуждения на ограниченное число тем, но используют такой козырь, как интрига, образуемая несколькими участниками разговорной игры. У зрителя возникает иллюзия соучастия в этой игре, поскольку он соглашается с одним из участников и невольно ставит себя на его место. Чисто коммерческая цель – держать зрителя у телевизора – достигается самым прямым и легким способом: развлекая его как можно больше. Феномен синтеза информационной передачи и развлечения на телевидении получил название инфотейнмента (infotainment – информационное развлечение). Как пишет В. Зверева, «семантика “-tainment” подразумевает яркость, ориентацию на шоу, театрализацию. Зрителю не должно быть скучно»10. Стиль инфотейнмента отличает фрагментация «материала, смешение важного и незначимого, высокий темп речи ведущего и смены картинки, драматизм контрастов в сюжетах, дистанцированность от происходящего»11. Игровая форма информационно-развлекательных телепередач не перегружает зрителя анализом событий и суждений, зато эффективно манипулирует его восприятием реальности. Развлекательная игровая форма, в которую сегодня упаковывают информацию, стала практически универсальным средством коммуникации с потребителями. 9 Ратнер Я. В. Эстетические проблемы зрелищных искусств. – М. : Искусство, 1980. – С. 128. 10 Зверева В. Представление реальности в информационных телепрограммах: стилистика «infotainment» // Синий диван. – 2012. – № 14. – С. 237. 11 Там же. – С. 238. 196 Сегодня парк развлечений (Европа-парк, г. Руст, Германия) предлагает такую услугу, как организация на своей базе конференции, где научная дискуссия будет делить время с развлечениями в парке, потому услуга эта получила название «конфетейнмент», что стало лингвистическим выражением процесса симбиоза игрового опыта с научной дискуссией. Игра как инструмент коммуникации сегодня нередко выполняет функцию проводника между более или менее сложным для понимания источником информации и адресатом сообщения. Большинство современных технических музеев в большей или меньшей степени использует игровой опыт как увлекательную форму контакта посетителя с содержанием экспозиции. Например, Центр науки и индустрии в Париже оснащен современным оборудованием, задача которого – конвертировать в игровую форму проблемное поле и выводы современной науки. И если находящийся здесь же детский городок науки состоит из игровых установок, которые позволяют ребенку в игре испытать феномен скорости, энергии водного потока, стать удивленным свидетелем экосистемы существования популяции муравьев и т. д., то «взрослая» экспозиция содержит в себе не меньше игровых экспонатов, поясняющих суть тех или иных научных идей и открытий. И главное для нас в этом игровом, можно сказать, «сайенстейнменте» музея является не то, что игра позволяет увлечь посетителей наукой, а то, что чаще всего игра заслоняет собой суть научного явления. Так, например, фотографирование автоматом лиц посетителей и моментальное размещение их в коллаже с разнообразными социальными «телами», движущимися на стоящем тут же электронном табло, представляет собой забаву, отвлекающую посетителя выставки от идейного содержания мира цифровых технологий в сторону баловства с их плодами. Что выносят с собой посетители этого замечательного музея? Скорее, в большей степени яркое впечатление от пережитого игрового опыта, нежели новое знание. И в этом смысле такой музей мало чем отличается от тематического парка развлечений, аттракционы которого также помещены 197 в некие образные контексты, увлекающие в эстетически целостные пространства Дикого Запада, романтических сказок или мира южноамериканских индейцев, но приносящие знание о симулякре своего прототипа, а не о нем самом, поскольку сам этот мир находится за пределами области игры. Именно внешнее, сугубо образное, и даже по преимуществу формальное вовлечение человека в виртуальную реальность, безопасную в силу своей игровой условности, делает этот коммуникативный опыт эстетическим по преимуществу. В упомянутом выше парижском Центре науки и индустрии экспозиция, посвященная генетике, иллюстрируется электронной инсталляцией, преображающей отражение контуров стоящего перед ней человека в набор разноцветных линий, образно выражающих идею «составленности» человеческого индивида из единиц генетического кода, что по виду напоминает посетителю о его визитах в музеи современного искусства: новые коммуникационные технологии – сегодня цифровые – можно в одном и том же визуализированном виде встретить на выставке рекламы, авангардном биеннале или современной музейной экспозиции. И везде «цифра» представлена как эстетически привлекательный объект. Социокультурная трансформация игры в условиях современности стала предметом исследования в книге Ж. Бодрийяра «Соблазн», где он утверждает, что современное общество, перешагнув за пределы реальности в область медийной виртуальности, оказалось в зоне действия не игры, но игрового. На место Закона и Правила кибернетическая эпоха принесла время симуляции. «Жизнь наша облекается Нормой и Моделями, а у нас нет даже слова, чтобы обозначить то, что не сегодня завтра наследует в наших глазах социальности и социальному»12. «Минимум реальности и максимум симуляции – вот чем отныне мы будем довольствоваться в своей жизни»13. Время симуляции Бодрийяр связывает с вступлением в силу «игро12 13 Бодрийяр Ж. Указ. соч. – С. 268. Там же. 198 199 вого». Понятие игрового становится для мыслителя средством выявить качественную трансформацию всего социального опыта современного человека. «Игровое вообще – это “игра” запроса и модели»14. Воплощением игрового Бодрийяр считает американское многоканальное телевидение, просмотр которого предполагает игру переключения каналов, создание своего собственного монтажа. В отличие от игры (соблазняющей правилом), игровое «завораживает». Бодрийяр так и говорит – наступает «эра завороженности». Игровое «коннотирует сам способ функционирования сетей… их способ воздействия на пользователей»15. Уже более ста лет мы инструментально осваиваем и используем культурные формы, в том числе и игру. Игра используется как средство терапии, игрой обучают, лечат, укрепляют корпоративные связи. Как говорит Ж. Бодрийяр, игра превращается в гигиеническую функцию. В отличие от игры игровое лишено напряжения (личного вовлечения), аффекта. Игровое – это нечто тактильное и модулируемое (пример, приводимый Бодрийяром, – трансляция футбольного матча по телевизору). Социокультурная же дисплазия игры в игровое, описанная Бодрийяром, когда нет по-настоящему захватывающей участников практики игры, а есть только холодное игровое моделирование, приводит к устранению границы между реальностью и игрой: мы не можем вступить в игру, потому что уже в игре, и мы не можем выйти из нее, потому что она и есть наша реальность, этакое перманентное понарошку. Так игровое становится экзистенциальной проблемой, проявляющей себя в дефиците настоящего. И распространяется это отношение на все, включая искусство. Все «клево» и забавно, но при этом ничто серьезно ни во что не вовлекает. Обсуждая коммуникативную природу экранного образа, Бодрийяр трактует телевизионный сериал «Холокост» как «по- пытку уловить искусственное тело мертвого события для разогрева мертвого тела социального»16. Игровое не будит воображения, потому что не несет собой образ, считает Бодрийяр. «Каждому из нас дано испытать подобное легкое психоделическое головокружение от всех этих бесконечно ветвящихся переходов, то множественных, то последовательных, от этих подключений и отбоев. Каждому из нас предлагается стать миниатюрной “игровой системой” – микросистемой, пригодной для игры, т. е. для саморегулирующейся возможности алеаторного функционирования»17. Введение понятия игрового нужно Бодрийяру для того, чтобы обозначить кризис вовлеченности человека в культурные практики, когда сам факт контакта, возможность быстрого переключения, перехода как сферы занятного заменяет собой сферу волнующего. Те же самые процессы происходят в Интернете. Как пишут А. Горных и А. Усманова, «“интернетсерфинг” представляет собой новое качество зэппинга», для интернет-пользователя «ценность открытой страницы состоит не в том, чтобы прочитать… ее до конца. Ценность безотчетно состоит в том, чтобы, зацепившись за какую-либо гипертекстовую ссылку, заглянуть в новое “окно”, следуя какой-то инерции, соскользнуть к чему-то “новому”»18. Это бесконечное блуждание по различным средам увлекает пользователя самим процессом, безотносительно к результату. Произведение как коммуникация Говоря об авангарде, М. И. Шапир заявляет, что «главным становится действенность искусства – оно призвано поразить, растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию у человека со стороны. При этом желательно, чтобы реакция была немедленной, мгновенной, исключающей долгое 16 Бодрийяр Ж. Указ. соч. – С. 278–279. Там же. – С. 280. 18 Горных А., Усманова А. Эстетика Интернета и визуальное потребление: к вопросу о сущности и специфике Рунета. – URL: http://www.ruhr-uni -bochum.de/russ-cyb/library/texts/ru/control_shift/Gornykh_Ousmanova. pdf 17 14 15 Бодрийяр Ж. Указ. соч. – С. 271. Там же. – С. 272–273. 200 201 и сосредоточенное переживание эстетической формы и содержания»19. А. Хичкок в свое время утверждал, что цивилизация отняла у современного человека способность непосредственно реагировать на что бы то ни было. Поэтому избавиться от омертвения сегодня возможно только с помощью искусства, действующего на грани шока. Эффекту шока у Хичкока служил саспенс. Но провокация зрителя на сильные эмоции (страх, гнев) дают кратковременный эффект, который можно назвать не более чем терапевтическим (опять «игровое»!). Например, работы Майкла Дженкинса (стрит-арт), когда имитацию человека помещают в неожиданные места городского пространства (ноги, торчащие из-под земли в городском парке, человек, висящий на билборде), могут привлечь к себе всеобщее внимание, собственно, представляют собой яркий коммуникативный акт, но не вовлекают в себя человека целостно, а значит, не затрагивают его личность. Авангардное искусство со своим стремлением удивить, озадачить, сдвинуть границы привычного, постепенно сползло в сферу игрового, поскольку не способно прорвать границы иронической усмешки интеллектуала, не способно вовлечь. Оно не более чем просто завораживающее. Вернуть искусству серьезность (именно ту, которую так ценил в нем М. Хайдеггер) – задача гуманитарного масштаба. В результате мы оказываемся перед фактом, когда искусство не травмирует, но лишь обращает внимание, заставляет задуматься. Целостный художественный опыт расщеплен на массовую жвачку про одно и то же (что не трогает, потому что банально – жанровое искусство) и авангардные интеллектуальные ребусы (которые разгадываются, осмысляются, но тоже не трогают). Вступление в эпоху игрового Ж. Бодрийяр связывает с кибернетической революцией, предопределившей качество и значимость массмедиа. Опыт игрового рождается в процессе коммуникации, по преимуществу медийной сегодня. Поэтому попробуем посмотреть на художественную практику с точки зрения коммуникации. На генетическую связь игры и художественной коммуникации указывал М. Маклюэн, рассматривавший игры как «драматические модели нашей психической жизни, дающие избавление от тех или иных напряжений». По мысли Маклюэна, игры – это «коллективные и массовые художественные формы, опутанные строгими соглашениями». Указывая на связь игр с ритуалами, М. Маклюэн писал: «Искусство стало своего рода цивилизованным заместителем магических игр и ритуалов… Искусство, как и игры, стало миметическим эхом старой магии тотального вовлечения и избавления от нее»20. По сути, именно тотальное вовлечение характерно для игрового в эпоху медиа. Отдавая должное современному искусству, М. Маклюэн писал, что именно кубизм – авангардное художественное направление в живописи первой половины ХХ века, «представляя в двух измерениях внутреннюю и внешнюю стороны, вершину, основание, вид сзади, вид спереди и все остальное», предъявил зрителю живопись, в которой все, что могло быть спрятано как содержание картины, выложено на поверхность «ради мгновенного чувственного восприятия целого. Ухватившись за мгновенное целостное осознание, кубизм неожиданно оповестил нас о том, что средство коммуникации есть сообщение»21. Влияние средств коммуникации на художественный опыт осмыслял В. Беньямин, по мысли которого «на рубеже XIX и XX веков средства технической репродукции достигли уровня, находясь на котором они не только начали превращать в свой объект всю совокупность имеющихся произведений искусства и серьезнейшим образом изменять их воздействие на публику, но и заняли самостоятельное место среди видов художественной деятельности»22. Попытку осмыслить искусство как коммуникативный акт через понятие открытости предпринял У. Эко. Причем этот 20 Маклюэн М. Понимание медиа. – М., 2003. – С. 269. Там же. – С. 16. 22 Беньямин В. Избранные эссе. – М., 1996. – С. 19. 21 19 Шапир М. И. Указ. соч. – С. 136. 202 203 взгляд на произведение мотивирован в большей степени игровыми практиками современного искусства. Сущность открытости, по У. Эко, заключается в свободе интерпретаций, задаваемых автором реципиенту: «…произведение искусства, предстающее как форма, завершенная и замкнутая в своем строго выверенном совершенстве, также является открытым, предоставляя возможность толковать себя на тысячи ладов и не утрачивая при этом своего неповторимого своеобразия»23. Образцовым примером открытого произведения Эко считает «Улисс» Дж. Джойса. Причем история искусства располагает различными формами и степенями открытости: Данте, Берк, Новалис, Верлен, Малларме, Джойс, Брехт… При этом Эко поясняет, что «в основе этих различных видов опыта лежит различное видение мира»24. Барочная форма, например, базируется на представлении о постепенном расширении пространства, а само произведение барокко скрывает в себе некую тайну; а вот символическая поэзия конца XIX века свою открытость реализует в намеках. Эко заключает, что «любая воспринимаемая форма, поскольку она наделена эстетической ценностью, предстает как “открытая”», т. е. открытость есть атрибут художественности. Ее характеризует неразрывная связанность всех элементов, определяемых У. Эко в семиотической терминологии – как означающее и означаемое и их отношение в денотате. Процесс художественной коммуникации У. Эко представляет себе следующим образом. Контактируя с произведением искусства, человек воспринимает единство стимулов, которые снова и снова заставляют его обращаться к реальному, он «не может обособить различные референции и вынужден целиком схватывать весь посыл, который навязывает ему данное художественное выражение. В результате означаемое становится многообразным, неоднозначным, и первая фаза постижения оставляет нас одновременно и насыщенными, и неудовлетворенными его многообразием»25, тогда человек сно- ва обращается к сообщению, но уже динамизируя комплекс первых впечатлений и возникших воспоминаний, а потому новый виток восприятия будет открываться в иной перспективе, и так далее. Процесс прекращается лишь тогда, когда человек не находит в произведении новых стимулов, т. е. блокируется процесс эстетического наслаждения. Таким образом, Эко делает вывод о «двойственной природе коммуникативной организации эстетической формы», а впечатление открытости обусловлено не объектом и не субъектом, а познавательным отношением, «в ходе которого реализуются формы открытости, порожденные и управляемые теми стимулами, которые организованы в соответствии с эстетическим замыслом»26. В контексте данной статьи особую ценность представляют рассуждения У. Эко об открытом произведении на основе информационного подхода. Основу понятия информации составляет то, что информация есть всегда некое дополнение. Анализируя современные теории информации, Эко приходит к выводу, что информация и смысл не одно и то же. И в этом различии ключевую роль играет структурная организация, а точнее, соотношение порядка и беспорядка (энтропии) в сообщении. Сравнивая прозаический нехудожественный пересказ стихотворения Петрарки и само стихотворение, Эко пишет: «Между первым и вторым случаем нет никакой разницы в значении, следовательно, во втором случае единственным элементом, который определил увеличение информации, является неповторимость структурной организации сообщения, непредсказуемость по отношению к системе вероятности и определенная дезорганизация, которая была в нее введена»27. Поэтическое сообщение намеренно вносит в него неупорядоченность. У. Эко предлагает взглянуть на коммуникативный смысл информации: в нем сначала происходит выделение порядка в некой изначальной неупорядоченности, а затем вве- 23 26 24 27 Эко У. Открытое произведение. – СПб., 2006. – С. 71. Там же. – С. 75. 25 Там же. – С. 126. Эко У. Указ. соч. – С. 130. Там же. – С. 153. 204 205 дение в эту систему элементов неупорядоченности, которые вступают в «напряженную диалектическую связь» с самим порядком. К чему же это приводит? К тому, что «чем невероятнее, двусмысленнее и неупорядоченнее оказывается структура сообщения, тем больше в нем информации. Таким образом, информация понимается как информативная возможность, как начало возможных структурных порядков»28. Чтобы пояснить свою мысль, Эко обращается к рассуждениям Г. Рида о том, является ли эстетическим восприятием свободная игра ощущений, которую можно испытать от созерцания пятна. «В пятне отсутствует элемент контроля, нет формы, которая привносится для того, чтобы направлять зрительное восприятие»29. Так У. Эко выводит формулу баланса произведения между приростом информации и ее отсутствием. Если форма произведения перестает «держать» на себе направленность коммуникации, произведение превращается в шум. Поэтому современное искусство, по мысли Эко, позволяет трактовать форму как «поле возможностей». Современное искусство постоянно устанавливает невероятный порядок: оно тяготеет к многополярности художественного произведения. Но тотальная неупорядоченность превосходит порог восприятия и воспринимается как шум. Поэтому открытое произведение должно удерживаться «в свободе, контролируемой начатками формообразования»30. У. Эко, похоже, обозначил ту грань, которая определяет в авангардных играх момент перехода открытости еще художественного произведения в поле игровых коннотаций, растворяющих смысловое ядро произведения в тотальности игрового. Ведь игровое характеризует именно соблазн переходов. Игровое в культуре и открытое произведение – это две ипостаси мира ветвящихся коммуникативных связей современного человека. Если способ коммуникации определяет со28 Эко У. Указ. соч. – С. 214. Там же. – С. 224. 30 Там же. – С. 168. 29 общение, то художественное сообщение концентрируется на способе коммуникации. Интерактивность, мультимедийность создают многослойность информации, к которой человек привык. Акцент в искусстве смещается на как именно в силу доминирования коммуникации. Отсюда формалистическая эстетика, отсюда художественные эксперименты с формой, “открывающие” произведение настолько, что содержательная сторона сморщивается до ничтожности. И тогда полая форма авангардного искусства выступает просто как средство коммуникации, используемое кем угодно в своих целях. Даже если форма изначально не полая, как это характерно для произведений классического искусства, она все равно проявляет способность служить оболочкой новому содержанию в силу смысловой деградации по мере своей циркуляции в каналах коммуникации, как это произошло с Моной Лизой или Венерой Милосской. А такая форма и есть игровая – равнодушная к игрокам. Мне хотелось бы понятием полой формы обозначить это состояние произведения за гранью смысла. Полая форма означает, что рукотворный артефакт, претендующий на звание произведения искусства, в любом случае обладает формой. Однако не всегда эта форма, отсылающая к вееру интерпретаций, приводит путешествующий разум к радости открытия смысла. Это не значит, что такая форма абсолютно бесполезна. Ее обязательно подберут и наполнят нужным содержанием. Точно так же, как эксперименты с чистым кино и ролики видеоарта, в которых угол зрения доминирует над объектом, попавшим в объектив камеры, послужили источником вдохновения для многих кинематографистов, любые экспериментальные опыты с формой превращают ее в средство коммуникации, несущее в себе потенциал дальнейшего осмысленного освоения. Для сохранения чувствительности многим коммуникаторам сегодня необходимо обновлять форму сообщения. Влияние Интернета на современное телевидение и кинематограф – факт доказанный. Обширное поле 206 207 примеров предоставляет и опыт современной рекламы, быстро усваивающей все ноу-хау коммуникационных технологий. Поэтому один из самых серьезных вызовов современному искусству, претендующему на звание авангардного, интеллектуального, заключается в сохранении смыслового ядра при соблюдении требования максимальной открытости. Если, как пишет Т. Адорно, основной массив эстетического опыта в современной культуре работает на партиципацию (сопричастие) человека по отношению к государству, известным брендам, локальным территориальным сообществам и т. д., то авангардное искусство зиждется на сохранении своей оппозиции, которая запускается процессом интеллектуального возбуждения, порождаемого открытостью произведения. Если вернуться к терминологии Ж. Бодрийяра, искусство балансирует на грани игры и игрового, поскольку игровое, будучи приватизированной медийной культурой игрой, является сегодня атрибутивной культурной практикой. Тогда постоянство смысла может удержаться в искусстве исключительно благодаря форме, собирающей открытость интерпретаций в пучок вокруг авторского замысла, и тогда коммуникация произведения не рассеивается и повышает иммунитет к присваиванию формы какой-либо идеологией. Функция игры в искусстве сводится к тому, что она прокладывает пути интерпретации в массе сообщения. «Неформальное, как и любое открытое произведение, приводит нас не к возвещению смерти формы, а к ее более четкому пониманию, к пониманию формы как поля возможностей»31. Но что позволяет форме быть максимально открытой и при этом оставаться целой? Ответ мы можем надеяться получить опять же в структуре современных коммуникаций. Особенность коммуникативного опыта современного человека состоит в легкости перехода из одной формы коммуникации в другую. Сосуществование офлайновой действительности и онлайновой реальности, восприятие телекоммуникаций и кино сформировали в современном человеке 31 Эко У. Указ. соч. – С. 229. способность и даже потребность в восприятии мультимедийного контента. Мультимедийность в данном случае означает дублирование информации в многослойном нарративе, в наибольшей степени представленное в Интернете. «Навигация в Интернете аналогична переключению кнопок пульта дистанционного управления, основной смысл “собирается” подобно мозаике из множества второстепенных смыслов, связанных воедино лишь благодаря единому месту и времени»32. Интернет-коммуникация не просто формирует у нас привычку к легким переходам от одних блоков информации к другим блокам, к смене каналов коммуникации, но и формирует эстетические параметры офлайновой визуальной формы. В частности, визуальная стилистика интернет-платформы Веб 2.0, которая позволяет пользователям входить в режим интерактивности и перекрестных ссылок, а также приучившая их к трехмерным изображениям, необратимо повлияла на стандарты офлайновой эстетики визуальных коммуникаций. Данная стилистика используется как знак, запускающий коннотации с новейшими компьютерными технологиями и инноватикой в целом. В частности, современные компании осуществляют рестайлинг корпоративной айдентики в соответствии со стилистикой Веб 2.033. Анализируя такое направление в современном искусстве, как визуализация данных, получившее развитие в эпоху компьютерных технологий, исследователь медиа Л. Манович (Manovich) задумывается над тем, почему дизайнер, художник выбирает один из множества возможных способов отображения (mapping) данных. Л. Манович акцентирует внимание на том, что художник делает это произвольно. Компьютерные технологии, построенные на цифровом принципе передачи и хранения информации, изначально абстрактны, а потому задают особые условия отображения-визуализации. Компь32 Купер И. Р. Гипертекст как способ коммуникации. – URL: http:// www.nir.ru/sj/sj/sj1-2-00kuper.html (дата обращения: 02.02.2013). 33 Родькин П. Промышленный бренд будущего. Визуальная революция в эпоху атомного ренессанса. – М., 2009. – C. 29–46. 208 ютерные технологии позволяют создавать разнообразные модели визуализации, а потому становятся инструментом в руках художников, поскольку располагают богатым потенциалом обновления коммуникативной формы: «отображение одного набора данных в другом или одной коммуникационной среды в другой является одной из самых частых операций в компьютерной культуре и также расширяет медиаискусство»34. Л. Манович приводит в качестве образцов такого искусства работы Н. Еремищенко (Jeremijenko), Поля Джонсона (Johnson), М. Уэскэмпа (Weskamp). Мультимедийность современной культуры, с одной стороны, искушает человека возможностью вовлечения в игровое, но, с другой стороны, задает коммуникационный формат, устанавливающий впечатляющий ресурс открытости произведению, претендующему на то, чтобы быть услышанным. На больший отклик могут рассчитывать те произведения современного искусства, которые раскладываются художником в многослойную коммуникативную структуру. Приведу примеры из программы Второй Уральской индустриальной биеннале современного искусства, проходившей осенью 2012 года в Екатеринбурге. Биеннале объединила различные проекты, частью которых стали так называемые арт-резиденции. Каждый участник одной из арт-резиденций «получил в свое распоряжение» действующее или заброшенное предприятие Урала как проблемное поле для производства художником смыслов. Самым ярким стал проект Леонида Тишкова «Заброшенные утопии: коньковый завод», посвященный ныне бездействующему коньковому заводу в г. Верхотурье. Тема этого некогда деятельно населенного производственного пространства была раскрыта художником на основе принципа мультимедийности, что сыграло не последнюю роль в высокой оценке данной работы посетителями выставки. Художественный проект состоял из нескольких структурных компонентов: 34 Lev Manovich. Bedeutsame Schoenheit: Daten-visualisierung als Neue Abstraktion und Anti-Erhabenes // Schoenheit. Vorstellungen in Kunst, Vedien und Allltagskultur. – Goettingen : Wallstein Verlag, 2006. – P. 135. 209 - инсталляции в виде устремленной вверх в форме шлейфа от взлетающей ракеты стелы из металлических оснований коньков, взятых художником из заброшенных помещений бывшего завода; - транслируемого по телевизору видео встречи с бывшими работниками завода, вспоминавшими свою прошлую жизнь и работу на заводе; - демонстрации фотографий нынешних интерьеров заброшенных цехов; - темной комнаты, на стены которой под музыку реквиема четыре проектора непрерывно транслировали видео в виде подымающихся вверх овалов с лицами бывших работников завода. Поднимающиеся вверх и светящиеся белизной на черном фоне овалы уменьшались до светящихся точек и начинали напоминать звезды, исчезавшие по мере приближения к визуально исчезнувшему в темноте потолку. Данная видеоинсталляция называлась «Собор лиц сотрудников конькового завода». В траектории продвижения зрителя по экспозиции «собор лиц» оказывается последним арт-объектом, а потому играет роль трагического финала развернутого художником нарратива о мире, который исчез безвозвратно. Если попытаться ответить на вопрос, за счет чего данная работа произвела на посетителей самое сильное впечатление, то, на мой взгляд, ключевым фактором является не просто авторская интерпретация темы, а сама форма выражения авторской идеи, а именно мультимедийная структура этой формы. Художник воздействует последовательно сразу на несколько чувств зрителя, что отвечает коммуникационным привычкам (игровому опыту) современного человека. Другая работа – Ивана Плюща, – представляющая собой инсталляцию в заброшенном актовом зале бывшего Дома культуры Уралмаша, запускает веер коннотаций, затянутых в крепкий пучок авторской идеи. Сама инсталляция представляет собой красную ковровую дорожку, натянутую от входа в зал к потолку сцену, как будто приглашающую посетителя подняться к светлому будущему, представленному под потолком размашистыми линиями узла из ковровой дорожки. Немецкая 210 песня «Geboren um zu leben» («Рожденные, чтобы жить») вызывает у человека, биографию которого затронула советская эпоха, комплекс сложных воспоминаний, а слабоосвещенные барельефы, когда-то горделиво украшавшие актовый зал символами того времени, вносят свою реплику в сложный, но удивительно цельный образ затерявшейся в прошлом, словно вынутой из бабушкиного сундука, поверженной картины мира. Это произведение, втянувшее в себя все пространство зала, подключает сразу несколько каналов коммуникации, оно впускает в себя даже «непрофильные» знаки: запах, отвалившуюся штукатурку и атмосферу фойе перед входом в зал; все это вовлекается в сообщение и намечает новые тропинки интерпретации. Так что современный художник, который живет в эпоху игрового, симулятивного, может добраться до сознания человека только теми же путями, которыми последний конструи– рует свой духовный опыт. С точки зрения коммуникации только произведение (открытое и красноречивое), которое не игнорирует игровое, а разрастается внутри игрового из семени авторского видения, может надеяться на живой отклик современной аудитории. Коммуникативно выстроенная форма – единственное, что позволяет современному искусству быть захватывающе интересным в эпоху игрового, поскольку игровое представляет естественную среду обитания человека. 211 К. Федорова* Телематическое искусство и мобильное картирование: эффекты дистанции В современной культуре телекоммуникационные технологии настойчиво сокращают географические дистанции, вынося на повестку дня вопросы о характеристиках нового типа человека – человека телематического, а также об эстетических, этических, социальных, экономических и других последствиях виртуализации человеческого бытия. Искусство, реагирующее на эти изменения и само непосредственно строящееся на использовании технологий, имеет множество названий – «искусство новых медиа» (Rush, 2005), «компьютерное искусство» (Weiss), «цифровое искусство» (Paul, 2003), «кибернетическое искусство», «технологическое искусство» (Popper, 2005), «информационное искусство» (Wilson, 2002), «гибридное искусство» (Stocker, 2005), «виртуальное искусство» (Grau, 2003) и др. Для нас в данном случае центральным является концепт «телематическое искусство», или искусство, в основе которого лежат телекоммуникационные технологии, т. е. технологии, обеспечивающие связь на расстоянии. Зритель/участник взаимодействует с объектом и задаваемым им пространством значений, находясь на (часто) значительной дистанции и при посредничестве специальных аппаратов – программ и интерфейсов. Несмотря на то что в случае описания телематики в первую очередь подразумевается наличие физической дистанции между участниками взаимодействия, произведения телематического искусства косвенно отсылают к более общим философско-эстетическим * Ксения Федорова – докторант отделения Cultural Studies Калифорнийского университета (США, г. Дэвис) . © К. Федорова, 2013 212 значениям понятия дистанции, а также к проблеме использования техники как способа одновременно преодоления и утверждения позиции дистанцирования, что, тем самым, позволяет выявить новые характерные черты художественности. Физическая удаленность оборачивается особой формой присутствия и выстраивания отношений как со средой, так и с самим собой. Дистанция как эстетический феномен. Эффект (теле-) присутствия и искусство В узком математическом смысле дистанция синонимична расстоянию, промежутку между двумя точками пространства: она измерима, а само «пространство между» может быть физически освоено (например, заполнено другими протяженными элементами). Ее парадокс в том, что она одновременно и разделяет, и соединяет, обозначая как некий факт сложившуюся пространственную ситуацию, так и операцию, или процедуру, т. е. не пассивные, а активные отношения. Эти особенности делают возможными философские смыслы дистанции и порождаемых ею эффектов: феномен отчуждения у Гегеля (как расхождение духовного (Geistig) и реального (Wirklichkeit), необходимая ступень на пути познания духом самого себя) и у Маркса (как отчуждение человека от овеществленных продуктов труда); «V-effekt» (от нем. Verfremdungseffekt, эффект дистанцирования), понятие Фредерика Джеймисона, введенное в работе «Брехт и метод» для обозначения позиции критической дистанции1. Дистанция традиционно считается необходимой предпосылкой и специфическим условием эстетического и художественного сознания. Так, кантовская «незаинтересован1 Социально-политические смыслы сочетаются здесь с психоаналитическими – с эффектами вытеснения и замещения. Например, в немецком языке приставка «от-» – «ver-» отсылает к значениям отрицания как механизма защиты: Verdraengung – репрессия, Verleugnung – неодобрение, Verneinung – негация, Verwerfung – уклонение, отклонение // Carney S. Brecht and Critical Theory: Dialectics and Contemporary Aesthetics. – London : Routlege, 2006. – P. 15. 213 ность» в суждении вкуса означает позицию чистого дистанцированного созерцания. Если в оптике расстояние между смотрящим и объектом зрения – базовая категория, определяющая, как именно и на каком этапе могут возникать искажения и другие эффекты, то в эстетике дистанция – зазор между внутренним и внешним, личным эмоциональным и общезначимым фактическим – залог активизации в момент реакции удовольствия/неудовольствия определенных ценностей и смыслов. Дистанция и условность необходимы для обобщения индивидуализированных, конкретных образных смыслов усилием сознания. Эстетическая дистанция подчеркивает в индивидуальном переживании ценность общезначимого и таким образом конституирует самого эстетического субъекта. Это подтверждает, например, Кассирер, отмечая в работе «Индивид и космос», что дистанция определяет субъекта и ответственна за производство «эстетического образа пространства» так же, как и «пространства логической и математической мысли»2. Аналогичным образом Аби Варбург подчеркивал силу дистанции в понятии «Denkraum», или «пространство мышления», появление которого он связывает с фигурой астролога эпохи Возрождения, который действует в пределах двух противоположностей – математической абстракции, с одной стороны, и чувственным и мифическим – с другой. Дистанция, таким образом, – понятие, относимое не только к внешнему, но и к внутреннему, ментальному пространству и его операциям (в том числе эстетического порядка). О становлении субъективности (автора) через абстрагирование писал и Бахтин, объясняя на примере отношений автора и героя законы существования эстетической и художественной реальностей как таковых. Отвлечение от чувственного в позиции вненаходимости «дает возможность свободы осваивающего контакта с художественным миром осознать ее и, что не менее важно, себя в ситуации этой де2 См.: Grau O. Virtual Art. From Illusion to Immersion. – Cambridge, MA : The MIT Press, 2003. – P. 286. 214 215 ятельной свободы»3. То есть дистанция дает свободу, но свободу не безотносительную, а внутреннюю, помогающую лучше оценить свои собственные возможности. Субъект Бахтина – экзистирующий и этический субъект, а потому оборотная сторона его свободы – ответственность (вернемся к этому в завершение статьи). Эта свобода, свойственная художественной вненаходимости, тесно связана с тем, что дистанция (в ее продуктивном, творящем смысле) невозможна без операции погружения. Здесь уместно обращение к Хайдеггеру: понятие Entfernung (отдаление) он употреблял в активном, переходном значении, трактуя его как избегание отстраненности, избегание отдаленности, избегание, образующее разрушение (Ent-) «дали» как таковой4. Важнейшая категория философии Хайдеггера, «присутствие», – также одно из оснований (онтологической) эстетики и необходимый элемент в контексте нашего исследования. По сути, Хайдеггер одним из первых обратил внимание на вопрос о «преодолении отдаленности», достигаемом в телекоммуникации. «В присутствии лежит сущностная тенденция к близости», но при этом «свое з д е с ь присутствие понимает из т а м окружающего мира»5. Пространственное расстояние не играет роли, так как речь идет о другого рода «дали»: «даль подручного [то, по отношению к чему мы испытываем «усматривающее озабочение». – К. Ф.] присутствие никогда не может преодолеть». И в этом один из основных моментов онтологического смысла дистанции. В эффекте телеприсутствия технологии раскрывают новые аспекты эстетической дистанции, буквализируя разрыв между «здесь и сейчас» телесного опыта и эффектами, существующими исключительно в сознании. Тело оставляется в 3 Закс Л. А. К исследованию онтологии художественной вненаходимости // Онтология искусства. – Екатеринбург, 2005. – C. 222. 4 «Отдалить значит дать исчезнуть дали, т. е. отдаленности чего-то… Отдаленность прежде всего никогда не схватывается как расстояние» // Хайдеггер М. Бытие и время. – Харьков, 2003. – C. 127–128. 5 Там же. – С. 128, 130. пользу виртуального активного присутствия в каком-то другом мире. Эта идея не нова как в истории религии, так и в философии и искусстве. Закрепленный на определенной поверхности образ, еще до появления понятия искусства, служил означающим уже случившегося события или отдаленного объекта. Так, например, в первоначальном смысле, немецкое «Bild» («образ») означает не просто изображение, а магическую силу, неподконтрольную способностям человека6. Именно поэтому искусство тесно связано с религией: образы дополняют рассказываемую историю, помогая смотрящему перенестись (в фантазии) в мир священного, которое всегда противоположно профанному и располагается в «ином» пространстве7. Классическое изображение, при всем разнообразии техник погружения, не предлагает иллюзии одновременности нахождения сразу в нескольких пространствах. Начиная со Средних веков, подобные путешествия в пространстве осуществлялись за счет зеркальных конструкций, когда отражение могло появляться в самых неожиданных местах. Неудивительно, что катоптрическому изображению придавались метафизические характеристики. При этом речь шла не только о перемещении, но и о возможности обнаружения новых феноменов и духовной трансформации. Пример подобных устремлений – цилиндрическое зеркало математика иезуита Атаназиуса Кирхера, описанное им в 1646 году, которое позволило бы спроецировать вознесение Христа, изобразить его парящим в воздухе. Оптические эффекты, хотя и не связаны напрямую с темой телематики, важны для разговора о репрезентации, т. е. возможности для восприятия здесь и сейчас чего-то удаленного в пространстве/времени или же только воображаемого. На протяжении Барокко и Просвещения оптические иллюзии были основаны на средствах, появившихся еще ранее: камереобскуре, волшебном фонаре, раешном ящике. Уже не посягая 6 Grau O. Op. cit. – C. 279. Wertheim M. The Pearly Gates of Cyberspace: A History of Space from Dante to the Internet. – 1999. 7 216 217 на роль репрезентации трансцендентного и потустороннего, это были все те же формы сокращения дистанции между воображаемым и реальным – провоцирует ли это чистый аффект или же служит научно-просветительским целям8. Правдоподобие изображаемой реальности заставляло зрителя (а также, кстати, и читателя) переноситься мыслями в другую, фиктивную реальность, ощущать присутствие чего-то удаленного, невидимого. Историю создания иллюзий венчает в XX веке, несомненно, искусство кино. Именно оно, благодаря своей временной составляющей, радикализирует вопрос переживания происходящего на экране как присутствующего здесь и сейчас. Современное искусство, порывающее с репрезентативностью, предлагает ряд новых характеристик, в которых также проявляется понятие дистанцирования. Это, в первую очередь, доведенная до предела степень условности в искусстве XX века (укрепление позиций абстрактного образа, появление концептуального искусства и др.); доминирование позиции критичности как внутреннего свойства самого искусства (социальная критика, критика формы). С одной стороны, искусство в своих относительно новых, массово доступных формах (фотография, кино) приходит к широкой аудитории, с другой же стороны, благодаря своей внутренней усложненности, все больше отрывается от контекста повседневной жизни людей. С этой проблемой отсутствия единственно верного коррелята представимого образа косвенным образом связано и телематическое искусство. Ниже мы увидим, что телематика невозможна без виртуалистики, при этом внутри виртуалистики именно телеарт служит своеобразным навигатором, позволяя не только пересекать немыслимые дистанции кибермира, но и простраивать в них отношения, устанавливать ориентиры (хотя бы даже условные, фантазийные). 8 Подробнее см.: Киттлер Ф. Оптические медиа: Берлинские лекции 1999 г. – М., 2009. Телекоммуникация: проблема интерфейса для оптимальной коммуникации Тема специфики коммуникации, которую развивает телематическое искусство, – один из насущных вопросов настоящего и будущего. Коммуникация – это опыт совместного физического и когнитивного перемещения (displacement). Коммуникация – от лат. communicare – разделять (между участниками), делать общим. Напомним, что в своем развитии коммуникация пережила несколько важных этапов: устный, письменный, печатный и цифровой. За время своего существования человек изобрел множество способов коммуникации на расстоянии: через живое существо (человек (курьер)) или животное (лошади, собаки, голуби), семафорную азбуку, азбуку Морзе, ракеты, дым, наконец почту, телеграф, телефон и т. д. Изобретения, которые стали основой для многих сегодняшних средств связи, стали появляться лишь в XIX веке. «Телефоноскоп» (1879) Томаса Эдисона предвосхитил передачу движущегося изображения. А в 1916 году Кристиан Рисс изобрел «видящую машину»: камера подсоединялась к машине, которая посылала электрические сигналы по телефонной линии, которые на другом конце провода представали как изображения. К 1930-м годам понятие телекоммуникации оказалось связано с темой манипуляции и контроля на расстоянии, а также с вопросом о преодолении границ человеческой телесности и появлением моделей искусственной жизни (по видению Маринетти, например, с помощью радиофонии можно было бы увеличить чувственную восприимчивость тела: когда вкус, тактильные ощущения могли бы передаваться на дистанции). Многие идеи продолжали оставаться на уровне фантазии. Один из лейтмотивов утопических представлений о потенциале телекоммуникации – идея гигантского коллективного разума, некой обнимающей все человечество единой инфо- или ноосферы, к которой может быть подключен каждый. Различные трактовки телекоммуникации предлагали Маклюэн (медиапространство как естественное «продолжение» человека), Пьер Леви («трансцендентальный мета- 218 219 язык»), Марк Пессе («детерриториализация «Я» как основная характеристика, индикатор входа в киберпространство»), Ханс Моравек (наиболее радикальный в отрицании значения тела)9. Защитники идей всеобщей связности в виртуальном пространстве в своем пафосе доходили до полного иррационализма: «в мире безграничных путей перемещений и возможностей единственная возможная онтология – магическая» (Марк Пессе)10. Увеличение скорости коммуникации привело к радикальному изменению пространственно-временных характеристик жизни. Так, один из наиболее последовательных теоретиков виртуальности и телекоммуникации Поль Вирилио предупреждал о пагубных последствиях развития телекоммуникаций, в частности узаконившим новый тип оптики – «большую оптику», делающих все достижимым и в этой достижимости – исчезающим (вспомним Хайдеггера и его обоснование необходимости для з д е с ь некоего «сподручного», «близкого» т а м ). В отличие от «малой оптики», основанной на геометрической перспективе, в «большой оптике» полностью исчезают различия между близким и далеким, горизонтом и самим физическим пространством. Все просчитываемо и считываемо с единой глобальной поверхности. Тайн нет. Мир становится слишком прозрачным для восприятия – может быть «познан» мгновенно11. «Техники перемещения приводят нас не к продуктивному бессознательному зрения, которое в свое время грезилось сюрреалистам в фотографии и кинематографе, но к бессознательности зрения, к аннигиляции местоположений и видимости, грядущий размах которой пока еще трудно себе представить»12. Теленаблюдение (с помощью камер слежения) опосредует реальность, тем самым отдаляя ее, но не порождая при этом оппозиции реальное/иллюзорное: происходит умножение реальности, но без качественной трансформации (потенциальные эффекты этого умножения реальностей и являются в центре внимания телематического искусства)13. Ускорение коммуникации стремительно сокращает время на основную часть перемещения, ту, что находится между «отправлением» и «прибытием» – собственно «путешествие». «Однажды наступит день, когда день не наступит», – предупреждает Вирильо. Опасность состоит в «забывании сути пути», в смешении «здесь» и «там», в слиянии внутреннего и внешнего14. В отсутствии времени на переживание мы теряем себя, свою аутентичность, становимся подконтрольными. Таким образом, с разрушением пространственных характеристик дистанции растет значение временных. Само по себе техно-время, которое используется для ориентации в этом условном полувиртуальном «пространстве нигде» (Серрс), каковым является, по большому счету, пространство сегодняшней жизни, – это стохастическое (вероятностное), нелинейное и локальное время. Именно диахроническая перспектива делает возможной коммуникацию в современной действительности, разделенной на столь разные временные потоки15. Как бы мгновенно ни происходил обмен информацией, это, тем не менее, последовательность действий, которые и воспринимаются так же – во времени. Исчезает иерархия мест, но остается временнoй критерий «событийности». Что же может превратить соединение различных мест в одном «коммуникативном поле» в событие? Телеприсутствие основывается, как минимум, на трех технологиях: телекоммуникационных, робототехнических и вир- 9 Grau О. Op. cit. – Р. 283. Pesce M. Ritual and the Virtual [Электронный ресурс]. – URL: http:// www.hyperreal.org/~mpesce/caiia.html 11 «Большая Оптика запирает нас в клаустрофобном мире без глубины и горизонта; Земля становится нашей тюрьмой» // Вирилио П. Машина зрения. – СПб. : Наука, 2004. – C. 19. 12 Там же. 10 13 См.: Цимошка Д. А. Дискурсы катастрофы как генезис теории исчезновения. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.spho.ru/library/118 14 Virilio P. Open Sky / trans. by J. Rose. – London ; N. Y., 2003. – С. 25. 15 Веселова С. Б. Семь вопросов пользователя к сетевому телематическому киберполису. [Электронный ресурс]. – URL: http://anthropology.ru/ ru/texts/veselova/seven.html 220 туальной реальности. Таким образом, зритель/участник располагается сразу на трех территориях: в пространственновременной точке, в которой находится тело; в пространстве утопии виртуального образа; в месте работы передающей и автоматизирующей системы. Далее мы увидим, что и в искусстве используются не столько особенности мест, сколько способы и время взаимодействия с ними. Варианты художественной дистанции в телематическом искусстве Телематическое искусство (телеарт) строится по принципу создания особых отношений и ситуаций в пространстве и во времени – и в этом оно подхватывает теоретическую линию ситуационистов во главе с Ги Дебором и положения эстетики отношений Николя Бурио, однако с использованием средств телекоммуникации. Так же как и в случае медиаискусства в целом, классификация телеарта весьма условна. В частности, можно выделить такие направления, как произведения, в которых с помощью телекоммуникационных устройств осуществляется контроль над изображением; в которых через Интернет, путем открытого или закрытого публичного участия, выстраиваются целые ситуации и сценарии поведения объектов и людей; в которых индивидуальным образом связываются конкретные места; наконец, социальные и игровые проекты, связанные с геолокацией. Для всех этих направлений характерны использование приспособления для передачи сигнала, наличие более двух участников коммуникации, но также самое главное – связующая идея. Механизмы художественности могут проявляться на разных уровнях, но ключевым при этом будет изначальный сценарий, то, как именно автор решает объединить не связанные до этого элементы и какую реакцию предполагает в качестве результирующего впечатления – удивление, недоумение, восторг, возвышение, отторжение и т. д. Один из первых прообразов телематического искусства был осуществлен еще в 1922 году Ласло Мохой-Надем, который написал ряд картин в буквальном смысле по телефону – 221 давая инструкции непосредственным исполнителям («Телефонные картины»). В 1940–1950-х популярным стало использование радио (радиопьесы Бертольда Брехта, радио в саундарте Макса Нойхауза и др.). Вопреки чаяниям многих «утопистов», самый «логичный» способ передачи визуальных данных – телевидение – как ни странно, так и не стал «универсальной экспансией сферы искусства» и уже в начальной своей стадии не выдержал теста арт-экспериментом. Мечты Лучио Фонтана, Беньямина, Брехта об использовании средств массовой информации в целях искусства были вытеснены проблемой выживания самих средств, для которых коммерческая платформа оказалась намного более эффективной, чем художественная. Нам Джун Пайк, Вольф Фостель стали пионерами в использовании телемонитора как объекта арт-исследования; помимо них, в тех же 1962–1964 гг. в этом же направлении работали и Том Вессельман, Гюнтер Ойкер (Guenter Eucker), Сезар (Cesar), Исидор Изу (Isidore Isou). В дальнейшем избранные телевизионные компании – WHGB-TV (Бостон), WDR (Кёльн) – поддерживали выпуски программ, в которых транслировались вживую или в записи артистические перформансы и первый видеоарт («Good Morning, Mr. Orwell!» Нам Джун Пайка, 1984). Так, первой теле-арт-трансляцией называют «Black Gate Cologne» (1968) Otto Piene, Aldo Tambellini: запись интерактивного перформанса, в котором на светящиеся объекты проецировались фильмы, зрителям же предлагалось передвигать их в пространстве. Другими важными вехами также были «Fernsehgalerie» («Телевизионная галерея», 1968, Gerry Schum: программы о произведениях и выставках, созданных специально по заказу телеканала); концептуальные интервенции, существующие лишь в контексте телевизионного времени или же отражающие ситуацию восприятия телевидения в режиме частного, домашнего просмотра. Немецкий исследователь Дитер Даниэльс, описывая сложные взаимоотношения искусства и массмедиа, выделяет четыре пост-утопические стратегии развития отношений между телевидением и искусством: 1) аналитическую деконструк- 222 цию средств связи через использование искусства (Dan Graham, Daran Birnbaum, Klaus vom Brcuh); 2) использование телевидения с целью подчеркнуть невозможность «чистого» искусства (Laurie Anderson, John Sandorn, Robert Wilson, Zbigniew Rybczynsky); 3) субверсивную (подрывную) стратегию художественного «захвата» СМИ, интервенции (Rabotnik TV, Paul Garrin, Kanal X, Brian Springer); 4) прямую кооперацию между искусством и телевидением с целью разработки инновационных медийных техник (Douglas Davis, Van Gogh TV)16. Взаимодействие искусства и телевидения – достаточно специфическая область, и хотя она и связана с передачей сигнала на расстоянии – телеотношениями, эти отношения 1) односторонни; 2) как правило, транслируются. С развитием видеоарта и выделением его в самостоятельный вид искусства, ТВ-арт из сферы собственно искусства перешел в разряд телевизионной культуры. Параллельно и вслед за использованием телефона, радио и телевидения, для передачи художественного сообщения на расстоянии были подключены также и факсовые аппараты, телексы, а в дальнейшем и другие средства коммуникации («Telex: Q&A» (1971) одного из первых объединений, занявшихся медийными искусствами, E.A.T. – Experiments in Art and Technology, – это «полилог» между Нью-Йорком, Стокгольмом, Ахмадабадом и Токио, в котором участники обменивались сообщениями по телексу). Чуть позднее, в 1975–1977 гг. Кит Галлоуэй и Шерри Рабинович (Kit Galloway and Sherrie Rabinowitz) в проекте «Satellite Arts Project» (1975–1977) исследовали возможности и границы использования телекоммуникации в перформативных искусствах: на одном и том же видеоизображении запечатлевались слаженные движения и игра участников, находившихся на разных континентах. В 1980 г. те же художники организовали первый видеодиалог на расстоянии и в живом времени «Hole-in-Space» («Ды16 Daniels D. Television – Art or Anti-art? Conflict and cooperation between the avant-garde and the mass media in the 1960–1970 s. [Электронный ресурс]. – URL: http://mediaartnet.org/themes/overview_of_media_art/massmedia/ 223 ра в пространстве) – «окно» для общения между прохожими в Нью-Йорке и в Лос-Анжелесе, прообраз сегодняшней IPтелефонии и веб-камер, в чем спустя 25 лет никто не находит никакого откровения и чуда. Понятия «виртуального пространства перформанса» и «изображение как место» были также продолжены художниками в рамках лаборатории ART-COM (Art Research in Telecommunication, 1982), где они руководили постановкой спектаклей на тему «жизни в виртуальном пространстве» – одновременными показами в двух удаленных друг от друга местах одной и той же пьесы, где актеры играют свои роли с партнерами в других городах. Таким образом, новые технические средства делали возможным новый способ взаимодействия, создавая пространство для новых смыслов. Безусловно, радикальным прорывом стал Интернет и открываемые им возможности одномоментной связи, подключения и дистрибуции данных со всех краев Земли. Большую часть работ в этой области можно условно разделить на группы по типу участников интеракции: человек, машина, природное явление, данные, отражающие социальную активность (сочетания могут быть самыми различными). Среди наиболее примечательных примеров «Телесад» («The Tele-Garden», 1995) Кена Гольдберга и Джозефа Сантароммана: пользователи Интернета могли дистанционным образом растить и ухаживать за настоящим мини-садом: посылать сообщения с информацией о типах семян и времени поливки роботу, который и являлся главным «садовником». Если «Телесад» инициирует прямые отношения между человеком и удаленным объектом (требующим заботы, пробуждающим чувство ответственности), то другой не менее классический пример – работа группы S.W.A.M.P.17 «Спора 1.1» («Spore 1.1», 2004) – обращается к трансиндивидуальному уровню и социальноэкономическим аспектам. В центре внимания также растение, однако его жизнь поддерживается слепым и непредсказуемым развитием на рынке акций: поливка совершается соответст17 Аббревиатура для «Studies of Work Atmosphere and Mass Production», Douglas Easterly и Matt Kenyon. 224 венно с уровнем стоимости акций торговой корпорации Home Depot (где и было приобретено растение). Телематическая интеракция «человек–человек» в наиболее чистом виде была «зафиксирована» еще в 1993 году Полем Сермоном в «Телематическом видении»: два удаленных человека получают иллюзию нахождения в едином пространстве. Говоря о телематике в публичной сфере, невозможно не упомянуть внушительные и зрелищные опыты мексиканского художника Рафаэля Лозано-Эммера (Rafael Lozano-Hemmer). Одна из самых знаменитых работ медиа арта, «Amodal Suspension» – масштабная интерактивная инсталляция, которая преобразует смс-сообщения людей друг другу в гигантские лучи, передвигающиеся по ночному небу, словно по панели управления. В другой работе того же автора, «Pulse Front», лучи движутся в соответствии с информацией о пульсе прохожих, поступающей с датчиков специальных металлических конструкций, к которым прикасаются «тестируемые». Таким образом визуальная активность порождается в том числе и неподконтрольными сознанию физическими параметрами. Ряд примеров может быть продолжен18. Искусство использует новые технические средства (телекоммуникацию) для их концептуализации, но также и для осмысления с их помощью доселе невозможных соединений. Проекты подтверждают, что зона досягаемого действительно расширяется, причем досягаемого как осязаемое, но осязаемое в виртуальном смысле, не непосредственно чувственным аппаратом человека, а через его техническое продление. Что же эти изменения означают в эстетическом смысле? Возмож18 «Поверхностью», на которую фиксируются данные, может быть и само человеческое тело. Так, тело (двигательные мышцы) можно побудить отвечать не на сигналы собственной нервной системы человека, но на стимулирование со стороны глобально соединенных компьютерных сетей/ «распределенного сознания» (Стеларк. «Фрактальная плоть»). С другой стороны, своеобразное живое тело представляет собой сама Земля. В инсталляции «Мори» (1999) Кена Гольдберга, Рандала Пакера, Грегори Куна, Войчека Матусика зритель может наблюдать в режиме реального времени сейсмическую активность разлома Хайвард в Калифорнии. 225 но ли, например, говорить в их отношении об эффекте возвышенного, чувстве столкновения с тем, что выходит за пределы умопостигаемого и воображаемого? Способно ли абстрагирование в связи с преодолением расстояний и сложностью процедур опосредования погрузить в состояние благоговейного трепета, катарсиса? Здесь важна не столько степень абстрагирования от непосредственной физической данности, сколько осуществляемое благодаря ему на новом уровне сближение/сталкивание друг с другом не только географически, но и ценностно разноположенных явлений, например таких, как человеческая телесность, природа, коммуникативный акт/социальная активность, искусственный интеллект. Трансформируется содержание и самого возвышенного: в мире «большой оптики», всеобщей проявленности и представимости, исчезновения границ и расстояний понятие предела как ключевого в понимании возвышенного переходит в качественно иную плоскость. Разные работы (далеко не все) способны вскрывать разные грани и по-своему расширяют возможности сознания помыслить (и прочувствовать) соединения, которые обостряют и обнажают бесконечность самих комбинаций, но также и глубину индивидуальных особенностей соединяемых элементов. Мобильное картирование и вопросы репрезентации Как в медиаискусстве в целом, так и в отношении телематического искусства всегда существует вопрос о критериях художественности: как именно применение технологий делает нечто искусством? Имея в своем основании дистанцию, продленную границу, различие, телеарт еще больше акцентирует коммуникативные отношения: в первую очередь между воспринимающим субъектом и автором произведения, но также и внутри самого произведения (частью которого и становятся его автор и зритель). В этом смысле, благодаря своему внутреннему динамизму телематическое и локативное искусство удачно дополняют принципы «эстетики отношений» (Бурио). Отношения имеют смысл лишь в своем развитии – это всегда процесс, процесс установления связей с объ- 226 ектами в пути. Как правило, эти отношения строятся на определенной истории, конфликте или несоответствии: когда случается что-то, нарушающее привычный ход дел, что-то, заставляющее остановиться и задуматься. При этом во всех случаях телеарта важна «укорененность» одного из участников коммуникации – зрителя или работы – в конкретной физической точке пространства. Именно характеристики этой точки – абстрактно, метафорически или же напрямую – выражаются в технически и концептуально оформленных сигналах и сообщениях. Получатели и отправители сигнала объединяются в систему, расположенную в физическом пространстве. Предметом здесь становится как карта взаимодействий, система «следов», оставляемых участниками коммуникации, так и сам живой процесс этих взаимодействий. Таким образом, представляется продуктивным выделить подобные проекты в особую категорию – связанную с процессами мобильного картирования. «Следы» в буквальном смысле обнаруживаются в одноименной работе Саймона Пенни (Simon Penny) в 1994 году. Традиционной модели виртуальной реальности с ее сосредоточенностью на проблеме сенсориума (разделение сознания и тела) как патриархальной, основанной на «фаллической, колониальной и паноптической идеологиях», здесь противопоставляется модель, отдающая прерогативу телесности: движения посетителя особой 3D-среды фиксируются в виде видимых линий в пространстве – «следов»19. Будучи оцифрованными, естественные процессы взаимодействия со средой становятся частью общей инфосферы, при этом телесная индивидуальность не растворяется, но является основой для математических исчислений и их репрезентации в виде паутины линий, сосуществующих в разных плоскостях. Подобное абстрагирование осуществляется и применительно к движению в городской среде. Эстер Полак и Джерон 19 Hayles K. Flesh and Metal: Reconfiguring the Mindbody in Virtual Environments. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.medienkunstnetz.de/ source-text/116/ 227 Ки (Esther Polak, Jeroen Kee) в проекте «Amsterdam Realtime» (2002), фиксируя с помощью цифровых средств навигации свободные передвижения людей по городу, рисуют портрет жизни города в живом времени. Аналогичные задачи решают также Тери Рюб (Teri Rueb) – «Хореография повседневного движения» (2001), Томас Аподаки (Tomas Apodaca) – «Fly Cab». В более крупных масштабах это аллюзии на геоглифы – «59» Ирины Даниловой (гигантское число на картах городов и стран, рисунок, выполненный автором с помощью системы GPS), слово «IF», растянувшееся по территории всей Англии, «Britglyph» (гигантские часы с цепочкой, также величиной со всю Англию, «начерченные» усилиями целого сообщества участников) и другие. Эти произведения уникальны, поскольку существуют на самом деле в лиминальной зоне на стыке между реальным и виртуальным, интернет-пространством. След – это то, чем можно измерить «дистанцию», придать ей математическую величину, тем самым «возвышая» конкретику материального до уровня обобщенной абстракции. След – это также знак, а в интерпретации Деррида – нечто, раскрывающее еще более перспективные контексты – это форма «не-наличия», осуществляемая всегда через соотнесенность с чем-либо. Процедура означивания предполагает существование определенного различия (в терминах Деррида, различАния/differance), смыслового интервала, который и конституирует знак. След (через различАние) разбивает внутреннее единство «здесь и теперь», самотождественность «наличия»/ «присутствия», разоблачая тем самым ограниченность иерархической системы традиционной мыслительной парадигмы (метафизики)20. Понятие «различАние» важно для нас в данном случае в своем отношении к следу как онто-семиотиче20 «Без удержания опыта времени в некоей мельчайшей единице, без следа, удерживающего другое как “другое в самотождественном”, – не могло бы появиться никакое различие, никакой смысл. Речь, таким образом, идет здесь не об уже установленном различии, но о чистом движении, порождающем различие – еще до какой-либо содержательной определенности. Чистый след есть различАние» // Ж. Деррида. О грамматологии. – М., 2000. – С. 189–190. 228 ское обоснование для возможности бесконечного отодвигания предела выразимого. В чем, таким образом, герменевтический и эстетический смысл картирования? Как новые технологии меняют представление о пространстве? В чем художественное отличие упоминаемых проектов от традиционных процедур картирования? Обозначенное Башляром феноменологическое прочтение пространства позволило обратить внимание на аспекты его социального конструирования (Лефевр) и властных отношений (Фуко). В картах же всегда сложным образом сочеталось субъективное и объективное: на отображение реального физического пространства накладывалось идеологическое представление – будь то система Птолемея или колониализм (карта Меркатора). Перспектива, открывающаяся с высоты воображаемой или реальной горы, позволяющая объять единым взором необъятное, безусловно, отсылает к чувству возвышенного. «Всевидящее око», отстраненное от забот там, внизу – в первую очередь, символ паноптизма и контроля. Однако в этой же точке находится и пытливый ренессансный художник и романтический поэт, которых не столь уж волнует власть, даруемая посредством зрения и связанного с ним знания, возможность геометрической/иной фиксации во имя мирового господства. Скорее, их, каждого по-своему, охватывает то самое негативное удовольствие, стремление отодвинуть горизонт, расширить границы познаваемого еще дальше, осознание ничтожности человеческого существования перед лицом всеобщности. Сегодняшние технологии (начиная с аэрофотосъемки и спутниковой фотографии и заканчивая Googlemaps) делают доступным то, что раньше лишь воображалось. Картирование, таким образом, попадает в зону классической эстетической проблематики репрезентации: насколько полно отвечает реальности то или иное изображение? Как влияют на результат средства фиксации образа? Что брать за точку отсчета? Каково воздействие выбранного образа на восприятие? Насколько можно доверять «объективному» видению машины? 229 Художественные практики предлагают разрешение этих противоречий через снятие самой диалектики объективного/ субъективного, сосредоточиваясь на индивидуальности отношений со средой, которые позволяют локативные медиа. Если для картографа оптическая дистанция – это усложнение задачи (не видны детали), то художник находится по ту сторону необходимости быть объективным, он предельно отстранен и вместе с тем физически вовлечен в игру с конкретными условиями места. Он ощущает и высказывает «всеобщее» через тесное взаимодействие с локальным. Важно при этом, что в отличие от безучастного фланера его позиция постановки вопросов, расширения не только собственного опыта, но и общественной дискуссии, более ответственна. Пожалуй, одним из первых альтернативу объективирующему взгляду картографии или спутниковой фотографии предложил лэнд-артист Ричард Лонг в своих прогулках по горам и долинам всех континентов. Тогда же, в 1960–1970-х, закономерно развилось и движение ситуационистов, с их концепцией психогеографии – раскрытия пространства через индивидуальный опыт насыщения места множественными историями. Создавая парадоксальные ситуации и интервенции в городской среде, прерывая привычный ход вещей, последователи Ги Дебора стимулировали варианты альтернативного отношения к пространству – не статичному, но динамически и частным образом проживаемому. Это пространство, основанное на рассказе, диегетическое. Каждый вправе иметь свой собственный ментальный образ происходящего именно с ним (с ней) в конкретном месте. Дистанция оборачивается здесь, условно говоря, «танцем»: отношения выстраиваются всецело изнутри, телесно, и степень психологической/физической удаленности определяется каждым индивидуально. Участники акций (например, лондонская группа Socialfiction.org или российские «анархокраеведы» 1990-х гг., выходившие на маршруты, руководствуясь Генпланом застройки Москвы 1954 г.), погружались в пространство соответственно некой заранее придуманной истории. Этот фантазийный/метаплан, своего рода 230 утопия и игра – одновременно и опосредующий, и соединяющий фактор. Критический посыл ситуацианистов – в разрушении иерархизирующего, тотализирующего и схематизирующего взгляда «сверху вниз», характерного для традиционной картографии. Самобытны и всегда индивидуальны не только истории, но то, что они осуществляются в режиме живого движения по непредсказуемому (урбанистическому) ландшафту21. Перемещение предшествует и в чем-то даже обосновывает создание карты. Здесь значительна роль воображения, ведь именно оно пробуждает в немом пространстве голос, присваивает местам значения. Теоретические конструкции пространства вытеснили мифопоэтизм, присущий культурам, в которых устная культура превалирует над письменной, а процесс прохождения пути равнозначен его результату. Например, автралийские племена ориентировались в пространстве с помощью «песенных линий» («songlines»), состоящих из описаний местности и историй, происходивших на ней с разными мифическими героями. Воображаемое и поэтическое здесь заполняет пустые клетки дистанцирующих картографических схем и проекций. Карта схватывает лишь поверхность, видимость, тогда как антропологический срез, повседневная жизнь людей, мобильные практики часто противоречат спекулятивным построениям и образуют метафорический пласт. Как отмечает в своей известной работе «Изобретение повседневности» Мишель де Серто, «хищная особенность картографической системы: обеспечивая “читаемость” действий и событий, она нередко способствует забвению бытия-в-мире»22. Повседневные истории – «проработки пространства» («treatments of space»). 21 «Размещение» («emplacement»), в данном случае посредством истории, если следовать Делёзу и Гваттари, это особая форма индивидуации, т. е. становления // Deleuze G., Guattari F. A Thousand Plateaux / trans. B. Massumi. – Minneapolis : University of Minnesota Press, 1987. Р. 261. 22 Серто М. де. По городу пешком // Communitas. – 2005. – № 2. – С. 85. 231 Однако не каждая повседневная история становится произведением искусства. Поэтический смысл, вкладываемый в нее, не возникает из пустоты. В случае ситуационистских «derive», спонтанных импровизирующих маршрутов, «дрейфов», поэтика вверялась действию случая, или случайно выбираемым ориентирам (например, следовать определенному запаху). Сегодняшние локативные медиа23 возвращают нас к фиксации маршрута и картированию, но позволяют делать эти ресурсы дополнительными к социально и этически, а также физически значимым (перформативным) опытам. Продолжатели концепции «прогулок как искусства» Мартин Хаус (Martin Howse) и Шинтаро Мияцзаки (Shintaro Miyazaki) предлагают новую методологию «деривов», основанную на геофизических характеристиках24. Их «Детекторы» трансформируют в звук скрытые электромагнитные характеристики мест. Собираемые материалы образуют карту геолокационных аудиозаписей и базу сонических исследований электромагнитных эмиссий наших повседневных электронных устройств – инфоскейпа нашего времени (так, можно слышать модуляции WiFi, Bluetooth, GSM, UMTS, GPS и других передающих систем в диапазоне 100 МГц-5ГГц, а также трансмиссии компьютера, iPod, iPhone). В зависимости от точки пространства характеристики волн и полей, а соответственно и звуки, раз23 Термин «локативные медиа» образован Карлисом Кальнинсом (Karlis Kalnins) и тесно связан с понятиями «расширенной» (augmented) реальности (дополненной виртуальными элементами) и всепроникающего исчисления (pervasive/ubiquitous computing). Если последние более увлечены технической стороной, то проекты с локативными медиа сконцентрированы на критической, социальной или личной истории взаимодействия с тем или иным местом. См. подробнее: Hemment D. Locative Arts. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.drewhemment.com/2004/locative_ arts.html; Galloway A., Ward M. Locative Media as Socialising and Spatialising Practices: Learning from Archaeology. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.purselipsquarejaw.org/papers/galloway_ward_draft.pdf 24 Miyazaki Sh., Howse M. Detektors. Rhythms of Electromagnetic Emissions, their Psychogeophysics and Micrological Auscultation // ISEA2010 RUHR : Conference Proceedings. 232 233 личаются. Индивидуальные данные затем наносятся на общую карту описанных таким образом сред во всем мире. Сочетание стихийного фантазирования, фикций психогеографов и точных геофизических измерений, физического мира и абстракций кода (протокола) строится здесь на вычислении и акустической презентации нюансов взаимодействия между носителем и сигналом и врожденных абстракций. Это процедуры выявления – выявления новых модусов коммуникации и трансмиссии, скрытых сетей, через которые проступает «другой город», другое измерение места. Другая перспективная методология устанавливает связи между особенностями пространства и биометрическими данными как личной историей. Например, проект «Bio Mapping» Кристиана Нольда (Christian Nold)25предлагает своим участникам устройства (гальванический аппарат, идентичный детектору лжи), фиксирующие их эмоциональные состояния и уровень стресса во время их передвижения по городу. Помимо автоматически снимаемых данных каждый побуждается также оставить вербальное сообщение. В результате появляется возможность увидеть задокументированной свою собственную жизнь, обрести опыт критической дистанции по отношению к происходящим событиям (как в реалити-шоу или как в случае «остранения» Брехта). Точкой отсчета выступает не просто место нахождения, но психосоматическая размерность, не только тело и сознательное воление, но и подсознательные параметры. «Разыгрывая» (enacting) маршруты, их участники устанавливают более непосредственные связи со своим окружением и тем самым подтверждают на деле принципы всеобщей взаимодетерминированности26. Ряд проектов связан с акустической интерпретацией расстояния и динамики его преодоления. Так, в «Hlemmur in C» Пола Тайера (Pall Thayer) движение двух такси, оснащенных GPS, создает звуковую композицию: частота производимых 25 URL: http://emotionalcartography.net Varela F., Thompson E., Rosch E. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. – MIT Press, 1992. 26 ими звуков образует интервал, соответствующий степени их удаленности от своей базы, которой присвоена частота ноты «до» среднего регистра. Другой показательный пример «озвучивает» положения в пространстве передвигающихся по нему людей: каждый может слышать частоты местонахождения других, в сумме же звуки образуют нечто вроде «сонического ковра» («Urban Tapestries», 2004–2008, Proboscis). Звук (одно из самых «чувственных»/ прямых в своем воздействии средств) здесь – форма материализации абстрактного расстояния, форма объединения участников процесса, создания языка мобильных отношений27. Быть может, сегодня, когда виртуальность так плотно и неоспоримо вошла в нашу повседневную жизнь, когда «возрождение» реальности «здесь и сейчас» становится острой необходимостью (вспомним проблемы аддикции к компьютерным играм в младшем возрасте), обращение к физическим характеристикам локального и индивидуального способствует восстановлению утраченных человеческих, бытийных связей? Намеренное использование медиа только подчеркивает разорванность современного ощущения реальности и пространства. Собирание же происходит на уровне множества индивидуальных карт – абстрактных образов места, несущих след того, кто их составлял. Телеискусство пытается найти те зоны, в которых мы еще способны хранить себя. Один из главных вопросов здесь – подлинность испытываемых ощущений, «присутствие» в лиминальной зоне между «здесь» и «там», самотождественность в зоне различАния. Локационные перформансы (включая упомянутые) и смарт-мобы немаловажно рассматривать в том числе с точки зрения психоаналитического подхода и этики. 27 Два других ярких примера на тему акустических практик и телематики: «E-turn» Йенса Бранда (Jens Brand), где по Интернету можно заказать звуковую дорожку, соответствующую рельефу любой выбранной траектории на планете; «Radiomap» – становясь на разные точки на карте мира (напольная проекция), можно в живом режиме слушать радио этих мест, ощущать себя так или иначе к ним причастным (URL: http://www.hohlwelt. com/en/interact/practice/radiomap.html). 234 235 Вспомним, что развитие телекоммуникационных технологий во многом обязано таким естественным устремлениям, как любопытство по отношению к Другому, желание проецировать свою волю (и власть), обретение физической свободы, независимость от условий места. Классик исследований телеарта Рой Эскотт в одном из своих программных текстов задает провокационный вопрос: «Есть ли любовь в телематических объятиях?» Для самого Эскотта, «синкретиста», неравнодушного к мистическим учениям и практикам расширения сознания, используемым, например, бразильскими аборигенами (с помощью аяваску), ответ, безусловно, позитивен. «Телематическое искусство – агент сознания, оно часть эволюции сознания. Телематическое искусство включает в себя… распределенное присутствие, связь сознания-с-сознанием, интенсивное ассоциативное мышление и, таким образом, более глубокую интуицию. Оно в основе своей интерактивно и трансчувствительно (transentient)… Телематическая культура заинтересована в глобальных связях людей, пространств, но прежде всего – умов»28. Другой британский автор – критик и куратор Мэтт Локке также задается вопросом об этическом воздействии экспериментов с возможностями телематики (уже с более критических позиций) 29. Насколько я могу довериться незнакомцу? Если за мной кто-то следит или меня тестируют – то можно ли это воспринимать не как нарушение зоны личного, а как опыт, в первую очередь, самопознания? (Именно это, например, демонстрировала известная группа Blast Theory в своих акциях/перформансах «Unlce Roy All Around You», «Can You See Me Now?»30, а также Тим Этчеллс (Tim Etchells) в «Surrender Control»31.) Другой – удаленный незнакомец/Big brother/бог/ коллективный разум – дает возможность раскрыться, довериться неизвестности, а быть может, даже испытать эффект возвышенного – от осознания поразительной связности и слаженности частей. В этом чувстве доверия реальности удаленного Другого можно распознать также и ответственную свободу позиции вненаходимости Бахтина. Произведение телеарта подчеркивает, как с помощью средств телекоммуникации физическая удаленность способна не нивелировать, а утверждать ценности аутентичного бытия и «свободы для». Сокращение временной дистанции на путешествие, преодоление физических расстояний позволяют полнее раскрыться уже не расстояниям, а перспективам – перспективам, дающимся в позиции «по ту сторону». Каждая новая «контактная линза общения», «прозрачный протез» (Бодрийяр) не атрофирует орган, а дает ему новые, расширенные способности. Телематика не убивает трансцендирования и не уплощает его. Напротив, человеческое воображение получило новый повод и средства для постановки и решения все тех же вечных вопросов – о самих себе, о формах отношений с другими, о способах репрезентации этих отношений и достижения таким образом более эффективной реализации заложенных в человеке возможностей. 28 Эскотт Р. Реальность и сознание // Искусство. – 2009. – 4/5. – С. 84–85. Matt Locke. Are You In Love? // Camerawork : Journal of photographic arts. – 2003. – Vol. 30. – no. 2. – Р. 30–32. 30 Мистический «дядя Рой» посылает смс-сообщения игрокам/перформерам с указаниями, в завершение поступает вопрос: готов ли участник довериться и посвятить себя (commit) незнакомцу сроком на год, в обмен на то же от последнего? Вопрос, тестирующий границы страхов и общественной разобщенности. В «Can You See Me Now» в игровой и пер29 формативной форме проблематизируется вопрос присутствия/отсутствия. Невидимый и неуловимый противник в игре обнаруживает себя в конце концов под именем человека, с которым играющий давно не виделся. 31 Неизвестный в текстовом сообщении по телефону предлагает написать на руках слово «Sorry». Будет ли это побуждением просить прощения, или это немой жест раскаяния за какой-нибудь проступок? Что значит прощать и почему об этом просит посторонний человек? 236 237 М. Ю. Гудова* Особенности современной художественности на примере арт-проекта Кшиштофа Водички: Projekcja Weteranow Wojennych (Кrakow, 23.07.2013) О твечая на вопрос о том, что делает современные продукты художественной деятельности произведениями искусства, приходится учитывать как минимум три различных по социальным и эстетическим координатам обстоятельства. Во-первых, интеллектуально – экспертные традиции. В частности, сложившееся в российской эстетической традиции противопоставление классического искусства и современных арт-практик как искусства и не-искусства. Например, по мнению одного из ведущих российских теоретиков современного искусства В. В. Бычкова, искусство закончилось вместе с концом классической культуры, т. е. в конце ХIХ века. Все дальнейшее представляет собою уже не культуру, а ПОСТкультуру, в рамках которой искусство невозможно, а возможны лишь продукты художественной деятельности (арт-практики, арт-объекты, арт-проекты, артефакты). Любым современным арт-практикам В. В. Бычков отказывает в праве называться произведением искусства по * Маргарита Юрьевна Гудова – кандидат философских наук, доцент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры ИСПН, доцент кафедры культурологии и дизайна ИГНИ, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). © М. Ю. Гудова, 2013 причине, как утверждает исследователь, отсутствия в них ценностного Абсолюта и ценностного измерения1. Во-вторых, особенности технологий современной художественной коммуникации. В новой социокультурной ситуации постграмотности2 на смену традиционной художественно-коммуникативной системе автор – произведение – читатель пришла ситуация, когда автор растворяется в языке и дискурсе; мультимедийный гипертекст (вне зависимости от его сетевой или несетевой природы) стал доминирующим типом востребованных текстов в культуре; читатель принял на себя функции автора, комментатора, редактора и издателя, стал решающей фигурой среди всех, кто конструирует и рецензирует текст. В-третьих, неизбежная для общества потребления трансформация формата произведения искусства в статусно-престижный, статусно-репрезентативный и дорогой объект и, следовательно, общественно и эстетически значимый предмет потребления, определяющий отношение реципиента к творческому продукту и самой творческой деятельности как удовлетворяющий потребность в наслаждении прежде всего. Способность произведений искусства утверждать высокий социальный статус потребителей чаще всего в сознании обывателя связана с ценой, которая заплачена за тот или иной художественный продукт. Вместе с тем актуальные произведения социальной направленности достаточно часто являются принципиально некоммерческими и не предназначены для продажи. Реципиент же, будучи по типу своего отношения к искусству потребителем, не склонен доверять бесплатному или недорогому художественному продукту, в том числе расположенному в открытых публичных пространствах, поминая пресловутый «сыр в мышеловке», а также не склонен выбирать 1 Бычков В. В. Искусство // Лексикон нон-классики. Художественноэстетическая культура ХХ века / под ред. В. В. Бычкова. – М. : РОССПЭН, 2003. – С. 218. 2 Гудова М. Ю. Постграмотность как массовый социокультурный эффект // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 5. – С. 212–214. 238 из спектра предлагаемых произведений нечто, разрушающее комфортное течение размеренной жизни. Между тем проблема современной художественности – это не только и не столько академическая проблема современной эстетики, стремящейся производить дефиниции и говорить на адекватном современным арт-практикам категориальном языке, но прежде всего проблема актуального искусства, которое постоянно находится в поиске новых и действенных художественных приемов вовлечения, удержания и программирования внимания реципиентов к своим проектам. Проблема современной художественности, таким образом, это проблема научной категории, художественной творческой деятельности и художественного восприятия. Ученые-философы пытаются разрешить эту проблему, выводя категории. Художники ищут современную художественность, погружаясь непосредственно в арт-практики. Польско-американский художник Кшиштоф Водичко (1943 г. р.), являющийся профессором Центра передовых визуальных технологий в Массачусетском технологическом институте, а также профессором искусства, дизайна и социальных сетей в Высшей школе дизайна в Гарварде, сочетает поиск художественности в арт-практике с преподаванием основ теории художественности практикам искусства и дизайна. В качестве одного из участников 19-го Международного Конгресса по эстетике в Кракове, Кшиштоф Водичко представил в научном докладе основные идеи своего творчества, а также проект Projekcja Weteranow Wojennych, который можно рассматривать в качестве квинтэссенции поиска современной художественности практикующим теоретиком актуального искусства. Проект был представлен на Торговой площади Кракова. По технике исполнения это был видео-арт-проект, но сам К. Водичко назвал свой проект «text-and-sound show», подчеркивая его художественное своеобразие. Проект соединил художественную выразительность графически-визуальной, му- 239 зыкально-звуковой и свето-проекционной природы, т. е. был сделан на основе мультимедийного и полиморфного текста. Как и другие проекты этого автора, он был включен в насыщенное городское пространство, что сделало его несетевым гипертекстом. Как утверждает М. Кантор, проект актуального искусства приобретает художественность только в том случае, если возникает контрапункт между проектом, его содержанием и формой, и тем множественным контекстом, в котором он осуществляется3. Проект «Ветераны войны» К. Водички был реализован в краковском городском пространстве, которое в силу своей истории и сложившегося архитектурного ансамбля само является многообразным и многоуровневым гипертекстом 4, что усилило гипертекстуальность и проекта К. Водички тоже. Прежде всего, Торговая площадь Кракова – пространство, насыщенное историческим контекстом. Площадь сформировалась в XIV–XVI веках и была свидетелем всех значительных исторических событий в Кракове, Королевстве Польском и Восточной Европе на протяжении семи столетий. Все восточноевропейские войны, революции, эпидемии прошли польскими торговыми путями и затронули Краков. Свидетельством этому многочисленные архитектурные и скульптурные памятники площади: Базилика святой Марии, памятник поэту А. Мицкевичу, Суконные Торговые ряды, Церковь святого Альберта и т. д. Пространство площади насыщено афишами, вывесками, рекламными баннерами, наружной и входной рекламой, религиозными росписями, памятными мемориальными плитами, логотипами, туристическими указателями и т. д. С историческими памятниками на Торговой площади соседствует огромное количество магазинов, обменных пунктов, около 750 кафе и ресторанов. Все это создает плотный бульон потребления, определяющий конструктивные особенности арт-проекта. 3 4 Кантор М. Бунт официанта // Эксперт. – 2013. – № 30–31. – С. 62–65. Бычков В. В. Гипертекст (сверх-текст) // Лексикон нон-классики. – С. 133. 240 Эстетический контекст Торговой площади Кракова образуют историческая брусчатка площади, архитектурные детали зданий, цветы и клумбы, музыка уличных музыкантов, пестрые одежды гуляющей публики, разнообразие и многоязычие звучащей над площадью речи. Пространство Торговой площади оформлено множеством памятников классической художественной культуры и современных арт-объектов: архитектурным ансамблем площади и каждого из образующих ее зданий, скульптурными деталями архитектурных сооружений и самостоятельно стоящей классической и современной городской скульптурой, полотнами музея классической польской живописи XVIII–XIX веков и религиозными росписями на стенах старинных зданий. Площадь – изначально пространство и полифоническое в своей культурной насыщенности, и интертекстуальное, поскольку между различными историческими и художественными памятниками идет непрерывный диалог, и гипертекстуальное, поскольку каждый отдельный памятник представляет собой особый культурный текст. В таком полифоническом, интертекстуальном и гипертекстуальном пространстве осуществлялся арт-проект К. Водички. Как проект видео-арта, он включал три обязательных элемента: проекционное оборудование, проекционную поверхность и проецируемое изображение. В качестве проекционной машины использовался переоборудованный военный джип песочной раскраски. Автомобиль был выставлен на площади задолго до начала проекта и выступал на протяжении этого времени в качестве самостоятельного арт-объекта. Вокруг него собирались мальчишки, фотографировались туристы и т. д. Проектор был установлен на месте пулемета. В качестве проекционной поверхности была выбрана краснокирпичная стена Часовой башни Торговой площади города Кракова. Башня поднимается над площадью на 70 метров и видна со всех сторон площади. Башню венчают средневековые часы XV века. 241 Часы отсчитывают время по кругу, что в контексте проекта становится зримым символом непреходящей актуальности проблематики проекта К. Водички: «War Veteran Projection». Войны и их жертвы – явление, постоянно повторяющееся в историческом времени человечества. Как говорит К. Водичко, для его проектов особое значение имеет тема ветеранов войны, которой он неоднократно посвящал свои проекционные проекты: в Денвере (2008), Бостоне (2009), Нью Йорке (2009), Ливерпуле (2009), Вроцлаве (2010), Варшаве (2010), Эндхофене (2011), Нью Йорке (2012)5. Автор подчеркивает, что, поскольку его проекты имеют принципиально антивоенный характер, он исключает любые художественные и технические детали, которые могли бы каким-то косвенным образом популяризировать войну и героизировать ее ветеранов. Для К. Водички принципиальной исходной и смыслообразующей мыслью является понимание ветеранов и их близких как жертв войны. Для этого, объясняет Кшиштоф Водичко, ему пришлось отказаться от визуального изображения людей в своем проекте. Он считает, что любое изображение ветерана, вне зависимости от того, могучим богатырем в орденах или инвалидом-ампутантом в лохмотьях, героизирует образ ветерана войны и делает его жизнь примером военного подвига для молодых. Поэтому К. Водичко свел визуальную изобразительность к минимуму – на краснокирпичную стену часовой башни проецируются исключительно тексты. Это тексты монологов ветеранов и их близких. Проецируемые строки были набраны шрифтом, лишенным каких-либо украшений: это был строгий и лаконичный Arial MS. Выравнивание строк осуществлялось от центра. Центр строки совпадал с центром циферблата башенных часов. Это еще раз подчеркивало, что все историческое время вращается вокруг войн и их жертв. 5 Wodiczko K. The War Veteran Projection. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mocak.pl/projekcja-weteranow-wojennych-krzysztofawodiczko-na-krakowskim-rynku (дата обращения: 11.11.2013). 242 243 Другой причиной, по которой К. Водичко отказался от портретной изобразительности, является эффект визуальной персонификации героев, которая неизбежно происходит в случае проекции изображения. Портреты, по мнению автора, заставляют зрителя видеть в героях проекта вполне конкретных персон, участвующих в шоу. Отказ от визуального портретирования персонажей лишает их внешность и слова персонификации, придает текстам анонимность и одновременно всеобщность. Словесный монолог, существующий отдельно от лица говорящего, принадлежит не персонально какому-то конкретному ветерану или его жене, конкретным жертвам войны, а позволяет монологу звучать от имени всех ветеранов и всех жен ветеранов, от лица каждого из тех, кто пережил войну в своей жизни, и кто волей-неволей попал в соавторы и/или соучастники этого проекта. Анонимные светящиеся и звучащие слова при определенных обстоятельствах могли бы принадлежать любому из тех людей, что оказались во время проекта на площади. Всеобщность и анонимность звучащих и светящихся текстов отвечает еще одной установке современной художественности и ситуации постграмотного чтения – проблематизации и/или отрицанию фигуры Автора. Выстреливающий короткими очередями, по две строки, текст, в котором чередуются отрывки, произносимые мужскими и женскими голосами, принадлежащими ветеранам и женщинам ветеранов, принципиально анонимен. В любом фрагменте текст может быть дополнен любым из слушающих и читающих. Авторство текстов не принадлежит никому из эксплицитных авторов – в буклете нет указания на чье-либо персональное или коллективное авторство этих текстов. Имплицитный автор присутствует в звучащем и проецируемом тексте в виде правил формообразования (конструирования) текста и в виде инструктора смыслообразования текста6. Имплицитный автор не совпадает с биографически6 Компаньон А. Демон теории: литература и здравый смысл / пер. с фр. С. Зенкин. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2001. – С. 176. ми авторами высказываний: реальными ветеранами, женами ветеранов, наговоривших свои монологи. Среди монологов есть такие, которые звучат от лица погибших, погибающих в бою, не вернувшихся с войны. Принципиальная разноголосость текстов, свобода от авторской производящей воли и многообразие способов самопрезентации персонажей в текстах позволяют нам говорить о внутренней полифоничности7 текстов данного проекта. В данном случае словесная выразительность монолога традиционна для искусства; в то же время способ подачи речи героев – визуально-звуковое проецирование текста (субтитры минус изображение) – достаточно неожиданен. Опора на традиционные художественные практики восприятия искусства, такие как чтение, но в их новой модификации постграмотного чтения полиморфных несетевых гипертекстов, также является отличительной чертой современной художественности. В качестве основного средства художественного вовлечения реципиентов использовался высвечивающийся проецируемый и озвученный текст, обращенный как к вербально-зрительному, так и к вербально-аудиальному восприятию. Визуализированный и озвученный текст в проекте принципиально безличен, анонимен и универсален, не имеет авторства и может быть продолжен, дополнен любым из реципиентов. Светозвуковая проекция текста чередуется со звуками и всполахами автоматной стрельбы. Это два главных смыслопорождающих элемента художественной проекции в данном проекте: произносимые и высвечивающиеся слова монологов – воспоминаний и звуки стрельбы. Звуки стрельбы в данном проекте выступают отнюдь не в качестве музыкально-шумового сопровождения текста. Их задача – вырвать обывателей, оказавшихся в этот момент на площади, из обыденных повседневных занятий. Кто-то из них там живет, кто-то работает, кто-то пришел посмотреть памятники истории и архитектуры, кто-то пришел послушать 7 См.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М. : Художественная литература, 1972. 244 уличных музыкантов, кто-то пришел в музей истории средневекового Кракова, кто-то пришел в музей польской классической живописи XVIII–XIX веков, кто-то пришел в кафе попить пива, съесть пиццу или легкий десерт, кто-то из верующих пришел в городской собор помолиться, кто-то пришел на шопинг в Торговые ряды. С целью поучаствовать в проекте пришли лишь немногочисленные специалисты. Звуки автоматной стрельбы призваны сделать зрителями, читателями, слушателями проекта всех посетителей площади. Звуки стрельбы должны перекрыть шум праздничной площадной повседневности и погрузить обывателей в трагическую и жертвенную атмосферу переживания войны. Насколько неожиданными для людей, оказавшихся теплым июльским вечером на площади благополучного европейского города, были звуки автоматных очередей, настолько же неожиданными были и разносившиеся над площадью трагические слова, ритмично произносимые мужскими и женскими голосами. Проецируемые и звучащие тексты «выстреливались» сериями по две строки, что задавало определенный ритм всему действию. Рваный ритм проекций контрастировал с плавностью и текучестью обычных звуков толпы. Где-то это были связные тексты. Где-то принципиально рваные и дисперсные. Даже внутри строки текст мог быть связным, а мог быть бессвязным и рассеянным. Текст мог звучать от лица выжившего или погибшего солдата, или от лица его женщины, провожающей на войну, ждущей с войны, отчаявшейся встретиться вновь, вдовы, оплакивающей несостоявшуюся жизнь и любовь. Тексты передавали не только личные ощущения войны, но и оценки общественного отношения к войне, и безличные наблюдения войны: «…the soldier is for killing // and he kills himself at war…»8 8 Wodiczko K. The War Veteran Projection. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mocak.pl/projekcja-weteranow-wojennych-krzysztofawodiczko-na-krakowskim-rynku (дата обращения: 11.11.2013). 245 Проецируемый текст для чтения, выстреливаемый по две строки, обладал особой графической выразительностью. Он был написан только строчными буквами, что делало все строки равноправными; отсутствие иных знаков препинания, нежели знаки вопроса, делало эти строки вопрошающими от первой до последней буквы. Вопрос женщины, дождавшейся возвращения своего мужа с войны: «…who are you?.. // are you still my husband? // am I still your wife?»9, обращается ко всем отдыхающим на площади и провоцирует их на неприязнь и к войне, и к этой женщине, и к ее обращению к ним. Более всего провокативная роль этих вопросов состоит в том, что присутствующий не только слышит их звучащими над площадью, но и считывает со стены Часовой башни, т. е. проговаривает, а если сидит в местном ресторанчике, то еще и пережевывает. Все эти вопросы по своему построению и адресату нацелены на самопознание и самоопределение слушателя-читателя, к чему обыватель с бокалом пива теплым июльским вечером в благополучном Кракове не готов. Тем сильнее оказывается недовольство войной и теми, кто разжигает войны, вторжением войны в мирную жизнь граждан. Это становится главным социальным эффектом, достигнутым проектом К. Водички. Исходя из этого, проект К. Водички никак нельзя назвать не имеющим ценностной основы и ценностного Абсолюта. Абсолют, воплощенный К. Водичкой, носит светский характер – Человек и Мир, но он присутствует в данном проекте и обращается ко всем, кто был в проекте свидетелем и/или участником. В этом смысле проекту нельзя отказать в художественности не только в связи с использованными художественными приемами, силой эмоционально-аффективного и суггестивного воздействия, но и в связи с внятностью воплощенных ценностных установок. Как мы видим на примере данного проекта, отличительными чертами современной художественности являются следующие: 9 Wodiczko K. The War Veteran Projection... 246 247 Осуществление проекта в открытом публичном историческом городском пространстве, насыщающее проект гипертекстуальным контекстом. Отсутствие эксплицитного автора проецируемого текста, принципиальная анонимность, открытость и незавер– шенность текста, его полиморфный и гипертекстуальный характер. Отсутствие исходной потребности реципиента в восприятии произведения актуального искусства. Сознательная установка художника на вовлечение 10 обывателя в восприятие проекта помимо его воли, навязывание релаксирующему уму обывателя художественного события точно просчитанными средствами художественной выразительности. Преображение обывателя в процессе восприятия проекта в идеального читателя и слушателя, зрителя. Балансирование на грани традиционного и новаторского художественного приема, позволяющее достичь эффекта вовлечения. Использование одновременно визуально-графических, музыкально-шумовых и свето-проекционных эффектов, что делает проект полиморфным, синтетическим произведением. Социально-политическая ориентация партисипационного искусства11. В данном случае это антивоенная и антифашистская направленность проекта, его критически-провокативное звучание по отношению к милитаристской и моноцентричной политике, не соответствующей требованиям развития современного многополярного и меняющегося мира. 10 Berleant A. Aesthetic Engagement // Aesthetics in Action : 19th International Congress of Aesthetics : book of Abstracts. – Poland, Krakow, 2013. – P. 10. 11 Kelly M. Participatory Art; Ethics and Politics // Aesthetics in Action : 19th International Congress of Aesthetics : book of Abstracts. – Poland, Krakow, 2013. – P. 27–28. А. А. Сухов* Компьютерные игры и искусство (к постановке проблемы) С овременные компьютерные игры – яркий пример бурного развития информационных аудиовизуальных технологий XXI века. Невероятно популярные сейчас, компьютерные игры в своем развитии прошли долгий путь от примитивных аркад 70–80-х до полноценных виртуальных миров типа «The Elder Scrolls: Skyrim», «Total War: Rome 2» или «Mass Effect 3», для полноценного освоения которых требуется не один месяц «реального» времени. Современные компьютерные игры врываются в сопредельные общественные и культурные сферы – искусство, образование, этику, психологию, социальные коммуникации и даже спорт (в мире давно проводятся полноценные киберспортивные чемпионаты с солидными бюджетами, а в нашей стране несколько лет назад компьютерные игры были официально признаны в качестве нового полноправного вида спорта (т. н. «киберспорт»)). При всей очевидности их технологической составляющей, компьютерные игры – продукт в значительной степени синтетический. Как верно отмечает Д. В. Галкин, «наравне с компьютерной графикой и web-дизайном, компьютерные игры являются техно-художественными гибридами, в которых технологическая основа служит не только инструментом создания художественного продукта, но включена в художественное содержание и эстетические свойства произведения»1. В этой * Антон Андреевич Сухов – кандидат философских наук, доцент кафедры этики, эстетики, теории и истории культуры Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург). 1 Галкин Д. В. Компьютерные игры как феномен современной культуры: опыт междисциплинарного исследования. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.classic-book.ru/lib/sb/book/441 © А. А. Сухов, 2013 248 связи возникает очевидный вопрос: можно ли отнести современные компьютерные игры к сфере искусства? И если да, то на каком основании? Что делает компьютерные игры искусством? Для того чтобы приступить к поиску возможных оснований для отнесения компьютерных игр к сфере искусства, нам нужно будет определить круг источников, на основе которых будет осуществляться наш поиск. И здесь, в первую очередь (не считая собственно самих игр и их нашего самостоятельного анализа), мы не можем пройти мимо многочисленных специализированных компьютерных изданий, аналитических статей и публикаций в электронных и печатных СМИ на Западе и в России. Но вот что интересно: даже при первом, «беглом» ознакомлении с данными источниками, сразу бросается в глаза, что в большинстве публикаций компьютерные игры чаще всего рассматриваются исключительно в категориях продуктов высокотехнологичной индустрии электронных развлечений, а не в дискурсе эстетики или философии искусства. В таком широко распространенном отношении к компьютерным играм, на мой взгляд, «виноваты» и их новая, еще не до конца осмысленная мультимедийная форма, и массовость, и установка на коммерцию, и собственно развлечение, совершенно нетрансцендентное (на первый взгляд) времяпрепровождение. Кроме того, отдельной проблемой для исследователя является то, что в большинстве источников, касающихся темы компьютерных игр (а это, в первую очередь, материалы СМИ) границы искусства сужаются, т. е. искусство как таковое понимается как нечто элитарное, арт-хаусное, что в целом характерно для массового сознания и большинства научно-популярных работ. Исходя из такого условно-романтического понимания искусства компьютерные игры, с их первоочередной направленностью на развлечение, не рассматриваются в категориях искусства. Разве способствуют они познанию, пробуждению? Восприятию трансцендентных истин и чувственно-имманентному переживанию катарсиса? 249 В этом контексте логично отнести компьютерные игры (по крайней мере, большую их часть) к сфере массовой, попкультуры, где главное – не тонкие эстетические переживания, а прежде всего массовость и коммерческая выгода. Именно поэтому в большинстве современных компьютерных игр (как и в блокбастерном кинематографе) основной акцент делается не на глубоком внутреннем содержании, а на развлечении, примитивном сюжете (затрагивающем основные человеческие чувства, базирующиеся на животных инстинктах), внешней яркости и аддиктивности, спецэффектах. Конечно (об этом чуть позже), создаются и действительно многоплановые, сложные художественные работы, рассчитанные на аудиторию с должным уровнем эстетического образования. Но в большинстве случаев такие проекты имеют небольшой бюджет и плохо известны широкой публике. Поэтому наиболее распространен первый вариант – игра с простой, легко усваиваемой любым человеком идеей и высококлассной во всех аспектах реализацией, от дизайна уровней до качества моделей, текстур и звукового оформления. Характерный пример – игры серии GTA. «Идея проста и эксплуатирует базовую человеческую эмоцию – агрессию. Законы игрового мира предельно понятны. Главная ценность в нем – сила. Физическая. Соответственно и главный герой – хулиган, решающий проблемы с помощью кулаков и ствола. Суть игры выражена четко и ясно, результат – полмиллиарда долларов за первую неделю продаж»2. То же можно отнести и ко многим популярным играм в жанре FPS (First Person Shooter). В этом смысле компьютерные игры – это в первую очередь технологическая разновидность популярного искусства, основанного на массовом производстве художественной продукции. Внимательный исследователь также заметит и культурную детерминированность компьютерных игр – сами сюжеты и истории, на которых строятся многие игры, заимствованы 2 Jameson. Компьютерные игры: поп-культура или искусство? [Электронный ресурс]. – URL: http://emirr.ru/emirr_articles/6-kompyuternye-igrypop-kultura-ili-iskucstvo-.html 250 из жанров популярной культуры (фэнтези, научная фантастика и т. д.), а порой и просто являются дополнением к популярным киносюжетам (О Гарри Поттере, Ларе Крофт, пиратах Карибского моря, звездных войнах и т. д.). По сути, они становятся интерактивными игровыми экранизациями массового кинематографа. Таким образом, мы можем отнести компьютерные игры к сфере поп-культуры и определить их как форму массового экранного коммерческого искусства (что, в свою очередь, также поднимает вопрос о границах самого искусства). Однако, несмотря на всю коммерческую направленность, остается вопрос: есть ли шанс у компьютерной игры стать в один ряд с известными произведениями традиционных искусств? Однако уже в самом этом вопросе заложена некоторая проблема: дело в том, что в отличие от традиционных произведений искусства (будь то произведения живописи, музыки или архитектуры) современные компьютерные игры (в первую очередь, массовые блокбастерные игры), как правило, не имеют автора, они – плод коллективной работы группы разработчиков, где каждый отвечает за свое направление (дизайн уровней, разработка engine, создание моделей NPC, бета-тестирование и т. д.), хотя и объединенных общей идеей, которая, опять же, в большинстве случаев связана не с творческим самовыражением автора или эстетической ценностью создаваемого произведения, а с его утилитарной коммерческой значимостью. Однако в пользу нашей гипотезы о том, что компьютерные игры можно рассматривать как искусство, говорит тот факт, что появляются и в полной мере художественные «авторские» проекты, в которых важнейшую роль играет выражение творческой индивидуальности автора. В таких работах ставка делается не на максимальные результаты в первую неделю продаж, а, в первую очередь, на неутилитарные, эстетические цели – такие, как создание нетривиального художественного образа. Таким примером может быть леген- 251 дарная «American McGee’s Alice» (2000), где разработчик American McGee не только создает виртуальное развлечение, но и (что отражено в названии) предлагает свое авторское видение произведения Л. Кэрролла, трансформированного в игре в фантасмагоричную визионерскую реальность. Примечательно, что ряд современных западных изданий, посвященных компьютерным играм, прямо маркирует некоторые из них как художественные и «визионерские». К примеру, журнал PC GAMER называет игру «Deus Ex» «визионерским произведением»3. В этом контексте релевантны следующие слова Х. Ортега-и-Гассета: «Миссия искусства – не бездумно удваивать реальность, а открывать ирреальные горизонты»4. В этом смысле выявление в качестве источников нашего поиска авторских «визионерских» игр и соответствующих печатных компьютерных изданий позволяет отнести ряд компьютерных игр к современным формам визионерского искусства. С визионерством как таковым современные компьютерные игры роднит способность перенести игрока от тягот и забот повседневной жизни в виртуальный мир, компьютерные игры оказывают терапевтический эффект и в то же время реализуют один из «основных аппетитов души»5 по Хаксли – возможность «превзойти себя, свою само-сознающую самость хотя бы на несколько мгновений»6, появляющуюся в ходе визионерского опыта, а с художественным визионерством то, что многие современные компьютерные игры могут предложить совершенно нетривиальную форму опыта: яркие визуальные переживания, красочные «сказочные» миры в 32 млн цветов, объемный звук и великолепную музыку, что придает им чувственную достоверность, позволяет сравнить с миром визионерского переживания. Кроме того, компьютерные 3 PC GAMER. – 2008. – № 10 (73). – Р. 63. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М. : Искусство, 1991. – С. 255. 5 Huxley A. The Doors of Perception [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.maps.org/books/HuxleyA1954TheDoorsOfPerception.pdf 6 Там же. 4 252 253 игры (в первую очередь, в жанре RPG-Role Playing Games) предполагают наличие/создание альтер-эго – «своего персонажа». При этом создаются все условия для полной идентификации играющего со своим «персонажем» (создание визуальной копии играющего, достоверные видео и звук, интерактивность процесса, предполагающие «вживание» в своего «персонажа»), даже само значение времени и пространства может существенно минимизироваться, так как, сосредоточившись на происходящем, играющий способен полностью «отключиться» от окружающей действительности. В этом смысле акцент смещается на характерное для визионерства созерцание и непреодолимое желание продлить этот нетривиальный опыт. Однако основное отличие такого погружения в виртуальные миры от полноценного визионерского опыта заключается в том, что, несмотря на всю притягательность и ощущение полного погружения в виртуальный мир, оно, тем не менее, никогда не бывает тотальным (это важнейшее отличие от тотальности визионерского переживания). Нужно сказать, что это в точности соответствует т. н. «эстетической иллюзии» – «состоянию сознания, вызванному конкретными артефактами: текстами, театральными представлениями, произведениями изобразительного искусства»7. Точно так же важным компонентом эстетической иллюзии является дистанцированность, обеспечивающая «возможность испытывать удовольствие от неприятных эмоций – страха, ужаса и т. п.»8, хотя доминирует все же ощущение присутствия, связанное с чувством удовольствия. Таким образом, опыт погружения в виртуальные миры современных компьютерных игр мы можем назвать «эстетической иллюзией», схожей с другими традиционными видами изобразительного искусства. Далее для нашего исследования следует обратить внимание еще на одну, менее известную группу источников – художественные манифесты самих создателей, разработчиков, дизайнеров, художников современных компьютерных игр. Создатели и дизайнеры современных компьютерных игр часто говорят, что хотели создать и дать аудитории «нечто большее, чем просто развлечение на несколько часов»9. В связи с этим интересно посмотреть, чт говорят сами разработчики, авторы концепций компьютерных игр о своих проектах. В качестве примера обратимся к такой нетривиальной игре, как «Spore», которая начинается со своеобразного демиургического конструктора – когда из отдельных элементов и форм (глаз, ушей, ног, рук, зубов, когтей и т. п.) можно создать любое неантропоморфное существо (это, кстати, можно рассматривать как пример т. н. «медиаскульптуры» как вида медиаискусства). Примечательно, что когда игра только начала издаваться, в Сети был объявлен конкурс на самое интересное существо. И как вы думаете, какое существо оказалось самым популярным? Чебурашка? Олимпийский Мишка? Нет, фантазия пользователей двинулась в одном «магистральном» направлении: Интернет заполнили миллионы шагающих, прыгающих, ползающих и летающих фаллосов – и в этом заметны и очевидные фрейдистские мотивы, и реактуализация архаики, и штампы массовой культуры. Но вот что пишет разработчик Уилл Райт о «Spore»: «В глобальном смысле я бы хотел, чтобы люди, играя в Spore, посмотрели на жизнь в перспективе. Чтобы они задумались о масштабе пространства и времени. Чтобы они хотя бы на секунду поняли, сколь долго существует жизнь на нашей планете. Spore дает почувствовать этот момент – как из микроскопического белкового соединения вырастают цивилизации. Вообще, Spore – это игра о важности жизни»10. Здесь мы видим, что разработчик игры вкла- 7 Вольф В. Эстетическая иллюзия как результат воздействия художественной прозы // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение: РЖ / РАН ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. литературоведения. – М. : ИНИОН РАН, 2006. – С. 36. 8 Там же. С. 35. 9 Компьютерные игры как искусство [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gamer.ru/everything/kompyuternye-igry-kak-iskusstvo 10 Игромания [Электронный ресурс]. – URL: http://igromania.ru/articles/ 56681/Uill_Rait_rasskazyvaet_o_Spore.htm 254 255 дывает в свою работу не просто утилитарный, но и эстетический смысл, что выявляется и в постоянном переосмыслении своих работ. Тот же Уилл Райт, посвятивший всю жизнь созданию различных симуляторов, творчески «эволюционировал» от первоначальной идеи застройки города к «симулятору всего»11, как называют «Spore» в игровых СМИ. Что еще может делать компьютерные игры искусством? В пользу нашей гипотезы говорит также то, что, как и в традиционных изобразительных искусствах (например, в живописи, от набросков – к итоговой картине), в компьютерных играх можно проследить творческие метания автора, от зарождения мысли, эмоции к ее перерождению, трансформации. В то же время игровой опыт обнаруживает признаки духовного эстетического акта: трансцендируя линейность времени пространства (поставив игру – время на паузу и отмотав картину на максимальный масштаб), мы можем поразиться величием созданной Вселенной и испытать подлинное эстетическое переживание, связанное с переходом в состояние полноты бытия – контакта с Универсумом (главной цели эстетического акта, по В. Бычкову). Причем эти переживания (опирающиеся, в том числе, и на внешние визуальные эффекты) вполне могут быть сопоставимы с эстетическими переживаниями от традиционных произведений искусства. Кроме того, есть еще один важный источник, который прямо «делает» компьютерные игры искусством. Речь идет об официальных заявлениях государственных деятелей и организаций, провозглашающих компьютерные и видеоигры «искусством». На этом институциональном уровне в ряде стран (в том числе в РФ) компьютерные игры официально признаны не только т. н. «киберспортом» (возможно, недалек тот день, когда компьютерные игры войдут в программу Олимпиады, вопрос только – в зимнюю или летнюю), но, что для нас особенно интересно, официально – «искусством». В Германии в 2008 г. компьютерные игры были признаны современной формой медиаискусства, такие игры, как «War 11 Игромания [Электронный ресурс]. ... Craft», «STALKER», «Call of Duty», теперь считаются художественным достоянием, а их разработчики отныне входят в состав Немецкого совета по вопросам культуры. Во Франции еще в 2006 г. министр культуры Франции Рено Доннедье де Вабр признал компьютерные игры искусством и пообещал государственную поддержку их создателям. Министр отметил, что он хотел бы добиться таких же субсидий для разработчиков игр, какие сейчас получают киностудии. В качестве аргументов для этого называются «их огромный творческий потенциал и культурная ценность»12. Он даже призывает называть его «министром видеоигр»13. При этом позиция Рено Доннедье де Вабра несколько амбивалентна: с одной стороны, он подчеркивает необходимость признания компьютерных игр частью массовой культуры, так как об этом свидетельствует «все большее число проданных игр, по сравнению с книгами, фильмами и другими товарами»14 (в качестве подтверждения можно привести тот факт, что еще в 2005 игра Pro Evolution Soccer 5 продавалась во Франции лучше, чем книги про Гарри Поттера или DVD со «Звездными войнами»), с другой – он утверждает, что современные компьютерные игры можно назвать искусством, поскольку это не просто коммерческий продукт, «они являются одной из форм художественного выражения, а в их создании принимают участие сценаристы, дизайнеры и режиссеры»15. Более того, даже, казалось бы, в таком далеком от западного мира мусульманском Иране (!) компьютерные игры теперь называют «восьмым искусством»!16 Аргументируется это тем, что «в создании компьютерных игр… используются 12 Рено Доннедье де Вабр признал компьютерные игры искусством // Радио Маяк [Электронный ресурс]. – URL: http://old.radiomayak.ru/ tvp.html?id=31053 13 Там же. 14 Там же. 15 Там же. 16 «Восьмое искусство» в Иране нуждается в правительственной поддержке : редакционная статья // «IRINN». Иран [Электронный ресурс]. – URL: http://inosmi.ru/asia/20130909/212759849.html 256 257 режиссура, сценарий, съемка, спецэффекты, музыка, озвучивание и другие приемы “седьмого искусства” (кинематографа)»17. При этом в Иране полагают, что компьютерные игры нуждаются в «государственной поддержке». Несмотря на то что стражи исламской революции находят в «некоторых импортных играх, таких как Angry Birds, скрытые антиисламские идеи»18, в Иране видят в них огромную пользу, поскольку «компьютерные игры помогают детям осваивать речь, а также развивают реакцию, интеллект и творчество, вводя ребенка в мир, которым он сам может управлять»19. С искусством компьютерные игры связывает еще один интересный эстетический аспект, касающийся их вторжения в сопредельные сферы, с жанровой дифференциацией электронных игр и с их синтетической природой: речь идет о развитии кино (которое тоже в свое время считали лишь развлечением, аттракционом, обреченным на исчезновение). Теперь компьютерные игры не только не заимствуют сюжетов кинофильмов, но, наоборот, можно говорить об обратной тенденции: они сами становятся основой для создания новых кинофильмов, снятых по сюжету игры (Принц Персии, DOOM, Final Fantasy и др.). При этом многие фильмы используют как полностью компьютерных персонажей, так и в целом визуальную стилистику современных компьютерных игр (например, «Аватар» – здесь и яркие визуальные переживания, новый формат 3D, красочные «сказочные» миры, объемный звук и т. п.). Однако, в отличие от кино, важнейшим свойством компьютерных игр является т. н. «интерактивность» – не пассивное созерцание, а активное участие в совместно создаваемой виртуальной реальности (этим, кстати, компьютерные игры отличаются и от визионерства с его характерной установкой на созерцание, недеяние). В то же время не стоит забывать, что эта интерактивность и порождаемая ею опре17 «Восьмое искусство» в Иране ... Там же. 19 Там же. 18 деленная свобода в значительной степени иллюзорны, поскольку весь дальнейший игровой процесс заранее запрограммирован. Доказательством этому может послужить, например, широко используемая в жанрах FPS («шутеры» или «стрелялки» от первого лица) и RPG (ролевые игры) система т. н. «скриптов» (или сценариев), на деле жестко регламентирующих игровую виртуальную реальность. В качестве примера можно привести знаменитую игру «Medal of Honor», дающую возможность изнутри, от лица бойца пережить высадку в Нормандии именно так, как показано в фильме С. Спилберга «Спасти рядового Райана». Вообще, в компьютерной литературе есть даже такой специфический термин, как «коридорный шутер», описывающий игру с четко предписанной заданной системой развития. Даже в ролевых играх с максимальной степенью свободы (типа легендарных «Planescape Torment», «Baldur’s Gate» или недавней серии игр «Dragon Age») все варианты развития сюжета и диалоги заранее прописаны. Другой характерной особенностью компьютерных игр, которая роднит их с традиционными искусствами, можно назвать собственную темпоральность. Если в кинематографе (а также в звукозаписи) это может быть, например, нелинейный монтаж, то в компьютерных играх это может выражаться также в использовании опции save/load (сохранение/загрузка). Она представляет собой возможность заново переиграть, «пережить» ту или иную ситуацию, явление невозможное (но часто желаемое) в повседневной жизни, однако возможное в виртуальных мирах компьютерных игр. В широком смысле применительно к компьютерным играм мы также можем говорить о визионерской трансформации «линейного времени и пространства»20, так как игрок может: 1) изменить время в игре – поставить на паузу, загрузить с начала, перейти сразу к финалу, ускорить или замедлить время (например, в жанрах авиасимуляторов или стратегий); 2) изменить про20 Гроф С. За пределами мозга: рождение, смерть и трансценденция в психотерапии [Электронный ресурс]. – URL: http://psycho.dtn.ru/lib/ beyondthebrain.htm. 258 странство в игре, так как размер воспринимаемых объектов может охватывать весь возможный диапазон, от приближения к самым мелким до удаления до размеров карты, планеты или галактики (например, в жанре космических стратегий). Характерный пример собственной темпоральности дает нам серия игр «Total War», в которой можно заново переиграть всю историю Средних веков, остановить вторжение монголов или завоевать Западную Европу Киевским княжеством. В свою очередь, эти исторические игры с их дотошным, тщательным вниманием к историческому наследию (что выражается, например, в создании максимально достоверных виртуальных копий всех средневековых родов войск, моделировании исторической карты со всеми реально существовавшими на тот момент государствами и т. д.) одновременно обнаруживают мощный инновационно-образовательный ресурс. На Западе такие игровые продукты активно используются на занятиях по всемирной истории (в интерактивной игровой форме «скучная» история приобретает особенную притягательность), а также анализируются на занятиях по эстетике в качестве актуальных феноменов современного медиаискусства. Наконец, к искусству компьютерные игры может относить их яркая визуальная составляющая (о ней мы говорили чуть выше) – компьютерная графика, схожая (либо превосходящая по своей интенсивности) с визуальной составляющей традиционных изобразительных искусств. Тем более что (и это мы тоже отмечали выше) многие виды традиционных изобразительных искусств используют визуальную стилистику компьютерных игр. Кроме того, визуальная эстетика современных компьютерных игр активно используется в современном медиаискусстве (видеоарт, саундарт, медиаинсталляция, медиаскульптура, сетевое искусство и т. д.). Если обратиться к яркой визуальной составляющей современных компьютерных игр, то здесь можно отметить еще одни интересный аспект: внешнее графическое развитие компьютерных игр в некоторой степени исторически обратно развитию изобразительного искусства (особенно если взять, 259 к примеру, период модернизма) не от реализма к абстрактному искусству, а наоборот: от обусловленной недостаточным технологическим прогрессом первоначальной абстракционистской и примитивистской эстетики первых графических аркад – к максимальному реализму современных виртуальных миров. Дело в том, что для большинства виртуальных миров массовых компьютерных игр принципиально важна тождественность реальной жизни (что, к примеру, выражено в популярном жанре симуляторов). Итак, в поисках ответа на вопрос «можно ли отнести компьютерные игры к сфере искусства» и «что делает компьютерные игры искусством» мы: во-первых, осуществили поиск и анализ источников, свидетельствующих об играх как об искусстве. Их условно можно разделить на две группы: «первичные» (сами компьютерные игры, в первую очередь «авторские» и визионерские) и «вторичные» (специализированные компьютерные издания, аналитические статьи и публикации в электронных и печатных СМИ на Западе и в России; художественные манифесты самих создателей современных компьютерных игр; официальные заявления государственных деятелей и организаций (по всему миру – в РФ, Европе и даже в исламском мире), призывающие считать компьютерные игры «искусством» – институциональный источник); во-вторых, выявили характерные особенности компьютерных игр, позволяющие отнести их к сфере искусства: 1) создание художественных игр (авторские проекты) с неутилитарными, эстетическими целями (выражение творческой индивидуальности автора, создание нетривиального художественного образа; 2) яркую визуальную составляющую – компьютерную графику, схожую (либо превосходящую по своей интенсивности) с визуальной составляющей традиционных изобразительных искусств; 3) активное взаимодействие компьютерных игр с другими искусствами (использование компьютерной графики и визуальной стилистики как в традиционных видах искусства, так и в современном медиаискусстве; игры как основу для создания новых кинофильмов, 260 книг и т. д.); 4) признаки духовного эстетического акта, восхищение созданным миром, возможное эстетическое переживание, связанное с переходом в состояние полноты бытия – контакта с Универсумом; 5) собственную темпоральность компьютерных игр, свойственную другим искусствам; 6) эффект «эстетической иллюзии», схожей с другими традиционными видами изобразительного искусства; 7) интерактивность (несмотря на «коридорные шутеры» и прописанные диалоги в RPG), свойственную современному искусству. В целом компьютерные игры можно отнести как к массовому экранному коммерческому искусству и поп-культуре (блокбастерные игры), так и к элитарным формам современного медиаискусства (авторские, визионерские игры). В итоге современные компьютерные игры обнаруживают широчайший спектр исследовательских возможностей, которые могут быть актуальны не только в дискурсе эстетики и философии искусства, но и в контексте перспективных междисциплинарных социально-гуманитарных исследований. 261 THE BOUNDARIES OF ART AND CULTURE AREAS Philosophers and culturologists, the authors of the articles, continue to research particular characteristics of modern artistry initiated with “Ontology of Art” miscellany in 2005. This collection of papers presents the results of theoretical seminar series focused on traditional key problem of philosophical aesthetics – the nature of art, which has been studied through the “boundary” concept. This approach was developed by A. F. Yeremeyev, a prominent Russian aesthetic scholar. The book summarizes methodological search for inner boundaries of art, it reveals inexhaustible depth of classical art philosophy paradigm, as well as new conceptions based on modern Russian and Western philosophy of art achievements are propounded and transformations of art ontology caused by postindustrial society innovative cultural phenomena, such as electronic media, computer games, advertising, are reflected on. The book is aimed at art and culture researchers (estheticians, culturologists, and philologists), teachers and students, and those who are interested in art, its complex ‘structure’ and living. 262 263 Для заметок Для заметок 264 Научно е и здан ие Границы искусства и территории культуры Сборник научных статей Редактор С. В. Фельдман Компьютерная верстка В. В. Курьянович Подписано в печать 29.11.2013. Формат 60х90/16 Бумага для множит. аппаратов. Печать на ризографе Усл. печ. л. 15,17. Тираж 200 экз. Заказ № Гуманитарный университет 620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 19 Лицензия № 0074 от 29.05.2012. Отпечатано с оригинал-макета в типографии ООО «ИРА УТК» 620046, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 83