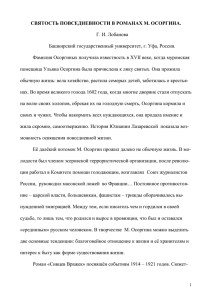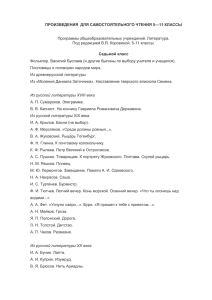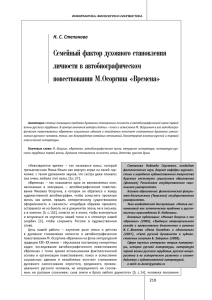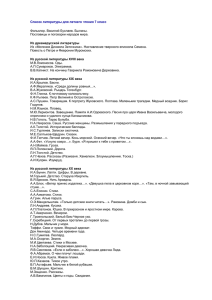Гармония человека и природы как условие формирования свободной души в автобиографическом повествовании
реклама
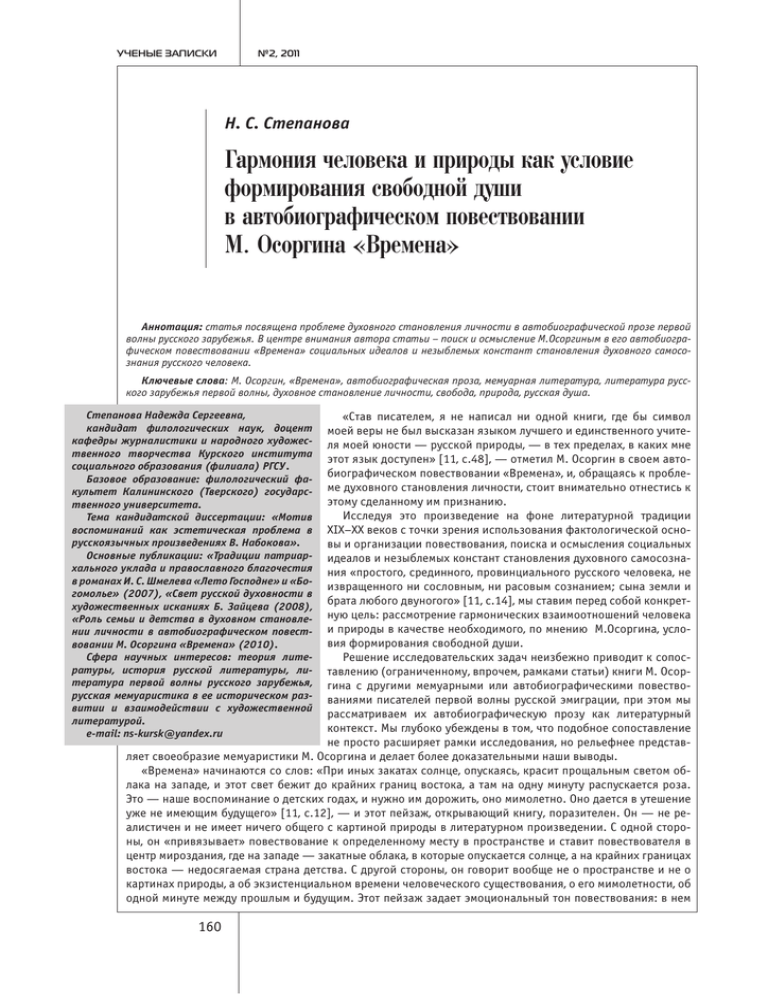
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №2, 2011 Н. С. Степанова Гармония человека и природы как условие формирования свободной души в автобиографическом повествовании М. Осоргина «Времена» Аннотация: статья посвящена проблеме духовного становления личности в автобиографической прозе первой волны русского зарубежья. В центре внимания автора статьи – поиск и осмысление М.Осоргиным в его автобиографическом повествовании «Времена» социальных идеалов и незыблемых констант становления духовного самосознания русского человека. Ключевые слова: М. Осоргин, «Времена», автобиографическая проза, мемуарная литература, литература русского зарубежья первой волны, духовное становление личности, свобода, природа, русская душа. Степанова Надежда Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики и народного художественного творчества Курского института социального образования (филиала) РГСУ. Базовое образование: филологический факультет Калининского (Тверского) государственного университета. Тема кандидатской диссертации: «Мотив воспоминаний как эстетическая проблема в русскоязычных произведениях В. Набокова». Основные публикации: «Традиции патриархального уклада и православного благочестия в романах И. С. Шмелева «Лето Господне» и «Богомолье» (2007), «Свет русской духовности в художественных исканиях Б. Зайцева (2008), «Роль семьи и детства в духовном становлении личности в автобиографическом повествовании М. Осоргина «Времена» (2010). Сфера научных интересов: теория литературы, история русской литературы, литература первой волны русского зарубежья, русская мемуаристика в ее историческом развитии и взаимодействии с художественной литературой. e-mail: [email protected] «Став писателем, я не написал ни одной книги, где бы символ моей веры не был высказан языком лучшего и единственного учителя моей юности — русской природы, — в тех пределах, в каких мне этот язык доступен» [11, с.48], — отметил М. Осоргин в своем автобиографическом повествовании «Времена», и, обращаясь к проблеме духовного становления личности, стоит внимательно отнестись к этому сделанному им признанию. Исследуя это произведение на фоне литературной традиции XIX–ХХ веков с точки зрения использования фактологической основы и организации повествования, поиска и осмысления социальных идеалов и незыблемых констант становления духовного самосознания «простого, срединного, провинциального русского человека, не извращенного ни сословным, ни расовым сознанием; сына земли и брата любого двуногого» [11, с.14], мы ставим перед собой конкретную цель: рассмотрение гармонических взаимоотношений человека и природы в качестве необходимого, по мнению М.Осоргина, условия формирования свободной души. Решение исследовательских задач неизбежно приводит к сопоставлению (ограниченному, впрочем, рамками статьи) книги М. Осоргина с другими мемуарными или автобиографическими повествованиями писателей первой волны русской эмиграции, при этом мы рассматриваем их автобиографическую прозу как литературный контекст. Мы глубоко убеждены в том, что подобное сопоставление не просто расширяет рамки исследования, но рельефнее представляет своеобразие мемуаристики М. Осоргина и делает более доказательными наши выводы. «Времена» начинаются со слов: «При иных закатах солнце, опускаясь, красит прощальным светом облака на западе, и этот свет бежит до крайних границ востока, а там на одну минуту распускается роза. Это — наше воспоминание о детских годах, и нужно им дорожить, оно мимолетно. Оно дается в утешение уже не имеющим будущего» [11, с.12], — и этот пейзаж, открывающий книгу, поразителен. Он — не реалистичен и не имеет ничего общего с картиной природы в литературном произведении. С одной стороны, он «привязывает» повествование к определенному месту в пространстве и ставит повествователя в центр мироздания, где на западе — закатные облака, в которые опускается солнце, а на крайних границах востока — недосягаемая страна детства. С другой стороны, он говорит вообще не о пространстве и не о картинах природы, а об экзистенциальном времени человеческого существования, о его мимолетности, об одной минуте между прошлым и будущим. Этот пейзаж задает эмоциональный тон повествования: в нем 160 МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА присутствуют и ностальгические, и философские ноты. Его особенность в том, что его невозможно увидеть «своими глазами», как некую реальность, он виртуален и не существует в настоящем автора и героя — это только представление, образ, воспоминание, как любой другой русский пейзаж в произведениях писателей первой волны эмиграции. Оправдывая себя и объясняя особенности своего внутреннего зрения, многие из писателей-эмигрантов говорили о том, что смотрят туда, в прошлое, с помощью какого-нибудь «оптического прибора»: бывают некие импульсы, впечатления нынешней жизни, которые позволяют открыться зрению души, все бытие присутствует в вездесущем настоящем, время иллюзорно, и пространство зависит от сознания. В. В. Набоков писал о волшебной призме цветных стекол веранды (в России, в усадьбе), сквозь которые его герои-изгнанники «мучительно жаждали посмотреть» [9, с. 192], И. С. Шмелев — о золотистом хрустальном пасхальном яйце, через которое он смотрит на свою золотую Россию [13, с.339]. М.Осоргин написал о голубом стеклышке памяти, сквозь которое он видит себя трех-четырехлетним, и о том, как однажды (это было во Франции), «крепко опершись на крючковатую палку с острым наконечником, я через грачовую сеть [речь идет о стае грачей, летавших над полем; курсив наш — Н. С.] взглянул на дальний лесок и тут, без всякой связи линий и красок, вспомнил, что не могло быть у дома, в котором я родился, двух примыкавших к переднему фасаду заборов» [11, с. 13]. И, конечно, все они — и М. Осоргин в том числе [«Вспомните, что вы на днях видели во сне: школьную парту, невыученный урок. Я видел речку Егошиху, хотя она, может быть, давно высохла, и только линия смородиновых кустов напоминает, что тут была влага» — 11, с. 42] — писали о снах, в которых являлась им Россия. Писатели-эмигранты делали поправку на вольную или невольную идеализацию воспоминаний о России (чем предстает Россия в их произведениях — мифом или реальностью?): «Была ли старина именно такой? — пишет Г. Адамович, размышляя о творчестве И. Шмелева. — Не обольщаемся ли мы насчет ее подлинного благолепия? Не поддаемся ли иллюзии? <…> Была или не была, — все равно: должна была быть! Проверять теперь поздно — надо принять идеал традиционный, как идеал живой. Если впереди тьма, будем хранить свет прошлый, единственный, который у нас есть, и передадим его детям нашим» [1]; каждый сделал эту оговорку по-своему. М. Осоргин написал: «Давно изжив квасной патриотизм, я не боюсь порою хвастать и восхищаться Россией-землей. К сожалению, ее всегда выдумывали, выдумывают и сейчас, выдумываю, вероятно, и я» [11, с. 105–106]. Назвав свои воспоминания «полудействительными» [11, с. 35], он подчеркнул, что в его произведении это не классический пейзаж в духе академических работ, но рисунок, выполненный счастливой детской рукой, цветными карандашами. Надо сказать, что М. Осоргин, в отличие от других писателей, однажды имел возможность полулегально вернуться из эмиграции (в 1916 году его пригласили на открытие университета в родном городе) и сопоставить свои воспоминания с тем, что увидел в реальности: «Тополя разрослись и стали огромными, аллеи сузились, люди перестали быть знакомыми» [11, с. 44]. Все было не то (ироничность повествования об этом свидетельствует), но торжественные речи и встречи еще можно было пережить, а вот новый мост через Каму он назвал оскорбительным (для Камы, конечно). Пейзаж у М. Осоргина не только выполняет свои обычные функции: создает обстановку, фон действия, отражает психологию героя или предстает в качестве лирического отступления — пейзаж символизирует навсегда утраченное, но желанное, райское, безгрешное бытие, оставленное душой где-то позади, столь разительно контрастирующее с дисгармоничностью современной жизни; он позволяет заслониться от реальной жизни «из железобетона» («Это страшное и досадное виденье я заслоняю любимейшими картинами, к которым возвращаюсь мыслью, куда бы ни забросила меня действительность» — 11, с. 14); он (пейзаж) — одно из сокровищ, из тех, о чем «непременно надо бы вспомнить и рассказать, чтобы каждый мог мне сочувствовать и втайне завидовать» [11, с. 15]. Композиция пейзажа, соотношение в нем объектов и пространства, постепенный взлет от земли в космос и взгляд сверху создают в книге М. Осоргина ощущение эпической масштабности: «По другую сторону города, от реки вглубь, сейчас же за заставой с орлами, начинался лес, почти не рубленный и, конечно, нечищенный <…> Между столбами заставы зачиналась и дальше уходила прямой гладью в тысячеверстие, лишь поднявшись и сбежав через хребет Уральских гор, укатанная почтовой гоньбой и утоптанная арестантами нескончаемая дорога, которую мы звали Сибирским трактом» [11, с. 14–15]. Русский пейзаж, необъятность русской земли, отсутствие видимых границ и пределов, «наши открытые, легкие, разметавшиеся пространства» [7, с. 360], чисто русское ощущение природы, которым наделен русский человек, нашли свое выражение в строении русской души, в комплексе чувств и переживаний, трагически обострившихся в изгнаннической памяти. Пейзаж русской души, как утверждают писатели и философы, соответствует пейзажу русской земли: та же безграничность (неотчетливость, неоформленность) чистого поля, которую даже и представить себе не может европеец, та же устремленность в бесконечность, широта, та же внутренняя сила [3, с. 15–16]. М. Осоргин признает пейзаж тем самым генерирующим и формирующим началом, без которого вряд ли удалось бы состояться русской душе. Многозначительность пейзажа в его автобиографическом по- 161 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №2, 2011 вествовании достигается непременным присутствием героя, и все рассказанное им о природе становится одновременно и его задушевным признанием в любви к матери-реке, великой Каме, живому существу не нашего, чудесного измерения, и отцу-лесу; и простые слова его приобретают особый, сакральный смысл, и возникает своеобразное пейзажно-философское лирическое отступление, проясняющее, почему он «северянин, блондин, всебожник, поэт, анархист и старовер», и почему у «людей речных иначе видят духовные очи» [11, с. 29]. А. Н. Веселовский, исследуя проблему психологического параллелизма, писал: «В таком искании созвучий, искании человека в природе, есть нечто страстное, патетическое, что характеризует поэта, характеризовало, при разных формах выражения, и целые полосы общественного и поэтического развития. <…> Такое настроение понятно в эпохи колебаний и сомнений, когда назрел разлад между существующим и желаемым, когда ослабела вера в прочность общественного и религиозного уклада и сильнее ощущается жажда чего-то другого, лучшего» [6, с. 154]. Развивая идеи А. Н. Веселовского, В. С. Баевский расширяет сферу действия психологического параллелизма в литературе, считая его «замечательно емкой формой проявления поэтического сознания, связанной с прошлым и обращенной в будущее» [2, с. 63]. Более того, он относит психологический параллелизм к глубинным структурам человеческой психики, объясняя его универсальность устойчивостью генетического кода. В автобиографическом произведении М. Осоргин берет за точку отсчета бытие природы как незыблемую постоянную. Это чувство, эта вера укрепляли его, как и других писателей-эмигрантов, в желании доказать всем, что, несмотря на теперешнее свое положение, Россия — не та, которая «погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы», а другая, «подъяремная, страждущая, но все же до конца не покоренная» [5, с. 302], — духовно выше Европы и имеет особое, великое, мессианское призвание. Родная природа осознана М. Осоргиным как некая абсолютная константа. Он видел и знал: все разрушается и меняется — власть, правительство, политический строй, общество, верования, пристрастия, — но то, с чего началось понимание причастности к родной земле, — родная природа, которая есть не только пейзаж, место обитания, но и праматерь всего живого, — должно было оставаться и осталось в его художественном мире неизменяющимся, постоянным, вечным. Пытаясь определить себя в пространственном измерении, в прямом смысле слова найти себе место, исполнить требование души: вновь обрести те родные места, географические координаты которых с точностью до градуса указаны в их произведениях, писатели первой волны русской эмиграции искали себя и во времени, ведь автобиография сама по себе — это всегда акт преодоления уходящего времени, попытка вернуться в прошлое, воскресить наиболее значительные и памятные отрезки жизни. На этом пути их ожидало открытие: представление об устойчивости прошедшего, коренного, исконно российского бытия выразилось у них в особом видении времени: время циклично, движется по спирали, а воспоминания, память — это то, что в таким образом организованной вселенной способно преодолеть необратимость быстро текущего линейного времени, вырвать человека из его смертных объятий. М. Осоргин рассказывает, как отец, с которым они ходили открывать родники, объяснил ему одну нехитрую истину: «Куда потечет эта вода?» — спрашивал он о родниковой струйке. — «Отсюда в речку, из речки в Каму, из Камы в море, из моря вернется сюда же легким облачком» [11, с. 82]. «И я знал и знаю, — свидетельствует М. Осоргин, — что все возвращается и снова уходит, что гибнет растение, но возрождается в зерне... и вырастет лес среди камней Московского Кремля, где рос он и прежде. Отец не мог сказать мне неправды: все возвращается. И детской вере я не хочу изменять» [11, с. 46–47]. Отец, никогда не подсказывавший сыну готовых жизненных формул, научил его смотреть на облако и думать о воде, которая, испарившись, вернется в родственные ей камские волны. И теперь, обойдя полмира, перекинувшись словами «во всяком случае, с миллионом людей», герой М. Осоргина, а точнее, он сам [«Во всяком случае, я должен сказать, что в этом романе только одно действующее лицо может считаться портретом» — 11, с. 153], понимает, что детство не возраст, а настроение, что молодость может вернуться, ведь это не возраст, а мироощущение, что все возвращается на круги своя, что время циклично и можно узнать себя в прошедшем мимо очень серьезном и деловитом мальчике с замотанными удочками. Цикличность времени, по М.Осоргину, есть преодоление смерти: «Вглядываясь в эту жизнь со всею пристальностью, доступною хрусталику глаза, я вижу только вечный путь с цветным фейерверком символов, скользящих отметок на замкнутом круге, но я не вижу ни концов, ни начал, и в вихре нагромождающихся гибелей и кажущихся рождений я, к несказанной радости духа, в награду за его пытливость, — не вижу смерти: ее нет!» [11, с. 50–51]. Подобное понимание стихии времени мы видим также, например, и в книге «Лето Господне» И. Шмелева: его художественное время циклично (в противовес традиционно изображаемому безвозвратному движению времени по прямой); циклична и композиция его книги, что подчеркивают названия глав части 1 и части 2 (в части 3 «Скорби» календарный круг не завершен; начавшись в мае, время повествования обрывается под черным проливным дождем ноября, что отвечает атмосфере скорби, пронизывающей последние главы). Панорама Кремля вызывает к жизни такие глубины памяти, о которых маленький мальчик 162 МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА и не подозревал: «Что во мне бьется так, наплывает в глазах туманом? Это — мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы... Там, за стенами, церковка под бугром, — я знаю. И щели в стенах — знаю. Я глядел из-за стен... когда?.. И дым пожаров, и крики, и набат... — все помню. Бунты, и топоры, и плахи, и молебны... — все помнится былью, моею былью, будто во сне забытом» [13, с.306]. Человеческое бытие трактовалось в Древней Руси как эхо прошедшего, — точнее, тех событий прошедшего, которые отождествлялись с вечностью. Человек с точки зрения православной культуры Древней Руси также был «эхом» [12, с. 48–49]. Маленький мальчик, герой И. Шмелева, писателя ХХ века, становится «эхом прошедшего», подобно древнерусскому человеку; тем необходимым эхом, которое способно преодолеть необратимость быстро текущего времени. Природа предстает в произведении М.Осоргина не просто как изображение пейзажа. Перед нами — развернутая метафора «других» отца и матери: «Весь с головы до ног, с мозгом и сердцем, с бумагой и чернилами, с логикой и примитивным всебожьем, со страстной вечной жаждой воды и смолы и отрицанием машины, — я был и остался сыном матери-реки и отца-леса и отречься от них уже никогда не могу и не хочу» [11, с. 14]; «Кама для меня как бы мать моего мира» — «тут ни при чем и возраст, и прожитая жизнь, и я посейчас покачиваюсь в душегубке на мертвой зыби, и в борта лодки хлюпают камские струи, а небо надо мной — шатер моей зыбки, и я, уже старый, все еще пребываю в материнском лоне, упрямый язычник, и плыву, и буду так плыть до самой моей, может быть и несуществующей, смерти» [11, с. 29]. «Мы, тутошние, — пишет он, — рождались в просторе, ковшами пили воздух и никогда не считали себя ни царями, ни рабами природы, с которой жили в веками договоренной дружбе» [11, с. 14]. По признанию писателя, река была для него едва ли не большим, чем семья, чтение, была его счастьем и его философией, она давала чистоту и ясность созерцания, безошибочность ответов, радостное бытие в вечности: «Взмах весел — как взмах крыльев, ветер не угонится за дыханием, все движется, вырастая и умаляясь, между зеленой глубью и голубой высью летит свободная душа, рассекая воду и воздух, и это и есть правда, это и есть творчество, раскрытие тайн вверху и внизу, ясное, все утверждающее «да» [11, с. 64]. Тесной дружбой с детского возраста он был связан с легкой лодочкой, которую сам красил и смолил, и она ничего не боялась: ни пароходных валов, ни пребывания над бездной, ни окрика с надвинувшихся плотов, ни потери весел. Он писал, что не знает музыки чище и совершеннее журчанья воды у бортов маленькой лодки — на величавой Каме, его крестной матери. Лодка была названа именем тургеневской Аси, в которую он в это время был влюблен по-настоящему. Речной пейзаж и жизненное пространство передаются М.Осоргиным через физические ощущения памяти: «мочили руку, перегнувшись за борт лодки», «в борта лодки хлюпают камские струи», «ладони щемило от весел», «мы стараемся не плескать громко веслами лодки», «непуганая рыба дергает с такой силой, что лодка вздрагивает от удара». М. Осоргин научился читать пяти лет и в семь лет сам прочитал детскую книжку «Робинзон в русском лесу» [популярное в конце XIX века произведение для детей О. Качулковой, выдержавшее несколько переизданий — Н. С.], которую он называл «изумительнейшей» и считал, что лучшей детской книжки не было никогда написано. Она завоевала его детское сознание и формировала его личность: «Какая красота в этом сожительстве с лесом, какое счастье делать все своими руками, быть полновластным хозяином неизвестного мира, смело противостоять опасностям, создавать все из ничего!» [11, с. 25]. Ради этого счастья он приплывал на дикий островок верстах в трех выше по течению реки, насквозь пронизывался счастьем Робинзона и шел заново исследовать свой мир, хотя знал его достаточно. Этот островок был и остался для него навсегда осознанным раем, в котором он в свои девять лет уже мечтал о том же, о чем будет мечтать всегда, – о жизни без тени несвободы. Пытаясь определить, что представляет собой мечта ребенка — его предчувствие, предугадывание взрослой жизни, — М. Осоргин пишет, что это нечто сложное из отзвуков пережитого его предками и дальних предчувствий будущего, она нереальна и по преимуществу музыкальна, «слагаясь из шорохов, голосов, дыхания, донесшегося лая собаки, звякнувшего блюдечка в столовой, — все это ловится ухом и рождает гармонию и образы» [11, с. 26]. Это ощущение сродни тому, о котором написал В. В. Набоков: «эту тихую работу вещей надо мной я часто чувствовал» [9, с. 181]; под «вещами» понимая все то, что в сумерках подвергало чувства ребенка «телеологическому», «обусловленному» воздействию. Без тени сомнения М. Осоргин пишет о том, что дети совершенно иначе, чем взрослые, воспринимают мир, что они видят невидимое и слышат неслышимое: «я слышу все, что происходит в воде: веселый визг стрелками мелькающих уклеек, тяжелый храп столетней щуки, щелканье клешней темно-зеленого рака, хохот резвящихся пескарей, пересыпанье песчинок, — а надо мной, в высоте, степенный разговор кучевых облаков, караваном возвращающихся из ночной подзвездной прогулки» [11, с. 29]. Писатель считал, что в природе «растворена некая целительная духовная основа» [10, с. 8], и нет, пожалуй, ни одного исследователя творчества М. Осоргина, который прошел бы мимо этого сюжетообразующего мотива: в нем видят и стихийный пантеизм без какой-либо мистической примеси, и воплощение натурфилософской концепции (И. Б. Боравская — 4), и отражение типологии почвенничества (Е. А. Мужайлова — 8). 163 УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ №2, 2011 Это родная природа, лес, Кама, по его собственному свидетельству, формировали его характер, закладывали все самое важное в нравственном плане, раскрывали «духовные очи». «Река, — считал он, — должна быть в каждой биографии; без нее серо детство и неблагословенна молодость; старость без нее наступает раньше, и еще раньше мысль делается сухой и несвободной; в преддверии любой веры должен быть свой Иордан» [10, с. 10]. На вольных камских просторах пришло к нему осознание того, что единственным условием и способом существования может быть только свобода и что выше всего выдуманного нами — счастье расти на поляне свободным злаком, стремясь вверх и стелясь по ветру с другими. И даже наказание, которому он подвергся в детстве, единственное, о чем рассказал М. Осоргин, принесло свои благотворные плоды. Его наказали один раз, но наказание, с его точки зрения, было жесточайшим: он был лишен свободы: его посадили в чулан (а вместе с ним — старшую любимую сестру, чтобы ему одному не было страшно). Вряд ли его заключение продолжалось больше пяти минут, но впечатление о пережитом осталось навсегда: четыре стены, за которыми идет жизнь, и он из этой жизни изъят; полное бессилие и страстное желание перестать существовать; отрицание права кого бы то ни было так поступать, пусть даже матери: «Кажется, я бил ногами в дверь, и сестра не смела меня сдерживать; затем ослабел и впал в отчаяние. Много лет спустя я точно так же бил ногами и кулаками в дубовую дверь Таганской тюрьмы в Москве, выбил дверную форточку и оконные стекла, — когда с тюремного двора часовой выстрелил в окно в одного из заключенных» [11, с. 19]. В описании этого случая из раннего детства начинает звучать тема необходимости свободы для духовного развития и гармоничного существования личности, которая далее слышна все отчетливее. Снова и снова (не столько в хронологической, сколько в ассоциативной последовательности) будет возвращаться М. Осоргин к сделанному в детстве открытию, ставшему для него одним из важнейших жизненных убеждений: «свобода в триллион раз ценнее жизни, это я раз навсегда решил и за себя, и за комара!». Он расскажет о том, что в университете он изучал право — государственное, уголовное, гражданское, философию права, хорошо сдавал экзамены и стал адвокатом (!), а потом в течение трех лет проработал в этой должности. Очень деликатно, на полутонах, без объяснений (которые и не требуются вдумчивому читателю) вплетет в ткань повествования рассказ о кузине Манечке, рыцарем которой он был и остался; о том, как они, старшие, брали с собой его, малыша гимназиста, на Дему, где раскладывали костры и пели песни «о вольности веселой, о славном труде; и еще тюремные песни, тоже замечательные» и научили любить свободу и ненавидеть тюрьмы и дворцы [11, с. 45]; о том, почему, согласившись на уфимскую встречу с ней, он отказался от московской. (Невозможно не написать об эстетическом удовольствии, которое доставляет чтение блистательной прозы М. Осоргина, о тех открытиях и сцеплениях, которые ждут внимательного читателя: «Ко мне [в Уфе] подойдет незнакомый человек и скажет: «Вы помните свою кузину Манечку? Я ее муж». Я помню очень молодую девушку, при которой я состоял рыцарем! «Приходите к нам сегодня пообедать». Я приехал из Рима через десять и более столиц, воюющих и нейтральных, и вот я наконец не на шутку взволнован. <…> Когда наконец выходят газеты, в списке народных комиссаров — уфимское имя [речь идет о первом наркомпроде Александре Дмитриевиче Цюрупе (1870-1928), с которым М. Осоргин встречался осенью 1916 г.]. В детских воспоминаниях «кузина Манечка» освежена недавней уфимской встречей, но московской встречи я не ищу; и, однако, Москва не Тихий океан, в котором носятся щепочки, и мы встретились. Я ей сказал: «Нет, я к вам не приду, хотя всегда рад тебя видеть» [11, с. 45]. Почему не придет? — внимательный читатель знает: потому что ненавидит тюрьмы и дворцы. Подтверждение догадки последует не сразу, а через несколько строк: «Где вы живете?» Она ответила тихо: «В Кремле».) Расскажет об одном случае из гимназической жизни, единственном, оставшемся в памяти как событие значительное и даже светлое, — о разгроме классной комнаты, когда они, восьмиклассники, в малые щепы разбили классную доску, голыми руками, спеша и ломая ногти, в несколько минут разнесли печь, разбили и сорвали с петель стеклянную дверь, столик, кафедру, разломали ученические парты — стремясь «разбить плотину нашей мутной реки и взорвать тюремные стены» [11, с. 73] под восторженными и понимающими взглядами сбежавшихся на грохот мальчиков. М. Осоргин назвал этот случай событием значительным и светлым: грозой, очистившей воздух: «Не будь ее — мы вышли бы из стен «казенного заведения» угрюмыми и мстительными юношами, не способными на прощение» [11, с. 74–75]. Скажет о том, что и вор-рецидивист, и пантера, и мартышка, и канарейка, и звери в зоологическом саду — это его братья, и о том, что как-то увидал в парижской газете фотографию слона, убившего сторожа зверинца; вырезал портрет слона и хранил с любовью, хотя в то время уже много лет прожил без решетки. Напишет о своем заключении в Таганской тюрьме и о том, что его мать состарилась в один год, даже в одну зиму, и умерла, узнав, что он в тюрьме и ему угрожает казнь: «Она уже была больна, и для меня нет полной причинной связи двух событий; но сыну, понявшему материнскую любовь, не поставят в вину того, 164 МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА что он в своей памяти, рядом с этой любовью, записал и чувство непримиримости к тем, кто как собственностью швыряется человеческими жизнями. Непримиримость навсегда, до сего дня, до смерти» [11, с. 71]. О том, что только тот знает, что такое свобода, кто знает также, что такое тюрьмы и полметра кирпичной стены, отделяющей от вольного воздуха; и о том, что в Париже долго жил близ тюрьмы Сантэ и никогда, проходя мимо нее, не упускал подумать: как было бы хорошо взорвать эту высокую ограду и посмотреть, как во все стороны разбегутся заключенные! Потом снова вспомнит о диком островке верстами тремя выше по течению, на котором он, девятилетний мальчик, в полном одиночестве жил без тени несвободы, потому что это был оазис без прав и обязательств, такая точка земли, где солнце заменяет часы и достаточно одного своего голоса, — и расскажет о том, что многими годами позже переживал это ощущение, когда, взяв палку, хлеба и козьего сыра, уходил с морского побережья в горы, где так свободно дышать, и, пройдя день, засыпал ночью в случайно найденном шалаше, — «мог ли я не быть счастливым, проснувшись под утро от горного холода и увидав туманы в ущельях!» [11, с. 99]. Говоря о русской ментальности, вспомнит о том, что родился в середине великого пути, который проложен через всю Россию в Восточную Сибирь; через его родной город гнали (как говорят про скот и про людей необычной, бунтующей воли) пешком арестантов, доставленных по реке на барках, и арестантские песни всегда были у нас, русских, в почете; придет к выводу о том, что мы, русские, — странные люди: когда на европейской улице ловят преступника, обыватели в этом помогают; у нас радовались и помогали любому побегу, наши сибирские крестьяне называли арестантов «несчастненькими», на ночь выставляли на крыльце чашки с кашей и вареную картошку, чтобы несчастненькие могли покормиться, не обижая ничем честных людей, а купцы и богомольные старушки посылали в тюрьму чай, сахар и калачи. Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что семья, родная природа, русская и мировая классическая литература, свобода, по мнению М. Осоргина, явились теми самыми необходимыми условиями формирования свободной души, они не противоречили друг другу, напротив, находились в полной гармонии: «Все, что мне позже открыли книги, что я принял из них и не отверг, — все это было раньше вышито зеленой гладью на клубничном косогоре, роилось и жило подо мхами, под древесной корой, в бесчисленных норках, прыгало по веткам, стояло звонкой песней над крестьянским полем, расцветало на воле и увядало без времени в детском кулаке» [11, с. 46]. Мы приходим к пониманию направления нашего дальнейшего научного поиска, который будет сосредоточен на истории написания и опубликования произведения, творческому процессу работы над ним и трансформации замысла, поэтике произведения, сочетании эпичности и лиризма, изучении жанровой специфики, соотношения проблемы факта и проблемы автора, а также оценке романа в критике русской эмиграции и отечественного литературоведения. Литература: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Адамович Г. В. Владимир Набоков // Адамович Г. В. Одиночество и свобода. — СПб., 1993. — С. 113– 124. Баевский В. С. Проблема психологического параллелизма // Сибирский фольклор. — Новосибирск, 1977. — Вып. 4. Бердяев Н. А. Смысл истории. — М., 1990. Боравская И. Б. Воплощение натурфилософской концепции в художественной прозе М. Осоргина 1920-х годов: дис. ... канд. филол. наук / И. Б. Боравская. — М., 2007. Бунин И. А. Миссия русской эмиграции: Речь, произнесенная в Париже 16 февраля 1924 года // Бунин И. А. Окаянные дни: Дневники, рассказы, воспоминания, стихотворения / Предисл. О. Михайлова и С. Крыжицкого, примеч. С. Крыжицкого. — Тула: Приок. кн. изд-во, 1992. Веселовский А. Н. Психологический параллелизм и его формы в отражениях поэтического стиля // Веселовский А. Н. Историческая поэтика / Вступ. ст. И. К. Горского; Сост., коммент. В. В. Мочаловой. — М.: Высшая школа, 1989. Ильин И. А. О тьме и просветлении / И. А.Ильин // Собрание сочинений в 10 томах. — Том 6. — Книга I. — М.: «Русская книга», 1996. Мужайлова Е. А. Достоевский Ф. М. и Осоргин М. А.: типология почвенничества: дис. ... канд. филол. наук / Е. А. Мужайлова . — Магнитогорск, 2008. Набоков В. В. Собрание сочинений: В 4 т. / Отв. ред. В. В. Ерофеев; сост. В. В. Ерофеев; илл. Г. Бернштейна. — М.: Правда, 1990. — Т.IV. Осоргин М. А. Воспоминания. Повесть о сестре. — Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1992. Осоргин М. А. Времена: Автобиографическое повествование. Романы / Сост. Н. Пирумова; Авт. вступ. ст. А. Л. Афанасьев. — М.: Современник, 1989. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. — Л., 1984. Шмелев И. С. Избранное. — М.: Правда, 1989. 165