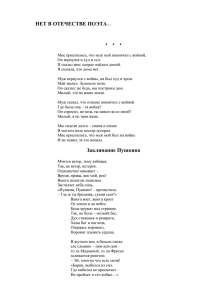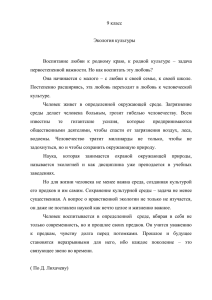У поэзии другое измерение
реклама

Из книги Эткинда Е.Г. Разговор о стихах (из Главы 1. СЛОВО В СТИХЕ) У ПОЭЗИИ ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ Зачем крутится ветр в овраге, Подъемлет лист и пыль несет, Когда корабль в недвижной влаге. Его дыханья жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен Летит орел, тяжел и страшен, На черный пень? Спроси его Зачем арапа своего Младая любит Дездемона, Кик месяц, любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу И сердцу девы нет закона. Гордись: таков и ты, поэт, И для тебя условий нет. Эти стихи, которые Пушкин написал в 1832 году и включил в незавершенную поэму «Езерский» (а позднее и несколько изменив — в повесть «Египетские ночи»),- о чем они? Можно ли рассказать их содержание прозой? Попробуем. Ветер, рассуждает Пушкин, нужен парусному судну, которое не может сдвинуться с места; между тем ветер производит неразумную работу: он крутится в овраге, поднимая клубы пыли и сухих листьев. Величавый орел, царь птиц, должен бы понимать, что ему по чину — сесть на вершину горы или на высокую крепостную башню, а он зачем-то садится на старый уродливый пень. Красавице Дездемоне полюбить бы такого же, как она, аристократа, юного венецианца — она же отдает свою любовь мавру Отелло, безобразному «арапу». Таков и поэт: он творит свое искусство, не руководствуясь ни логикой, ни целесообразностью, и воспевает то, что подсказывает ему прихоть; поэтическое творчество не подчиняется «условиям», то есть разумным законам. Хорошо ли я пересказал эти стихи? Нет, очень скверно. Зачем мне в прозаическом рассуждении эти странные, наудачу выхваченные примеры с ветром, орлом, Дездемоной? К тому же они ведь и не слишком связаны друг с другом. Ветер, поднимающий пыль, вместо того чтобы дуть в паруса, действует просто бесполезно. Орел, спускающийся на старый пень, роняет свое достоинство и забывает о царственном сане и, значит, действует неразумно. Дездемона, полюбив мавра, уступает порыву чувств, страсти,- она действует, с обывательской точки зрения, легкомысленно. Всѐ это разные поступки. Наконец, Дездемона — существо мыслящее, она способна на сознательный выбор; орел — живое существо, значит, и он может выбирать, хотя и не сознает этого; ветер же... Ветер — стихия, ему не свойственно чувствовать, желать, выбирать. Сопоставление в одном ряду столь разных явлений нелепо, вот почему в прозаическом изложении оно производит впечатление довольно-таки дикое. Значит, излагая пушкинскую мысль вне его стихов, надо было бы сказать примерно вот что. И в природе, и в обществе многое происходит случайно: стихии, живые существа, да и люди не подчиняются законам логики. Любовь женщины подобна слепой, неразумной стихии, у нее свои, особые законы, которые нельзя переплести на язык рассудка. Творчество тоже стихийно: поэт воспевает вовсе не то, что принято считать величавым или прекрасным, а то, к чему его влечет вдохновение, не подчиняющееся расчету. Именно в этом ценность художественного творчества: «Гордись,- восклицает Пушкин, — таков и ты, поэт...» Значит, сопричастность неразумной природной стихии и делает человека поэтом. Приведенное прозаическое рассуждение, кажется, правильно передает идею Пушкина. Но как же оно бедно» скучно, даже банально по сравнению с тем, что сказал Пушкин в поразительных по энергии, глубине, содержательности четырнадцати строках! Конечно, ветер сам по себе здесь не имеет значения: ведь речь идет о стихиях природы вообще, и можно было в качестве примера дать и море, и огонь, и воду ручья — воду, которая, скажем, вместо того чтобы крутить жернова мельницы, несет бесполезные щепки. В прозаическом пересказе мы просто и отвлеченно сказали: «Стихии... Не под-чиняются законам логики». Верно это? Верно. Но Пушкин придал избранному им среди всех стихий ветру такую жизненность, что мы видим и слышим, как он «крутится в овраге, подъемлет лист и пыль несет». Пушкин сообщил ветру неповторимую, самостоятельную жизнь. С точки зрения отвлеченного рассуждения, важно ли, что ветер крутится именно в овраге, а не дует в поле, или над дорогой, или в лесу? Что он поднимает листья и пыль, а не, скажем, срывает крыши с домов или ломает ветки сосен? А как точно нарисован корабль «в недвижной влаге»! Пушкин соединил рассуждение и образ, вернее, он воплотил рассуждение в образе. В стихотворении ветер одушевлен, его порывы названы дыханием, а про его действия можно спросить, как про действия человека: «Зачем?..» Но одушевлен и корабль — он «ждет», и ждет «жадно». Перед нами развернута драма, в которой участвуют два персонажа: своевольный ветер, отдающийся безотчетной прихоти, и обманутый им, скованный неподвижностью корабль. То же видим и дальше. Орел дан в стихотворении необыкновенно точно, эпитеты «тяжел и страшен» создают живой его облик; да и пень снабжен конкретной характеристикой: пень- «черный». Зачем орла влечет к черному, а значит — прогнившему или сгоревшему, безобразному пню? «Спроси его»,- говорит Пушкин, может быть он тебе и объяснит? Но нет, объяснить он не сможет, и не сможет ничего сказать Дездемона, которая любит мавра, «как месяц любит ночи мглу». Месяц, влюбленный в ночь,это, конечно, сравнение, но не только и не просто сравнение. Этот новый образ как бы сводит в стихотворение всю природу со свойственными ей контрастами и внешней неразумностью, в ее самом общем и самом высоком воплощении: стихия ветра, лунный свет, ночная мгла, царственный орел, горные хребты, любящая женщина... Да и поэзия дана здесь в ее наивысшем выражении — Шекспир, трагедия «Отелло». Вот чему равен поэт своей «неразумностью». Вот что такое поэзия. Приведенная строфа объясняет читателю поэмы «Езерский», почему автор избрал себе в герои жалкого коллежского регистратора Евгения Езерского, а не какого-нибудь знатного героя. Пушкин предвидит насмешливые возражения и попреки критики, которая ему скажет, Что лучше, ежели поэт Возьмет возвышенный предмет, Что нет, к тому же, перевода Прямым героям; что они Совсем не чудо в наши дни... Но поэзия свободна, как свободны ветер, орел и сердце девы. Она не знает сословных предвзятостей. Поэзия подчинена совсем иным законам, чем вся прочая жизнь. Пушкин продолжает в следующей, XIV строфе, обращаясь к поэту: Исполнен мыслями златыми, Не понимаемый никем, Перед распятьями земными Проходить ты, уныл и нем С толпой не делишь ты ни гнева, Ни нужд, ни хохота, ни рева, Ни удивленья, ни труда Глупец кричит: куда? Куда? Дорога здесь Но ты не слышишь. Идешь, куда тебя влекут Метанья тайные; твой труд Тебе награда; им ты дышишь, А плод его бросаешь ты Толпе, рабыне суеты. Все это куда значительнее, чем выбор героя, чем защита Евгения Езерского от нападок критиков. Дело не в кажущейся надменности Пушкина, не в его презрении к читателям, а в том, что просто у поэзии иные пути, чем у общепонятной житейской прозы. Глупцы руководятся здравым смыслом, они думают, что всѐ знают. «Дорога здесь...» — самоуверенно кричат они, но поэту с ними не по дороге, ибо он «исполнен мыслями златыми, не понимаемый никем...». В самом деле, поймут ли эти глупцы, привыкшие думать, что «красота и безобразность разделены чертой одной» (строфа XII), поймут ли они, что означает вопрос: Зачем крутится ветр в овраге...Где нелепым кажется уже слово «зачем»? С их точки зрения, ветер (а не «ветр») крутится, потому что крутится. «Зачем» — можно спрашивать о человеке, а не о ветре. В поэзии действуют другие измерения, другая логика. Прежде всего она опирается на целостное понимание и восприятие мира, в котором равны друг другу лунное сияние и любовь Дездемоны, ветер и орел. «Мысли златые» — это мысли поэта, они темны для непосвященных. У «мечтаний тайных» свой язык, его нужно уметь понимать. Он, увы, недоступен «глупцам», к которым Пушкин обращается со словами: Скажите: экой вздор, иль bravo, Иль не скажите ничего...