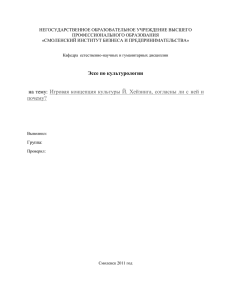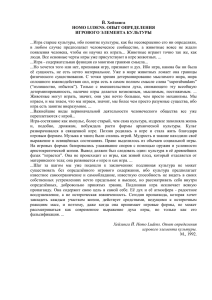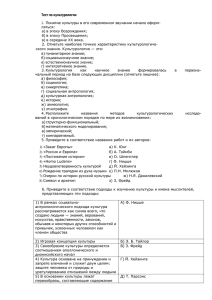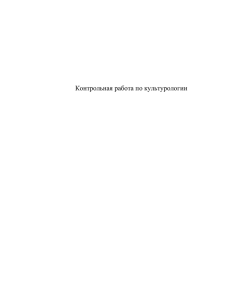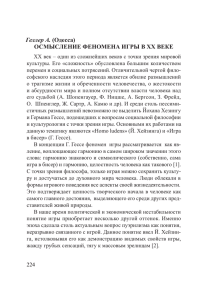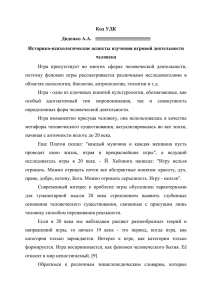Критика - Экономика. Социология. Менеджмент
реклама
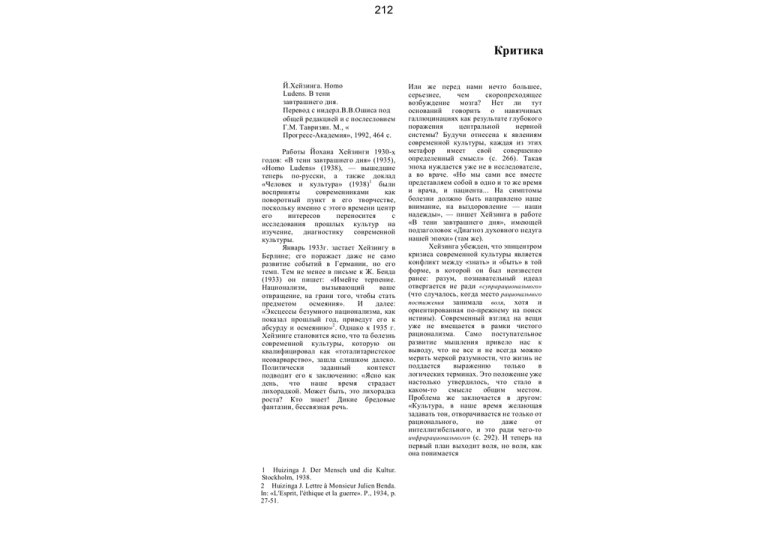
212 Критика Й.Хейзинга. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. Перевод с нидерл.В.В.Ошиса под общей редакцией и с послесловием Г.М. Тавризян. M., « Прогресс-Академия», 1992, 464 с. Работы Йохана Хейзинги 1930-х годов: «В тени завтрашнего дня» (1935), «Homo Ludens» (1938), — вышедшие теперь по-русски, а также доклад «Человек и культура» (1938)1 были восприняты современниками как поворотный пункт в его творчестве, поскольку именно с этого времени центр его интересов переносится с исследования прошлых культур на изучение, диагностику современной культуры. Январь 1933г. застает Хейзингу в Берлине; его поражает даже не само развитие событий в Германии, но его темп. Тем не менее в письме к Ж. Бенда (1933) он пишет: «Имейте терпение. Национализм, вызывающий ваше отвращение, на грани того, чтобы стать предметом осмеяния». И далее: «Эксцессы безумного национализма, как показал прошлый год, приведут его к абсурду и осмеянию»2 . Однако к 1935 г. Хейзинге становится ясно, что та болезнь современной культуры, которую он квалифицировал как «тоталитаристское неоварварство», зашла слишком далеко. Политически заданный контекст подводит его к заключению: «Ясно как день, что наше время страдает лихорадкой. Может быть, это лихорадка роста? Кто знает! Дикие бредовые фантазии, бессвязная речь. 1 Huizinga J. Der Mensch und die Kultur. Stockholm, 1938. 2 Huizinga J. Lettre à Monsieur Julien Benda. In: «L'Esprit, l'éthique et la guerre». P., 1934, p. 27-51. Или же перед нами нечто большее, серьезнее, чем скоропреходящее возбуждение мозга? Нет ли тут оснований говорить о навязчивых галлюцинациях как результате глубокого поражения центральной нервной системы? Будучи отнесена к явлениям современной культуры, каждая из этих метафор имеет свой совершенно определенный смысл» (с. 266). Такая эпоха нуждается уже не в исследователе, а во враче. «Но мы сами все вместе представляем собой в одно и то же время и врача, и пациента... На симптомы болезни должно быть направлено наше внимание, на выздоровление — наши надежды», — пишет Хейзинга в работе «В тени завтрашнего дня», имеющей подзаголовок «Диагноз духовного недуга нашей эпохи» (там же). Хейзинга убежден, что эпицентром кризиса современной культуры является конфликт между «знать» и «быть» в той форме, в которой он был неизвестен ранее: разум, познавательный идеал отвергается не ради «супрарационального» (что случалось, когда место рационального постижения занимала воля, хотя и ориентированная по-прежнему на поиск истины). Современный взгляд на вещи уже не вмещается в рамки чистого рационализма. Само поступательное развитие мышления привело нас к выводу, что не все и не всегда можно мерить меркой разумности, что жизнь не поддается выражению только в логических терминах. Это положение уже настолько утвердилось, что стало в каком-то смысле общим местом. Проблема же заключается в другом: «Культура, в наше время желающая задавать тон, отворачивается не только от рационального, но даже от интеллигибельного, и это ради чего-то инфрарационального » (с. 292). И теперь на первый план выходит воля, но воля, как она понимается 213 сегодня, —это воля к земной власти, «бытие», «кровь и почва», вместо «познания» и «духа». Однако культ жизни (где бы он ни проявлял себя —от поэзии до политики), угрожающий самому существованию культуры, по мнению Хейзинги, есть не что иное, как оборотная (теневая до поры до времени) сторона ее собственного движения. И вряд ли можно утверждать, что вина за его появление лежит только на философии: хотя антиноэтические течения XX века, —к которым Хейзинга относит фрейдизм, ницшеанство, прагматизм, исторический материализм и в большой степени социологические учения, исходящие из признания определяющей роли бытия, — слившись в один мощный поток, и начали исподволь расшатывать «дамбы духовной культуры», все же, коль скоро из них были сделаны весьма конкретные практически-политические выводы, эти течения сами были вынуждены доказывать свою значимость перед лицом «жизни» и оказались в двусмысленном положении. Культ жизни губителен для культуры, поскольку, набрав силы как определенная тенденция к иррационализации, он приводит к тому, что перестают соблюдаться основные условия существования культуры. Таких условий Хейзинга выделяет три: 1) баланс духовных и материальных ценностей, при котором различные сферы культурной деятельности, находясь в гармонии, «реализуют... возможно более эффективную жизненную функцию» (с. 259); 2) ориентированность на идеал сообщества, выходящий за рамки индивидуального и означающий для носителей этой культуры благо; и 3) господство над природой, что, по Хейзинге, означает овладение не только и не столько вещественной и материальной природой, но в первую очередь —человеческой природой, и что порождает и заставляет функционировать в качестве жизненного принципа понятия долга и служения. Несколько лет спустя в работе «Homo Ludens» Хейзинга так сформулирует эту мысль: «Культура предполагает известное самоограничение и самообладание, известную способность не видеть в своих собственных устремлениях нечто предельное и высшее, но рассматривать себя внутри определенных, добровольно принятых границ», содержание культуры определяется нормами, предписанными разумом, человечностью или верой (с. 238). Но как только «роль всеобщего путеводителя» отводится самой жизни, «слепой и непроницаемой», культура начинает терять связь с тем сдерживающим началом, которое и организует ее как культуру. В какой степени она еще остается самой собой? 1) Переоценка экономического фактора, доверие к тому, что прогресс, чисто геометрический вектор «вперед» уже содержит в себе «bigger and better», доводят до предельной эффективности аппарат производства. Но «моральные мускулы человека оказались не настолько сильны, чтобы выдержать ношу этого изобилия» (с. 295). Жизнь теряет ценность, так как становится, с одной стороны, слишком гарантированной, а с другой — уже нет ничего, что имело бы ценность вне и кроме жизни, полагает Хейзинга. Позволяет ли эта антиномия говорить о равновесии материальных и духовных ценностей? 2) «В настоящее время много говорят о национальных культурах и классовых культурах, иначе говоря, подчиняют понятие культуры идеалу благоденствия, могущества и безопасности. Такой субординацией понятие культуры фактически переводится на животный уровень, где оно теряет свой смысл... Для понятия культуры лишь там есть место, где определяющий ее на- 214 правленность идеал выходит за пределы и поднимается выше интересов сообщества, которое этот идеал провозглашает. Культура должна быть метафизически ориентирована, либо ее нет вообще» (с. 264). Благоденствие, могущество и безопасность, занявшие, по мнению Хейзинги, место идеала, выдвинутого христианством, дают возможность различным социальным группам (будь то «класс» или «партия») выдавать свой прагматический интерес за благо общества и государства. Такая «гибкая», этически индифферентная трактовка блага наполняет иным содержанием и выражения «жизнь есть борьба» и «борьба со злом». «Идея жизненной борьбы для бессчетного количества людей переместилась из сферы личной совести в сферу публичной жизни сообщества, и при этом этическое содержание понятия борьбы по большей части почти бесследно улетучилось», —пишет Хейзинга. Теперь «жизненная борьба как публичный долг становится борьбой людей против людей. Эти другие , против которых идет борьба, теоретически не предстают больше воплощением зла ... Эти другие в зависимости от точки зрения группы-субъекта являются конкурентами, владельцами средств производства, носителями нежелательных биологических качеств... Во всех этих случаях на желание сражаться, покорять, отчуждать либо искоренять моральное осуждение само по себе никак не влияет» (с. 299). Такая позиция в конечном итоге, как показывает Хейзинга на примере работы Карла Шмитта «Der Begriff des Politischen» (1927), ведет к выделению политического в совершенно независимую от морали и истины сферу и превращению истолкованного в этом духе различения «друг — враг» в основной принцип поведения. Если же к этому добавить посылку о мо- ральной автономии государства и признать за ним такое же право на независимое действие, то из этого последует, что «государству, то есть в принципе любому государству, самому подобает решать, когда и как сразиться с врагом, а равно решать и то... кто этот враг. А также и принимать решение... является ли политически выступающий субъект самим государством, т.е. вправе ли он вести борьбу с врагами» (с. 302). Таким образом, выдвинутые в качестве единственных ориентиров благоденствие, могущество и безопасность, избавляя политический принцип от всякого морального привкуса, делая его независимым, уже не имеют никаких препятствий к тому, чтобы признать состояние войны и анархии нормальным, заключает Хейзинга. Позволяют ли эти принципы, молчаливо принимаемые за идеал сообщества и фактически ведущие к диссоциации и дисгармонии, говорить о наличии единого гомогенного идеала, ориентирующего современную культуру? 3) «Господство над природой» в тех формах, в которых оно существует сегодня, не оставляет надежд на признание за ним какой бы то ни было культуросозидающей функции. Технический прогресс сделал (слишком?) много для овладения внешней, материальной природой, непропорционально много по сравнению со способностью человечества сегодня «владеть собой» (с. 263). Рассмотрение этой способности, умения «владеть своей собственной природой», дает мало поводов для оптимизма. Речь идет даже не о расовых теориях; по мнению Хейзинги, они вообще находятся вне рамок культурного достояния (вернее, должны там находиться, поскольку эта доктрина, «с самого же начала отвергнутая серьезной наукой как несостоятельная, ... более полувека влачила 215 свое существование в сфере дилетантизма и дряблого романтизма, пока внезапно не оказалась вдруг вознесена политическими обстоятельствами на пьедестал, с которого теперь позволяет себе провозглашать „научные истины"» (с. 283)). Гораздо серьезнее отказ от завоеваний духа, от того, что признавалось «превосходящим природу». Хейзингу тревожит то, что теперь «от имени прав человеческой природы всюду ставится под сомнение обязывающий авторитет универсального нравственного закона» (с. 263), что в сочетании с признанием принципиальной имморальности Государства лишает понятия долга и служения всякого смысла. Их место занимает теперь культ героического. Опасность такой замены Хейзинга видит не в героизме как таковом, положительная сторона которого несомненна, но в том, что героическое начинает культивироваться, что «понятия служения, миссии, долга больше не имеют достаточно силы, чтобы стимулировать энергию общества» (с. 3 27 ) . При этом вопрос о чистоте цели и способе такого героического действия уже не ставится. Таким образом, и это третье условие существования культуры Хейзинга считает невыполненным или выполненным наполовину. Диагноз поставлен: забвение духа и переоценка витальности, всеобщее ослабление способности суждения, снижение критической потребности, упадок моральных норм привели общество на позицию пуерилизма, под которым Хейзинга понимает такое состояние духа, «которое можно было бы назвать перманентным отрочеством», когда уровень ответственности и понимания не соответствует стоящим перед этим обществом задачам. И если рассмотреть культуру sub specie ludi (что Хейзинга и сделает три года спустя в «Homo Ludens»), т.е. как fair-play, честную самоцельную игру по строго соблюдаемым правилам, осознающую свои границы, то в этом контексте пуерилизм будет означать не что иное, как неумение (нежелание) разглядеть различие между подлинной культурой и политикой, приводящее к подмене честной игры манипуляцией сознанием. Предлагаемый Хейзингой выход из этой ситуации не содержит ничего, кроме призыва сделать определенное нравственное усилие, шаг к аскетизму, трезвости, честности, другими словами, изменить себя, «образумиться». Нельзя сказать, что этот призыв не был услышан. Со дня выхода в свет книга «В тени завтрашнего дня» сразу же попадает в «Список вредных и нежелательных изданий». Третий рейх организует «спонтанные взрывы возмущения» в прессе против Й. Хейзинги. И хотя переиздания его старых работ еще могли выходить в Германии, в целом его имя исчезает из дискуссий, даже в научной сфере, так что все его работы после 1935 г., которые вышли на немецком языке, изданы в Швеции, Австрии, а преимущественно в Швейцарии3. С другой стороны, эта работа вызвала огромный читательский интерес; первое издание было распродано мгновенно, ко времени появления в 1938 г. седьмого книга была переведена уже на 9 языков. Однако того горячего признания, которое она нашла у широкой публики, в университетской среде книга не получила. Коллеги отнеслись к ней более чем скептически4 . Основанием для упреков послужила даже не сама книга, а изложенное в ней понимание 3 Подробную библиографию см. в кн.: Köster К. Johan Huizinga. Oberursel, 1947. 4 См. об этом: Geyl Р. Huizinga as accuser of his age. In: «History and Theory», 1963, № 2. 216 культуры, истории и миссии историка. Хотя Хейзинга и оговаривается, что его интересует «духовный недуг нашего времени», по сути дела, о чем бы он ни писал — о XII веке или о 30-х годах ХХ-го, о средневековой Бургундии или современной ему Европе, —культура, по мнению его коллег, рассматривалась им в изоляции от экономики и политики, как процесс исключительно духовный, переживающий расцветы и упадки в соответствии со своими собственными законами. История была для него той духовной формой, «в которой культура отдает себе отчет о своем прошлом»5. Судьба культурологических работ Хейзинги 1930-х гг. примечательна: вопрос об их научной состоятельности как бы вообще не ставился. Они были важны как декларация жизненной позиции историка в ситуации, которая проверяла убеждения крайними средствами. Фактически все споры об этих работах до начала 1960-х гг. были спорами с гражданской позицией Хейзинги или по ее поводу... Вышедшая три года спустя книга «Homo Ludens», также входящая в корпус культурологических работ Хейзинги, считается, наряду с «Осенью Средневековья», самым ярким из написанного им. Соотношение культуры и игры было скрытой канвой его интересов уже с 1903 г., и «Homo Ludens» явилась результатом зревшей много лет идеи о том, что «человеческая культура возникает и развертывается в игре» (с. 7). Выраженная в таком общем виде, эта мысль чаще всего воспринималась критиками либо как «малоубедительно доку- 5 Huizinga J. Über eine Definition des Begriffs Geschichte. — In: Huizinga J. Im Bann der Geschichte: Betrachtungen und Gestaltungen. Zeiden, 1941, S. 104. ментированная импровизация» на темы спасения культуры, либо как некоторая развернутая метафора «игры в бисер». Полярность оценок и категоричность суждений по этому поводу во многом связаны с тем, что предмет рассмотрения — игра — есть нечто очень знакомое каждому и все же неотчетливое и ускользающее, а тем самым — провокативное и соблазнительное. Сам стиль Хейзинги, способ подачи материала, для которого характерны принципиальная открытость, сдержанность, напоминающая отстраненность, некая наивная некатегоричность, побуждали многих как бы «додумать» за него, «доразвить» эту гипотезу в теорию, но при этом Хейзинга каждый раз оказывался тем зеркалом, в котором автор, обращавшийся к нему, видел лишь себя. Может быть, в какой-то мере в этом и состоит достоинство работы: она спорна в хорошем смысле. И если в первые десятилетия после ее появления перевес в спорах на тему «культура —игра» был явно на стороне культуры (другими словами, «Homo Ludens» виделась преимущественно как продолжение, развитие положений работы «В тени завтрашнего дня» о кризисе современной культуры, а автор воспринимался только как «обвинитель своего века», —одна из статей П. Гейла так и называется) — то затем центр интересов сильно сместился в сторону игры; политический контекст, в котором создавалась эта книга, отошел на второй план, уступив место новым — социологическим, теологическим, философским —ее прочтениям. Однако не надо забывать, что «Homo Ludens» написана историком, что во многом и составляет специфику его подхода к теме. Хейзингу интересует «игровая модальность культуры» (т.е. насколько сама культура носит характер игры, а не место игры среди других 217 проявлений культуры). Он полагает, что «культура возникает в форме игры, культура первоначально разыгрывается... Стало быть, не следует понимать дело таким образом, что игра мало-помалу перерастает или вдруг преобразуется в культуру, но скорее так, что культуре в ее начальных фазах свойственно нечто игровое, что представляется в формах и атмосфере игры» (с. 61). Постижение игрового характера культуры выполнимо только исторически, а не научно. Неприемлемость сциентистских подходов к игре определяется тем, что «все они начинают с допущения, что игра должна служить чему-то, что есть не-игра», и по сути дела на этом и останавливаются. Объект интереса историка — игра как форма деятельности, как содержательная форма, несущая смысл, как социальная функция. Он старается понять игру такой, какой видит ее сам играющий, то есть в ее первоначальном значении» (с. 13). Хейзинга выделяет следующие характеристики игры: 1. Первое и самое главное — всякая игра является свободной деятельностью. 2. «Игра не есть «обыденная» жизнь и жизнь как таковая. Она скорее выход из рамок этой жизни во временную сферу деятельности, имеющей собственную направленность» (с. 18). Она «всего лишь притворство», в ней все «понарошку» по сравнению с серьезностью, понятием, представляющимся гораздо более первичным, чем игра. Этот факт часто вводит в заблуждение относительно «неполноценности» игры. Тем не менее, полагает Хейзинга, противоположность между игрой и серьезностью очень текуча и зыбка: хотя игра и лежит «вне дизъюнкции мудрости и глупости», истины и лжи, добра и зла, однако она «может подниматься до 3. высот прекрасного и священного, где оставляет серьезность далеко позади себя» (с. 18-19). Кроме того, не будучи обыденной жизнью, она лежит за рамками процесса непосредственного удовлетворения нужд и страстей. «Она прерывает этот процесс. Она вклинивается в него как временное действие, которое протекает внутри себя самого и совершается ради удовлетворения, приносимого самим совершением действия» (с. 19). 4. Игра ограничена, от-граничена от «обыденной жизни...». Она «разыгрывается» в определенных рамках пространства и времени. Ее течение и смысл заключены в ней самой (с. 20). игры во — Ограниченность времени приводит к тому, что «игра сразу фиксируется как культурная форма. Будучи однажды сыгранной, она остается в памяти как некое духовное творение или ценность, передается далее как традиция и может быть повторена в любое время» (там же). — Ограниченность же в пространстве выражается в необходимости наличия «игрового поля» (корт, сакральные круги, суд, шахматная доска), призванного отделить и противопоставить игру и внеигровой мир. Это игровое пространство определяется изнутри самой игры ее собственным безусловным порядком и им же ограничивается. 4. В игре постоянно присутствует элемент, который можно обозначить как напряжение, азарт, под- разумевающий неустойчивость, неопределенность, возможность, шанс и вынуждающий игрока «двигаться вперед», «выиграть», как он сам назвал бы это. Хейзинга полагает, что «именно элемент напряжения сообщает игровой деятельности, которая сама по себе лежит вне области добра и зла, вполне определенное этическое содержание» (с. 21), 218 поскольку здесь сталкиваются желание выиграть и незыблемость правил, на которых строится игра. Игра - прежде всего fair-play, и нарушитель правил рушит игровой мир, обнажая его относительность и хрупкость. 5. Игра любит обособляться, любит атмосферу тайны, что является основой для образования игровых сообществ, которые тяготеют к самосохранению и за пределами игры. Внутри сферы игры законы и обычаи мира повседневности силы не имеют. Культуросозидающие функции игры выводятся Хейзингой из двух основных ее проявлений в обществе. Это состязание за что-то и представление чего-то. Они могут объединяться следующим образом: игра представляет что-то или становится состязанием за лучшее представление чего-то. Именно эти две постоянно и повсюду возобновляющиеся формы — священный ритуал и праздничное состязание — были импульсом, который, подобно дрожжам, побуждал расти архаическую культуру, полагает Хейзинга. Собственно, сама структура «Homo Ludens» подчинена задаче проиллюстрировать, что «культ разворачивался в священной игре. Поэзия родилась в игре и стала жить благодаря игровым формам. Музыка и танец были сплошь игрой. Мудрость и знание находили свое выражение в освященных состязаниях. Право выделилось из обычаев социальной игры». Таким образом, Хейзинга приходит к выводу: «культура в ее древнейших формах „играется"» (с. 196). Однако по мере того как культурный материал становится сложнее по составу, пестрее, обрастает деталями, а техника организации производственной и общественной жизни, индивидуальной и коллективной, становится все изощреннее, над фундаментом культуры мало-помалу надстраива- ется слой идей, систем, понятий, учений и норм, знаний, обычаев, которые по видимости теряют всякое касательство к игре. Культура становится все более и более серьезной и отводит игре только побочную роль. Современная же культура, по-видимому, уже утратила чувство «честной игры», чье место занял пуерилизм (с. 231). В каком-то смысле эта утрата может квалифицироваться как утрата стиля, отступление от тех формальных ограничений, предписываемых игрой, которые и конституировали культуру. Заключительные главы «Homo Ludens» сближают эту работу с книгой «В тени завтрашнего дня». Когда речь идет о культуре, последнее слово для Хейзинги всегда остается за моральным законом, нравственным суждением. За последние два десятилетия работа «Homo Ludens» приобрела огромную популярность (преимущественно в англоязычных странах) и стала рассматриваться как фундаментальный труд, обойти который не может уже никто из пишущих об игре. Многие авторы считают, что именно с нее начинается современный дискурс об игре. При этом, однако, создается ощущение, что те. сознательные ограничения, которыми и определяется подход Хейзинги к игре как к форме, создающей условия для развития культуры, принимаются во внимание, но как досадная загвоздка, некая ограниченность (а не намеренно установленные границы), мешающая построить настоящую пан- лудическую концепцию; или же, наоборот, их вовсе не замечают, что и позволяет приписать самому Хейзинге стремление построить такую панлудическую концепцию, не проведя надлежащих дистинкций — между субъектом и объектом, между разными типами игр и т.д. Более всего оказались «довольны» Хейзингой социологи, поскольку 219 они — от Л. Мэмфорда 6, увидевшего в концепции игры Хейзинги антитезу современной техно- бюрократической цивилизации, и Р. Кайюа7 , трактующего хейзинговский «игровой элемент» как извечный человеческий инстинкт к игре, до современных работ по более прикладным вопросам (спорт, детские игры, обучение и т.д.) —исходят прежде всего из выделенных Хейзингой формальных характеристик игры, где в общем-то ничего спорного не содержится. На удивление большой отклик получила эта концепция в теологии, в ее нонконформистских направлениях 8 , хотя и здесь она играет роль, подчиненную общему замыслу обновления веры. В философии же, имеющей свою собственную более давнюю традицию обращения к игре, «Homo Ludens» еще не нашла определенного места. Все чаще встречаются попытки поставить Хейзингу в начале того ряда, который продолжается Хайдеггером и Гадамером. Но они почти всегда наталкиваются на барьер исторического подхода, провозглашенного самим Хейзингой. Но в целом, рассмотренная в философском контексте, эта книга все же остается, как считает, к примеру П. Гейл, не фундаментальным трудом, а скорее блестящей импровизацией талантливого «remueur d'idées», способной стимулировать работы гораздо более основательные, чем она сама. Как сказал в предисловии к фран- 6 Mumford L. The myth of the machine. N.Y., 1966. 7 Caillois R. Les jeux et les hommes. P., 1958; Man, play and games. N.-Y, 1961. 8 Cox H. The feast of fools, 1969; Neale R. In the praise of play, 1969; Moltmann J. Theology of play, 1972; Miller D. Gods and games, 1973; Caspar R. Play springs eternal, 1978. цузскому переводу «Осени Средневековья» Жак Ле Гофф, Хейзинга, прочитанный в сегодняшней перспективе, своим эстетизмом, дилетантизмом, даже своими ошибками открывает двери в новые возможности «делать историю». Сейчас с уверенностью можно говорить о той большой роли, которую Хейзинга сыграл в становлении «новой истории», не только благодаря работам, посвященным методологии, значительная часть которых также приходится на 1930-е годы, но и реализацией, намеренно не артикулированной теоретически, своего понимания «ремесла историка». До сих пор из книг Хейзинги на русском языке существовал только вышедший в 1988 г. перевод «Осени Средневековья» с послесловием А.В. Михайлова. О самом Хейзинге написано тоже немного,— это работы С. Аверинцева, А. Апинян, Н. Колодий, Г. Тавризян,—так что российскому читателю еще предстоит открыть для себя Хейзингу. Издательская группа, готовившая сборник, сделала для этого очень много. Прежде всего —качественный перевод и комментарии, выполненные В.В. Ошисом, задача которого осложнялась как тем, что текст Хейзинги изобилует примерами и цитатами на разных языках, так и тем, что комментированного собрания его сочинений до сих пор вообще не существует. Кроме того, несомненный интерес вызовет и послесловие редактора сборника Г.М. Тавризян, посвященное обойденной нашими историками и культурологами теме, которая и задает контекст для понимания Хейзинги, — его методу и поискам в историографии. И. В. Хестанова