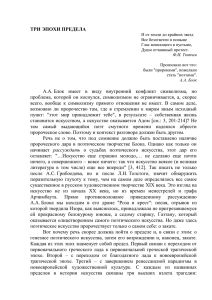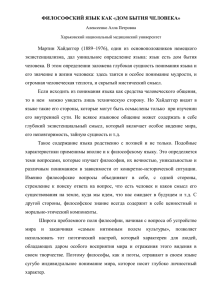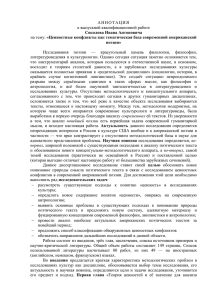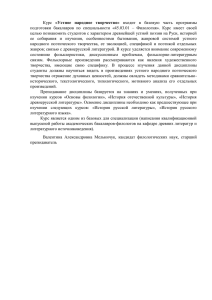ТРИ ЭПОХИ ПРЕДЕЛА
реклама

ТРИ ЭПОХИ ПРЕДЕЛА И от земли до крайних звезд Все безответен и поныне Глас вопиющего в пустыне, Души отчаянный протест. Ф.И. Тютчев Произошло вот что: были "пророками", пожелали стать "поэтами". А.А. Блок А.А. Блок имеет в виду внутренний конфликт символизма, но проблема, которой он коснулся, символизмом не ограничивается, а, скорее всего, вообще к символизму прямого отношения не имеет. В самом деле, возможно ли пророчество там, где в стремлении к мирам иным исходный пункт: "этот мир принадлежит тебе", в результате – собственная жизнь становится искусством, а искусство оказывается Адом [см.: 3, 201-214]? Не там самый выдающийся поэт смутного времени надеялся обрести пророческое слово. Поэтому и контекст разговора должен быть другим. Речь не о том, что под сомнение должно быть поставлено наличие пророческого дара в поэтическом творчестве Блока. Однако как только он начинает рассуждать о судьбах поэтического искусства, этот дар его оставляет: "…Искусство еще страшно молодо,… не сделано еще почти ничего, а совершенного – вовсе ничего: так что искусство всякое (и великая литература в том числе) еще все впереди" [3, 412]. Так писать не только после А.С. Грибоедова, но и после Л.Н. Толстого, значит обнаружить поразительную глухоту к тому, чем на самом деле определялось все самое существенное в русском художественном творчестве XIX века. Это взгляд на искусство не из начала ХХ века, но из времен менестрелей и графа Арчимбаута. Прямо противоположное приведенному рассуждению А.А. Блока мы находим в его драме "Роза и крест": песня, отрывок из которой твердила Изора, как выяснилось, принадлежала не пригрезившемуся ей прекрасному белокурому юноше, а седому старику, Гаэтану, который оказывается олицетворением самого поэтического искусства. Но даже здесь поэтическое искусство пророчествует только о самом себе: о закате. Вот почему речь скорее должна пойти о пределе и, в связи с этим: о генезисе поэтического искусства, затем его возрождении и, наконец, закате. Каждая из этих эпох знаменует собой предел. Первый связан с переходом от первоначального греческого лада к первоначальной греческой трагической эпохе. Второй – с переходом от благодатного лада к новоевропейской трагической эпохе. Третий – с завершением ренессансной парадигмы в новоевропейской художественной культуре. С каждым из названных пределов в истории искусства связаны три высших взлета трагедии: греческие трагики, Шекспир, музыкальные драмы Вагнера и Мусоргского. 1 Музыкальная тема перед появлением Тристана в I действии – это голос Судьбы, это греческая трагедия во всей ее роковой неотвратимости: Тристан еще ни о чем не подозревает, а музыка уже прозвучала. В свою очередь заявивший свое право на своеволие князь Хованский – живое олицетворение всего самого существенного, что свойственно протагонисту трагедии, по крайней мере, со времен Еврипида. Можно то же самое сказать другими словами: генезис и возрождение поэтического искусства связаны с переходом от ποίηζις к ποιηηικὴ ηέχνη, тогда как закат обусловлен господством "области действенности" (Г. Риккерт), подчинившей себе поэтическое искусство. Мы должны, стало быть, задуматься не об антитезе пророчества и поэзии в границах искусства, но об антитезе пророчества и искусства. О том, что для предпринятого разговора необходим именно такой контекст, говорит стихотворение Робинсона Джефферса "Кассандра" (1948): Безумная девушка с широко раскрытыми глазами и длинными белыми пальцами, Которыми вцепилась в камни стены, С всклокоченными бурей волосами и зловеще кричащим ртом: так ли уж важно, Кассандра, Чтобы люди поверили Горькому истоку твоих пророчеств? Ведь и в самом деле люди возненавидели истину; они бы предпочли Встретить тигра в пути. Вот почему поэты подслащают свою правду ложью; но Торговцы религией и политики Льют из бочки новую ложь на старую, и их восхваляют За доставляющую удовольствие Мудрость. Жалкая сука, будь благоразумной. Нет: ты жуешь в углу крошку истины, вызывающую Отвращение у людей и богов. – Ты и я, Кассандра [1, 254]. Поэт в ХХ веке оказывается в ситуации пророчицы, с той лишь разницей, что в первом случае перестают слышать и понимать пророческое слово, во втором – выбрасывают, как ненужный хлам, само поэтическое искусство. Поэтому, несмотря на очевидную противоположность этих двух ситуаций: от торжества поэтического искусства над пророческой ποίηζις до его краха, в упомянутых ситуациях все же просматривается нечто общее: предел. 1 Правда, А. Шопенгауэр наиболее совершенной трагедией считает "Норму": "…Эта опера, даже оставляя в стороне ее прекрасную музыку и текст… и рассматривая ее лишь исходя из ее мотивов и внутреннего настроения, представляет собой совершенную трагедию, истинный образец трагического характера мотивов, трагического нарастания действия и трагической развязки, показывая также их возвышающее над миром влияние на настроенность героев, которая сообщается и зрителю…" [16, 458. Пер. М.И. Левиной]. И в то же время только слово, сохранившее свою пророческую сущность или хотя бы память о ней, может быть названо подлинно поэтическим. Там, где на смену безусловной готовности бесстрашно и мужественно принять Истину, какой бы она ни была, приходит искусство разбавлять горькую правду сладкой ложью, приятной расслабленным умам и душам, там о подлинной поэзии следует забыть. Вот почему настоящий поэт всегда пребывает в трагическое ситуации Кассандры – с тех самых пор, как люди отреклись от пророческого слова. Робинсон Джефферс подтверждает сказанное выше: речь должна пойти об извечном противостоянии пророческой ποίηζις и ποιηηικὴ ηέχνη, целиком принадлежащей к области эстетики: о двух переходах от первой ко второй, а также о завершении и разложении поэтического искусства в течение двух последних столетий. Впрочем, о каком переходе может идти речь? Разве сам Пиндар, чьи гимны, очевидно, для нас навсегда останутся примером ποίηζις самой по себе, не говорит в конце I Олимпийской песни, обращаясь к Гиерону Сиракузскому, олимпийскому победителю в конных состязаниях 476 г. (то есть за шесть лет до рождения Сократа и за полстолетия до рождения Платона): Будь твоей долей – Ныне попирать вершины; А моей – Обретаться рядом с победоносными, Первому во всем искусстве перед эллинами [10, 13. Пер. М.Л. Гаспарова]. Греческое в этом переводе увидено с точки зрения новоевропейского субъективированного сознания с его "мятежным суверенитетом" [13, 295. Пер. А.П. Шурбелева] как определяющей характеристикой. При таком подходе поэт, конечно, не может думать ни о чем другом, как только о том, чтобы в полной мере были соблюдены его личные права на приоритет. Как-то не сразу замечают, что настаивая на первенстве во всем искусстве, он становится фигурой комической, весьма подобной мольеровскому Маскарилю. Все искусство есть то, что Аристотель в "Физике", в отличие от θύζει ὄνηα, именует ηέχνη ὄνηα: "Первое есть то, что само производит себя из себя самого, последнее производится по мере того, как человек это представляет и по-ставляет" [12, 30. Пер. Т.В. Васильевой]. О каком первенстве поэта здесь может идти речь? Не должен ли он для этого посоревноваться во всех видах ηέχνη? Такое понимание поэта накладывает отпечаток и на победителя состязаний; в результате греческий олимпионик ничем существенно не отличается от современного sportsman᾽а с его жаждой самоутверждения – вплоть до попирания вершин. Невозможно объяснить, почему примкнувший к нему поэт одновременно превосходит его, поскольку оказывается первым не только в своем, но во всем искусстве, стало быть, и в искусстве управления лошадьми на скачках. Если ποίηζις Пиндара – искусство, тогда он оказывается в границах той же парадигмы, что и Геракл, который, как мы знаем, благодаря своему искусству (ηέχνη), возвратил Адмету умершую жену, единолично, согласно трагедии Еврипида, утвердив этим своим деянием "лад лучшей жизни". Тогда, в свою очередь, прав будет и М. Хайдеггер, который исток произведения искусства усматривает в границах самого искусства как первоначального состояния поэзии: "Wie auch die Entscheidung fällt, die Frage nach dem Ursprung des Kunstwerkes wird zur Frage nach dem Wesen der Kunst" [14, 52]. "Как ни решать, вопрос о происхождении произведения искусства становится вопросом о сущности искусства". М. Хайдеггер, конечно, понимает, что поэтическому искусству нечто предшествовало, но это состояние слова, языка и мышления он называет прапоэзией: "Мышление есть прапоэзия, которая предшествует всякому стихотворчеству, равно как и всякому поэтическому в искусстве… <…> Стихослагающее существо мышления хранит силу истины бытия" [12, 34]. И в другом месте: "Мышление же есть стихослагание истины бытия в исторически-былом собеседовании мыслящих" [12, 67]. Мы видим, что М. Хайдеггер проходит мимо ключевого для понимания греческой поэзии разграничения ποίηζις и ποιηηικὴ ηέχνη: песни Пиндара для него – это уже ηέχνη, а не прапоэзия, тогда как ποίηζις, отличной от ποιηηικὴ ηέχνη, он просто не знает. На самом деле ποίηζις вбирает в себя и то, что М. Хайдеггер именует прапоэзией. Это значит, что изначальное мышление было не только стихослагающим, но и поэтическим: ποιηηικός, способным учредить и сохранить лад. Речь не об изначальном единстве мышления и поэзии, но о том Едином, в котором исток всего. Не случайно в первоначальные времена и философия принадлежала к ποίηζις, и никакой другой способности мышления, автономной по отношению к ποίηζις, попросту не существовало. Однако уже Аристотель понимает это Единое изнутри ηέχνη, определяя Эмпедокла как "природоведа". Следовательно, он мыслит уже не Единое, а разделенное: изнутри разделенного. Ошибка трактата "Der Ursprung des Kunstwerkes" ("Происхождения произведения искусства") заключается в навязывании поэтическому искусству и искусству в целом того, что свойственно лишь ποίηζις. М. Хайдеггер в эстетически данной, то есть опосредованной образом, реальности пытается усмотреть непосредственную онтологию присутствия2. Это все равно, как если бы мы проигнорировали различие между 2 Аналогичная подмена у Ф. Ницше: трагическую эпоху он пытается наполнить смыслом, присущим первоначальному греческому ладу: "Добром" называли не приятные чувства, а состояния полноты и силы" [8, 343]. Откуда возьмутся полнота и сила, если не из соприсутствия божественного и человеческого? Когда такого со-присутствия нет, тогда: "Сон тени – человек" [10, 101-102]. возвращением Алкесты и попыткой возвращения Эвридики. То, что легко – эстетически – осуществляется в первом случае, не может онтологически осуществиться во втором и становится возможным лишь тогда, когда за дело берется ηέχνη (опера К.В. Глюка3). При этом свой онтологический статус происходящее, разумеется, теряет. Бедный образ. М.М. Бахтин, вслед за формалистами, призывает отказаться от образа, но в своей теории диалога образ – в редуцированном виде – нещадно эксплуатирует. М. Хайдеггер полагает, что эстетический подход, то есть теория образа, недостаточен для постижения поэтического искусства. На самом деле этот подход (как и любой дискурсивный) недостаточен для постижения ποίηζις, тогда как для постижения ποιηηικὴ ηέχνη по большому счету только он и нужен. Иисус Христос, изъясняя ученикам притчу о сеятеле, говорит: "Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах" (Мк. 4: 11). Применительно к поэзии можно сказать так: вам, внимающим целокупному слову ποίηζις, дано быть причастниками лада, а тем внешним все бывает в ποιηηικὴ ηέχνη. Изнутри онтологии присутствия поэтическое сказывание (а не произведение, принадлежащее эстетической области) может быть помыслено лишь в том случае, когда онтология присутствия проявляется в слове непосредственно: когда язык – "дом бытия" (М. Хайдеггер), а не образ бытия. Тогда поэтическим словом бывает явлено "место", к которому оно "принадлежит" [14, 268]. Произведение, принадлежащее к поэтическому искусству, "сочиняется", тогда как все, что принадлежит к ποίηζις, воздвигается, со-учреждая, наряду с победителем состязания, место соприсутствия богов и людей. В зачине VI Олимпийской песни сказано: Χπςζέαρ ὑποζηάζανηερ εὐηεισεῖ πποθύπῳ θαλάμος κίοναρ ὡρ ὅηε θαναηὸν μέγαπον πάξομεν∙ ἀπσομένος δ᾽ ἔπγος ππόζωπον σπὴ θέμεν ηηλαςγέρ [17, 20]. Вколотим золотые столбы преддверию [сокрытого от взоров] жилища, окружив его доброю стеною, как [вколачивают их] для явленного всем святилища: начатого дела лик должен быть далеко сияющим. Чтобы понять, что именем лик (πρόσωπον) охватывается все, что воздвигает человек, учреждая лад, нужно вспомнить, что сказано об этом в VI Пифийской песне (стихи 14-18): В чистом свете лик [гимнов, то есть воздвигаемый ныне этот гимн] возвещает логосу смертных общую отцу твоему, 3 Не будем забывать, что в данном случае перед нами высокий образец ηέχνη; эту оперу особенно любил О. Мандельштам. После Глюка еще возможен "Орфей в аду", тогда как после Оффенбаха невозможно уже ничего. Фрисибул, и всему роду славу колесничной победы в ущелье Крисы [17, 98]. Где заканчивается дело строителя и начинается дело хора? Такой границы нет, поскольку преддверие жилища, вход в святилище и зачин песни – одно, ибо все это – способы устроения лада, то есть учреждение места, в пределах которого лад становится онтологически безусловной реальностью. Гимн выводит на свет сокрытое, так что принятие пропетого гимном – необходимое условие приобщения к ладу, стало быть, к жизни, бытию. Поэтическое искусство может учреждать только эрзац такого места. После выхода "Новой Элоизы" Кларан стали посещать в качестве паломников не только ничем более не отмеченные в истории чувствительные молодые люди: два месяца в нем прожил последний руссоист Л.Н. Толстой, но кто нынче одержим стремлением последовать их примеру? Кто вообще слышал об этом? И кто в наше время не знает, что такое Голгофа? Приведенный выше перевод отрывка из I Олимпийской песни Пиндара пытается уверить нас в том, чего в ней нет и не может быть: ἄλλοιζι δ᾽ ἄλλοι μεγάλοι· ηὸ δ᾽ ἔζσαηον κοπςθοῦηαι βαζιλεῦζι. μηκέηι πάπηαινε πόπζιον. εἴη ζέ ηε ηοῦηον ὑτοῦ σπόνον παηεῖν, ἐμέ ηε ηοζζάδε νικαθόποιρ ὁμιλεῖν ππόθανηον ζοθίᾳ καθ᾽ Ἕλλαναρ ἐόνηα πανηᾷ [17, 6]. Разным [людям] разное величие: предельное же достигается государями. Не заглядывай дальше. Будь же твоим [уделом] ныне шествовать на вершине, а моим – столь же великий [удел]: пребывая вместе с победоносными, благодаря целокупному пониманию, явленное [торжеством в состязании] сущее [изъяснять] эллинам. Пиндар говорит о ладе и том, что ему присуще: предельность (ἔζχαηον); целокупность, которая открывается только целокупному пониманию (πανηᾷ ζοθίᾳ); равенство в величии деяния, учреждающего лад, и поэтического слова, его соучреждающего. Предельность, мыслимая онтологически, что значит: целокупно, – это не временная или пространственная граница, стало быть, не та "вершина", которую при случае, покорив ее, можно, в том числе, и "попирать", демонстрируя тем самым отнюдь не государев характер. ἔζχαηον указывает на состояние присутствующего: предельную степень явленности божественночеловеческого лада. Человек становится государем не потому, что, избирая высшим императивом своего поведения собачью преданность "хозяину", успешно делает карьеру. Для такого человека, даже когда он формально становится государем, всегда найдется другой хозяин. Он – государь, потому что в нем с предельной (ἔζχαηον) силой соприкасаются божественное и человеческое и, тем самым, зиждительно укрепляют ладную целокупность государства: "Бытие сущего собирается (λέγεζθαι, λόγος) в крайности своей судьбы" [12, 33]. Такая крайность судьбы есть то, что остается "вопреки отходящему" (Пиндар), следовательно, не только то, что "было", но и то, что спасительно для нас "должно быть". Точно так же и ἐόνηα у Пиндара – это не то сущее, которое целиком определяется жаждой самоутверждения (политиков, спортсменов, поэтов) или диалогическими отношениями индивидов: "В языке Пиндара ἐόνηα есть не философский термин, но продуманное и с мыслью сказанное слово. Оно не есть название ни для одних лишь естественных вещей, ни для всяких объектов вообще, противостоящих человеческому представлению. Человек тоже принадлежит к ἐόνηα; он есть тот присутствующий, который просветленно-внимая и тем самым собирая, позволяет присутствующему как таковому существовать в несокровенности" [12, 51]. Переход от целокупного пророческого слова (ποίηζις) к поэтическому искусству (ηέχνη) – это и было то событие, которым напрямую обусловлено забвение бытия. Забвение бытия как определяющая особенность европейской истории – одна из важнейших тем философии М. Хайдеггера: "А-теизм", правильно понятый как отсутствие богов (Götter-losigkeit), представляет собой начинающееся со времен заката эллинства забвение бытия, подавляющее западноевропейскую историю и ставшее основной чертой этой самой истории. "А-теизм", понятый из самой сущности истории, – это ни в коем случае не какое-то порождение одичавшего свободомыслия, как любят думать. "А-теизм" – это не "точка зрения" высокомерных "философов" и тем более не жалкие проделки "масонов". Такие "атеисты" сами – лишь последние отбросы отсутствия богов. Может ли появление божественного в исконно греческом смысле вообще найти свою сущностную сферу, то есть найти несокрытость, если, и до тех пор пока сущность бытия предается забвению и из этого самого забвения само так и не узнанное забвение бытия возведено в принцип объяснения всякого сущего, как это и происходит во всей метафизике?" [13, 245-246]. Бытие может быть помыслено только изнутри присутствия, то есть целокупно. Оно всегда остается закрытым для субъективированного сознания, что значит: для метафизики. Граница, разделившая целокупное понимание, свойственное ладу, и субъективированное мышление, свойственное трагическому мировосприятию, это и есть эпоха предела в первом и во втором смысле: генезис и возрождение поэтического искусства. Когда мы так говорим о пределе, мы мыслим его уже не онтологически, но историографически. Три эпохи предела – это три ключевых периода в истории поэтического искусства, в которых сопряжены начала и концы и которыми определяется все самое существенное в искусстве поэзии на протяжении всей истории его существования. Первая связана с генезисом ποιηηικὴ ηέχνη, то есть переходом в греческой поэзии от ποίηζις к драматическому искусству, и окончательно утверждается трагедией Еврипида "Алкеста" [см.: 6, 93-114]. Так трагическая эпоха вступает в свои права. Геракл – первый протагонист трагической эпохи: δρῶνηας, то есть действующий таким образом, что в результате его деяния и на основе его деяния создается новый "лад", который на поверку оказывается лишь иллюзией подлинного лада. Такой протагонист может также пытаться не создать, но воссоздать прежний "лад", учрежденный его предшественником: случай Гамлета, отец которого – даже не со-работник Аполлона, как Геракл в "Алкесте". Говоря матери об отце, Гамлет вообще об Аполлоне забывает: расплата, которую Аполлон, будучи пифийским богом, должен был предвидеть: Взгляните, каким изяществом веет от этого чела; кудри Гипериона; лик самого Юпитера; взором, который угрожает и приказывает, подобен Марсу; осанка вестника богов Меркурия, только что опустившегося на лобызаемую небом возвышенность; поистине сочетание и облик, на котором каждый бог, казалось, оставил свой отпечаток, чтобы убедить мир в богоподобном достоинстве человека; это был ваш муж 4[15, 242-244]. Мысль о богоподобном достоинстве человека – отголосок того, как понимается сущность человека в границах лада: "…Если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхания жизни, то есть благодати Господа Бога Духа Святаго, от Отца исходящего и в Сыне почивающего и ради Сына в мір посылаемого, то Адам, как ни был он совершенно превосходно создан над прочими Божиими созданиями, как венец творения на земле, все-таки пребыл бы не имущим внутрь себя Духа Святаго, возводящего его в Богоподобное достоинство…" [9, 33-34]. В новоевропейскую трагическую эпоху различие между Богоподобным достоинством человека и богоподобным становится ключевым. Убежденность, что сам по себе человек – богоподобен – фундаментальное свойство "нового лада". Новоевропейское время теряет свой трагический пафос и стремительно вырождается, когда его протагонисты перестают нуждаться в этой онтологической опоре. При этом затухает и тот мощный импульс, который искусство получило от "лобызаемого небом" Ренессанса. 4 Показательно, однако, что в переводах А. Кронеберга, М. Лозинского, Б. Пастернака и даже в прозаическом переводе М.М. Морозова (см.: Морозов М.М. "Гамлет": перевод, комментарии, статьи / М.М. Морозов. – М.: Лабиринт, 2009. – С.90) Аполлон появляется: подспудная память искусства о том, кому оно обязано своим рождением. Создается впечатление, что переводчики находятся под гипнозом ηέχνη. От сновидческого гипноза Аполлона свободен К.Р. (К.К. Романов): "Гипериона кудри, Зевсово чело etc.", может быть, именно потому, что он наименее талантлив. Разрушая лад как присутствие с его установленными Зевсом законами и учреждая новое состояние мира, в основе которого его суверенная воля, Геракл становится первым ницшеанским сверхчеловеком и образцом для всех последующих протагонистов трагической эпохи: все они в той или иной степени – гераклиды, включая и того, о ком грезил Ф. Ницше. В одной из самых известных песен Пиндара (Pith. IV: 176-177) сказано: ἐξ Ἀπόλλυνορ δὲ θοπμιγκηὰρ ἀοιδᾶν παηήπ ἔμολεν, εὐαίνηηορ Ὀπθεύρ [17, 85]. От Аполлона песен форминги отец пришел прославленный доброй молвой Орфей. И Орфей, певец лада, и Геракл, открывающий трагическую эпоху, приходят от Аполлона, тогда как Дионис, соревнующийся с Ксанфием в трусости ("Лягушки"), здесь вообще ни при чем. Греку той поры, о которой идет речь, было бы смешно, если бы кто-то захотел уверить его, что Дионис – достойный соперник Аполлона. Первоначальная трагическая эпоха онтологически была преодолена событием Боговоплощения: при этом сущность лада проявилась с такой полнотой, которая, конечно, была неведома первоначальной греческой поэзии. Человечество было освобождено из плена инструментальной правды и в сущностном отношении остается таковым до нашего времени, хотя историографически достаточно скоро отреклось от свободы, объявив предшествующий период "темным Средневековьем". Прежде чем давать такие определения, следовало бы сначала поразмышлять над тем, что является источником света. У преп. Иосифа Волоцкого есть книга "Просветитель". Мы знаем также, что один из наиболее характерных периодов европейской истории называется "Просвещение". Давно уже пришло время задуматься, что такое подлинное Просвещение: то, что зовет к духовному возрастанию, или то, что в ближайшей исторической перспективе заканчивается гильотиной? Историографическим пределом для благодатного лада стало Возрождение, которое по сути своей является переходом к уже новоевропейской трагической эпохе. Ключевым персонажем этой эпохи является Абеляр, чья личность, а также мировоззрение и жизненные поступки решающим образом определили драматические и романные коллизии Нового времени и сформировали устойчивую парадигму, в пределах которой отныне человек и его жизнь обретали свой смысл. Этот Петр становится "краеугольным камнем" Нового времени, все величайшие протагонисты которого, начиная с Гамлета, – его духовные дети, так что известный СенПре, о котором всегда вспоминают в связи с Абеляром, – не самый главный из них. Наконец, в XIX-XX вв. происходит разложение поэтического искусства: завершение его великой истории, причем раньше всех и глубже всех это было осознано именно в русской литературе. В январе 1825 г., в самом начале ее блистательного расцвета, А.С. Грибоедов в письме к П.А. Катенину сформулировал ее важнейшее кредо: "…Всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем спорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей?" [4, 46]. В ηέχνη должно быть как можно меньше ηέχνη. Сказанным объясняется многое в русской литературе, что до сих пор не получило должного объяснения либо воспринимается как забавные казусы (например, оценка Л.Н. Толстым творчества Шекспира и Вагнера). Поскольку Л.Н. Толстой – сопоставимый по масштабу своего дарования с Шекспиром и Вагнером художник, к его оценкам нужно отнестись серьезно. Нелепо было бы предположить, что отрицая творчество Шекспира и Вагнера, Толстой тем самым продемонстрировал, что ничего не понимает в искусстве: сущность искусства ему была открыта с такой полнотой, о которой нам остается только мечтать. Проблема заключается в том, из чего исходит Толстой в своих оценках. Возможность ответа таится в широко известном его суждении, что русские писатели не умеют писать романов: не потому, что не способны овладеть необходимой для этого техникой, а потому, что их художественная мысль не вмещается в узкие рамки этого жанра.5 Суждение Толстого перекликается с фундаментальной установкой Грибоедова. Начиная с Грибоедова, каждый великий русский поэт и писатель по-своему исчерпывал возможности ηέχνη и оказывался в ситуации предела, хотя и на разных его стадиях: предчувствия или свершения. Сказанное касается и Пушкина, и Боратынского, и Тютчева, и Гоголя, и Фета, и Достоевского, и Толстого, и Чехова, и даже такого далекого от всяких мировоззренческих катаклизмов автора, каким был Гончаров. Со времен латинской классики незыблемым постулатом искусства был принцип: "Ars longa, vita brevis est". Именно это основоположение отрицает Гончаров, утверждая, что его книге очерков "Фрегат "Паллада" суждена более долгая жизнь, чем его художественным произведениям, не останавливаясь и перед обобщением: "Другое дело – романы и вообще художественные произведения слова. Они живут для своего века и умирают вместе с ним…" [5, 135]. Не относится ли сказанное, согласно традиционным представлениям, скорее к очеркам, нежели к художественным произведениям слова, если уж они действительно, как в случае Гончарова, художественные? Л.Н. Толстой, противопоставляя "Гамлету" театр "дикого народа вогулов" и подробно описывая представление охоты на оленей, отдает предпочтение последнему: "…Я по одному описанию почувствовал, что это было истинное произведение искусства" [11, 178]. Легче всего поиронизировать, что Толстой, отрицая Вагнера и Шекспира, предлагает вогулов вместо Валгаллы, но охота иронизировать быстро исчезнет, если мы вспомним, что и у самого Вагнера все заканчивается гибелью богов, а Толстой не менее резко отрицает и свое 5 Сравни с противоположным пониманием романа Фридрихом Астом: "…В романе гений человека становится, благодаря Поэзии, гением Универсума" [цит. по: 7, 137]. собственное художественное творчество. Толстой судит об искусстве из такого позднего заката, когда сумерки переходят в ночь, и критерии, на которые он опирается, уже не принадлежат к области ηέχνη. Предел как закат сопрягает в себе все, что было существенного в поэтическом искусстве, начиная с его самой ранней зари, но он же предполагает и возможность выхода за границы поэтического искусства к тому состоянию поэтического слова, которое принадлежит ποίηζις. Имя такому целокупному поэтически-пророческому слову – герменейя. Таково "пение дум" в стихотворении "Silentium!" величайшего поэта эпохи заката Ф.И. Тютчева. Эпоха заката, конечно, богаче и глубже той крикливой социальной и психопатологической проблематики, которая, казалось, заглушила все в XIXXX вв. Свидетельство тому – приведенная в качестве эпиграфа строфа из стихотворения Ф.И. Тютчева. Масштаб этого стихотворения – не текущая социальная жизнь, но вся новоевропейская трагическая эпоха в предельном своем самопроявлении. Такими же словами при первых проблесках трагической эпохи, вполне предчувствуя характер надвигающегося нового времени, говорил когда-то св. Бернард Клервоский о Петре Абеляре: "Так рыщет он едва ли не по всем святыням, так от предела до предела доходит дерзостно, так все он устрояет предосудительно" [2, 306. Пер. И.В. Шталь]. Стихотворение Ф.И. Тютчева говорит, что даже такой масштаб – "от земли до крайних звезд" – не спасает утратившего почву под ногами человека от одиночества, которое уже в ХХ веке было осмыслено как невозможность какого бы то ни было общения, и когда эта невозможность стала единственной серьезной темой самого искусства: "Восклицание героя романа Р.М. Рильке "Мальте Лауридс Бригге" воспринимается… (и по справедливости) как трагическое свидетельство безъязыкого – утратившего способность к человеческому общению времени: "Чтобы люди рассказывали, рассказывали на самом деле, – это, должно быть, было до меня. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь рассказывал" [7, 157]. Чем больше самоценного достоинства человека, не нуждающегося ни в каком, даже ренессансном, богоподобии, тем меньше ποιηηικὴ ηέχνη. Чем меньше ποιηηικὴ ηέχνη, тем больше диалога. Чем больше диалога, тем меньше понимания. Понимание исчезает, когда остается только диалог. Когда то, что достойно называться ποιηηικὴ ηέχνη, в наше время говорит только об этом: о невозможности понимания, – верный признак, что поэтического искусства уже нет. Литература 1. Американская поэзия в русских переводах. XIX-XX вв. – М.: Радуга, 1983. – 672 с. 2. Бернард Клервоский. Послание 331. Стефану, кардиналу и епископу Пренестинскому) / Бернард Клервоский // Памятники средневековой латинской литературы Х-ХII веков. – М.: Наука, 1972. – С.305-306. 3. Блок А.А. Об искусстве / А.А. Блок. – М.: Искусство, 1980. – 503 с. 4. "Век нынешний и век минувший…": комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума" в русской критике и литературоведении. – СПб.: Азбука-классика, 2002. – 448 с. 5. Гончаров И.А. Лучше поздно, чем никогда (критические заметки) // Собр. сочинений. – Т.8 / И.А. Гончаров. – М.: Правда, 1952. – С.135-177. 6. Домащенко А.В. Филология как проблема и реальность / А.В. Домащенко. – Донецк: БГПУ, ДонНУ, 2011. – 175 с. 7. Михайлов А.В. Роман и стиль / А.В. Михайлов // Теория литературных стилей: Современные аспекты изучения. – М.: Наука, 1982. – С.137-203. 8. Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху / Ф. Ницше. – М.: REFL-book, 1994. – 416 с. 9. О цели христианской жизни. Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни. – М.: Паломникъ, 2001. С.3-62. 10. Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты / Пиндар. Вакхилид. – М.: Наука, 1980. – 504 с. 11. Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Собр. сочинений: в 20 т. – Т.15 / Л.Н. Толстой. – М.: Худож. лит., 1964. – С.44-242. 12. Хайдеггер М. Изречение Анаксимандра // Разговор на проселочной дороге / М. Хайдеггер. – М.: Высш. шк., 1991. С.28-68. 13. Хайдеггер М. Парменид / М. Хайдеггер. – СПб.: Владимир Даль, 2009. – 384 с. 14. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет / М. Хайдеггер. – М.: Гнозис, 1993. – 464 с. 15. Шекспир У. Трагедия о Гамлете, принце Датском / У. Шекспир. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 416 с. 16. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – Т.2 / А. Шопенгауэр. – М.: Наука, 1993. – 672 с. 17. Pindari carmina cum fragmentis / Pindarus. – Lipsiae: BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1980. – P.I. – 196 p. Аннотация В статье речь идет о пределе в онтологическом и историографическом смысле. В онтологическом смысле предел – фундаментальный способ бытия, в историографическом – граница между ποίηζις и трагической эпохой. Анотація У статті йдеться про межу в онтологічному та історіографічному сенсі. В онтологічному сенсі межа є фундаментальним способом буття, в історіографічному – кордоном між ποίηζις і трагічною добою. Summary The article deals with the limit in ontological and historiographical senses. In ontological sense the limit is fundamental mode of being, in historiographical is the border between ποίηζις and tragic epoch.