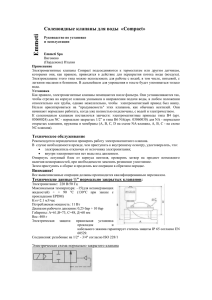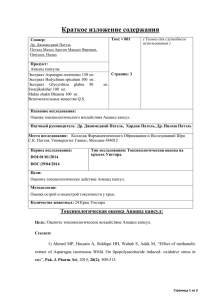В.М. Бухараев, Я. В. Бухараев ЯЗЫК "СОЦИАЛЬНОЙ СДЕЛКИ
реклама

В.М. Бухараев, Я. В. Бухараев ЯЗЫК "СОЦИАЛЬНОЙ СДЕЛКИ" КАК ОПЫТ УПРАЗДНЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ Оставляя в стороне обсуждаемые в русле семиотической парадигмы вопросы о политической роли советского новояза (соответственно, — о природе языкового состояния общества, основанного не на рациональной референтности но на власти знаков и кодов), обратимся к одному частному сюжету; осмыслению дискурса поздней коммунистической власти. Он отмечен неартикулированной идеей общественного договора, свидетельствующей о смене красной автократии диктатурой "секретариата". Управленческая бюрократия — согласно логике эволюции сообщества, основаниях - организованного втягивалась в на процессы иерархичесеки-редистрибутивных "первоначального накопления" номенклатурно-корпоративного капитализма. Идеократия не нуждалась более в активистской мобилизации общественного сознания. Литературный конструкт развитого социализма отвечал стремлениям партократии заретушировать эгалитаристские императивы третьей программы партии. Набросить покров на утрату экономического динамизма. Картина современности предстала в виде бескризисного развития социума, где этнокультурные различия интегрируются морально-политическим единением. В рамках предлагаемого властью «контракта» от советских людей требовалось лояльное отношение к идейно-политической бутафории в обмен на стабильность и социальные гарантии. Критерием и условием блока управляющих ери 81 подвластных была их общая причастность советскому "новоязу", коллективизированному слогану, в которых слова живут независимой от смыслов жизнью. Дело не только в том, что советский язык во имя властных целей симулирует реальности а затем и переходит к "знакам, скрывающим, что ничего нет" (С. Медведев, 1995). Или "создаёт иллюзию симбиоза между властью и управляемыми, рождает чувство единства по отношению к внешнему миру" (М. Геллер, 1994). В условиях послесталинского большевизма складывается речевой канон не иллюзорного, а реального симбиоза, взаимоприемлемого существования "верхов" и "низов". В качестве ключевого слова эпохи выделяется "нормально". Слово-символ, синоним всякого советского."1 Знак конформизма и согласия на участие в игре, правила которой навязывает власть. В западной историографии для обозначения общественного консенсуса периода режима Брежнева используется понятие "большая сделка", числящейся под номером вторым. Номер первый присвоен "большой сделке" между партиейгосударством и новой советской элитой во времена сталинского большевизма; иногда соглашение времён застоя иронически именуют "маленькой сделкой". Её истоки усматривают в ответе брежневского руководства на социальную "угрозу" со стороны многих членов сложившегося в послевоенное время городского и высокообразованного общества, требовавших социальных и политических перемен. При этом упускается из виду то решающее обстоятельство, что управленческий служилый класс нуждался в очередных "двадцати годах покоя" для всесторонней подготовки узаконенного присвоения государственномонопольной собственности. Эти два-три десятилетия оказались исторически функциональными. Отсюда организационно-хозяйственное наполнение "малой сделки" (в действительности, самой крупной по масштабам и "судьбоносносной" по последствиям социальной рефлексии режима). Бюрократические кланы оседлали "чёрный" и "серый" рынки. "Рабочие и служащие", в качестве "несунов", "частников", разлагавших низовые звенья аппарата всегдашней готовностью "подмазать", довольствовались мелким воровством на государственных объектах и ограниченной частнопредпринимательской деятельностью. 1 На вопрос, как дела, советский человек отвечает «нормально». Степень симулятивности этого ответа гораздо выше, чем в речевой практике Запада, Там в подобной ситуации звучит «хорошо». Оба знака из разряда незначащих. Но если «хорошо» лишь искажает реальность, то «нормально» уничтожает сам принцип реальности. Это «нормально» равносильно молчанию (С.Медведев, 1995; В.Сорокин, 1994). 82 Сожительство держащих бразды правления и находящихся под властью отмечено напряжениями, связанными с общественной реакцией на его "добровольно-принудительный" характер (оксюморон, представленный в речевом обиходе). По мере сокращения государственных ресурсов, необходимых для поддержания "нормы", во всех слоях общества, включая управленческие страты, усиливается разочарование и отчуждение от системы. Поэтому "для описания дел в стране советская элита с конца 70-х годов пользовалась, как и весь народ, одним словом — маразм" ( Е.Гайдар, 1997). Однако этот "маразм" не составляет внятной оппозиции этому "нормально". Скорее гасится последним, дополняет его, хотя и не утрачивает своей знаковой автономности. На фоне разброса оценочных слов-фетишей в языковом существовании страны целостность и внутреннюю непротиворечивость сохраняет доступный контролю внутренний язык системы. Её социально-политический жаргон, пронизывающий все сферы жизни общества. Система становится заложницей своего лексикона. Она не может придать ему самоохранительную пластичность, стилистически подверстать его к изменившимся общим сферам языка без риска утраты смысла большевистской легенды истории. Навязчивый тезис о наступательном характере советской идеологии явился проявлением типичной для логократии обратной семантики — оппоненту приписываются черты и способы действий, отражающие положение критикующей стороны Госмонопольная идеология сама уходит в глухую оборону. Окостенение идеологии, сведение её к системе внешних ритуалов в общем виде связаны с долговременными процессами поглощения государством революции, его породившей. На последнем этапе существования советского строя идейно-охранительная позиция управленческих эшелонов подкрепляется новой мотивацией, связанной со стремлением заблокировать любые попытки вникнуть в смыслы нарастающих предкапиталистических тенденций. Отгородить их забором идеологического обскурантизма. Система поддерживает такую лингвокультуру. которая отвечает стратегии теневой «предприватизации" собственности. В 70-е — начале 80-х годов происходит запредельная бюрократизация официального языка Он освобождается теперь не только от конструктивистско-романтический импровизаций в духе раннего большевизма, но и от элементов эмоциональноэкспрессивного репертуара, свойственных "большому стилю" сталинской эпохи Непревзойдённые образцы фиктивной риторики демонстрировал главный теоретик партии М Суслов. Он воспринимал даже намёки на неортодоксальную мысль и 83 живое слово как посягательство на устои идеологии и строя. Субъективные устремления "серого кардинала" от политбюро, его представления о способах укрепления коммунистической власти объективно совпадали с очередными задачами перерождающейся управленческой бюрократии. В первую голову "хозяйственников", "хозаппарата", которые всё более овладевали властноуправленческими рычагами, оттесняя на вторые роли партийных аппаратчиков и идеологов. Ценой небезуспешного сокрытия от основных масс населения значения внутрисистемных экономических трансформаций явилась масштабная делегитимация режима, практики которого иллюзорно воспринимались как разрыв между словом и делом. Семиотическая история СССР последнего периода его существования, в частности, свидетельствует, что потрясения общественного сознания, утрата значительными слоями населения культурно-исторической идентификации лишь в некоторой степени связаны с демонтажем коммунистического режима, "упраздненного" задолго до его устранения. Русский "термидор" скорее был воспринят как смена декораций на общественно-политической сцене. Решающим обстоятельством, вызвавшим депрограммирование носителей коллективной телесности, явился именно развал СССР — заглавного критерия и знака самотождественности "авангарда всего человечества". 84