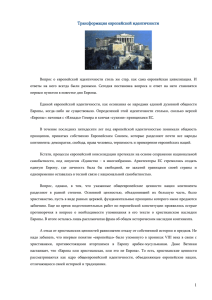ЕвропЕйская пЕрспЕктива БЕларуси
реклама
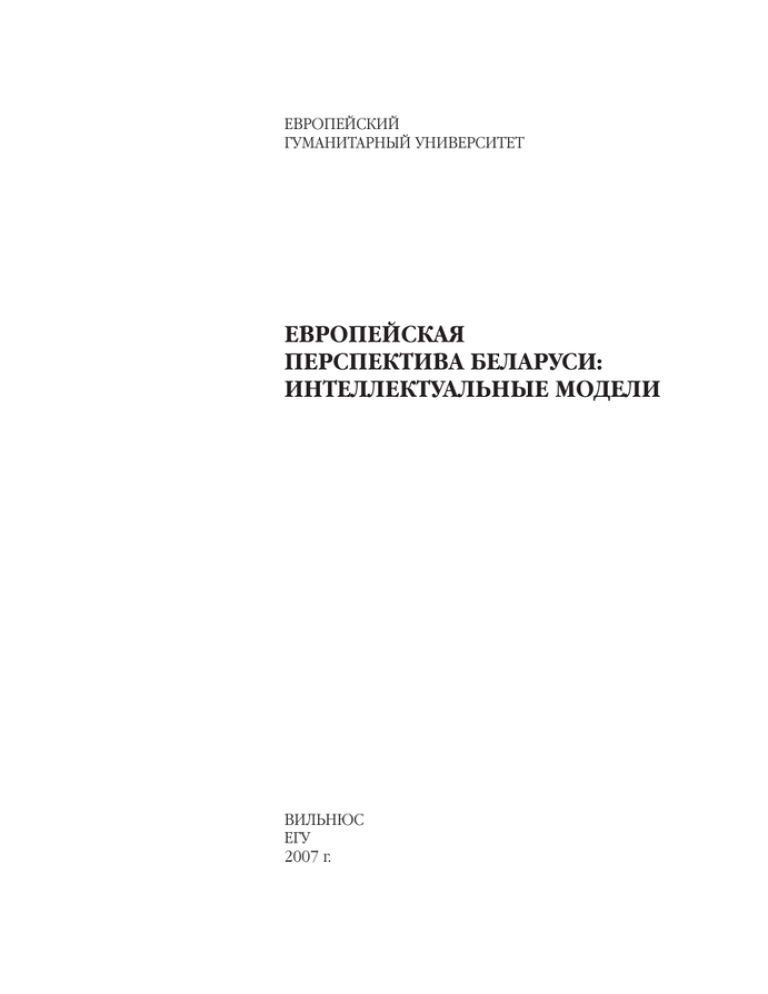
ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Европейская перспектива Беларуси: интеллектуальные модели вильнюс ЕГУ 2007 г. УДК 316.3(4+476) ББК 60.56(4+4Беи) Е22 Ре д к о л л е г и я : Владимир Дунаев, Светлана Наумова, Павел Терешкович, Игорь Бобков, Валентин Акудович, Татьяна Журженко, Лудмила Кожокари. Ре ц е н з е н т ы : Ковальска М., доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии Института социологии Университета Белостока (Польша); Круглашов А., доктор политических наук, профессор, руководитель магистерской программы «Европейские исследования» Европейского гуманитарного университета, заведующий кафедрой политологии и государственного управления Черновицкого национального университета имени Ю. Федьковича. Е22 Европейская перспектива Беларуси: интеллектуальные модели / сост. О. Шпарага. – Вильнюс : ЕГУ, 2007. – 280 с. ISBN 978-9955-773-04-7. В сборнике представлен ряд перспектив, предложенных белорусскими философами и социальными и политическими теоретиками, для рассмотрения Беларуси в европейском контексте. Авторами анализируются такие важные измерения современного конструирования европейского пространства, как история идеи Европы и её социальное воображаемое, европейская идентичность, критика европоцентризма и практик исключения в современной Европе. Беларусь, в свою очередь, рассматривается как часть европейского пространства сквозь призму происходящих в ней политических и экономических трансформаций, фоном которых выступает генезис постсоветского пространства. Отдельное место при этом отводится анализу продуцируемой белорусскими властями идеологии в отношении к Европе. В приложении сборника можно найти тексты о Европе Зигмунта Баумана и Яна Паточки. Сборник предназначен для гуманитариев и всех интересующихся вопросами европейской современности. УДК 316.3(4+476) ББК 60.56(4+4Беи) Издание осуществлено в рамках проекта «Социальные трансформации в Пограничье – Беларусь, Украина, Молдова» при поддержке Корпорации Карнеги (Нью-Йорк) ISBN 978-9955-773-04-7 © Европейский гуманитарный университет, 2007 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие.....................................................................................................................................................................5 Беларусь и идея Европы Шпарага О. В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога.....................................................9 Фурс В. Белорусский проект «современности»?.............................................................................................................43 Европа и её другие: противоречия расширения Европы Миненков Г. Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения..................................60 Усманова А. Восточная Европа как новый подчинённый субъект.........................................................................105 Диалектика «Европы» и белорусская госидеология Рудкоўскі П. Адкрытае грамадзтва і спосабы яго замыканьня....................................................................................140 Горных А. Белорусское телевидение: окно в Европу или зеркало для героя............................................155 От советской ретроспективы к европейской перспективе Паньковский А. Буферные формы: в Европу через отрицание Европы.....................................................................174 Пикулик А. Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации...............................................................................193 3 Приложение Бауман З. Незавершённое путешествие под названием Европа.........................................................................219 Паточка Я. Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века......................................................245 Паточка Я. Войны XX-го века и XX-й век как война........................................................................................................260 Об авторах.......................................................................................................................................................................277 Предисловие «Европа – это приключение», – пишет современный социолог и философ Зигмунт Бауман в тексте, который вы найдёте в приложении к данному сборнику. Что может значить это определение для тех, кто размышляет о судьбе Беларуси? Понятен ли нам смысл этого приключения? Открыто ли оно и привлекательно для нас? Ответы на эти вопросы не лежат на поверхности. Более того, чаще всего они остаются где-то в стороне исследовательского интереса. Именно в связи с этим у нас – группы белорусских гуманитариев – и возникла идея предложить некое систематическое рассмотрение «Европы», понятой как культурное, социальное, политическое и экономическое пространство, организованное по определённым правилам, знакомство с которыми позволяет наметить перспективу своего собственного развития. Как следует из предложенных в этом сборнике текстов, Европа для нас – это, прежде всего, пространство мысли, идей и интеллектуальных стратегий, понимание и обсуждение которых позволяют конструировать настоящее, избегая фатальных ошибок прошлого и обсуждая альтернативы будущего. Представление «Беларуси в европейской перспективе» означает, таким образом, двойную задачу по исследованию Европы и интерпретации актуальных процессов в Беларуси. Это представление развернуто в данной книге в виде четырёх тематических блоков, авторы каждого из которых расставляют свои акценты в представлении Беларуси и Европы. Так, в рамках первого блока «Беларусь и идея Европы» авторы – Владимир Фурс и я – попытались дать самое общее представление о генезисе и существе «идеи Европы», с одной 5 стороны, и о своеобразии белорусского социального воображаемого в контексте современных процессов глобализации – с другой. Одним из центральных вопросов в этой связи оказался вопрос о системе исследовательских координат, позволяющей говорить о Беларуси не как об изолированном и исключительном объекте, а как о своеобразном – «пограничном», но вполне «современном» – европейском проекте. В рамках второго блока исследований «Европа и ее другие: противоречия расширения Европы», представленного текстами Григория Миненкова и Альмиры Усмановой, акцентировалось всё многообразие понимания и интерпретации исторической и, в особенности, современной Европы, не мыслимой без опыта строительства Европейского Союза. В центре внимания авторов оказалась имманентная логика становления и современного состояния многообразного «европейского пространства», включающего такие измерения, как европейская идентичность, отношение власти и знания, политика репрезентации и трудности преодоления европоцентризма. Именно с позиции этих понятий авторы обратились к Беларуси и попытались представить те вызовы, с которыми столкнётся Беларусь в процессе взаимодействия с Европой. Главным сюжетом третьего блока исследований «Диалектика Европы и белорусская госидеология», проведённых Петром Рудковским и Андреем Горных, стало конструирование образа Беларуси и Европы силами белорусской пропаганды. Анализ текстов учебников по идеологии и официальной белорусской видеопродукции (в частности, фильма «Разъединённые Штаты Европы») обнаружил «Беларусь» как «европейское иное», как Европу, вытеснившую за пределы себя своё самоосмысление и готовность к взаимодействию с другими. Авторы четвёртого, завершающего, блока исследований «От советской ретроспективы к европейской перспективе» Анатолий Паньковский и Алексей Пикулик увязали процессы, происходящие в современной Европе, с трансформациями постсоветского пространства; динамика этих процессов не является столь прямолинейной, как зачастую кажется, и не подчиняется только внутренней логике. В результате исследований этих авторов мы получили наброски к картине дальнейшего развития Беларуси, предопределённого и открытого одновременно. И хотя завершающий пассаж этого блока книги вряд ли можно квалифицировать как оптимистический, его авторы – как, впрочем, и авторы всех остальных собранных в книге исследований – вряд ли согласятся с тем, что ввиду сложности и предопределённости прошлым современной культурнополитической ситуации в Беларуси нет никаких надежд на интеграцию в европейское пространство. Позиция авторов этой книги должна быть истолкована с точностью до наоборот, так как представляет собой, пусть и не лишённый изъянов, образец интеллектуальной интеграции в Европу – шага, с необходи6 мостью предваряющего интеграцию экономическую, социальную и политическую. В завершение я хотела бы искренне поблагодарить Зигмунта Баумана и Ивана Хватика – директора Архива Яна Паточки в Праге, которые предоставили тексты для данного сборника (см.: Приложение). Очень надеюсь, что эти тексты удачно дополнят ту сложную и противоречивую картину Европы, которую пытались представить и осмыслить белорусские интеллектуалы. Ольга Шпарага Беларусь и идея Европы Ольга Шпарага В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога Беларусь – краіна на скразьняках Еўропы. А. Хадановiч Вопрос, с которого можно было бы начать данное исследование, состоит в том, насколько необходимо сегодня в Беларуси обращение к идее Европы? Думаю, что даже для самого незнакомого с этой идеей очевидно, что обращение к ней будет означать вступление в диалог с теми, кто к этой идее уже обращался или обращается помимо нас. В таком случае, исходный вопрос может быть переформулирован следующим образом: насколько необходимо для нас вступление в диалог по поводу идеи Европы? Чем может быть мотивировано наше участие в таком диалоге и чего мы можем от него ожидать? Центральная мысль, которую мне хотелось бы развернуть и обосновать в данном тексте, заключается в том, что обращение к идее Европы есть обращение к самим себе, или, другими словами, вопрос об идее Европы есть вопрос о нас самих. Понятно, что это определённым образом заданный вопрос. Каким – это и предстоит нам понять. Поскольку обращение к идее Европы я отождествляю с вступлением в диалог по поводу этой идеи, целесообразно уже в преамбуле задать рамки данного диалога. Его основных участников я условно разделила на две группы – старую и новую Европу. Поводом к такому разделению послужили высказывания и самооценки самих участников обеих групп. Так, в версии представителя первой группы – немецкого философа и члена ряда комиссий Европейского сообщества в период 1970–1974 Р. Дарендорфа – различие в современных установках позволяет определить старую Европу как Европу обеспече9 Ольга Шпарага ния, а новую – как Европу прав.1 По мнению одного из представителей второй группы, венгерского публициста И. Кертеса, истоком этого различения послужило предательство Западной Европой Восточной Европы в 1945, в момент подписания Ялтинского соглашения. Если быть более точными, то именно это соглашение породило само понятие «Восточной Европы» как зоны политического влияния СССР.2 И если в послевоенный период Западная Европа преимущественно занималась экономическим восстановлением и созданием новых моделей безопасного мира, то Восточная Европа отчаянно сражалась за свою европейскую идентичность, залогом которой видела культуру демократии, покоящуюся на общности европейских ценностей.3 В результате, мы имеем несколько противоречивое отношение старой и новой Европы, которое, с одной стороны, совпадает с отношением и различением Западной и Восточной Европы, с другой – его преодолевает. Новая Европа становится воплощением идеи Европы в её современном виде, предполагающем обогащение Европы прошлого – отождествляемой в большей мере с судьбой и историей Западной Европы – осмыслением судьбы и истории Восточной Европы. Связано это с тем, что во многом именно восточноевропейское осмысление идеи Европы привело в начале XXI в. европейское сообщество к выводу, что обе Европы – Западная и Восточная – должны быть объединены ответственностью за будущее международного права, которое становится смысловым ядром самой «идеи Европы».4 В свою очередь, независимо от того, какой облик примет Европа будущего: будет ли это «Европа регионов» или «Европа от Атлантики до Урала», – именно возрождение политической культуры в нормативном смысле этого слова позволит европейцам принять на себя эту ответственность. А поскольку политика в нормативном смысле является смысловым ядром древнегреческого полиса, «вечное возвращение» к нему будет рассмотрено нами в качестве первой и важнейшей характеристики европейской идеи (Шпэт). Оно же, далее, позволит нам рассмотреть и саму идею Европы не просто в географическом, но с необходимостью и в культурном и нормативном смыслах (Шпэт, Вайденфельд, Паточка). В качестве двух других важнейших характеристик идеи Европы рассматриваются ценностный плюрализм в сочетании с «нелёгким равновесием» ценностей (Морен, Берлин, Хабермас) и критическое преодоление европоцентризма, оборотной стороной которого должна стать европейская солидарность (Вальденфельс, Паточка). Формулируя задачу по возрождению политической культуры в нормативном смысле, мы, по существу, переходим к современной форме воплощения «идеи Европы» – к сообществу и институтам Европейского Союза. Его истории, сильным и слабым сторонам будет посвящена отдельная глава данного исследования. При этом и история «единой Европы» из перспективы Евросоюза, и 10 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога переописание этой истории из перспективы Восточной и Центральной Европы будут «рассказаны» в рамках данного текста прежде всего её самыми непосредственными участниками – политиками-строителями Евросоюза, а также европейскими интеллектуалами, литераторами и философами, благодаря усилиям которых «идея Европы» живёт последние 100 лет. Моей главной задачей является дать слово авторам, многие из которых едва известны в Беларуси даже самым искушённым читателям, опирающимся скорее на переинтерпретацию этих авторов современными социальными и политическими теоретиками. При этом я ни в коем случае не претендую на представление всей панорамы высказываний о Европе, а, скорее, ставлю целью инициировать воссоздание этой панорамы совместными усилиями. Наконец, возвращаясь к самому началу преамбулы, стоит иметь в виду, что осуществление исследования можно оценить как успешное только в том случае, если в итоге нам удастся обнаружить в этом исследовании самих себя. Вернее, если исследование даст нам определённую и удовлетворяющую нас перспективу или надежду на то будущее, судьба которого окажется в наших собственных руках. Итак, в первой части данного текста речь пойдёт об отношении Старой и Новой Европы, которое разворачивается в виде двух историй, а ещё точнее, набросков к истории – Евросоюза и панорамы интеллектуального самоосмысления Восточной Европы начиная с 1950-х гг.; во второй части я представлю определённую версию «идеи Европы», какой она предстает на материале текстов «авторов» обеих Европ; наконец, в третьей части я попытаюсь взглянуть на Беларусь сквозь призму размышлений первой и второй частей, как и наоборот – попытаюсь оценить из Беларуси историю и перспективы «идеи Европы». 1. Две Европы или две истории единой Европы? 1.1. Старая Европа: от общего рынка к Евроконституции Каким образом сегодня, в начале XXI в., оформляется «идея Европы»? Кто и с какой целью обращается к осмыслению «Европы»? Для начала отметим, что «идея Европы» входит в разряд «тем номер один», по меньшей мере в той части мира, которой так или иначе открыты глобальные информационные потоки. Обсуждение «Европы» в глобальном пространстве приобретает при этом противоречивые формы: европейская самокритика оборачивается утверждением слабости или даже исчерпания «идеи Европы» теми, кто оказывается «за пределами» Европы. Самым ярким примером такого превращения самокритики 11 Ольга Шпарага в «смертный приговор» «идее Европы» являются, безусловно, дискуссии вокруг Европейского Союза. Остановимся на этих дискуссиях более подробно. Начнём с того, что история создания Евросоюза может быть взята за отправную точку рассмотрения «идеи Европы» вообще. По крайней мере, обращаясь к истории Евросоюза, можно говорить об определённой версии воплощения «идеи Европы». Иначе говоря, если сама «идея Европы» насчитывает сотни лет, о чём подробно будет сказано дальше, то острая необходимость и историческая возможность реального воплощения этой идеи родились только в XX��������� ����������� в. В таком случае связь истории воплощения с историей «идеи Европы» вообще может быть рассмотрена в качестве отдельного пункта нашего эссе о Европе. Рассказ об истории воплощения «идеи Европы» можно смело начать со следующей цитаты «архитектора Евросоюза» Жана Монне5: «Не будет мира в Европе, если государства восстановятся на базе национального суверенитета с вытекающими отсюда стремлениями к политическому превосходству и экономическому протекционизму. Если страны Европы займут позицию изоляции и конфронтации, снова станет необходимым создание армий. По условиям мира одним странам это будет разрешено, другим – запрещено. У нас уже есть опыт 1919, и мы знаем, к чему это ведёт. Будут заключаться внутриевропейские союзы – нам известно, чего они стоят. Социальные реформы будут остановлены или замедлены военными расходами. И Европа снова станет жить в состоянии страха»6. Эту мысль Монне высказал в 1944 г., когда результаты Второй мировой войны были предрешены. Отталкиваясь от неё, можно отчётливо увидеть те задачи и приоритеты, которые не только привели к первым шагам на пути создания Евросоюза, но и определили первый большой этап существования этого образования. Этот этап берёт начало в период восстановления послевоенной Европы и продолжается вплоть до окончания «холодной войны» – революционных событий в Восточной Европе конца 1980-х гг. Необходимость объединения европейских государств в некую федерацию, или «европейское целое», как пишет автор далее, связана, прежде всего, с негативным опытом 1919 г. Иначе говоря, с опытом Европы после Первой мировой войны, ошибки которого, по мысли Монне, привели ко Второй мировой войне. Эти ошибки Монне также обозначает в приведённой цитате: восстановление послевоенной Европы не должно происходить «на базе национального суверенитета», поскольку это приведёт к внутриевропейским союзам победителей, с одной стороны, и побеждённых, с другой. Кроме угрозы новых вооружённых конфликтов, такие объединения означают отказ от решения насущных и чрезвычайно болезненных социальных и экономических проблем, т. е. ставят под вопрос не только безопасность, но и дальнейшее социальное и экономическое развитие европейских стран. 12 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога То, что первые шаги по созданию «объединённой Европы» были сделаны именно в русле соображений Монне, свидетельствует о доминировании в первый период строительства Евросоюза вопросов безопасности и задач по решению экономических проблем по отношению к политическим и культурным вопросам. Иначе говоря, размышления о создании нового политического образования, в основу которого легла бы добровольная передача европейскими государствами суверенитета, диктовались в первую очередь решением экономических проблем – прежде всего, путём создания широкого европейского рынка, – которое, в свою очередь, должно было стать мощным препятствием на пути реанимации национализма.7 Через пятьдесят лет именно такая расстановка акцентов будет расценена в качестве основного препятствия на пути развития Евросоюза, что выдвинет на передний план «строительства» данного сообщества вопросы политического взаимодействия и европейской идентичности. Однако не будем забегать вперёд. К сказанному выше стоит добавить, что поиски адекватных форм коллективной безопасности послевоенной Европы имели ещё один вектор – наряду с вектором по преодолению национализма внутри Европы. Второй вектор был направлен вовне Европы и предполагал реакцию на опасность экспансии советского коммунизма. Данный вектор совпал и с установкой США, принявших решение оказать помощь по восстановлению Европы в форме «плана Маршалла». Думаю, стоит вслед за Монне выделить существенное ядро этого плана, которое должно помочь нам в дальнейшем анализе жизни Евросюза и европейской идеи вообще. Генерал Маршалл в своей речи, произнесённой в Гарварде 5 июня 1947 г. обозначил его как формирование нового типа международных отношений, состоящих в том, чтобы помогать тем, кто хочет сам себе помочь.8 Данная установка означала, что инициативы по восстановлению Европы должны исходить от самих европейцев, а роль Америки заключается в оказании дружеской помощи в разработке европейской программы, как и последующей поддержке, насколько это будет необходимо, в её исполнении. Со временем данный вектор становления «единой Европы» обнаружил, однако, ещё одно измерение, остающееся решающим и по сей день. Это измерение «зависимости» Европы от США. Если снова обратиться к Монне, то именно он настойчиво фиксировал опасность этой зависимости, как и единственно возможное противоядие от него – создание федерации Западной Европы. Именно такая федерация могла преодолеть «дурные последствия» помощи США Европе, о которых Монне уже в 1948 г. высказывался в следующей форме: «Я обеспокоен тем, какого рода отношения рискуют установиться между великой динамичной державой и странами Европы, если они сохранят свою нынешнюю форму и свой нынешний менталитет. С моей точки зрения, невозможно, чтобы Европа 13 Ольга Шпарага долго оставалась “зависимой” от Соединённых Штатов экономически – почти исключительно от их кредитов, в отношении безопасности – от их военной силы. Если такое положение сохранится, то дурные последствия не замедлят проявиться здесь, в Европе»9. Итак, поиск решения экономических вопросов и вопросов внутренней и внешней безопасности Западной Европы воплотился в1940–50-е гг. в следующих важнейших шагах. • Основание в 1947 г. европейского парламентского союза и комитета объединённой Европы, а также проведение Гаагской конференции (1948), собравшей более 800 граждан Европы, среди которых в основном представлены парламентарии и политики. Важнейшим результатом этих первых мероприятий явилось формирование широкого общественного мнения в пользу объединённой Европы, пренебрегать которым правительства уже не могли.10 Здесь же следует перечислить имена тех деятелей, которые, наряду с французом Ж. Монне, внесли решающий вклад в формирование упомянутых движений и объединений. Это У. Черчилль, Р. Шуман, К. Аденауэр, П.-А. Спаак и А. де Гаспери.11 • В мае 1949 г. десять европейских государств учредили Совет Европы, к сожалению, не отвечавший в полной мере ожиданиям участников Гаагской конференции, поскольку суверенитет европейских государств оставался в неприкосновенности. «Решения Комитета министров были необязательными, а парламентское собрание имело чисто совещательную функцию».12 Реальной стороной деятельности Совета осталось аккумулирование общественного мнения Европы. • В этом смысле более действенным шагом на пути объединения Европы стало создание в 1951 Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Именно это объединение является ярчайшим примером доминирования вопросов экономики и безопасности в первый период строительства Евросоюза. В качестве важнейшей предпосылки для создания этого объединения выступили взаимные интересы Западной Германии и Франции. Германии, собственно «владелице» угольной и сталелитейной промышленности, оно позволяло расширить свободу действия, ограниченную в силу понятных причин – её роли в Первой мировой войне – как внутри, так и вне страны; Франция же получала возможность доступа к данной, ключевой для оборонной промышленности, отрасли на равных основаниях с другими странами. А поскольку участие Франции само было направлением деятельности многонационального европейского наблюдательного ведомства, оно не носило характера односторонней дискриминации, которая могла бы привести к реваншистским настроениям в Германии. В результате совершения этих первых (1940–1950-е) и целого ряда последующих (1960–1970-е) шагов в направлении создания Европейского Союза 14 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога намечается перспектива европейского развития, которая представляется в виде объединения ключевых национальных отраслей экономики. Тем самым, согласно Шпэту, «обозначилась некая “цепь ошибок”, и по сей день мешающая европейскому объединению: преобладание в качестве побудительных мотивов рациональных, экономических причин и причин безопасности над эмоциональными, культурно-историческими»13. Иначе говоря, европейским странам так и не удалось выйти за пределы национальных интересов в вопросах политической и культурной интеграции. В качестве ещё одного важнейшего препятствия политической интеграции Шпэт называет ограничение европейского объединительного процесса Западной Европой, противопоставленной странам Восточной Европы; иначе говоря, интеграция захватывала лишь те страны, которые играли ключевую роль в сохранении европейской безопасности. Именно осмысление данных недостатков евроинтеграции 1940–1970-х гг. привело в 1980-е к пересмотру её стратегии, в результате чего появился проект договора об учреждении Европейского Союза. О том, что на передний план рассмотрения выносится политическое измерение, свидетельствует обсуждение вопроса о наделении Европейского парламента не только совещательной, но и законодательной функцией. Первым важнейшим результатом новой общей европейской политики стало подписание девятью странами-членами ЕС «Единого европейского акта», центральное место в котором занимало политическое, не имеющее, однако, обязательной правовой силы, заявление «о намерении создать до конца 1992 г. “пространство без внутренних границ”, что означает устранение пограничного контроля и прочих препятствий на пути обмена товарами, услугами, капиталом и рабочей силой»14. Однако со временем воплощение в жизнь этого акта обнажило целую цепь противоречий между экономическими и политическими задачами евроинтеграции, которые ещё в большей степени обострились в связи с появлением к концу 1980-х гг. нового игрока – стран Восточной Европы. Важнейший вопрос, возникающий в поле этих противоречий, – это вопрос о способах и границах политического регулирования отношений общеевропейского рынка. Со временем пример объединённой Германии показал, что отсутствие или запаздывание – в силу понятных сложностей по трансформации прежнего государственного регулирования экономики в новые формы – политического регулирования приводят к тому, что экономически более развитые страны паразитируют на менее развитых, навязывая свои инфраструктуры вместо того, чтобы способствовать их локальному возникновению15; тогда как злоупотребление этим регулированием ведёт к возникновению препятствий на пути развития общего рынка – как товаров и услуг, так и рабочей силы, – с чем столкнулась объединённая Европа после принятия новых членов. 15 Ольга Шпарага Вопрос о нахождении баланса между политическим и экономическим измерениями евроинтеграции может быть рассмотрен в качестве важнейшего вопроса сегодняшнего этапа расширяющейся Европы. Однако этот вопрос отсылает, как это следует из размышлений о Европе современных интеллектуалов, к более фундаментальному вопросу, который мы сформулировали в самом начале данного исследования. Это вопрос о возрождении политики в нормативном смысле слова как условия принятия европейцами на себя ответственности за будущее международного права. Он получил своё центральное звучание на втором этапе евроинтеграции, что напрямую связано с распадом СССР и вступлением стран Восточной Европы в диалог об «идее Европы». 1.2. Новая Европа: солидарность потрясённых как условие возможности культуры демократии «Был некогда план Маршалла, но было и Ялтинское соглашение, и эти два события на долгое время перекроили облик континента и даже всего мира. В первом случае речь шла о благосостоянии, затем о свободе, о достойной жизни, во втором – об идеологии, о социализме, который вскоре проявил себя как злейший враг благосостояния, свободы и достойной жизни. Одним словом: существовали две Европы, они существуют и сейчас, и мы должны решительно заявить это с самого начала. Иначе не случилось бы войны на Балканах».16 Данное высказывание Кертеса – венгерского писателя и переводчика – относится к 2001 г., однако охватывает период чуть более 50 лет. Оно обнаруживает трагический парадокс, о котором, как мы видели выше, едва ли задумывались «строители» Евросоюза и который возник перед «европейским сообществом» со всей отчётливостью только в 1980-е гг. Это парадокс существования двух Европ, наносящий удар по «идее единой Европы», поскольку, если снова вернуться к Кертесу, демонстрируется пренебрежение Западной Европой ею же установленными нравственными нормами, что выражается в выстраивании системы безопасности, распространяющейся только на одну часть Европы. В более мягкой форме речь идёт об отсутствии солидарности со странами Центральной и Восточной Европыa в первый период строительства «единой Европы». Тем самым, согласно восточноевропейским интеллектуалам, обнаруживается не только и не столько драма Восточной Европы, сколько драма Западной Европы, поскольку, словами чешского писателя Милоша Кундеры, это Западной Европе, или Западу, угрожали, его теснили, промывали ему мозги, а он упорно защищал свою суть.17 Тем a 16 Далее для обозначения образования «Центральная и Восточная Европа» мы будем использовать сокращённую версию «Восточная Европа». Исключение составляют только случаи терминологического уточнения этого понятия. В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога самым, речь должна идти, ни много ни мало, как о переописании истории «идеи Европы» последних, во многом решающих, 50-ти лет. Это переописание можно начать с обращения к дискурсу и понятию Восточной Европы. Как отмечает И. Нойман, нынешний дискурс о Центральной и Восточной Европе восходит к 1950-м гг., «когда такие интеллектуалы, как, например, Чеслав Милош, заново открыли вопрос о том, существует ли на этой территории наднациональная идентичность, и если да, то кто к ней принадлежит»18. Постепенно, продолжает Нойман, «Центральная Европа» приобрела характер призыва, с которым чешские, венгерские и польские интеллектуалы-диссиденты обратились через головы местных политиков к западному гражданскому обществу, и западные интеллектуалы откликнулись на этот призыв. И всё же необходимо отдавать должное тому факту, что это «постепенно», которое характеризовало завязывание диалога между представителями Западной и Восточной Европы, затянулось как минимум на 30 лет – чрезвычайно трагических для стран Восточной Европы. Однако, прежде чем переходить к анализу этих лет, обратимся к терминологическому происхождению самих понятий «Центральная и Восточная Европа». В версии Т. Эша, «термин “Восточная и Центральная Европы” сочетает критерии Восточной Европы после 1945 г. и Центральной Европы до 1914». В таком случае, «Восточная Европа» после 1945 г. – это формально независимые государства-участники Варшавского договора (кроме СССР), хотя точнее здесь стоило бы говорить – Ялтинского соглашения (1945) и Варшавского договора (1955). «Центральная Европа» – более проблематичный термин: это «те страны, которые, находясь в составе одной из трёх многонациональных империй (Австро-Венгерской, Прусско-Германской или Российской), тем не менее, сохранили основные элементы западных традиций, таких как, например, западное христианство, правовые нормы, разделение властей, конституционное правление и нечто, называемое гражданским обществом»19. Уже из этого формального определения следует иной способ конституирования данного европейского региона – через самое тесное взаимодействие как с западными, так и восточными соседями. При этом, несмотря на то что восточные соседи имеют в каждом случае – в случае той или иной страны или территории – специфический вид: восточного христианства, оттоманской и российской империй, исламского мира, – чаще всего их объединяет общий характер имперского центра, подчиняющего себе периферию. Некоторые же из стран Восточной Европы, к примеру Венгрия, испытывали влияние сразу нескольких компонентов «Востока» (хотя географически точнее говорить Евразии), что, вне всякого сомнения, усложняло вопрос об их идентичности. 17 Ольга Шпарага И всё же буферное, или пограничное, положение стран Восточной Европы не лишало их осознания и постоянного возобновления вопроса о европейских корнях своей идентичности. Так, по словам ещё одного венгерского интеллектуала Л. Фюлепа, Венгрия – это не буфер между Западом и Востоком, так как «если мы и буфер, то выдвинутый к Востоку буфер Запада»20. В качестве обоснования этого тезиса уже в 1940-е гг. восточноевропейские авторы проводят различие между негативным влиянием чуждой восточноевропейским странам и лишённой корней государственной власти – «в одних случаях, европейской по форме, в других – источник(а) невыносимого гнета, которая – какое бы имя она ни носила: императорская, царская или султанская» – привела к деформациям политической культуры стран Восточной Европы (в частности, Чехии, Польши и Венгрии)21, – и позитивным влиянием европейской культуры, понятой как общность создаваемых и отстаиваемых европейцами ценностей.22 Выделение такого противопоставления, или такой двойственности, даёт о себе знать и сегодня, к примеру, в творчестве украинского эссеиста Ю. Андруховича23. Одно из его следствий – историческое и современное несовпадение государственных и политических границ стран Восточной Европы, которое актуализирует «Европу регионов», о чём речь пойдёт в заключительной части текста. Итак, хотя первые восточноевропейские дискуссии о Европе дали о себе знать мировому сообществу в 1950-е, что, безусловно, было связано со смертью Сталина и наступлением в СССР эпохи оттепели, отклик у западноевропейских интеллектуалов они вызвали в 1980-е гг., в частности, в связи с переводом на английский язык упоминавшегося выше текста М. Кундеры Захваченный Запад (на английском и французском языках он был опубликован под названием Трагедия Центральной Европы). Наряду с введением оппозиции власти, или политического режима, принадлежащего Востоку, и культуры, принадлежащей Западу, в качестве конститутивных для стран Восточной Европы, Кундера уделяет большое внимание вкладу в закрепление этой оппозиции России, что и послужило поводом к бурной дискуссии, продолжающейся до сего дня. «“Умереть за свою страну и за Европу” – это не придёт в голову в Москве или Ленинграде; но именно так подумают в Будапеште или Варшаве», – таково начало статьи Кундеры. «Умереть за Европу» является здесь не просто метафорой; это часть культурно-исторического нарратива, который дал о себе знать в Восточном Берлине в 1953, в Венгрии – в 1956, в Чехии – в 1968, в Польше – в 1980-е. «Умереть за Европу» означало здесь, с одной стороны, освободиться от российско-советской оккупации, с другой – вернуться в Европу как сферу духа, которая только и способна дать силы сопротивляться искоренению свободы и человеческого достоинства как в СССР, так и в странах «восточного блока». В очередной раз с момента национальных возрождений ���������������������� XIX������������������� века восточноевро18 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога пейские интеллектуалы поставили своей задачей стать большими европейцами, чем сами европейцы24, одновременно фиксируя преграды, стоящие на пути достижения этого идеала. Здесь мы не будем останавливаться на обширной и актуальной по сей день дискуссии вокруг понятия «Россия» – одного из центральных в тексте Кундеры.25 Мы выделим те ключевые темы восточноевропейского дискурса о Европе, которые, с одной стороны, породили феномен «Новой Европы», с другой – дали новый и чрезвычайно важный импульс самоосмыслению «Старой Европы». Каким образом интеллектуалы Восточной Европы конкретизировали понятие общности европейской культуры? Во-первых, важно указать на то, что культура в их рассмотрении с необходимостью включала политическое измерение, или она рассматривалась как необходимое основание политических преобразований. Во-вторых, осмысление европейской культуры и общности европейских ценностей имело амбивалентный характер, с одной стороны, в виде фиксации нехватки этой культуры в странах Восточной Европы, с другой – в виде претензий к современному состоянию европейской культуры в странах Западной Европы. Взаимосвязь этих двух аспектов можно продемонстрировать на примере размышлений венгерских и других восточноевропейских интеллектуалов о демократии. Так, в версии Кертеса, «подлинная правда состоит в том, что в Восточной и Центральной Европе, как и повсюду, проживают разные люди, хорошие и плохие, приятные и неприятные, мягкие и агрессивные, но общее у всех нас то, что мы никогда ещё не жили в настоящей, действующей демократии. По общему суждению, демократия – это политический режим, но, если как следует подумать, на самом деле демократия скорее культура, нежели просто система, – и слово “культура” я употребляю в том смысле, в каком оно употребляется в садоводстве»26. Это размышление, с одной стороны, соответствует различению политического режима и культуры, с другой – преподносит это различение как насквозь пронизывающее историю Восточной Европы. На основании этого можно сделать вывод о том, что демократия как культура была для стран Восточной Европы целью и одновременно недостижимым идеалом, поскольку она, в версии Бибо, предполагала преодоление того, страх чего преследует страны Восточной Европы на протяжении всей их истории, – страх уничтожения малой нации. Об этом страхе Бибо размышляет следующим образом: «Когда государственный муж какой-либо малой нации Восточной Европы говорит о “гибели нации”, об “уничтожении нации”, то человек Запада воспринимает это как риторический оборот; он может представить себе геноцид, порабощение или медленную ассимиляцию, но какое-то внезапное политическое “исчезновение” народа для него всего лишь высокопарная аллегория, тогда как для восточноевропейских наций это ощутимая 19 Ольга Шпарага реальность. И для этого здесь не нужно физически уничтожать или выселять какую-либо нацию; для того чтобы нация почувствовала себя в опасности, достаточно выразить с должной силой и настойчивостью сомнение в том, что она существует»27. Преодолеть этот страх, согласно Бибо, можно только на пути к демократии, которая означает «не испытывать страха, страха перед инакомыслящими, перед говорящими на других языках, принадлежащими к другим расам, перед революциями и заговорами, коварными замыслами врага, враждебной пропагандой, пренебрежением, неприятием и вообще перед теми воображаемыми опасностями, которые наш страх может превратить в реальные»28. Освободиться от этого страха можно, согласно тому же Бибо, только если дело сообщества и дело свободы будут одним делом. Последнюю идею можно обнаружить в большинстве текстов восточноевропейских интеллектуалов; с другой стороны, именно этот пункт – необходимость связи идеи свободы с идеей сообщества – является камнем преткновения в оценке, которую интеллектуалы дают проекту современной Европы. Итак, с одной стороны, «существует некая ценность, и она даже в крайней нужде для большинства людей важнее, чем все прочие блага, которых оно может лишиться в период великих испытаний, это – самоуважение; … ценность, которая важнее общественного положения, благополучия, карьеры: право быть людьми, живущими согласно собственным убеждениям, человеческими созданиями, посвоему строящими и обновляющими общество»29, т. е. ценность индивидуальной и коллективной свободы. С другой стороны, так как данная ценность всегда находилась под вопросом в странах Восточной Европы, то восточноевропейские короли, правители, поэты и интеллектуалы столетиями искали путь к Западу, который, на их взгляд, воплощал эту ценность. «Они обращались к Западу с призывом, но Запад не отвечал, никогда. Постепенно до людей дошло, что ждать нечего и надеяться не на кого».30 Это разочарование является выражением второго измерения сформулированной в Восточной Европе «идеи Европы». Разочарование, которое оборачивается импульсом к мобилизации собственных сил, оборотной стороной которой и становится призыв «умереть за Европу», или стать большими европейцами, чем сами европейцы.31 На понятийном уровне разочарование в возможностях Западной Европы приводит нас к важнейшему понятию, которое придало не только совершенно новое звучание «идее Европы», но и дало ей новый импульс к жизни. Этим понятием является понятие солидарности, точнее, солидарности потрясённых, введённое в 1950-е чешским философом Яном Паточкой и подхваченное, как и воплощённое на практике, польскими интеллектуалами, и в частности Йозефом Тишнером, в 1980-е. «Солидарность потрясённых существует в атмосфере преследования и опасности: это её фронт, тихий и избегаю20 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога щий рекламы и сенсаций, который находится даже там, где аппарат насилия господствующей Силы стремится подчинить себе солидарность. Она не боится непопулярности и даже требует её, и взывает тихо, без слов. … Тот, кто предаёт эту солидарность, должен осознать, что он потворствует войне и является её паразитом в тылу, питающимся кровью других. Особенно активно осознание этого поддерживают жертвы фронта потрясённых. Смысл, который возвышается над апогеем человеческой жизни и над сопротивлением Силе и который необходимо достигнуть, преодолев Силу, заключается в способствовании тому, чтобы каждый, кто способен к пониманию, почувствовал внутреннее неудобство своей конформистской позиции».32 Возродить Европу на почве солидарности потрясённых означает, согласно Паточке, вернуться к единству философии и полиса, которое он обозначил понятием «заботы о душе». Именно потрясение должно способствовать воссозданию этой связи, и именно страны Восточной Европы, особенно пострадавшие во Второй мировой войне и в условиях советского режима, могут в этой связи стать проводниками возрождения Европы. Паточке вторит Кертес, делая предположение, что «осознание своей европейскости возникает у наших народов, по большей части, в угрожающих ситуациях. Например, в течение долгих десятилетий “холодной войны” Западный Берлин казался самым европейским городом именно потому, что был в то же время самым угрожаемым городом Европы – Западной Европы»33. И тут же обращается к уже обозначенной нами идее общности культуры, в связь с которой должна быть приведена солидарность потрясённых. И здесь критика Западной Европы восточноевропейскими интеллектуалами дополняется их самокритикой, которая находит выражение в призыве начать создавать ценности. Связана она, по словам самих восточно-европейцев, с тем, что восточно-европейцы не могут обойтись без коллективных ценностей «именно потому, что не они завоевали свою свободу»34, а их ценности, которые по большей части служили стратегиями национального или личного выживания, оказались, по меньшей мере, бесполезными, «именно поэтому свалившуюся на них свободу значительная часть этих обществ пережила, в сущности, скорее как катастрофу»35. Здесь мы можем зафиксировать ещё один важный момент восточноевропейского дискурса о Европе: запаздывание Восточной Европы по отношению к Европе Западной, которое имеет опасный момент – соблазн наверстать это запаздывание за счёт других, препоручив свою судьбу другим, что в итоге оборачивается подчинением Восточной Европы Западной Европе. Как демонстрируют размышления интеллектуалов Восточной Европы, только общими усилиями, предполагающими критическое отношение к самим себе как в Восточной, так и в Западной Европе, можно противостоять, с одной стороны, неравенству сил – прежде всего в аспекте культуры демократии и её адекватных современно21 Ольга Шпарага сти артикуляций, зачастую вступающих в противоречие с национальными стратегиями в их чистом виде, – с другой стороны, современной неопределённости «идеи Европы». Понятие, которое оказывается решающим в таком диалоге стран Восточной Европы, с одной стороны, и Западной Европы – с другой, и которое в равной мере выражает современные дискуссии о культуре демократии, – это введённое в первой части данного раздела понятие политики в нормативном смысле слова. Размышления последней части нашего исследования показали, что прояснение данного понятия коррелирует с задачей по прояснению ряда других понятий, таких как связь свободы и сообщества, имеющей свой исток в связи философии и полиса; понятия общности культуры, или культурных ценностей, которое будет конкретизировано нами как плюрализм ценностей; наконец, понятие солидарности потрясённых, в качестве оборотной стороны которого рассматривается критическое преодоление европоцентризма. Об этих понятиях как понятиях, задающих «идею Европы» в собственном смысле слова, и пойдёт речь в следующем разделе текста. 2. Политика в нормативном смысле слова: от древнегреческого полиса к плюрализму ценностей и обратно В самом начале нашего обращения к Европе, вслед за Деррида и Хабермасом, сформулировано положение о том, что обе Европы необходимо объединить ответственностью за будущее международного права. Одной из важнейших предпосылок такого будущего, по мнению Дарендорфа, является возрождение политики в нормативном смысле этого слова. Такая постановка вопроса, как показано в предыдущей части текста, актуализировалась для Европы после обращения к самоосмыслению интеллектуалов Восточной Европы, испытывающих нехватку не просто формальных структур демократии, но и актуализации самой культуры демократии, которая может быть конкретизирована как культура гражданского общества и прав человека. Словами Дарендорфа, «сообщество свободных государств Европы должно быть гражданско-правовым сообществом, в котором, по меньшей мере, принципы конвенции по правам человека приобретут прямую силу закона. При этом основные права следует понимать в точном и узком смыслах, прежде всего как права на неприкосновенность личности, свободу деятельности и передвижения»36. Однако необходимо учитывать прогресс самих «прав человека», приводящий сегодня во многих случаях, и в особенности в случае стран с транзитивной экономикой, к противоречию между формальными правами и их обеспечением, иначе говоря, между равными шансами участия в политическом сообществе, рынке (труда) и жизни граж22 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога данского общества.37 Для того чтобы политика в нормативном смысле слова не исчерпывалась голыми воззваниями к соблюдению прав человека, сегодня необходимо, чтобы институты Европейского Союза обеспечивали эффективность системы международного права, стоящей на страже как гражданских и политических, так и социальных прав; или в нахождении баланса – «нелёгкого равновесия», словами Берлина, – между обеспечением прав первого и второго поколения. Данная постановка вопроса, как будет показано далее, имеет как ретроспективное, так и перспективное разворачивание. В ретроспективе она ведёт к древнегреческому полису как единому истоку Европы, «вечное возвращение» к которому, начиная с эпохи Возрождения, позволяет ей мыслить своё единство.38 Содержание «древнегреческого полиса» будет конкретизировано нами далее через связь полиса и философии, с одной стороны, и свободы и сообщества – с другой. Перспективно постановка вопроса об идее Европы в аспекте политики в нормативном смысле слова имеет вид плюрализма ценностей, который, в отличие от древнегреческого полиса, не позволяет говорить о единой «точке пересечения», а всё снова и снова принуждает нас выбирать самих себя и других. То, что данный выбор выходит сегодня за пределы географической Европы, является важнейшим измерением данной перспективы, подвергающей испытанию саму европейскую идею и выдвигая на передний план её культурное и нормативное (а не просто географическое) измерения. Плюрализм ценностей в таком случае скрывает под собой критическое преодоление европоцентризма, которое само стало возможным на основе солидарности потрясённых войнами и диктатурами XX века. То, что в какой-то точке Европы до сих пор возможна диктатура, должно быть понято в этой перспективе: с одной стороны, как невозможность выбора в этой точке, с другой – как недостаточная солидарность европейцев с теми, кто борется с этой невозможностью вопреки диктатуре, а, значит, подвергает смертельной опасности свою собственную жизнь. Однако одно – выбор – не может заменить другого – солидарности; они должны быть приведены в согласие друг с другом, обнаружив присущую данной ситуации конфигурацию плюрализма ценностей. Остановимся более подробно на ретроспективе и перспективе европейской идеи. Начнём с того, что практически невозможно представить перечисленные элементы идеи Европы, и прежде всего древнегреческий исток, находящий выражение в связи полиса с философией, плюрализм ценностей и солидарность (потрясённых), по отдельности. Это значит, что «многообразие в единстве», рассматриваемое такими современными теоретиками идеи Европы, как Морен, Шпэт и Вайденфельд, в качестве ядра идеи Европы с необходимостью связывается этими же теоретиками, а также известнейшими философами и интеллек23 Ольга Шпарага туалами Европы (Паточка, Деррида) с древнегреческим чудом – «открытием» политики как публичной деятельности, – находящей в XX в. выражение в плюрализме ценностей (Берлин). Сама же публичная деятельность, начиная со времён Античности, предполагает знакомство с философией. Такое открытие, в свою очередь, интерпретируется Паточкой как потрясение жизни в труде и у домашнего очага и выступает истоком истории и исторического самосознания в собственном смысле этого слова. И всё же связь «многообразия в единстве» и древнегреческого истока не является столь очевидной и разделяемой всеми участниками диалога о европейской идее. Другая версия генезиса идеи Европы связывает «исток» Европы с христианством, в частности с его западной версией. Решающим для такого рассмотрения является рождённое внутри западного христианства различение духовной и светской властей, или религии (веры) и политики (закона).39 Однако, в версии Шпэта, в данном случае возникает опасность подмены идеи Европы идеей христианства, проблематичного своим доминированием авторитета над открытой дискуссией равных, возможность и необходимость которой обосновывалась именно древними греками. Сама же средневековая оппозиция веры и знания – сильное место западного христианства, коррелирующее с оппозицией духовной и светской властей, берёт начало именно в «греческом духе полиса» с его полемическим, в Гераклитовом смысле слова, характером, предполагающим выявление и борьбу соперничающих друг с другом сил.40 Обосновывая эту идею, Вайденфельд выстраивает цепочку оппозиций, введение и приведение в столкновение которых было инициировано именно древними греками: мифологическо-магическое мышление – рациональное знание (собственно греки), знание – практика (римляне) и, наконец, знание – вера (христианство). «Работа» этих оппозиций породила в первом случае публичную политику, во втором случае – институализацию общественной жизни в формах армии, правовой и налоговой систем, нашедших выражение и в новых способах организации городской и сельской жизни Римской империи – в мостах, акведуках, разметке улиц и площадей, в третьем случае – централизацию духовной жизни вокруг Римской церкви, приведшей к возникновению династий и преемственности аристократии, а также к идее объединяющего государства, университетам и научному обмену. Таким образом, и Шпэт и Вайденфельд связывают учреждение идеи Европы в собственном смысле с учреждением свободно дискутируемой и порождаемой в открытой дискуссии равных общественной жизни, принципиальная значимость которой удерживалась в последующие периоды европейской истории. И хотя само это учреждение является ядром «древнегреческого чуда», свою европейскую реальность оно получает в эпоху Ренессанса, который «привёл к воз24 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога рождению греческого культурного наследия; … знаменовал собой распространение светского гуманизма, ставящего во главу угла личность и утверждающего победное шествие рационального критического и самокритического мышления. Ренессанс позволил художникам и учёным обнаружить в европейском наследии эллинский ген, а вместе с ним интеллектуальную привлекательность мира, дискуссию, аргументацию, сомнение, антитезис»41. Это явление – новое открытие древнегреческого мира полиса – обозначено нами выше как «вечное возвращение к грекам», подразумевающее, вслед за Ницше, не автоматическое повторение, а культурное приращение смысла, сохраняющего в этом приращении свое ядро. Таким ядром выступает открытая греками публичная дискуссионность общественной жизни, которая, однако, именно благодаря христианству получила свое конкретно-историческое измерение, позволившее выйти за пределы мира греков, противопоставленного миру варваров, в пространство Европы – как пространство способных приобщиться к дискуссии в силу признания ценности личностного начала и критического мышления.42 Тем самым открытый греками дискуссионный характер общественной жизни получил – в эпоху Ренессанса, аккумулировавшую как древнегреческое наследие, так и наследие христианское, – вид Европы как «реальности культурных противоречий» (Морен), которые в каждую новую эпоху находят новое воплощение – вместе с поиском нового способа обхождения с ними, – оставляя неизменным само требование признания и принятия во внимание противоречий. Говоря о полисе и публичной политике, мы пока не касались второй важнейшей составляющей «древнегреческого чуда» – истока Европы, а именно, философии. За последние две тысячи лет об этой связке – полиса и философии – написано немало, поэтому мы остановимся на ней очень схематично. Начнём с того, что Я. Паточка видит определяющим для связи полиса и философии существо самой философии как «духа свободного осмысления», превращающего философию в дух полиса. «Дух полиса – это дух единства в споре, в борьбе. Невозможно быть гражданином – polites – иначе, чем в сообществе одних против других, причём этот спор сам создаёт напряжение, тонус жизни города, форму того пространства свободы, которое жители полиса взаимно предоставляют и укрепляют – предоставляют так, что для своего действия ищут опору и превозмогают сопротивление».43 В таком случае быть гражданином полиса означает владеть искусством полемики, которая является определяющим элементом философии у Гераклита. В версии Вернана, это означает, что слово «становится главным образом политическим инструментом, ключом к влиянию в государстве, средством управления и господства над другими»44. При этом слово утрачивает ритуальную сущность и принимает вид «спора, дискуссии, диалога, 25 Ольга Шпарага предполагает наличие публики, к которой оно обращено как к арбитру и которая поднятием рук выносит решение в последней инстанции»45. Убеждённость речи оратора становится решающей для принятия политического решения, преобразуя политику в умение владеть речью, как и наоборот – умение владеть речью осознаёт свою эффективность через политическую функцию. Философия в этой связи логоса, или полемики, и полиса, или политики, занимает место правил организации логоса и ведения дискуссии, которые созерцаются душой философа, ведущей диалог с самой собой, и объективируются в обсуждении в виде законов общественной жизни. В результате законы «больше не навязываются силой личного или религиозного авторитета: они должны доказать свою правильность с помощью диалектической аргументации»46. Законы становятся писаными и вместе с этим – общим достоянием, всеобщим правилом, одинаково применимым ко всем гражданам полиса. Говоря о связи философии и полиса в древнегреческом, а затем ренессансном смысле, мы, конечно же, не можем автоматически перенестись в современность, т. е. найти в современной Европе прямые соответствия философии и полису. Тем не менее отсутствие такого прямого соответствия не ставит под вопрос сам конституирующий европейскую идею момент «вечного возвращения к грекам». Поскольку именно этот момент позволяет перейти к идее политики в нормативном смысле слова, преломив его содержание в контексте ведущих тем и понятий современности. Как об этом было сказано во введении к данному разделу текста, в качестве современного эквивалента связки философии и полиса может быть рассмотрена связка свободы и сообщества, которая является одной из центральных для дискурса Восточной Европы. С другой стороны, возможность такого перевода осмысливается и современными политическими философами, к примеру Ж.-Л. Нанси, полагающим, что именно сообщество является современным наследником полиса. При этом Нанси всеми силами предостерегает нас от онтологизации, или субстанциализации, понятия сообщества, понимая под ним само движение навстречу друг другу, находящее выражение во всякий раз единичном сочетании единичностей.47 Как кажется, только таким способом и можно сохранить свободу, кантовское определение которой через автономию дополняется необходимостью принимать во внимание гетерономию, принципиально неустранимую из сообщества и, тем не менее, не ставящую его под вопрос. Проецируя разговор о сообществе на европейское сообщество, необходимо, словами немецкого философа Б. Вальденфельса, говорить о неустранимом участии чуждого, или абсолютной друговости, в формировании этого сообщества. Основным принципом его формирования является возникновение своего (самости) как ответа на чужое притязание, ответа, ведущего к фор26 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога мированию между-миров (Мерло-Понти) или пограничья, которым присуща принципиальная асимметрия без доминирования и которые сочетают универсальное с партикулярным в форме универсального во множественном числе (Вальденфельс)48, конкретизированного далее в виде плюрализма ценностей (Берлин). Такое сообщество является реакцией на европоцентризм, «под которым можно понимать и цивилизационный этноцентризм, и колониализм, и империализм», базирующийся на праве господства просвещённого, в частности европейца, над дикарём, под которым подразумевается не европеец. Истоки его лежат в ещё одной, пока никак не затронутой нами «эпохе Европы», а именно, в эпохе Нового времени, пришедшей на смену эпохе Ренессанса. В версии Вайденфельда, эта эпоха задаётся противоречием между национальными интересами и установкой на универсализм как условие их достижения.49 Другими словами, на протяжении XVIII–XIX вв. европейцы пытались универсализировать образ самих себя с помощью колониальной политики, одним из результатов которой явился «неполный модерн» – отставание политической модернизации по отношению к экономической модернизации, воплотившееся в XX веке в двух мировых войнах и тоталитаризме.50 Две Европы, как это следует из сказанного в первой части нашего текста, явились результатом именно данного раскола европейской идеи. Здесь, пожалуй, уместно перейти к последнему конститутивному элементу «идеи Европы» – плюрализму ценностей. В самом начале данного раздела плюрализм ценностей обозначался как способ существования европейской идеи, или европейского единства, учитывающего критическое преодоление европоцентризма. Можно сказать, что понятие плюрализма ценностей является ключевым моментом идеи Европы, поскольку позволяет наиболее отчётливо увидеть взаимодействие всех её моментов. Само это понятие позаимствовано мною у английского философа И. Берлина, предлагающего свой вариант «европейского единства».51 С одной стороны, это понятие напрямую коррелирует со связкой свобода–сообщество, поскольку, согласно Берлину, «европейская история основана на своеобразной диалектике, где стремление к общественному порядку борется со стремлением к личной свободе». С другой стороны, перекос в этой диалектике, приведший к катастрофам XX в., Берлин привязывает к рождению в Европе в первой трети XIX в. образа «героической личности, навязывающей свою волю природе или обществу: не венец гармонического космоса, а существо, “отчуждённое” от него и стремящееся покорить и подчинить его себе». Этот образ может быть представлен как другое имя европоцентризма. Хотя камнем преткновения данной позиции Берлин видит не универсализм, а партикуляризм, выдвинувший на передний план как отдельных национальных гениев, 27 Ольга Шпарага так и отдельные нации, заявившие со временем о своём преимуществе перед другими гениями и нациями. То, что с возникновением этой позиции ставится под вопрос, – это обращение к разумному согласованию различных ценностей друг с другом, о возможности которого размышляли философы предыдущих эпох. Выдвижение Берлиным партикуляризма в качестве важнейшей предпосылки кризиса европейской идеи не вступает, однако, в противоречие с идеей европоцентризма, в основе которого лежит универсализация европейцами образа самих себя и навязывания этого образа тем, кому эта универсализация «недоступна». Скорее, партикуляризм, о котором говорит Берлин, и универсализм, который имеют в виду критики европоцентризма, являются лицевой и оборотной сторонами одного и того же феномена – признания возможности абсолютного сосуществования ценностей, о которых европейцам якобы известно больше других народов и к которым эти другие (народы) должны приобщиться, несмотря ни на что. Свой ответ на данный вариант универсализма, оборачивающегося партикуляризмом (и наоборот), Берлин обозначает в виде требования различения универсализма и партикуляризма, которое становится возможным как плюрализм ценностей. Ценности, согласно Берлину, абсолютны, но при этом непримиримы. Иначе говоря, «перед нами конфликт ценностей; и мнение, что они как-то, где-то должны быть прилажены друг к другу, – пустая иллюзия; опыт показывает, что это невозможно». Сочетание универсализма с партикуляризмом применительно к ценностям означает, по Берлину, необходимость всегда партикулярного выбора универсальных ценностей.52 Каковы же те универсальные ценности, выбор которых определяет человеческую свободу? «Существуют если не универсальные ценности, то во всяком случае какой-то минимум, без которого общество едва ли сможет выжить. Немногие сегодня стали бы защищать рабство, ритуальные убийства, нацистские газовые печи или пытки людей ради удовольствия, прибыли или интересов политики, – равно как и обязанность детей доносить на родителей ... или бессмысленные убийства».53 В другом месте Берлин определяет эти ценности следующим образом: «Если мы сталкиваемся с человеком, у которого своё понимание жизненных целей, несхожее с нашим, который предпочитает счастье самопожертвованию или знание – дружбе, мы, тем не менее, принимаем его, поскольку его представление о целях жизни, доводы в их защиту и поведение не выходят за общечеловеческие рамки. Но если мы встречаем человека, который не понимает, почему он не может уничтожить мир, когда у него болит мизинец, или искренне считает, что можно выносить приговор невинным, предавать друзей или пытать детей, то мы понимаем, что не можем спорить с такими людьми не столько потому, что они ужасают нас, но скорее потому, что считаем их в неко28 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога тором смысле нелюдями и называем моральными уродами»54. Однако, добавляет он далее, разговоры о мире, в котором эти и многие другие, едва ли находящие наше понимание, поступки и намерения людей определённого склада были бы абсолютно невозможны, рассматриваются Берлиным не менее опасными, чем оправдание этих поступков и намерений. В таком случае не остаётся ничего, кроме сведения перечисленных конфликтов ценностей к минимуму, установления и сохранения нелёгкого равновесия, которое всегда будет оставаться под угрозой. Такое сведение и означает партикуляризм – отказ от окончательных решений и принятие того факта, что «любое решение создаёт новую ситуацию, которая порождает свои собственные новые потребности и проблемы, новые требования»55. Эти размышления Берлина перекликаются со следующим определением Шпэта «многообразия в единстве» как ядра европейской идеи: «“Многообразие в единстве” имеет в виду не юридическое или организационное оформление плюрализма, а само многообразие, спонтанно образующее единство, и лишь взаимопроникновение культурных влияний создаёт целостное культурное пространство»56. Только, согласно Берлину, речь должна идти не о единстве, а о сведенном к минимуму конфликте многообразного. В свою очередь, возможность такого сведения, или «нелёгкого равновесия», базируется на том минимуме ценностей, в отношении которых, при всей разности ценностей тех конкретных обществ или культур, в которых мы живём, мы «не можем притворяться, будто вообще их не понимаем, не в праве рассматривать их как чисто субъективные ценности, созданные существами, живущими в совершенно иных условиях и имеющих совсем иные, чем у нас, вкусы, и которые поэтому ни о чём нам не говорят»57. Как и Шпэт, Берлин полагает, что эти ценности отличаются от законодательных актов; иначе говоря, мы знаем, что «их нельзя отменять и не знаем такого суда или авторитета, который в рамках законного судопроизводства позволил бы людям давать ложные показания, свободно пытать или убивать ближних ради собственного удовольствия; мы не можем требовать отмены или изменения этих всеобщих принципов и законов, иными словами, мы относимся к ним не как к чему-то, что мы или наши предки свободно принимали, но, скорее, как к условию человеческого существования [курсив мой. – О. Ш.], необходимому для того, чтобы жить на земле рядом с другими людьми, признавать их и быть признанными как личности. Поскольку эти правила были отвергнуты, нас вынудили относиться к ним с особой чуткостью». Это последнее высказывание Берлина позволяет нам увидеть связь плюрализма ценностей с последним конститутивным понятием идеи Европы – с понятием «солидарности потрясённых». Потому что именно потрясение, которое Паточка привязывает к ужасам войн XX в., позволило нам обрести особую 29 Ольга Шпарага чуткость к тем ценностям, о которых пишет Берлин. Такого рода чуткость и носит обозначение солидарности, позволяющей осуществить переход от индивидуальной свободы к сообществу чувствительных к страданию других людей. Это солидарность, достижимая, словами Рорти, не через исследование, а через воображение, «через мысленную способность видеть в чуждых нам людях товарищей по несчастью». В этом смысле, «солидарность не раскрывается рефлексией, но созидается. Она созидается повышением нашей чувствительности к определённым подробностям боли и унижения других, незнакомых нам людей»58. Данное определение солидарности чрезвычайно созвучно с видением Берлиным минимума универсальных ценностей, которые, к примеру, внутри древнегреческой культуры хотя и не являются моими, могут быть мною представлены в пределах человеческого горизонта. И этот горизонт при всей разности социальных и культурных конкретизаций в равной мере будет поставлен под вопрос теми формами насилия, примеры которых мы приводили, цитируя Берлина. Создавать препятствие такого рода насилию призвана, и по мысли Рорти, и по мысли Берлина, политика, какой она мыслилась ещё древними греками и досталась в наследство западному миру. Речь идёт здесь о политике в нормативном смысле слова, которая, имея исток в древней Греции, не имеет сегодня чёткой географической локализации. Это значит, что она способна возникнуть там, где ключевой ценностью является установление хрупкого равновесия ценностей, большинство из которых не может быть согласовано или приведено в диалектическое единство. В этом смысле установление такого равновесия всегда уникально, или партикулярно, и тем не менее оно питается надеждой на то, что стремиться к равновесию ценностей способны все люди, поскольку все люди способны быть чувствительными к насилию, проявляемому к ним и другим, близким и незнакомым людям. Солидарность потрясённых, или чувствительных к насилию, как ориентир политики в нормативном смысле слова необходимо дополнить критикой европоцентризма, который начиная с XVIII в. встал на путь общеевропейской солидарности. Только в том случае, если перспективная установка на солидарность чувствительных к насилию будет дополнена ретроспективной критикой и самокритикой Европы, идея Европы сможет возродиться в очередной раз, неважно, в границах или далеко за пределами Европы. При этом необходимо иметь в виду, что в каждом – это значит и в нашем, белорусском, случае необходимо найти свою уникальную форму сочетания европейской перспективы с европейской ретроспективой, т. е. сформировать себя самих как солидарных – как внутри Беларуси, так и за её пределами – в сопротивлении насилию, которое угрожает всем, но которое в каждом случае принимает конкретную форму, нуждающуюся в интерпретации и описании. В 30 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога следующем, завершающем, разделе статьи будет сделан набросок такого белорусского поиска самих себя в пространстве Европы. 3. Беларусь на европейском пограничье В данной части текста, в отличие от предыдущих частей, будет представлено не исследование, а проблематизация, набросок поиска ответа на вопрос о Беларуси в «европейском пространстве». Для этого предлагаются и анализируются наиболее интересные и продуктивные размышления о европейском пути Беларуси. Можно смело начать с того, что осмысление Беларуси в контексте Европы имеет свою традицию. Самым значительным среди зачинателей этой традиции в XX веке является белорусский философ и культуролог И. Абдиралович (1896–1923). Имеется в виду его текст Адвечным шляхам (1921). Очевидно, что в этом тексте Беларусь рассматривается И. Абдираловичем в контексте Европы: «Калі беларускі народ не стварыў выразнай культуры, дык гэта дзеля таго, што ў гістарычнай спадчыне яго была вялікая трагэдыя народнага духу, якую перажыць выпала толькі двум-тром эўрапэйскім народам: Беларусь ад Х в. і да гэтай пары фактычна зьяўляецца полем змаганьня двох кірункаў эўрапэйскай, пеўна арыйскай, культуры – заходняга і ўсходняга»59. Наряду с отнесением Беларуси к европейским странам, приведённая цитата позволяет выявить две важнейшие характеристики белорусской ситуации. Это характеристика белорусской культуры как неотчётливой (невыразнай), или неопределённой (неакрэсленай) и характеристика Беларуси как поля борьбы двух культур – восточной и западной. И хотя вторая характеристика кажется созвучной с тем, как характеризуют ситуацию в своих странах интеллектуалы Восточной Европы, это созвучие не должно вводить нас в заблуждение. Поскольку, согласно Абдираловичу, «мы не зрабіліся народам Усходу, але не прынялі й культуры Заходняй Эўропы. За ўвесь час нас пачалі зваць цёмным, дзікім народам». Данное высказывание очевидным образом контрастирует с размышлениями Кундеры и ряда венгерских интеллектуалов на тот счёт, что страны Восточной Европы сочетали в себе политический деспотизм Востока с культурой (культурными ценностями) Запада, так что именно культура Запада позволяла Восточной Европе сохранять единство с Западной Европой на протяжении всей истории, и в особенности последних трагических 100 лет. Отсутствие отчётливой культуры, далее, в версии Абдираловича позволяло белорусам быть в равной мере «благімі сынамі і цэрквы і касьцёлу, і “ojczyzny” і “отечества”». В то же самое время оно свидетельствовало о слабости белорусского народа, препятствующей ему творить собственную историю и самому 31 Ольга Шпарага определять свою судьбу. В самом конце XX века данную мысль Абдираловича подхватит философ-эссеист В. Акудович, обосновывающий идею, что именно в силу слабой позиции покорности и терпения Беларусь так и не стала модерным субъектом европейской цивилизации, что, однако, не является препятствием на пути сегодняшнего – постмодерного – самоосмысления и самосозидания Беларуси.60 Однако вернёмся к Абдираловичу. «Ваганьне паміж Захадам і Ўсходам», согласно Абдираловичу, берёт исток в принятии белорусами христианства в Х веке. Одним из важнейших следствий такого метания явилась двойственность «белорусского» самоопределения того времени, очевидного на примере князя Всеслава Чародея, христианина и язычника одновременно. Кроме того, в XIII в. белорусское язычество усиливается «язычеством Литвы». Другими словами, и на протяжении X–XIII вв., и в последующие столетия именно метание белоруссколитовских князей между ориентацией на Запад (в частности, Польшу) и использованием собственного капитала – потенциала местных князей – не позволяло им обрести независимую политическую и экономическую позицию. «Гэтаму ваганьню пачынае адпавядаць і блутаньне па нашым краі дзяржаўнай граніцы», позволяющее не только обнаруживать своё в границах чужого, а чужое – в самом сердце своего, но и своему получать каждый раз новые имена – в зависимости от своеобразия того чужого, внутри которого оно обнаруживалось: к примеру, русского в Литве, литовского в Польше. И всё же со временем у нас, согласно Абдираловичу, сформировалось представление о том, что «толькі праз разьвіцьцё асабістага і народнага духу дойдзем мы да ўсечалавечага ідэалу», что нашло своё выражение в переводе Ф. Скориной Библии на «мужыцкую простую мову». Другая важная идея, позволяющая проводить параллель как с самохарактеристикой интеллектуалов Восточной Европы, так и с идеями современных теоретиков Европы, обнаруживается в размышлениях Абдираловича о восточных славянах. «Найболей выразнаю адзнакаю іх характару зьяўляецца нахіласьць да ўсяго скрайнага, выразнага, ясна падкрэсьленага. …Прыхільнасьць да выразнай аб’яднаўчае формы, да аканчальнага і бязумоўнага правядзеньня яе ў жыцьцё вызначылася ў ідэі адзінай палітычнай улады». Другими словами, если на Западе «варожыя кірункі мірна існуюць разам і знаходзяць кампраміс, згоду», то на Востоке (от Беларуси) несколько идей или форм социальной, политический или культурной жизни не могут мирно сосуществовать, и одна должна обязательно подчинить себе другую, что в конечном итоге выливается в утверждение политической деспотии. Очевидно, что и в этих оценках Абдиралович куда более радикален, чем его европейские коллеги, поскольку выявленное им своеобразие восточных славян сказывается в нашем случае не только на политическом режиме или структуре 32 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога власти, но и на культуре, пронизывающей все стороны жизни человека – от практик повседневности до религиозного самоопределения. Словами Абдираловича, «на Ўсходзе адвеку садзяць у турмы і зьневажаюць чалавека не за дзеі, а за тое, што ён голіць або ня голіць бараду, або ня так, як трэба, носіць вопратку. Усе драбніцы, ўсе абставіны жыцьця вымагаюць акрэсьленьня вызначанасьці. Ува ўсіх павінен быць адзін выгляд, адны перакананьні, адзін погляд на жыцьцё». Говоря же о Западной Европе, Абдиралович делает акцент на множестве позиций и взглядов, в отношении которых действует установка на нахождение компромисса, так что «варожыя кірункі шукаюць паразуменьня, ідуць на згоду, абяцаюцца падтрымліваць адзін аднаго», не образуя единства и всё же сосуществуя как на уровне личности, так и на уровне сообщества. То, что отличает белорусов от созданного образа восточных славян, – это понимание несоответствия установки на крайности самому положению вещей. Жизнь, согласно Абдираловичу, характеризуется фундаментальной невыразимостью, не позволяющей назвать своими именами даже самые простые вещи. «Не аб кожнай рэчы можна пеўна сказаць, ці любіш яе, ці не, ці добрая яна, ці благая. Вялікі абшар жыцьця застаецца нявыразным, цёмным, і толькі з вялікай тугой гэта шэрае можна назваць белым або чорным». И это, согласно белорусскому философу, хорошо известно западноевропейцам, проявляющим в этой связи терпимость по отношению к невыразимому многообразию жизни. И всё же белорусы хотели примирить и одну – восточную, и другую – западную – составляющие своей идентичности, однако это, согласно Абдираловичу, оказалось невозможным в силу политического доминирования восточного соседа. Иначе говоря, установка на преодоление и подавление всякой иной формы жизни, отличной от своей собственной, привела Российскую империю к необходимости насильственно навязать белорусам «единственно возможную» и «обязательную для всех» форму жизни и идентичности. В современной ситуации, словами публициста А. Дынько, это приводит к тому, что «беларусы, як і іншыя ўсходнеэўрапейцы, бягуць упрочкі не ад Расеі як такой, не ад культуры Салтыкова-Шчадрына і Чайкоўскага, яны бягуць ад эўразійскага бязладзьдзя, культу сілы, права моцнага, ад усяго таго, што разьвілося і замацавалася пры асваеньні бясконцых прастораў Азіі і Сібіру і што не зацугляна дагэтуль», не желая при этом, чтобы «Эўропа вырвала з нас частку нас, якой зьяўляецца расейская культура»61. И точно так же, как венгерские, чешские и польские интеллектуалы, Абдиралович заключает, что «нашага вызваленьня, нашага ратунку ад прымусу Ўсходу мы чакалі ад Захаду». Понимая при этом, что такое спасение будет всегда иметь амбивалентный характер, что хотя «Захад прынес нам найлепшыя ідэі: гуманістычныя, лібэральныя, дэмакратычныя, але разам з пенкнымі словамі 33 Ольга Шпарага заўсёды зьмяшчаліся гвалт духоўны і эканамічны, эксплёатацыя, ўціск, зьнявага». В этом смысле различие между влиянием Востока и Запада на самом деле заключается в степени проявляемого к Другому насилия, неограниченного в первом случае и всегда локального во втором. При этом стоит иметь в виду, что под Западом Абдиралович прежде всего подразумевает Польшу как ближайшую соседку белорусов. Вывод, к которому приходит Абдиралович: «Вольнага разьвіцьця нашага духу не запаўняе ні заходняя ні ўсходняя культура, бо яны абяртаюцца ў формах гвалтоўнага, людаежнага мэсыянізму і розьніца між імі толькі ў назовах, лёзунгах, а іх аціскаючыя ланцугі – аднолькавы для нашага духу». Беларусам необходимо искать своих дорог, на которых бы, с одной стороны, нам удалось создать свои – подвижные и меняющиеся (лiючыяся) – формы жизни, с другой, не превратить эти формы в очередную разновидность мессианства, знакомого нам на примере наших соседей. В критике Абдираловичем мессианства западных и восточных соседей белорусов можно увидеть определённую форму критики европоцентризма. Исток последнего лежит, в версии философа, в столкновении личности и сообщества (хаўруса) и победе сообщества (недовольных, рабов) над личностью в рамках эллинско-римской цивилизации. Такая ситуация длилась все Средние века и вызвала протест в эпоху Возрождения. «З векам Адраджэньня пачынаецца протэст: у рэлігіі проціў догмату і формаў, ў філёзофіі і мастацтве – проціў дазволенага і ўстаноўленага, ў палітыцы – проціў суровых формаў людзкога прыгону». Восток при этом на два века отстаёт от Запада, что, однако, не отменяет зарождения протестных настроений. И всё же эти настроения на Востоке ни к чему не приводят: руководимая крайностями жизнь в России одерживает победу над любой – правовой, религиозной, культурной – формой. Преодоление догматического мессианства, принимающего в XX в. вид коммунизма, окажется возможным, согласно Абдираловичу, только в том случае, если все формы жизни – от повседневных практик (и их крайних форм моды и дисциплины) до бюрократии (канцелярии) – будут пронизаны социальным, или гражданским, творчеством. А таковое, согласно Абдираловичу, возможно, прежде всего, в отсутствие чужого принуждения. «З гэтага выплывае падстава да неабходнасьці палітычнай незалежнасьці як першая падстава для народу быць самім сабой». Для этого «неабходна стварэньне новых соцыяльных аб’яднаньняў, ў якіх гарманізавалася б магчымасьць істнаваньня вольнай незалежнай адзінкі асобы і плоднай соцыяльнай паступовай працы, не затрыманай прагавітым эгоізмам адзінкі. Незалежная творчая адзінка ў творчым, няўзьдзержным адзіначным эгоізмам хаўрусе – ідэал будучыны». Такая постановка вопроса возвращает нас к центральной характеристике «идеи Европы», являющейся одновременно центральной темой размышлений интеллектуалов 34 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога Восточной Европы, – теме отношения свободы (личности) и сообщества. Можно сказать, что Абдиралович предлагает свою версию этого отношения, которое носит обозначение социального, или гражданского, творчества, предпосылками реализации которого выступает, с одной стороны, государственная автономия (независимость), с другой – создание новых форм общественных объединений, сочетающих творчество свободной личности и коллектива, или сообщества. Важнейшей характеристикой этой версии-формы, как было сказано выше, является её подвижность, текучесть. Можно проследить, как в нарративе о Восточной Европеb современный философ Игорь Бобков следует за Абдираловичем. Для него Восточная Европа – это «памiж Заходняй Эўропай i Расеяй. Памiж камунiзмам i вольным сьветам. Памiж чыста лацiнскiм i чыста бiзантыйскiм уплывам. Гэтае “памiж” само драбiцца й дзелiцца да бясконцасьцi, ажно пакуль не зьнiкае ва ўласнай аўтахтоннай прывiднасьцi»62. Такое «памiж» является ответом на периферизацию Восточной Европы в Новое время, на восточноевропейское «застревание» между западноевропейской нормализацией и западноевропейской же установкой на уникальность и аутентичность. Самоопределение Восточной Европы как периферии Западной Европы приводит, далее, к тому, что Восточная Европа оказывается другой, иной Европой, «што засталася ў ценю заходнеэўрапейскае мадэрнасьцi, непрысутная ў агульнаэўрапейскiм культурным наратыве». Это «Эўропа страчаных магчымасьцяў, забытых спадчынаў, неактуалiзаваных пасланьняў». Интересно при этом, что уже цитируемый публицист А. Дынько приводит другую версию «Беларуси как другой Европы», которую связывает с тем, что «недакончаная, палавіністая мадэрнізацыя ішла ў Беларусь з Эўропы, але праз Расею. Амаль адначасова з пабудовай чыгунак было скасавана заходняе права (Літоўскі статут), заходняя царква (уніяцтва); беларуская ды польская мовы і культуры пазбаўлены правоў. Гэта тады Беларусь на паўтара стагодзьдзя стала “іншай Эўропай” (курсив мой. – О. Ш.)». Центральное значение в формирование Беларуси как «другой Европы» имеет в этой версии особая форма – «из Европы через Россию» – неполной модернизации (Дарендорф) белорусского пространства в XIX в. И тем не менее, возвращаясь к Бобкову, современность ставит под вопрос отношение центра и периферии и определение одного через другое. Одним из важнейших следствий исчезновения жёсткого противопоставления центра и периферии является возникновение в Восточной Европе поликультурного общества как такого, в котором «сацыяльныя, этнiчныя, моўныя й культурныя межы b Если быть совсем уж точными, то И. Бобков использует здесь понятие Центральной Европы. Но поскольку он имеет в виду образование Центральной и Восточной Европы, мы осмелились быть верными своей терминологии и использовать – как и ранее – понятие «Восточная Европа». 35 Ольга Шпарага не супадаюць, i ў якiм культурная саматоеснасьць апэлюе адначасна да некалькiх моўных i культурных традыцыяў». Однако ещё до «падения центра и периферии» Восточная Европа, согласно Бобкову, выработала собственную стратегию работы с социальным пространством, или его гомогенизации, – стратегию национального возрождения. Национальное возрождение при этом проходит целый ряд стадий – от стадии становления с помощью дескрипции субъектом истории и этнографии через стадию «воображаемого сообщества», разворачивающегося с помощью поэтической фиксации «души нации», мифа общего происхождения, мифа будущего и идеи «своего государства», к стадии «реального» сообщества, на которой «адбываецца распад “агульнанацыянальнага” дыскурсу на шматлiкiя нацыялекты, зарыентаваныя на грамадзянскую супольнасьць». Однако поскольку предложенная схема современного нацио- и культурогенеза Восточной Европы является идеальной, в чистом виде она встречается чрезвычайно редко. Реализации данной схемы в Беларуси препятствуют, согласно Бобкову, прежде всего колониальные стратегии и дискурсы. Их возникновение связано с определённой динамикой, с одной стороны, превращения на исходе Средневековья многонациональных империй Западной Европы в централизованные государства, а с другой – сохранения имперских отношений в Восточной Европе вплоть до XX в. В Новое время в рамках этих имперских отношений начались процессы формирования наций, своеобразие которых состояло в том, что они опирались «не на самаабмежаваньне i самавызначэньне ў межах уласнай этнакультурнай супольнасьцi, а на фармаваньне адмысловых стратэгiяў калянiзацыi, на прывязку сваей культурнае саматоеснасьцi да iдэi iмпэрскае культурнацывiлізацыйнае мiсii»63. Вывод, к которому приходит И. Бобков, таков: «Такiм чынам, культурныя працэсы ў межах iмпэрыяў мелi амбiвалентны характар: адна й тая ж прастора выступала i як прастора протанацыянальная, i як прастора полiкультурная, прастора сваеасаблiвай мэтатрадыцыi», что позволяет выделить в качестве базовой характеристики культурной ситуации этого региона культурную полигласию. Важнейшим коррелятивным понятием культурной полигласии является понятие культурного пограничья, о котором И. Бобков пишет в другом месте: «Пограничье лежит по обе стороны от границы, и его топологический статус парадоксален: пограничье приобретает определённую целостность через факт собственной разделённости, т. е. через динамическое событие разграничения, встречи и перехода Своего и Чужого, или Единого и Иного»64. Случай Беларуси, прочитанный через метафору пограничья, – это случай, а вернее, событие «меж-и-через-культурного стяжения», которое не позволяет давать окончательное определение или даже обозначение ни одному феномену или культур- 36 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога ному герою, оказывающемуся своим чужаком (Мицкевич) или чужим своим (Лукашенко).65 Отталкиваясь от понятия пограничья, другой белорусский автор О. Бреский размышляет о конституировании Восточной Европы, включающей и Беларусь. Сложности такого конституирования налицо: утвердившись, наконец, после распада СССР как национальные государства, страны Восточной Европы, и в частности Польша и Беларусь, не могут вместить нарратив о самих себе в границы собственных государств. Беларусь «бледнеет и тускнеет без Польши, вернее, без Речи Посполитой, потому что вся белорусская элита на протяжении столетий – вплоть до Первой мировой войны была частью польской элиты. … Впрочем, и Польша тускнеет и мельчает без своих восточных соседей. Вильно, Гродно, Львов, Киев – неотъемлемы от истории Речи Посполитой»66. Польский эссеист К. Чижевский, как кажется, именно в связи с обозначенной Бреским ситуацией вводит понятие Европы регионов. Европа регионов, согласно этому автору, – «гэта куля, цэнтар якой паўсюль, а межы нiдзе»67, или «Эўропа, якая засную цэнтры на перыферыях i асяродак якой будзе паўсюль»68. Это ситуация возникновения аутентичных центров, которые находятся вблизи человека и способны дать ему наилучшую возможность для самовыражения. Формирование Европы регионов, далее, рассматривается Чижевским как желаемая модель для Евросоюза, способная обеспечить равновесие сил его участников. Именно Европа регионов способна предостеречь от унификации того своеобразия и разнородности, которое даёт о себе знать в результате смещения или устранения границ. Тем самым формируется введённое нами в первых частях текста «единство в многообразии» («единство в разнородности», в версии Чижевского), которое способно помочь нам одолеть страхи перед открытостью и перемещением – как фундаментальными конститутивами «идеи Европы». Согласно Шпэту, описанная ситуация является ответом на современную нехватку времени для превращения разнообразия в осознанное единство, что и превращает многообразную всеобщность Европы в многообразную региональность.69 Говоря о стирании и устранении границ национальных государств в рамках Европы регионов, Чижевский в то же самое время говорит о сохранении границ, понятых как пограничье. Регионы и должны пониматься как регионы пограничья, или постоянного взаимодействия с соседями, противоположного самоизоляции. В ситуации пограничья, словами Чижевского, границы направлены вовнутрь, а не вовне близкого нам пространства. «Iснаваньне жывога цэнтру аслабляе адно тыя межы, як�������������������������������������������������� i������������������������������������������������� я ����������������������������������������������� i���������������������������������������������� дуць навонк����������������������������������� i���������������������������������� , як������������������������������ i����������������������������� я ��������������������������� i�������������������������� залююць ������������������ i����������������� замыкаюць, натуральным чынам узмацняючы iснаваньне межаў, што iдуць унутро i вызначаюць характар рэгiёну».70 Именно такого рода динамика границ способна обеспечить 37 Ольга Шпарага формирование сообщества, которое сочетало бы множество своеобразий, каждый раз заново устанавливая между ними «нелёгкое равновесие». Обобщить написанное в данном тексте можно следующим образом. Первое, что следует зафиксировать применительно к характеристике белорусской ситуации, рассмотренной в контексте европейского самоопределения, – это её чрезвычайная сложность, или комплексность. Попытаемся для начала перечислить некоторые важнейшие составляющие белорусского самоопределения, которые обнаруживаются в приведённых концепциях: – неотчётливая культура как культура ни Запада и ни Востока; – наличие в этой культуре одновременно центростремительных – собранных вокруг национального Возрождения – и центробежных – связанных с трагическим опытом периферизации и метанием между Востоком и Западом – тенденций; – каждая из этих тенденций, в свою очередь, может быть представлена через раскол, поскольку разворачивается одновременно в своих стадиях, например, как их описывает Бобков, и в современной, венчающей эти стадии форме, которая практически всеми авторами в идеале обозначается как подвижное сосуществование множества гражданских сообществ или как индивидуальное и коллективное гражданское творчество (конечно же, в рамках суверенного белорусского государства). Эти тенденции можно представить через столкновение двух течений, или разворачиваний, времени: последовательного в первом случае и одновременного во втором, – которые ввиду непринятия во внимания образуют препятствия или реальные преграды друг для друга. В итоге, конфликт «чужого своего» (в частности, европейского прошлого) и «своего чужого» (в частности, советского настоящего) и становится выражением наложения этих составляющих друг на друга. Какое же место занимает в этой комплексной картине «идея Европы», не менее сложное – исторически и с позиции современности – образование? Позволяют ли приведённые размышления белорусских авторов увидеть своё «хрупкое равновесие» ретроспективы и перспективы, которое есть также равновесие свободы и сообщества, критики и самокритики, выбора и солидарности? Если следовать моим собственным размышлениям, то поиск ответа на этот вопрос окажется возможным только в том случае, если сам вопрос будет иметь и обратную формулировку. Следующую формулировку: существует ли в настоящий момент другой, нежели европейский, способ поиска своего «хрупкого равновесия» ретроспективы с перспективой, свободы с сообществом, критики с самокритикой, выбора с солидарностью, способствующий осуществлению 38 В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога одновременно себя и другого и превращающий европейцев в жителей ненасильственно расширяющегося пограничья? Поиски ответа на этот двояким образом развёрнутый вопрос, в моей версии, и будет означать поиск самого себя на пограничье Европы. В таком случае быть белорусом может означать непрерывно исследовать – понимать и истолковывать – своё пограничное существование с целью установления «хрупкого равновесия» культурного, политического, социального нарратива с нарративами соседей. При этом соседи также должны быть вовлечены в подобное исследование, совместное участие в котором, не отменяющее ни своей уникальности, ни важности общего дела, и можно в итоге обозначить Европой. Стоит, однако, помнить, что исследование это будет, скорее всего, чрезвычайно сложным и далеко неоднозначным для нас, о чём ещё 100 лет назад писал И. Абдиралович. Оно потребует всех наших – самых разных, но прежде всего интеллектуальных, сил, – поскольку, теперь уже словами А. Дынько, «беларуская нацыя ў сваім разьвіцьці адставала ад цэнтральнаэўрапейскіх, уліцьцё яе ў складаны эўрапейскі мэханізм ня будзе бязбольным і запатрабуе выпрацоўкі асаблівых мэханізмаў абароны культурнае ідэнтычнасьці. Дыпляматыя, цярплівыя перамовы, структурная перабудова эканомікі, будзённая праца інтэлектуалаў па стварэньні эўрапейскае ідэнтычнасьці беларусаў – усё гэта ня так проста ажыцьцяўляць, улічваючы паўтара стагодзьдзя разьдзеленасьці». Примечания 1 2 3 4 5 6 7 Дарендорф Р. Современный социальный конфликт: очерк политики свободы. М., 2002. С. 228. Ср.: Нойман И. Использование «Другого»: образы Востока и формирование европейских идентичностей. М., 2004. С. 194. Ср.: Кертес И. Воспрянет ли? // Венгры и Европа. Сборник эссе. М., 2002. С. 488. Ср.: Дарендорф Р. Указ. соч.; см. тж: Деррида Ж., Хабермас Ю. Наше обновление после войны: второе рождение Европы // Отечественные записки. 2003. № 6: (электронный ресурс) http://magazines.russ.ru/oz/2003/6/2004_1_23.html. Монне Жан (1888–1979) – в 31 год назначается Генеральным секретарем созданной в 1919 Лиги Наций, остается на этом посту до 1923; инициатор создания Европейского объединения угля и стали и его первый президент (с 1952); основатель Действительного комитета Соединённых Штатов Европы (1955) – движущей силы первых этапов евроинтеграции. Монне Ж. Реальность и политика. Мемуары. М., 2001. С. 271. Шпэт Л. 1992. Мечта о Европе. М., 1993. С. 24–25. Шпэт Лотар (р. 1937) – премьер-министр земли Баден-Вюртенберг (1978–1991), видный представитель либерального неоконсерватизма в ФРГ. 39 Ольга Шпарага 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 40 Монне Ж. Указ. соч. С. 326. Там же. С. 335. Шпэт Л. Указ. соч. С. 24. Черчилль Уинстон Леонард Спенсер (1874–1965) – британский государственный деятель и литератор; на протяжении 1940–1945, 1951–1955 – премьерминистр Великобритании; в 1946 ввёл в обиход термин «железный занавес». Шуман Робер Жан-Батист Николя (1886–1963) – премьер-министр Франции с ноября 1947 по июль 1948 и в августе–сентябре 1948; 1958–1960 – председатель консультативной ассамблеи Совета Европы, наряду с Монне инициатор создания Европейского объединения угля и стали. Аденауэр Конрад (1876–1967) – немецкий государственный деятель, один из основателей Христианско-демократического союза (ХДС), избирался канцлером ФРГ в 1949, 1953, 1957 и 1961. Спаак Поль-Анри (1899–1972) – премьер-министр Бельгии с мая 1938 по февраль 1939, неоднократно был министром иностранных дел, 16 января 1946 избирается первым председателем Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций и занимает эту должность в течение одной сессии; в 1957–1961 пребывал на посту генерального секретаря НАТО. Де Гаспери, Альчиде (1881–1954) – с 1945 неоднократно занимал пост премьер-министра Италии, основатель итальянской партии «Христианская демократия», активно сотрудничал с Р. Шуманом и К. Аденауэром. Шпэт Л. Указ. соч. С. 24. Там же. С. 27. Там же. С. 49. Ср. мои собственные размышления по этому поводу: Шпарага О. Магическая игра четвёрок, или О течении времени в Беларуси: (электронный ресурс) http://www.nmn.by/issues/pub/291104/time_Belarus.html. Кертес И. Указ. соч. С. 477. Кундера М. Трагедия Центральной Европы (фрагменты): (электронный ресурс) http://magazines.russ.ru/ural/2001/5/kun.html. Нойман И. Указ. соч. С. 192. Нойман И. Указ. соч. С. 194. Фюлеп Л. Национальная самодостаточность // Венгры и Европа… С. 49. Бибо И. О бедствиях и убожествах малых восточноевропейских наций (главы из книги) // Венгры и Европа… С. 245. Ср.: Кундера М. Указ. соч.; Кертес И. Указ. соч. Андрухович Ю. …Но странною любовью // Неприкосновенный запас. 4/30 (2003): (электронный ресурс) http://magazines.russ.ru/nz/2003/4/andr.html. Ср.: Бродский И.; цит. по: Нойман И. Указ. соч. С. 203–204 (примечание); Фюлеп Л. Указ. соч. С. 48. Об обсуждении этого понятия см.: Нойман И. Указ. соч. С. 203–207. Кертес И. Указ. соч. С. 484. Бибо И. Указ. соч. С. 246; тж: Кундера М. Указ. соч. Бибо И. Указ. соч. С. 249–250. В поисках Европы, или «Идея Европы» в пространстве диалога Мараи Ш. Земля! Земля!.. (Из книги воспоминаний) // Венгры и Европа… С. 326. 30 Там же. С. 328. 31 Здесь напрашивается параллель с американской установкой «помогать тем, кто хочет сам себе помочь», о которой речь шла в этой статье выше. 32 Паточка Я. Еретические эссе к философии истории. В этом сборнике см.: Паточка Я. Войны XX-го века и XX-й век как война. С. 276–277. 33 Кертес И. Указ. соч. С. 479. 34 Это высказывание Кертеса перекликается с размышлениями Г. Грасса о подаренной свободе Восточной Германии (ср.: Грасс Г. Подаренная свобода: (электронный ресурс) http://www.belintellectuals.eu/library/book.php?id=126). Здесь имеется в виду то, что, с одной стороны, проект демократизации стран Восточной и Центральной Европы был интеллектуальным проектом «сверху», т. е. «подаренным» более широким слоям населения, но не отвоеванным ими, с другой – что этот проект стал возможен в результате распада СССР, к которому жители соцлагеря оказались не готовы. 35 Кертес И. Указ. соч. С. 489. 36 Дарендорф Р. Указ. соч. С. 236. 37 Ср. мою статью на эту тему: Шпарага О. Выборы в контексте культуры прав человека: случай Беларуси: (электронный ресурс) http://belintellectuals.eu/ discussions/?id=146 и http://belintellectuals.eu/discussions/?id=154. 38 Ср.: Шпэт Л. Указ. соч. С. 165–166. 39 Ср.: Деррида Ж., Хабермас Ю. Указ. соч.; см. тж: Weidenfeld W. Europa – aber wo liegt es? In: Europa-Handbuch – Politisches System und Politikbereiche. Verlag BertelsmannStiftung, 2004. S. 20. 40 Ср.: Patocka J. Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte. In: Patocka J. Ausgewaehlte Schriften. Stuttgart: Klett-Cotta, 1998. S. 66 ff. 41 См.: Шпэт Л. Указ. соч. С. 165. 42 Ср.: Weidenfeld W. Op. cit. S. 20 ff. 43 Patocka J. Op. cit. S. 66. 44 Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. С. 68. 45 Там же. С. 68–69. 46 Там же. С. 71. 47 Ср.: Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. Мн., 2004. С. 62. 48 Waldenfels B. Topographie des Fremden. Studien zur Phaenomenologie des Fremden 1. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997. S. 83. 49 Ibid. S. 21. 50 Ср.: Дарендорф Р. Указ. соч. С. 110 и далее. 51 См.: Берлин И. Европейское единство и превратности его судьбы // Неприкосновенный запас. 1/21 (2002); http://magazines.russ.ru/nz/2002/21/ber.html. 52 Ср. размышления на этот счёт Миненкова Г. Я. в статье Концепт идентичности: перспективы определения (часть II): (электронный ресурс) http://www. belintellectuals.eu/discussions/?id=74. 29 41 Ольга Шпарага 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 42 Берлин И. Поиски идеала // Берлин И. Подлинная цель познания. Избранные эссе. М., 2002. С. 23. Берлин И. Европейское единство и превратности его судьбы… Берлин И. Поиски идеала… С. 18. Подробно о кажущемся на первый взгляд противоречивым сочетании плюрализма ценностей с минимумом конечных абсолютных ценностей см., к примеру: Паньковский А. Объективность оценки. Введение в агональную деконструкцию И. Берлина // Топос. 1/8 (2004). С. 96–109. Шпэт Л. Указ. соч. С. 167. Берлин И. Поиски идеала… С. 14. Рорти Р. Случайность, ирония, солидарность. М., 1996. С. 20–21. Здесь и далее цит. по: Абдзiраловiч I. Адвечным шляхам. Дасьледзіны беларускага сьветагляду. Менск: Навука і тэхніка, 1993: (электронный ресурс) http://www.lib.by/abdziralovic/slach.html. Ср.: Акудовiч В. Разбурыць Парыж (два няспраўджаных эсэ) // Фрагмэнты. 3–4 (2000). С. 119 и далее. Здесь и далее цит. по: Дынько А. Чаму мы прагнем у Эўропу? // ARCHE. 2/31 (2004), (электронный ресурс) http://arche.home.by/2004-2/dynko204.htm. Здесь и далее цит. по: Бабкоў I. Сярэдняя Эўропа – новая мадэрнасьць: (электронный ресурс) http://www.bordereurope.com/frahmenty/3babkow.htm. Ср. размышления на этот счёт Рябчука М. (украинская версия) и Абушенко В. (белорусская версия) в: Перекрестки. 1–2 (2004). С. 33–60, 124–156. Бобков И. Этика пограничья: транскультурность как белорусский опыт // Перекрестки. 3–4/2005. С. 128. Ср. также с моими размышлениями о пограничной белорусской идентичности: Шпарага О. Поиск идентичности в контексте пограничья: белорусская версия // В сб.: Перемещение границ – изменение идентичности (материалы конференции). Вильнюс–Брест–Львов, 2005. С. 77–80. Ср. с размышлением об отношении своего и чужого у Абдираловича, о котором я писала выше. Бреский О. География Восточной Европы: пространство пограничья // Перекрестки. 1–2 (2005). С. 177–178. Чыжэўскi К. Ад межаў да самога цэнтру, або Эўрапейцы ў пошуку тоеснасьцi // В кн.: Быць (або ня быць) сярэднеэўрапейцам. Сучаснае польскае мысьленьне. Мн., 2000. С. 410. Там же. С. 411. Шпэт Л. Указ. соч. С. 168. Там же. С. 411. Владимир Фурс Белорусский проект «современности»? Задаваясь вопросом о европейской перспективе для нашей страны, резонно, на наш взгляд, подразумевать под «Европой» не столько нечто наличное – историко-географическую данность, – сколько некоторый проект – «идею», обладающую определённым нормативным содержанием. А именно: тот образец «современности», который исходно был изобретён в Европе, а в настоящее время – с той или иной степенью полноты и в многочисленных видоизменениях – распространился по всему миру. С оглядкой на европейский исторический прообраз можно выделить три конститутивные черты «современности».1 Во-первых, это специфическая темпоральность: такая организация опыта времени, при которой исключительным достоинством наделяется момент настоящего, понимаемый как продолжающееся обновление, как воспроизводящийся разрыв с прошлым и открытость неопределённому и непредопределённому будущему. Ретроспективное обращение взгляда в прошлое открывает его как «предысторию», генетически связанную с настоящим. Тем самым мимолетное настоящее обретает значительность и глубину: как опорная точка для связывания прошлого и будущего в единстве исторического времени. Во-вторых, основным наполнением этого опыта времени являются процессы общественной и культурной модернизации, включающие не только урбанизацию, индустриализацию, коммодификацию рабочей силы, бюрократизацию государственной власти, но также рационализацию социальных практик, рефлексивизацию воспроизводства культуры и индивидуализацию человеческого самопонимания. Представляя собой прогрессивное преобразование общества и культуры, модер43 Владимир Фурс низация всё же не является однозначно «благостным» процессом, а порождает и собственные социальные патологии: отчуждение, смысловую пустоту, аномию. В-третьих, несмотря на неустранимую «амбивалентность» фактического развёртывания, «современность» характеризуется перевесом ожиданий лучшего, спроецированных в будущее. Эти ожидания утопичны в том смысле, что никогда буквально не реализуются, но всё же они не беспочвенны: в них артикулируется толща возможного, скрытая натурализацией наличного общественного порядка. «Современность» представляет собой сплетение фактического исторического опыта и утопических предвосхищений, способных ориентировать действие. Принимается, что непредопределённое будущее открыто формирующему воздействию посредством целенаправленных коллективных усилий. Утопические ожидания фокусируются в идеале автономии: надлежащие формы жизни должны разумно устанавливаться самими действующими субъектами. Конечно же, сегодняшнее восприятие идеи «современности» критически опосредовано, и, в первую очередь, речь идёт об освобождении этой идеи от рационалистических и универсалистских иллюзий Просвещения. Первые предполагали отождествление рефлексивности, отличающей модерный тип социальной жизни, с ростом рационального контроля над ней. Но рефлексивность на деле означает лишь то, что социальные практики постоянно критически оцениваются и трансформируются в свете нового знания. При этом рефлексивность релятивизирует и само знание – как принципиально погрешимое и открытое для пересмотра. Безостановочный рефлексивный пересмотр наличных практик задаёт высокий темп социальных изменений с непредсказуемыми последствиями, поэтому усиление рефлексивности социальной жизни никак не ведёт к росту её подконтрольности, скорее наоборот.2 Вторая – универсалистская – иллюзия состояла в наделении конкретноисторического (западно-европейского) прообраза «современности» всеобщей значимостью. В размежевании с этой иллюзией в настоящее время получила развитие и обрела признание концепция «множества (многообразия) современностей» (multiple modernities), недвусмысленно направленная против отождествления «осовременивания» и вестернизации: здесь принимается, что западные варианты «современности» не являются единственно верными её образцами, хотя они и обладают историческим первенством и остаются базовой точкой соотнесения для остальных. Ядро идеи «многообразных современностей», указывает Ш. Айзенштадт, заключается в признании наличия локально своеобразных вариантов «современности», сформированных различными культурными традициями и социополитическими условиями.3 Важно также учитывать, что оформление той или иной локально специфичной «современности» в прошлом опосредовалось колониализмом и империализмом, а ныне опосредует������� c������ я мощ44 Белорусский проект «современности»? ным воздействием глобальных медиа, массовых миграций и транснационального капитала.4 В рамках данной концепции та или иная специфическая «современность» интерпретируется (с опорой на понятийный аппарат, предложенный К. Касториадисом) как особое социальное воображаемое в единстве с питаемыми им институциональными формами. «Современность» как цивилизационный образец первоначально откристаллизовалась в Западной Европе и затем, как волна влияния, постепенно распространилась по миру в виде неустранимого многообразия культурно-институциональных образцов «современности». Что ж, плюралистическая трактовка «современности» представляется стратегическим прорывом, и вместе с тем её «культуралистская» версия, явно преобладающая сегодня, вызывает серьёзные возражения. Присмотримся внимательнее: сторонники этой версии подчёркивают, что в ситуации после 9/11, в условиях очевидного противостояния западной (светской, капиталистической и т. п.) «современности» и антимодернистских («фундаменталистских») движений, именно продвижение культурно плюралистического понятия «современности» может снизить опасное напряжение. Оно, дескать, позволяет сочетать притязание на (культурную) особенность с признанием общих (цивилизационных) обязательств. «Многообразные современности», таким образом, предлагаются в качестве базовой системы координат нового морального универсализма, выгодно отличающегося от формально-рационалистического универсализма Просвещения: «В качестве идеальной альтернативы мир многообразных современностей разделял бы нормативные стандарты, в которые могли бы вносить свой вклад различные культурные опыты. Это был бы не мир изолированных цивилизаций или наций-государств, а открытая система, в которой различные способы быть современным находили бы совпадения, позволяющие креативно взаимодействовать и понимать самих себя как часть более масштабного целого»5. Подобные упования очевидно беспочвенны: ведь принадлежность к общей «модерной кондиции» не препятствовала уничтожительным войнам в Европе. И «культуралистская» трактовка «множественных современностей» заслуживает критики не только за свой прекраснодушный идеализм, но и за то, что преодоление универсализации западного опыта «современности» здесь было скорее провозглашено, нежели последовательно осуществлено: за культурными различиями множества «современностей» усматривается цивилизационное единообразие «программы современности» как таковой, позитивное содержание которой неизбежно пишется по западному образцу. В этой связи можно говорить о невольной идеологичности «культуралистской» версии концепции «множества современностей» по аналогии с тем, как проповедь мультикультурализма обо45 Владимир Фурс рачивается завуалированным признанием универсальной значимости и непререкаемости либеральных экономических и политических принципов. Нам представляется, что одну из возможностей для освобождения идеи «множества современностей» от латентного западничества открывает более корректное восприятие понятийного инструментария Касториадиса: в концепции последнего «культуре» соответствует не «социальное воображаемое», а «символическое». Ближайшим образом мы сталкиваемся с символическим в виде языка, но в более широком смысле, полагает Касториадис, каждое общественное установление (и общество в целом как тотальный институт) представляет собой символическую сеть – систему, состоящую в отнесении символов (означающих) к означаемым (представлениям, порядкам, повелениям или побуждениям что-либо делать или не делать, результатам действия) и в наделении этих отношений значимостью, так что они становятся обязательными для той или иной группы. Подобная трактовка ещё представляет собой более-менее свободный пересказ идей Леви-Стросса. Оригинальность собственной позиции Касториадиса состоит как раз в дополнении символического социальным воображаемым. Неправомерно рассматривать значение лишь как результат различий между знаками; действительно, институты существуют только в символических системах и через них, но сами символические системы образуются и трансформируются историей. Поэтому вопросом первостепенной значимости является вопрос об историческом производстве символических систем, отсылающий к социальному воображаемому как к тому элементу, который «является творением определённого исторического периода, его уникальной манерой жить, видеть, проводить собственное существование, иметь собственный мир и строить свои отношения с этим миром, первичный структурирующий компонент…»6. Воображаемое и символическое предполагают друг друга: воображаемое составляет природу социально-символических систем, а символическое наделяет воображаемое плотью общественного существования. И как бы ни относиться к попытке Касториадиса укоренить воображаемое в спекулятивной онтологии «магмы», следует констатировать, что идея «социального воображаемого» (опорная для концепции «множества современностей») выводит за пределы «культуры» и отсылает к креативному («устанавливающему») слагаемому «общественно-исторического». В контексте наших разысканий принципиальное значение имеет то обстоятельство, что идея автономии определяется Касториадисом именно через рефлексивную актуализацию этого воображаемого измерения посредством «политики». О «политике» в собственном смысле слова, полагает он, можно говорить лишь тогда, когда: 1) наличный институт общества радикально ставится под вопрос, 2) благодаря этому эксплицируется (всегда лишь частично) креативное измерение «общественно46 Белорусский проект «современности»? исторического» и его взаимодействие с наличными институтами, 3) в рефлексивно прозрачной коллективной деятельности осуществляется переустановление общества. Достигнув этого пункта, мы рискнём перейти от почтительного воспроизведения тезисов Касториадиса к радикальной переинтерпретации (по существу, «перевёртыванию») его теоретической позиции. Поясним: идея воображаемого как источника, наполняющего значениями социально-символические сети институтов и тем самым порождающего своеобразный мир того или иного общества, действительно, открывает перспективу теоретического осмысления нередуцируемого многообразия обществ и совершенно оправданно задействуется в рамках концепции «множества современностей». Но при этом в позиции Касториадиса присутствует явный диссонанс между эмпирической продуктивностью идеи многообразия социальных воображаемых и крайне ограниченным использованием этой идеи: по существу, лишь для того, чтобы обосновать замену детерминистской социальной онтологии на индетерминистскую – метафорическую онтологию «магмы», столь же «трансцендентальную», как и её предшественница. Идея множественности воображаемых остаётся у Касториадиаса абстрактной и пустой, потому что работает лишь как аксиоматический отправной пункт для введения «онтологии творения», но от последней уже невозможно перейти к изучению действительного социального многообразия в конкретных обстоятельствах географического пространства и исторического времени.7 Но если именно «онтологическое наваждение» блокирует исследовательскую реализацию плодотворной идеи, то почему бы не избавиться от него, лишая концептуальную модель Касториадиса фундаментализма и заодно инвертируя логическую последовательность её развертывания? У него эта последовательность такова: 1) магма; 2) социальное воображаемое (креативный, «устанавливающий» элемент общества); 3) автономия (рефлексивное присвоение в «политике» анонимной креативности, устанавливающей общественные формы); 4) гетерономия – отчужденное состояние общества: такое сокрытие креативности за установленной формой общества, при котором человеческие коллективы не узнают в «воображённых» институтах свои собственные продукты и практически соотносятся с ними как с квазиприродной реальностью. Если мы отказываемся от онтологического «фундирования» социального воображаемого в «магме», помня при этом о неприемлемости его сведения к культуре, то приходим к выводу о том, что социальное воображаемое фундируется «политикой» – исторически и географически конкретным переустановлением общества. Подобное переустановление, во-первых, никогда не является полным и всеобъемлющим: его масштаб и границы определяются опознанием некоторых черт и слагаемых наличной формы жизни как составляющих обще47 Владимир Фурс ственную «гетерономию». Во-вторых, оно является рефлексивным в том смысле, что направляется нормативной идеей автономии. Отсюда следует вывод, важный для целей нашего разыскания: идея автономии, являющаяся ключевой характеристикой «современности», не имеет универсального содержания и сама по себе формальна (хотя различные наполнения этой идеи вполне могут обладать «семейным сходством»). Нормативный горизонт «политики» (проекта автономии) определяется от обратного – в зависимости от того, что опознаётся как гетерономия в конкретных обстоятельствах. Предложенная трактовка, по нашему мнению, позволяет более последовательно проводить идею принципиального многообразия «современностей». Весь этот отчасти спекулятивный экскурс в теорию социального воображаемого, выводящий за узкие рамки культурализма, не самодостаточен: он позволяет переформулировать вопрос о европейской перспективе для Беларуси в вопрос, в первую очередь, о содержательном наполнении формальной идеи автономии в белорусском «здесь и сейчас». Понятно, что сама эта наличная белорусская ситуация сложна и многомерна и будет определяться различными аналитиками по-разному в зависимости, в частности, от их дисциплинарной принадлежности и концептуальных предпочтений. В нашей собственной исследовательской оптике белорусское «здесь и сейчас» – это, прежде всего, специфический опыт глобализации в постсоветском контексте. Особенность предложенной трактовки состоит в том, что белорусский государственный авторитаризм в ней первично воспринимается не во внутрисоциетальной перспективе (как порождение имманентных противоречий посткоммунистического общества), а в системе координат глобализации (как продукт местного преломления транснациональных «потоков» и реакция на проблемы, генерируемые глобализацией).8 Поэтому при определении конкретного содержания формальной идеи автономии, соответствующего нашему «здесь и сейчас», следует исходить из того, что устойчивость политического авторитаризма скоррелирована со специфической закрытостью («регрессивной инкапсуляцией») белорусского социального ландшафта в глобальной системе координат. Правда, используя для диагностических и аналитических целей дискурс глобализации, следует быть осмотрительным, иначе можно скатиться к мышлению на уровне комиксов: противопоставлению самоизоляции авторитарного режима политико-правовым универсалиям «всего цивилизованного мира». Неосмотрительное использование глобализационной парадигмы может принимать и более учёную и рафинированную форму: речь идёт об опознании и анализе местных социальных патологий в перспективе космополитического сознания, ассоциируемого с реалиями глобального мира. Подобная ассоциация является спорной: наш тезис состоит в том, что космо48 Белорусский проект «современности»? политическая точка зрения неадекватна системе координат глобализации и не может служить опорой для определения местных проектов автономии. Для обоснования данного тезиса следует провести некоторые аналитические разграничения: ведь к идее космополитизма сегодня апеллируют в различных контекстах и теоретических перспективах, и если, с одной стороны, различные «космополитизмы», перекрываясь, усиливают общую влиятельность идеи, то, с другой – употребление одного термина в различных значениях чревато путаницей. Для того чтобы её избежать в нашем разыскании и при этом обобщенно аргументировать тезис о неадекватности космополитической точки зрения системе координат глобализации, мы используем типологию, предложенную Крэйгом Калхуном9. Первая версия космополитизма, выделяемая им, – этическая. Образцово представленная Мартой Нуссбаум, она генетически возводится к философии стоицизма и определяется на основе этических обязательств индивида по отношению к человечеству в целом. В этой (пожалуй, наиболее радикальной) версии космополитизма статус отдельного человека как гражданина мира считается наиболее фундаментальным и обладающим моральным первенством перед любыми локальными обязательствами: последние хороши, только если служат универсальному благу, и терпимы в той мере, в какой не вредят мировому гражданству. Космополитическая этика индивидуализирует человека, предполагает нейтрализацию патриотизма и разрыв с комфортным мирком локальных истин. Вторая – политическая – версия является более умеренной, её образцовым представителем может служить Дэвид Хелд с концепцией «космополитической демократии». Аспект Хелда – не этические обязательства, а политические права, он озабочен разработкой не универсалистской этики, а современной версии теории демократии. Хелд исходит из того положения, что люди, объединённые системой социальных отношений, обладают правом коллективного контроля над ней. Отмечая множественность и перекрывающийся характер различных лояльностей, он подчёркивает, что демократическая политика должна иметь место в политических сообществах любого уровня: не только в локальных, но также в широкомасштабных региональных и глобальных сетях. Не утверждая, что люди с необходимостью всегда ставят универсальное выше локального и частичного, Хелд тем не менее убеждён, что именно космополитическая точка зрения на демократию адекватна современным реалиям глобализации. Третью версию можно назвать социально-психологической, потому что она связана с опытом странника, который комфортно чувствует себя в чуждых ему культурных окружениях. Образцом здесь может служить турист – любопытствующий потребитель местных достопримечательностей, экзотических блюд, 49 Владимир Фурс разнородного духовного опыта. Присущая ему открытость культурным различиям скоррелирована с силой его личности, способной потребить всё это многообразие. И четвертый тип космополитизма порождается сосуществованием и взаимным переплетением, гибридизацией множества культурных традиций. В отличие от третьего типа с его акцентом на наблюдении и потреблении, четвёртый характеризуется жизненной включённостью и творческим участием, герой этого космополитизма – не фланёр, а креативный бриколёр, одновременно задействующий несколько традиций. Здесь принимается, что культурная продуктивность превосходит рамки любой частной традиции; при этом космополитическое не противопоставляется местному: они взаимно конституируют друг друга. Несмотря на разнородность выделенных типов космополитизма, всем им можно адресовать упрек в элитизме, связанном с дефицитом рефлексии на социальные условия возможности самой космополитической точки зрения. Космополитизм подаётся как преодоление партикуляризма, уходящего в прошлое с усилением глобализации, но на деле представляет собой частичную позицию, подкреплённую определёнными материальными привилегиями.10 Обладание «хорошим» паспортом и облегчённый режим получения виз, приглашения от организаторов конференций, международные кредитные карточки – все эти факторы обеспеченной мобильности внушают и поддерживают видение мира как единого целого. Космополитизм обычно подаётся как освобождение от привязки к определённому местожительству, определённому этносу или религии, но фактически является не «взглядом ниоткуда», а своеобразной формой присутствия в мире, основанной на привилегиях участия в процессах культурного производства и социальных взаимосвязях поверх территориальных границ. Актуализация космополитического сознания в контексте глобализации подпитывается некритическим отождествлением формирования транснациональных элит с освобождением человеческого существования как такового от локальных форм принадлежности. Впрочем, из выделенных четырёх типов лишь первые два, в которых термин «космополитизм» несёт нормативную нагрузку, могут задействоваться для целей диагностики и критического анализа той или иной местной формы общественной гетерономии. Этическая и политическая версии представляют собой соответственно крайнюю и умеренную версии нормативного космополитизма, причём заметно, что чем сильнее нормативная нагрузка термина, тем более выраженным является универсализм и рационализм в его понимании. Мы полагаем, что против нормативно нагруженного космополитизма можно направить ещё один критический аргумент: подобный космополитизм 50 Белорусский проект «современности»? подразумевает веру в глобализационный метанарратив, вписывающий сложную и двусмысленную динамику глобализации в упрощающую прогрессистскую схему. В рамках такой схемы глобализация предстаёт как завершающая фаза эволюционного восхождения человечества ко всё более широкомасштабным формам социальной жизни: от локальных к национальным и затем к всемирным. И даже неважно, насколько этот метанарратив включает наивные упования на глобализацию как на процесс, преодолевающий разобщённость человечества и тем самым открывающий небывалые возможности преодоления отсталости, обретения политической свободы и индивидуальной самореализации. В любом случае «мировое общество» понимается как вершина прогресса, постулирование или предвосхищение которой в метанарративе глобализации служит опорой для нормативно нагруженной точки зрения космополитического сознания. Глобализационный метанарратив поддерживает высокомерное отношение космополитизма к нации как к эволюционно уже превзойдённой, анахронической форме коллективной идентичности. В силу этого космополитическое сознание не способно адекватно оценить обретение национализмом не только нового дыхания, но и новой жизни в контексте глобализации, сводит его к фундаменталистскому эксцессу, тогда как национализм сегодня зачастую представляет собой реакцию на асимметрии глобализации, её «теневую сторону», причём реакцию не просто защитную или компенсаторную, но движимую такими позитивными ценностями, как солидарность и справедливость. Более того, наш тезис состоит в том, что в глобальной системе координат национализм вполне может служить определению локальных проектов общественной автономии и что, в частности, именно национализм представляется наиболее адекватным воплощением «идеи Европы» в сегодняшней Беларуси. Этот завершающий тезис, наверное, выглядит неожиданным (особенно как исходящий от ЕГУшного «западника», коим является автор) и даже обескураживающим: с учётом проделанных в статье теоретических упражнений результат кажется несоразмерно малым – стоило ли идти к апологии белорусского национализма таким окольным путем? Но дело в том, что ясность, сопровождающая использование слова «национализм», является мнимой. Первоначально изобретённый в Европе, «дискурс нации» распространился в мире практически повсеместно, и реалии, стоящие за тем или иным «национализмом», могут иметь между собой довольно мало общего. Даже если ограничиваться самой пунктирной исторической типологией, можно указать на такие разнородные образования, как либеральный и прогрессистский национализм второй половины XIX века; этнолингвистический и зачастую консервативный национализм малых и периферийных наций; национализм в рамках антиколониальных движений; национализм в контексте посткоммунистических трансформаций (причём по51 Владимир Фурс следний ещё и варьируется в весьма широком диапазоне: от важного фактора демократического транзита до брутального национализма этнических чисток). Поэтому наш тезис прост и бесхитростен лишь по видимости: ещё необходимо эксплицировать значение задействованного в нём термина «национализм», и такая экспликация должна определяться именно специфической постановкой вопроса, избранной в данной статье. Напомним пройденный путь прояснений: в качестве отправного пункта мы связали европейскую перспективу для Беларуси с усвоением модели «современности», восходящей к европейскому прообразу и в настоящее время представленной по всему миру нередуцируемым многообразием версий. Второй шаг, содержащий критику культуралистской трактовки идеи «множества современностей» и онтологизма в понимании социального воображаемого Касториадисом, привёл нас к тому, что социальное воображаемое, определяющее специфику той или иной версии «современности», артикулируется «политикой» – рефлексивным переустановлением общества в свете нормативной идеи автономии. Причём последняя, вообще говоря, формальна, а её содержательное наполнение осуществляется «от обратного» – в зависимости от опознания общественной гетерономии в конкретных обстоятельствах места и времени. Связав белорусское «здесь и сейчас» со специфическим опытом глобализации в постсоветском контексте, третьим шагом мы развернули критику космополитизма, аргументируя, что космополитическая точка зрения, на деле генерируемая глобализационным метанарративом, не может быть адекватным ориентиром для содержательного определения проекта автономии в нашей ситуации. И, выдвинув в качестве завершающего пункта тезис о том, что искомым ориентиром может служить идея нации, мы должны ответить, как минимум, на следующие вопросы: 1) в чём вообще состоит новый профиль национализма в системе координат глобализации; 2) в чём правомерно усматривать ключевое проявление общественной гетерономии в сегодняшней Беларуси; 3) как именно должен выглядеть национализм в роли определителя белорусского проекта «современности»? 1. Корректно понятая глобализация означает не высвобождение социальной жизни от территориальных привязок, а реорганизацию локальностей в глобальном контексте – «глобальную экономию социальных ландшафтов». Социальный ландшафт представляет собой не географическую данность, а динамическую структуру, образованную взаимодействием местного преломления транснациональных потоков (капиталов, товаров, технологий, людей, идей и образов) и местного же освоения глобально сгенерированных проблем и перспектив.11 Соответственно этому в глобальной системе координат национализм предстаёт как ландшафтная политика идентичности: в первую очередь, 52 Белорусский проект «современности»? именно глобальное позиционирование местной формы жизни побуждает людей к «воображению нации», ретроактивному переопределению исторического прошлого и конструированию ландшафтного образа будущего. Применительно к нашей ситуации это означает, что белорусский национализм, о котором мы ведём речь, определяется не опорой на этнокультурную традицию, а привязкой к фактичности независимого территориального государства и предполагает борьбу за определение подлинного смысла государственной независимости Беларуси. 2. Мы полагаем, что ключевое проявление гетерономии в нашем социальном ландшафте состоит в глубокой и многосторонней деполитизации белорусского общества. Речь идёт, во-первых, о самоограничении, «добровольнопринудительно» практикуемом населением: бремя принятия политических решение передоверяется официальным властям, существующий порядок воспринимается как естественная, непроблематизируемая рамка повседневного существования, горизонт мышления и действия ограничивается частной жизнью (бытовыми, семейными, карьерными вопросами). Во-вторых, имеется ввиду огромная реальная власть аппарата практически на всех аренах социального взаимодействия, позволяющая говорить о Беларуси как об администрируемом обществе. «Стирание политического» в социальной жизни, превращение политического процесса в инсценировку являются несущим основанием и одновременно продуктом авторитарного государства. 3. Нам представляется, что данный диагноз ключевой патологии белорусского социального ландшафта подкрепляется «практической критикой» – неделей активного гражданского протеста после недавних президентских выборов (март, 2006). Протеста, ставшего «вторжением политического» в инсценированную политику: граждане вступили в прямое противостояние с репрессивной машиной государства, отстаивая своё достоинство и право самостоятельно определять развитие своей страны. Соответственно этому национализм, способный служить адекватным воплощением белорусской версии «проекта современности», должен иметь своей центральной метафорой политическое пробуждение. Национальная мобилизация в этом случае предполагает, прежде всего, что люди вырываются из замкнутости частной жизни и выходят в публичный мир автономной гражданской активности. Хорошо известно идеально-типическое противопоставление двух моделей формирования нации – «французской» и «германской» – и опирающееся на него выделение двух ипостасей национализма – гражданско-политической и этнокультурной, – трудно соединимых между собой. Очевидно, что нами отдаётся предпочтение гражданской версии национализма; для того чтобы по воз53 Владимир Фурс можности избежать превратного понимания, сделаем три уточнения нашей позиции, ещё и проводя параллели с позициями, представленными в сегодняшнем независимом публичном дискурсе Беларуси. Во-первых, как отмечалось в начале статьи, «современность» характеризуется сплавлением эмпирического и утопического в образе будущего. Соответственно этому идея белорусской нации как автономного политического сообщества представляет собой предвосхищение, которое содержит существенный утопический компонент. Но «автономия» – это не праздная, а практически значимая утопия: она прочерчивает горизонт «политики» – рефлексивного переустановления общества, что в сегодняшних белорусских условиях означает активное «присвоение» самодеятельными гражданами государства, отчуждённого в авторитарном самодовлении. Здесь нам хотелось бы указать на интересную параллель нашего тезиса об идее нации как «рабочей утопии» с позицией, обозначенной в белорусско­ язычном публичном дискурсе. А именно, Петр Рудковский отстаивает «принцип трансценденции» национальной идеи: никто из нас её «не видел», но её существование как идеи регулятивной имеет практическое значение нашего солидарного объединения. Её своеобразный статус делает возможным возникновение временных консенсусов относительно принципиального содержания национальной идеи между различными группами приверженцев, так и открывает простор для разногласий и критического пересмотра достигнутого согласия. Более того, становится оправданной «дискриминация» таких версий национальной идеи, которые нарушают «принцип трансценденции»: претендуют на абсолютность и блокируют альтернативные версии и трактовки.12 Сам Рудковский считает правомерным применение стратегии дискриминации к «госидеологии Республики Беларусь» как официальной версии национальной идеи, но, логически рассуждая, эта стратегия должна распространяться и на «эссенциалистские» варианты белорусского этнонационализма. Во-вторых, гражданскому национализму обычно адресуется упрёк в абстрактности и «холодности»: он скорее апеллирует к рассудку, чем затрагивает «экзистенциально», и поэтому не способен побуждать к действию и генерировать социальную солидарность. Но в нашем случае гражданский национализм едва ли может определяться опорой на кодифицированную и принятую в качестве универсально значимой концепцию либеральной демократии, на «аксиоматические» политико-правовые универсалии, поскольку такая опора предполагала бы занятие космополитической точки зрения «взгляда ниоткуда». Скорее следует опираться на правосознание, стихийно (и солидарно) формирующееся внутри «политики», в частности, в протестных реакциях людей на игнорирова- 54 Белорусский проект «современности»? ние авторитарным государством их мнения и волеизъявления, на оскорбительный патернализм. В этой связи не лишним будет ещё раз подчеркнуть образцовость того «вторжения политического», которым стала неделя гражданского протеста вслед за президентскими выборами 2006 г. И нам представляется очень показательной непосредственная реакция на это событие Янова Полесского – политического аналитика, которого (пусть с оговорками) можно отнести к местным «космополитическим либералам» и который, тем не менее, заявил: «Перемены в Беларуси всё же могут состояться – если нам в относительно короткий срок удастся сформировать нацию»13. Нетрудно заметить, что имеется в виду именно «гражданская», а не «этническая» нация, так как утверждается, что нация должна быть сотворена не на основании обнаружения генома «белорусскости», и для выявления «национальной идентичности» ни к чему навязывать общий язык – нация должна быть сконструирована так, чтобы «каждый ощущал себя здесь как дома» («это когда городские площади и улицы принадлежат горожанам, а не власти», «когда всякий из нас уверен, что его знание своего дела не будут мерить критерием политической лояльности»). Мерка «гражданскости» здесь берётся не из универсальной теории, а из самопонимания и самодеятельности жителей палаточного городка на Октябрьской площади Минска, именно эта «гражданская община» интерпретируется как зародыш возможной белорусской нации, экстатическая темпоральность самоотверженного протеста – как форма «исторического творчества», «прыжка в нацию». В-третьих, речь идёт о принципиально инклюзивном национализме, объединяющем людей поверх этнических, языковых (белорусско- и русско­ язычные), культурно-образовательных, политических («левые/правые») и др. различий, – всех тех, а) для кого государственная независимость Беларуси принадлежит к числу базовых ценностей и б) кто тем или иным образом и в той или иной степени включён в «политику», ориентированную идеалом общественной автономии. Здесь мы опять можем указать на параллель с позицией Рудковского: трактовка последним национальной идеи как идеи регулятивной предполагает многообразие её версий и оформлений. Причём модификации национальной идеи могут иметь место по различным признакам: по языковому, по аксиологическому, по изображению прошлого, пониманию культуры, соотношения государства и нации и др. Версии национальной идеи могут различаться также по степени акцентирования отдельных её аспектов: для одних существенным может быть языковой аспект, для других – исторический или аксиологический и т. д. Таким образом, необходимо признавать динамику и открытый характер национального проекта.14 55 Владимир Фурс Однако инклюзивный национализм, объединяющий разнородные категории «всех тех, кто…», при всей его моральной привлекательности, на первый взгляд похож на лоскутное одеяло, что закономерно вызывает серьёзные сомнения в его дееспособности. Тем не менее, мы полагаем, что преодоление натуралистического представления о социальных субъектах позволяет мыслить инклюзивный гражданский национализм как вполне реальную возможность. Для обоснования данного тезиса можно опереться, в частности, на концептуальный инструментарий Эрнесто Лакло, разработавшего радикально «случайностную» онтологию социальной реальности. В рамках последней социальное поле предстает как подвижная, лишь отчасти стабилизированная игра различий, в которой разнородные и частичные протестные дискурсы способны пред лицом сил подавления устанавливать отношения равнозначности между собой. На почве таких эквиваленций возможно образование протестной тотальности, и данная возможность реализуется, коль скоро одна частичность становится репрезентацией всего комплекса отношений равнозначности между частичными протестными дискурсами. Репрезентация не отображает, а конституирует (конечно, не беспочвенно) тотальность, собирая воедино «всех тех, кто…». Не существуя «сама по себе» в качестве социального субъекта, допускающего объективное описание, воображаемая тотальность обладает, однако же, полновесной практической реальностью: это динамическая формация, в которой множество содержательно разнородных социальных дискурсов артикулируются вокруг случайно и прагматически образовавшегося «центра гегемонии». При этом частичный дискурс, репрезентирующий тотальность, сохраняет свою содержательную несоизмеримость с ней. Инклюзивный гражданский национализм вполне мыслим в качестве дееспособной целостности, хотя «сам по себе» он есть лишь «пустое означающее», за которым не стоит никакого монолитного социального субъекта. Вопрос о практической реальности подобного «исторического блока» (если воспользоваться терминологией Грамши–Лакло) – это вопрос о репрезентации всего комплекса равнозначностей между разнородными и частичными социальными дискурсами, выступающими против состояния общественной гетерономии в Беларуси. И такая постановка вопроса открывает перспективу парадоксального «снятия» в нашей сегодняшней ситуации хрестоматийной оппозиции гражданского и этнокультурного национализмов: в концептуальном каркасе, разработанном Лакло и использованном нами, именно белорусский этнокультурный национализм выглядит кандидатом номер один на роль «частичности, репрезентирующей тотальность», – инклюзивный белорусский национализм как воплощение идеи общественной автономии «здесь и сейчас». 56 Белорусский проект «современности»? Но это – решение лишь в теории; практическое же выстраивание подобной репрезентации выглядит очень непростой задачей. И дело не столько в сложностях образования альянсов между разнородными группами политических активистов, сколько в нехватке общего социального воображаемого, которое помогало бы самоограничению и солидаризации различных протестных дискурсов (самопониманию белорусского этнонационализма как знаменосца, а не командира общего дела, признанию русскоязычными белорусскими националистами русского монолингвизма как невольной исторической вины, пониманию космополитическими либералами особой значимости родной земли и т. п.). Именно артикуляция общего социального воображаемого – как в протестных «вторжениях политического», так и в рефлексиях «критических интеллектуалов», – позволила бы «здесь и сейчас» наполнить плотью и кровью идею инклюзивного гражданского национализма и тем самым определить специфический облик белорусского проекта «современности». Примечания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Здесь мы в значительной степени опираемся на характеристики «современности», сформулированные Ю. Хабермасом. См.: Habermas J. Die Moderne – ein unvollendetes Projekt. In: Kleine politische Schriften I–IV. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1981; Habermas J. Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, 1985; Habermas J. Die Krise des Wohlfahrtsstaates und die Erschöpfung utopischer Energien. In: Ders. Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine politische Schriften V. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1985; Habermas J. Konzeptionen der Moderne. Ein Rückblick auf zwei Traditionen. In: Ders. Die postnationale Konstellation. Politische Essays. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1998. Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge, 1990. P. 18. Eisenstadt S. Multiple Modernities. In: D. Sachsenmeier, S. Eisenstadt, J. Riedel (eds.) Reflections on Multiple Modernities. Leiden, Boston, Koeln, 2002. P. 1. Gaonkar G. P. Toward New Imaginaries // Public Culture. 2002. 14 (1). P. 4. Sachsenmeier D. Multiple Modernities – The Concept and Its Potential. In: D. Sachsenmeier, S. Eisenstadt, J. Riedel (eds.) Op. cit. P. 58. Castoriadis C. The Imaginary Institution of Society. Cambridge: Polity Press, 1987. P. 145. Ср.: Gaonkar G. P. Op. cit. P. 9. См. подробнее: Фурс В. Белорусская «реальность» в системе координат глобализации (постановка вопроса) // Топос. 2005. №1(10). С. 5–18. Calhoun C. “Belonging” in the Cosmopolitan Imaginary // Ethnicity. Vol. 3(4). 2003. P. 537–545. Данный критический аргумент мы заимствуем опять-таки у Калхуна, подробнее см.: Calhoun C. The Class Consciousness of Frequent Travelers: Toward 57 Владимир Фурс 11 12 13 14 a Critique of Actually Existing Cosmopolitanism. In: D. Archibugi (ed.) Debating Cosmopolitics. London: Verso, 2003. См. подробнее: Фурс В. Указ. соч. С. 10–12. Рудкоускi П. Сiла i слабасць двайной прапiскi // ARCHE. 2006. № 5. Полесский Я. Бремя исторического творчества: (электронный ресурс) http:// belintellectuals.com/discussions/?id=114. Рудкоускi П. Указ. соч. Европа и её другие: противоречия расширения европы Григорий Миненков Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения Введение Интерпретация перспектив конструирования белорусской идентичности в контексте взаимодействия различных практик её воображения требует определения тех возможных горизонтов, ориентируясь на которые подобное воображение происходит. На мой взгляд, одним из таких ключевых горизонтов является европейская – шире, космополитическая – идентичность. Однако подобные «широкие» идентичности не должны рассматриваться упрощённо, а именно, как некая «уже реальность», в которую нам нужно только «войти». Важно уловить те сложнейшие процессы, которые связаны с интерпретацией европейской идентичности в локальных контекстах, и, в частности, понять истоки очевидного сопротивления европеизму и космополитизму со стороны значительной части политических элит и массового сознания современной Беларуси. Иными словами, следует разобраться с вопросом о том, почему западная (европейская) модернити1 встречала и встречает сопротивление в других регионах, по крайней мере, в социокультурном плане. Речь идёт, например, о спорах вокруг вестернизации и/или американизации. Очевидно, что во многих случаях мы наблюдаем возникновение некоей искусственной, навязанной извне модернити, которой начинает сопротивляться «аутентичная» культура, хотя в действительности последняя всегда политически сконструирована местными элитами в соответствии с уровнем понимания модерного мира. Но поскольку такая культура обычно опирается на неадекватные знания, она не может предложить ничего другого, кроме искусственно культивируемых мифов, называемых воспоми- 60 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения наниями о прошлом и постулирующих непрерывность конкретной культурной идентичности. Предлагается абсурдный, ложный выбор между ассимиляцией чуждой модернити и возвращением к фальшивой аутентичности истоков, выбор, якобы навязанный Западом. Каковы возможности адекватного потребностям времени трансцендирования такого выбора? В поиске ответа на данный вопрос необходимо обратиться к тем вариантам развития – как интеллектуального, так и политического, которые обладают потенциалом дестабилизации и деконструкции подобной бинарной логики. Однако, как бы ни оценивались отмеченные процессы, они побуждают по-новому и более многосторонне, или глокально, осмысливать европейскую идентичность, саму идею Европы. Идея Европы в каждую эпоху изобреталась по-новому. Изобретается она и сегодня, и процесс этот происходит непросто, даже драматически, о чём, например, свидетельствует голосование в ряде европейских стран по Конституции Европы. Европейская идея лежит в основе интерпретации концепта европейская идентичность. Как отмечает Б. Страт, история европейской идентичности есть история концепта и дискурса. Европейская идентичность – это и абстрактное понятие, и вымысел. Со времени появления в политическом пространстве этот концепт приобрёл существенную идеологическую нагрузку и вызвал массу споров. И хотя существует широкое согласие относительно его необходимости, налицо столь же широкое несогласие по вопросу о его содержании. Концепт европейской идентичности представляет собой идею, выражающую скорее воображённое (и во многом идеологизированное) понятие единства, чем идентичность в собственном смысле слова. В этом плане он вписывается в долгую историю философского и политического обсуждения идеи Европы.2 Сегодня, например, в Беларуси, как и в других посткоммунистических странах, много говорят о «европейском единстве» и «европейской перспективе», но мало уделяют внимания самому смыслу термина Европа. При этом зачастую не учитывается, что речь должна идти не только о единстве и включении, но и об исключении и конструировании различий. В центре идеи Европы, отмечает Дж. Диленти, лежит фундаментальная двойственность, связанная с нормативными горизонтами коллективной идентичности в контексте современных политических структур и процессов. Эта двойственность очевидна в неразрешённом противоречии между двумя моделями коллективной идентичности и, соответственно, политики идентичности: между эксклюзивистским и формальным пониманием политики, с одной стороны, и пониманием, опирающимся на участие и солидарность, – с другой. Диленти полагает, что идея Европы может стать нормативным базисом коллективной идентичности только тогда, когда она будет сосредоточена на новом понимании гражданства.3 В ходе дальнейшего анализа я буду следовать данному тезису. 61 Григорий Миненков «Говорить о Европе как об “изобретении” значит подчёркивать те способы, которыми она конструировалась в историческом процессе: это значит акцентировать внимание на том, что Европа не столько субъект истории, сколько её продукт, и что то, что мы называем Европой, в действительности есть сконструированная реальность постоянно меняющихся форм и динамики».4 История Европы – это не только история объединяющих идей, но и история разделений и границ – как внутренних, так и внешних, история отождествления европейской идеи и модерна.5 Основное, что мы должны тут учесть, это проективность европейской идеи: хотя её и пытаются обычно обращать к прошлому, на самом деле это всегда проект будущего, что вполне соответствует смыслу модернити. Модернити есть конструкция будущего, и именно в этом контексте была изобретена идея Европы как модель развития человечества.6 Иными словами, Европа есть нечто большее, чем регион или политическая организация, она есть также и идея, и идентичность. Следует иметь в виду, что сложной проблемой для традиционной Европы стал современный ответ на новые подходы к идентичности со стороны культур, которые обычно рассматривались как периферийные по отношению к Европе. Гегемонистский проект простого принятия другими регионами западной модели оказался несостоятельным. Примеры тому мы видим в России, Беларуси, Турции и других странах. Европейское понимание того, что происходит, может существенно помочь развитию более креативной демократической культуры в посткоммунистических странах. Изгибы истории предлагают европейцам возможности для встречи с самими собой. Опыт показывает, что конструирование европейской идентичности необходимо рассматривать через взаимоотношение различных культурных контекстов. У каждой нации свой путь в Европе и к Европе. Идея Европы в истории трактовалась по-разному и часто склонялась к национализму. И наиболее важная задача сегодня – артикуляция новой идеи Европы, нового её образа, который способен предложить ориентацию для постнациональной европейской идентичности, стать основой новой политики культурного плюрализма. Речь должна идти о «социальной Европе» как противоположности Европе, центрированной на нации-государстве, и связи такой Европы с демократическим космополитическим гражданством как нормативной основой коллективной идентичности. Одновременно необходима глубокая деконструкция европоцентризма. При этом можно исходить из пяти исторически сформировавшихся дискурсов идеи Европы: дискурса христианства, просветительского дискурса цивилизации, дискурса культуры конца XIX – начала XX вв., дискурса холодной войны и современного конфликта между дискурсами 62 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения «крепости Европа», с одной стороны, и «социальной Европы» и «Европы граждан» – с другой. 1. «Европа» как культурный конструкт и как практика: концепт европейской идентичности Идея Европы, будучи важнейшей теоретической, политической и культурной проблемой, до сих пор исследована недостаточно. Чаще всего она репрезентируется нерефлексивно. Фундаментальная проблема заключается в вопросе о том, может ли европейская идентичность развиваться в качестве особой коллективной идентичности, способной противостоять объединённой силе национализма и расизма, не превращаясь в консюмеризм или официальную культуру анонимных институтов.7 Имея это в виду, нам необходимо поставить вопрос следующим образом: когда конкретно и каким образом возникла идея европейской идентичности? Как связан данный концепт с исторически развивавшимися образами Европы и строительством институтов европейской интеграции, начавшемся в 1950-е гг.? Спрашивая таким образом, мы исходим из того, что интенсификация европейской интеграции шла рука об руку с ростом академического и политического интереса к корням европейскости в истории, религии, науке и культуре.8 Исторически и социологически идея Европы стала политической идеей и мобилизующей метафорой в конце ХХ в., особенно в контексте антикоммунистических революций 1989–1991 гг. Во многих версиях при этом акцент делается на Европе как особой культурной целостности, объединяемой общими ценностями и идентичностью. Как правило, подчёркивается, что Европа есть наследница классической греко-римской цивилизации, христианства и идей Просвещения, науки, разума, прогресса и демократии, которые провозглашаются ключевым европейским достоянием.9 Сам же концепт европейской идентичности официально введён на Копенгагенском саммите ЕС в декабре 1973 г. в контексте обострившегося к тому времени кризиса мирового порядка. Изначально, таким образом, важно учитывать, что «Европа» есть культурная конструкция, и её нельзя рассматривать как самоочевидный объект: она столько же идея, сколько и реальность.10 Как и любая иная идентичность, «Европа» конструируется, по словам Б. Страта, на пересечении образов самой себя и образов другого.11 Какими выступают подобные образы в различных частях Европы? В какой степени «Европа» является элементом этих образов? Не следует также забывать, что «Европа» по-разному понимается не только различными нациями, но и разными группами людей внутри этих наций. Причём очень часто мы 63 Григорий Миненков имеем дело со столкновением мифов о «Европе». Достаточно напомнить, сколь разные образы Европы существуют сегодня в той же Беларуси. Подчеркнём, что специфический образ, получивший наименование европейской идентичности, сформировался как нечто целостное не ранее XVIII в. В течение этого столетия основания классической (или первой) модернити приобрели устойчивую форму. Концепт «Европа» (или «Запад») как раз и символизирует эту новую социально-политическую динамику «воображаемого института социального означивания», «исторического сознания» или «формы дискурса»: философские парадигмы могут быть разными, но рассказ остаётся тем же самым. Модернити – создание Европы – сама создала Европу, и это больше, чем парадокс. Европейская идентичность не является «естественной» – в том смысле, в каком можно говорить о греческой, римской или еврейской идентичности. Имя континенту дали греки. Жители континента идентифицировали себя в качестве христиан и очень долго – как католических (универсальных) христиан. Политически они рассматривали себя наследниками Римской империи. В XVI–XVII вв. единое (католическое) христианство распадается, начинают развиваться нации. И именно этот плюрализм или разнообразие опыта и стилей жизни стали основой позднейшей комбинации в уникальное предприятие, называемое «модернити». «Модерн» действительно выступил как единство многообразного.12 В этой связи важно преодолевать различного рода мифологические и идеологические структуры. И прежде всего нуждается в деконструкции идея неизменного европейского идеала, представление, что идея Европы всегда была связана с устремлением к ценностям свободы, демократии и автономии, идее так называемого европейского духа (Ясперс), или единства и непрерывности европейской традиции (Гуссерль, Валери, Элиот). Например, широко распространено мнение, что культурные основания Европы находятся в латинском христианстве, гуманистических ценностях и либеральной демократии. По мнению Диленти, такие представления «необоснованны или, в лучшем случае, мистифицированы», а потому если использовать идею Европы «в качестве нормативного концепта, то тогда её необходимо подвергнуть критической рефлексии. Невозможно рассматривать европейскую историю как прогрессивное воплощение великой объединяющей идеи, поскольку сами идеи есть продукт истории»13. Никакая согласованная идея не проходит через всю историю Европы, более того, эта история свидетельствует, что европейская идея есть больше продукт конфликта, чем согласия. Иными словами, идея Европы формировалась в качестве культурной системы референции для утверждения идентичностей и новых геополитических реальностей. Согласно Ч. Тейлору и А. Ферраре, европейская идентичность прежде всего характеризуется признанием множественности и различия, что вы64 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения ражается в притязаниях разнообразных сообществ на аутентичность.14 Но это только одна сторона медали. Второй же её стороной является то, что плюральность и различие рассматриваются только как предварительные условия, которые в будущем будут заменены новым единством. Европа, иными словами, всегда ставила перед собой задачу теоретического и практического конструирования единства, или, по словам С. Тулмина, строительства космополиса15. Именно эта претензия на универсальность позволяла Европе интерпретировать себя в качестве центра мира. Другими словами, одной из имплицитных целей европейской культуры выступало воспроизводство своего «центрального места», т. е. предполагаемого «превосходства» над другими культурами и цивилизациями, для чего был изобретён ряд механизмов. Вплоть до настоящего времени сложнейшим является вопрос о том, кто есть тот другой, относительно которого конструируется европейская идентичность. Именно здесь мы и выходим к концепту европоцентризма, на котором остановимся позднее. Очевидно, что в центре обозначенных выше вопросов находится отношение Европы как культурной идеи к конкретным формам строительства коллективной идентичности и её воплощения в геополитической структуре, называемой Европой. Существенно также отношение культурной идентичности к политической идентичности, т. е. тот исторический процесс, в результате которого Европа сформировалась как культурная идея и трансформировалась в политическую идентичность. Причём последняя так и не смогла перерасти в коллективную идентичность, способную стать вызовом национальным идентичностям.16 Как известно, идентичности конструируются на пересечении образов самих себя и образов другого. Как репрезентирован в этом отношении образ Европы в разных частях континента? Очевидно, что европейская идея есть одновременно элемент и национального самопонимания, и чего-то отличающегося от нации. Другой стороной проблемы является то, что национальные представления о Европе различаются не только у разных наций, но и внутри этих наций по линиям классов, гендеров и возрастных категорий.17 Согласно Диленти, следует учитывать три уровня анализа идеи Европы в её связи с идеей европейской идентичности.18 Во-первых, Европа как регулятивная идея в плане строительства идентичности, или как идея, организующая практики социального воображения. В духе Дюркгейма она может рассматриваться как коллективная или социальная регулятивная репрезентация, охватывающая гетерогенность культурных форм. Во-вторых, Европа как форма идеологического обоснования идентичности, которая может порождать патологические идентичности. Это происходит тогда, когда идентичности принимают форму господствующей идеологии, и индивид уже больше не может выбирать свою идентичность. Патологическими они становятся и тогда, когда конструируются, 65 Григорий Миненков исключая категорию инаковости. Одной из задач критической теории Европы является в таком случае демонстрация того, что за господствующей идеологией скрыты культурное и политическое разнообразие и гетерогенность социальной среды. Для этого необходимо проникнуть в процесс, в ходе которого из идей конструируются реальности, и демистифицировать власть символических имен, разорвать комплексную сеть взаимосвязей между идентичностями и отношениями власти. В-третьих, Европа как геополитическая реальность. Её особенность: ядро всегда стремилось проникнуть на периферию, чтобы утвердить систему контроля и зависимости. Именно колониализм и завоевания, а не мир и солидарность, объединили некогда Европу. Европа всегда была склонна к разделению. Каждая попытка её объединения обычно возникала после резкого разделения. Соответственно, требуется развитие теории исторических регионов Европы. При этом очевидно, что Европа не является естественной геополитической структурой, но составлена из ядра и пограничных зон, близко соотносящихся с восточной границей континента. Многое в европейском единстве сформировано именно в соотношении с данной границей и возможно только благодаря насильственной гомогенизации. Если западная граница была границей экспансии, то восточная – границей защиты, исходящей из объединяющего нарратива общего происхождения и судьбы. 2. Становление и эволюция европейской идеи: проект «Европа» Для понимания проблемы конструирования европейской идентичности необходимо остановиться на истории формирования идеи Европы.19 Начнём со следующего вывода Х. Миккели: «На различных этапах своей истории Европа отождествлялась с цивилизацией, христианством, демократией, свободой, белой кожей, зоной умеренного климата, Западом. В качестве её противоположностей соответственно назывались варварство, язычество, деспотизм, рабство, кожа иного цвета, тропическая зона, Восток»20. В этом высказывании чётко прописаны основные бинарные оппозиции, в рамках которых эволюционировали представления о Европе и европейской идентичности. Важные положения для понимания данного процесса содержатся в работе П. Берджиса, в частности: «Европейская история никогда не была просто одной из многочисленных историй. Европа никогда не была одним из многочисленных исторических объектов. Её никогда нельзя было ограничить, упорядочить, категоризировать, организовать, проанализировать, заархивировать или понять … именно как европейскую историю»21. 66 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения Следует при этом учитывать, что в процессе исторического развития особый дискурс власти приобрёл в Европе преимущество перед всеми другими дискурсами. В центре данного дискурса находится дуализм «Запад–Восток» и тем самым противоположность «мы–они». Одной из постоянных форм выражения европейской идентичности было постулирование центра, привязанного к мифу исторического происхождения, что способствовало формированию противоположных мировоззрений. Иными словами, исток европоцентризма лежит не в идее Европы самой по себе как культурной модели, но в структурах дискурса, которые способствовали усилению власти центра. То есть когда идея Европы возникла в качестве культурной идеи, она стала ассоциироваться со структурами власти и их проектами идентичности. Подчеркнём, что в античный период идея Европы не имела особого значения. Более того, она не была обозначением европейского континента вплоть до возникновения ислама. Долгое время «Европа» как концепт применялась для описания греческого мира Малой Азии, включая часть северной Азии, но не западного континента, большей частью неизвестного в то время. Не стоит забывать, что культура и цивилизация Запада обязаны своим происхождением Востоку. Античный мир был миром восточным, а не западным. В средние века идея Европы связывалась с христианством и противостоянием исламу. В связи с экспансией мусульман христианство репрезентировало территориальную идентичность средневековой Европы, но не особую идентичность. При этом с самого начала своей истории Европа не сумела сформировать геополитическую структуру, способную интегрировать римское и греческое христианство в единую цивилизацию. Лишь к Х в. идея Европы превращается из простого географического обозначения в культурную идею, которая политически использовалась, но ещё не утвердилась в качестве базиса особой европейской идентичности. В X����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ –���������������������������������������������������������������� XIII������������������������������������������������������������ вв. по всей Европе утверждаются феодальные структуры и формируется пространство, ставшее результатом экспансии франко-латинского христианского мира, которое и получает название «Европа». Однако ключевое значение для идентичности Европы имела не столько территориальная экспансия, сколько её растущая внутренняя гомогенизация. Идея христианского сообщества не только предоставляла средневековым королевствам легитимирующий миф, но и служила посредником культурного согласия среди групп, разделённых языками и этническими традициями. Начиная с эпохи Средневековья Европа конструирует себя в зеркале другого, будь то «турки» или «китайцы». К XIX����������������������������������������������������������������������� в. формируется идея особой ответственности европейского «белого» человека перед человечеством («бремя белого человека»). В конечном счёте исторически сформировалось три «зеркала», вглядываясь в которые Европа конструировала себя: Восток/Азия, Америка, Восточная Европа.22 67 Григорий Миненков До конца ���������������������������������������������������������� XV�������������������������������������������������������� в. идея Европы в основном представляла собой геополитический концепт, подчинённый в качестве реальности христианству как господствующей на Западе системе идентификации. Как идея Европа начинает консолидироваться в эпоху «открытий», освобождаясь от ассоциации только с христианским миром и постепенно превращаясь в автономный дискурс. Решающим событием в формировании европейской идентичности считается падение Константинополя в 1453 г. Долгое время постоянно движущаяся граница с Оттоманской империей была линией, отделявшей Европу от турецкого другого. Именно в это время начинается осознание себя жителями Европы европейцами, осознание Европы, по словам Пия II, как своего дома. Папа Пий II был также одним из первых, кто использовал само слово «европейцы». Столь же важным и знаковым событием явилось «открытие» Америки в 1492 г. Европа стала связываться с системой, которая сегодня рассматривается как совокупность специфически европейских ценностей, хотя они и не были вполне артикулированы в качестве европейской идентичности вплоть до конца XVII в. Таким образом, именно в результате встречи с неевропейскими народами и сопротивления оттоманской экспансии идея Европы как таковой вышла в центр конструирования специфически европейской идентичности. Идея Европы начинает заменять христианский мир как точку референции культуры: из географического понятия Европа трансформируется в систему ценностей. При этом формируется дихотомия «цивилизация – варвары». Идея «цивилизации» ассоциируется с Европой и постепенно заменяет христианский мир, превращаясь в абсолютную ценность. Открытие Нового света значительно усилило чувство европейского превосходства в то время, когда Запад потерпел неудачу в борьбе с мусульманским Востоком. Создаётся европейский миф Запада, включающего и Америку. Европа превращается в хранительницу культуры Нового света. В 1623 г. Ф. Бэкон заявляет: «Мы – европейцы». Важно учитывать, что идентичность Европы формировалась не только в противостоянии исламу, но и в результате противоречий внутри самой Европы, которая никогда не была гомогенной геополитической реальностью. Именно в рамках германской империи и её экспансии развивается идея Европы как синонима романо-германской культуры. При этом особая роль в становлении Европы принадлежит различным автономным структурам, в частности – городам, университетам. Одновременно укрепляется раздел Западной и Восточной Европы, фактически утверждаются два понятия Европы – новая идея Европы как Запада и старая идея Европы как христианского бастиона против мусульманского Востока. Возникает противоречие между культурной идеей Европы и той географической структурой, с которой она связывается. Как культурная структура Европа стала нормативной идеей расширяющейся цивилизации, но 68 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения как обозначение географической территории этой цивилизации она сталкивается с проблемой, связанной с тем, что значительная её часть находилась под оттоманским господством. Здесь мы видим исток будущего внутреннего разделения континента на два противоположных лагеря. С этих пор постоянно обсуждаемым становится вопрос об исторических границах Европы, прежде всего о её восточной границе. Внутренняя структура Европы формировалась завоеваниями и колонизацией в восточном направлении. Это неизбежно вело к конфликту с двумя главными «неевропейскими» силами на восточной границе. Разнообразие Европы стало продуктом усиливающейся зависимости, и многое в её единстве было выражением гегемонистских форм идентичности, проистекающих из ядра. Идея Европы оставалась культурной моделью ведущих западных государств. В итоге восточная граница Европы всегда была скорее границей исключения, чем включения; это усиливало и интенсифицировало процесс, в ходе которого Европа становилась мистикой Запада.23 Важнейшую роль в утверждении данного комплекса идей сыграла История цивилизации в Европе (1827) Ф. Гизо, оказавшая значительное влияние на всю последующую литературу. Именно Гизо первым заговорил о цивилизации как о важнейшей и всеобщей суммирующей характеристике исторического процесса. Специфика европейской цивилизации, отличающая её от античной, греческой (то есть византийской), мусульманской цивилизаций, заключается в следующем: европейская цивилизация всегда находится в состоянии прогресса; с самого начала своего существования Европа несравненно разнообразнее других цивилизаций в том, что касается систем политического устройства; конкуренция различных начал столь же естественно породила специфическую для Европы свободу, в то время как в неевропейских обществах преобладание какого-либо одного начала неизбежно порождает тиранию.24 Именно поэтому европейская история всегда репрезентировала себя в качестве всемирной истории. Иными словами, идея Европы принимает форму культурной структуры западного европейского ядра в контексте двойного конфликта: древний конфликт между Европой и исламским Востоком (в виде главным образом Оттоманской империи) воспроизводился как конфликт внутри самой Европы между её Западом и Востоком. Нигде политический характер определения Европы не является столь ясным, как в случае балканских государств. Балканы рассматривались как пункт разделения двух цивилизаций, за них постоянно боролись три империи. Вследствие данной конфронтации сформировались пограничные общества на промежуточных территориях. Относительно Восточной Европы всегда применялся двойной подход: с одной стороны, она рассматривалась как номинальная часть Европы, но, с другой – удерживалась в зависимости. Это закреплялось и 69 Григорий Миненков тем, что граница между Западом и Востоком в основном совпадала с границей между православным и католическим христианством. А поскольку Россия со временем всё более заменяла Оттоманскую империю в качестве нового главного врага Европы, различие между восточно-православными европейскими странами и самой Россией представлялось Западу незначительным. Идея Европы в полном смысле слова есть продукт XV–XVI вв., поскольку именно в этот период она приобретает собственную форму в качестве секуляризованной версии христианского мира.25 Культурный и географический смыслы концепта «Европа» совпали. Реформация и религиозные войны XVII в. разрушили идею универсального христианского порядка и создали пространство для возникновения секулярного понятия Европы, которое, тем не менее, осталось тесно связанным с остатками христианского мировоззрения. Христианство перестало символизировать территориальную идентичность Европы и превратилось в чисто религиозную систему ценностей, выживающую в рационализированной форме. Ренессанс и Просвещение обеспечили идейную основу новой секулярной идентичности. В этом контексте меньшее значение для европейской идентичности стал играть исламский другой: конструируется ориентальный другой, деспотической природе которого противопоставляется просвещённая и политически свободная (западная) Европа модерна. В 1771 г. Ж.-Ж. Руссо заявляет: «Больше нет ни французов, ни немцев, ни испанцев, ни даже англичан – есть только европейцы». Считается, что окончательное утверждение «европейской идеи» обозначается словами Э. Берка: «Ни один европеец не может чувствовать себя полным изгнанником в любой части Европы». Но при этом единство Европы скорее трактуется как экспансия вовне, но не как внутреннее единство. Идея Европы всё более связывается с возникновением западноевропейской политической организации наций-государств и постепенно принимает характер нормативной идеи. К наиболее значимым проявлениям строительства европейской идентичности в XIX���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� в. можно отнести попытки национальных интеллигенций сконструировать национальные идентичности с целью интеграции масс в индустриальные общества. Национализм до 1848 г., как правило, ассоциировался с либерализмом и враждебностью к старому порядку. Наступление эпохи национализма фрагментировало Европу в соответствии с партикуляризмом национального идеала. С поражением революций 1848 национализм утрачивает революционную форму и превращается в инструмент капиталистической модернизации и исток модерного консерватизма. После объединения Италии в 1861 г. и Германии в 1871 г. национализм в форме национального патриотизма всё больше принимает вид идеологии национального государства, отбрасывая прежнее эмансипационное содержание. 70 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения Национальному идеалу, в конечном счёте, и была подчинена идея Европы. Именно по этой причине Европа рассматривалась не столько как политическое единство, сколько международная норма цивилизации в качестве средства урегулирования конфликтов между нациями-государствами. В �������������� XIX����������� в. сформировалось отношение дополнительности: идея Европы означает совокупность нормативных требований цивилизации, а национальный идеал относится к партикуляризму или релятивизму конкретной культуры. Главная причина того, почему идея Европы так и не сумела превзойти национальный идеал, состояла в том, что в Европе, в отличие от США, государственная традиция, а во многих случаях и национальный идеал предшествовали появлению международных норм и институциональных структур. XIX век был не только веком национализма, но и веком романтизма. Хотя и тесно связанные, они опирались на различные концепты. Национализм был прежде всего политической идеей, нацеленной в будущее, в то время как романтизм – по существу неполитическим движением, ориентированным в прошлое. При этом он играл революционную роль, импульсом которой служило понятие динамической и творческой силы, лежащей в основе европейского духа. Особое место в романтических идеях занимала ностальгия в качестве фундамента конструирования прошлого. Каждая нация идентифицирует себя с прошлым, которое, правда, всегда оказывается изобретённым. Это связано с тем, что идея Европы как гомогенизирующее начало имеет смысл лишь на уровне культуры. А потому требовалось ретроспективно изобрести европейскую культурную традицию. Европа тем самым идентифицируется с её культурными артефактами, знание прошлой культуры становится критерием образованности. Итак, идея Европы выступила, в итоге, как символ западной цивилизации, найдя наиболее устойчивое выражение в конфронтации с «Востоком» в эпоху империализма. Именно благодаря встрече с другими сформировалась идентичность Европы. Европа выводила свою идентичность не из самой себя, а из совокупности глобальных контрастов. В дискурсе, на который опиралась эта дихотомия самости и другого, Европа и Восток занимали противоположные полюса в системе цивилизационных ценностей, которые определялись в качестве таковых Европой. Идентичность, как правило, формируется на основе дифференциации: для «нас» требуются «они». Тёмную сторону своей идентичности европейцы и называют «Азией». Внутренне «европейское» расколото, объединяло его именно противостояние внешнему другому, так называемому Востоку, что и выразилось в конструировании дискурса ориентализма. В основе последнего лежит совокупность оппозиций: Европа – автономный и свободный индивид, правление разума, маскулинное начало, взрослость; Азия – деспотизм и власть коллектива, правление страстей, фемининное начало, детство. 71 Григорий Миненков Иными словами, обращение к западным представлениям о Востоке, традицию которых во многом заложил Ш. Монтескье, может много рассказать нам о характере самой европейской идентичности, поскольку Восток в значительной степени выступал зеркалом, хотя и очень искажённым, Запада. В столкновении с неевропейским миром идея Европы служила культурной моделью референции для формирования того, что можно называть проектами европейской идентичности. Последние постулировали универсальность европейских ценностей и отождествляли цивилизацию с (западно)европейской модернити, чем поддерживались соответствующие гегемонистские стратегии. Идея Европы приобрела нормативный характер и этическое измерение, что и вызвало последующие трудности в её эволюции. Европейцы в итоге развили способность придерживаться двух видов идентичности: национальной и европейской. Европа как объективный факт субъективно переживалась как национальная идентичность. Такая двойная идентичность является специфически европейским феноменом. Идею Европы, таким образом, можно рассматривать как выражение универсалистского проекта национализма и нереализованных притязаний нациигосударства на универсальность. Именно эта универсальность приносится в жертву партикуляризму национальной культуры. Правовая структура нациигосударства должна признавать универсальность своего устройства с тем, чтобы обеспечить лояльность граждан. Для своей легитимации национализм нуждался в точке референции за пределами самого себя, следовательно, в мифе универсального человечества. В то же время он должен поддерживать первичность национальной культуры, ибо национальная идентичность, как правило, определяется через противопоставление другим нациям. Культурная структура тем самым захватывается политической и трансформируется в идеологию с целью мобилизации проектов идентичности. Есть и другое измерение этого вопроса. Основой модерных нацийгосударств является этнолингвистический национализм. Поэтому никогда не было возможным, чтобы идея Европы дала средства, с помощью которых общая коллективная идентичность могла бы сконцентрироваться на воображаемой области вне нации-государства. Идея Европы тем самым постоянно принимала форму репрезентации некой суррогатной нации и функционировала в качестве клапана безопасности с целью сохранения хрупких национальных идентичностей.26 Один из путей определения европейской идентичности – конструирование концепта Центральной Европы (или Mitteleuropa).27 Этот весьма скользкий концепт, как правило, используется не только для выделения определённого региона, но и в качестве культурно-политической идеи. В последние десятилетия ХХ в. на передний план вышла сильная тенденция возродить идею Центральной 72 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения Европы как подлинного исторического наследия того региона, который после Второй мировой войны стал известен в качестве «Восточной Европы». Согласно этой точке зрения, истоки которой – в идеях М. Кундеры, Mitteleuropa является освободительным идеалом и предлагает альтернативу коммунизму. Однако данный подход, полагает Диленти, нелегко отделить от антисемитизма, реакционной политики пангерманизма и призрака немецкого экспансионизма, с которыми он был тесно связан в период своего формирования.28 После Второй мировой войны особое значение приобретает американский миф Европы. Европа превращалась в большой музей. То, что было вновь «открыто», оказалось версией в форме пастиша старой Европы с центром на Западе, который тем самым представлялся как «подлинная» Европа. Как прежде европейцы конструировали миф о Востоке, так американцы конструировали свой миф о Европе. Европа при этом превращалась в совокупность памятников, эстетическую категорию, спектакль. Романтизируя Европу, американцы определяли себя в качестве членов западной цивилизации, в которой они достигли триумфа. Европа репрезентировала прошлое, Америка будущее. И это было продолжением идеи Запада. Иными словами, возвышение Америки конструировало новый образ идентичности Европы. Все традиционные метафоры переворачиваются. Уже не Азия, а Европа оказывается Старым светом, в то время как Америка – Новым светом. Европе приписываются те характеристики, которыми раньше наделялась Азии, новый же мир описывается так, как раньше описывали Европу. Таким образом, мы имеем два дискурса Европы: один (старый), сравнивающий Европу с Азией, другой (новый) – с Америкой. Образы Европы в них оказываются противоположными. Континенты противопоставляются друг другу в плане уточнения идеалов человечества. Но Европа, тем не менее, остаётся в центре дискурса, что позволяет говорить о возможностях создания нового мира именно в Европе, но при постоянной оглядке на Америку.29 Итак, в послевоенный период имело место согласие в том, что Европа как духовный и философский проект завершилась. На смену идеалам духовного и политического единства пришёл послевоенный «общеевропейский рынок» и новая западноевропейская система безопасности – первые шаги на пути к Евросоюзу. Война дискредитировала европейскую культуру в качестве жизни духа; новая Европа превратилась в материалистическую Европу, стремящуюся к легитимации в духе капиталистической модернити. Экономический союз сочетается с сохранением идеи наций-государств. Учитывая это, мы, тем не менее, можем выявить новое измерение дискурса Европы, а именно: во второй половине ХХ в. идея Европы артикулировала своеобразный образ жизни, который может быть назван отличительно европейским. Как культурный конструкт 73 Григорий Миненков Европа означает больше, чем идеалы высокой культуры, – культура повседневной жизни также является важным измерением европеизма. Это значит, что современная Европа есть нечто большее, чем просто экономическая кооперация, основанная на автономных нациях-государствах; речь идёт и о некоем морально-политическом сообществе (���������������������� community������������� ). Постулирование сообщества в качестве цели истории глубоко укоренено в европейской интеллектуальной традиции. Эта идея интегрировала христианство, утопические идеи ренессанса, национализма и коммунизма. Правда, она сталкивалось и с серьёзными проблемами, ибо бюрократическим путём создавать новую культуру практически невозможно. Неслучайно интенция общей европейской культуры всё время выливается в национальные формы. Одновременно с развитием Европейского Союза усиливается акцент на тождестве Европы и Запада. Одним из влиятельных критиков этой идеи на Западе был Х. Сетон-Уотсон, исходивший из того, что европейская культура «не является принадлежностью капитализма или социализма, это не монопольная собственность еврократии ЕЭС или кого-либо ещё. Принадлежать к ней не означает утверждения преимущества перед другими культурами… Единая европейская культура – это просто результат 3000-летней работы наших таких непохожих друг на друга предков. Это наследие, от которого мы легкомысленно отрекаемся. Было бы преступлением лишить его будущие поколения. Наша задача, наоборот, – сохранить и обогатить это наследие»30. 1989 г. явился поворотным пунктом в новейшей истории Европы и символизировал разрыв с эпохой, начавшейся с коммунистической революции 1917 г. До 1989 г. вопрос о восточной границе Европы представлялся очевидным: Западная Европа и была «Европой», или «Европейским сообществом». Идентичность Европы как Запада обеспечивалась предполагаемой коммунистической угрозой. С падением «воображаемого» врага сломалась и идентичность Запада, а не только Востока. Антикоммунистические революции шли под лозунгом «возвращения в Европу». При этом обнаружилось, как отмечал Ю. Хабермас, тотальное отсутствие новых идей. Выявился кризис легитимации Запада. С исчезновением старого врага на передний план вышло усиленное конструирование нового домового, на которого могла переориентироваться европейская идентичность в многополярном мире. Появилась новая полярность – Север-Юг. «Восток» сдвинулся в южном направлении, включив ислам и третий мир. Именно в этом контексте столкновения культур приобрела обновленное значение метафора «Крепость Европа». После 1989 г., таким образом, усилился акцент на идее «Европа». При этом сама данная идея выражается в широком множестве проектов идентичности. Она оказывается дискурсивной стратегией. Европа становится именем, которое 74 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения стремятся контролировать: ведь кто контролирует названия, тот контролирует реальность. На этом примере мы можем видеть, как инструментализируется культурная идея с включением её в политическую структуру и превращением в фокус проектов строительства идентичности. Современный механизм интеграции основывается на растущем бюрократическом контроле, политической централизации и экономическом кризисном менеджменте. Отсюда очевидна потребность в коллективной идентичности, которая не была бы только поддержкой строительства институтов. В отсутствие такой постнациональной коллективной идентичности национализм будет усиливаться просто потому, что европеизм лишается как более-менее устойчивой традиции, так и контекстов жизненного мира, и, соответственно, обращается к популистским чувствам, которые оцениваются как коллективная идентичность. Коль скоро национализм заново изобретает и оценивает старые культурные и этнические традиции, европеизм оказывается новым изобретением национализма, который превращается в реифицированную31 европейскую традицию. Проблема заключается в том, что «географический объект», названный Европой, слишком велик и абстрактен, чтобы быть воображённым сколь-либо осмысленно. И самое главное – европейская идея не связана с какой-либо эмоциональной ценностью. Соответственно, нынешняя Европа «воображается» и «изобретается» в качестве лишённого памяти бюрократического микрокосма для поддержки жизненных миров, организованных вокруг паттернов32 потребления и благосостояния вместе с национализмом, обеспечивающим необходимые эмоциональные субституты ввиду дефицита легитимации. Тем самым европейская идея порождает противоречие, антиномию между политической, экономической и военной интеграцией, с одной стороны, и социальной и культурной фрагментацией, с другой. Можно сказать, что после разрушения «консенсуса» холодной войны возник идеологический вакуум, в котором развивается новая идеологическая борьба, и что проникновение западной модернизации на (европейский) Восток оказалось далеко не однозначным по результатам. В ходе посткоммунистических преобразований внутренние границы Европы приобрели новое измерение.33 Подводя итог анализу развития идеи Европы, Дж. Диленти приходит к выводу, что она является идеей с негативными последствиями. Сказанное не означает, что следует отказаться от этой идеи как от культурного концепта. Она во многих смыслах является обобщающим концептом для не вполне ясных идей, не все из которых должны быть отвергнуты. Очевидно, что существует много «Европ» и что господствующая сегодня «Европа» во многом является Европой исключения, а не включения. Поэтому необходимо смотреть на идею Европы с глобальной точки зрения. Нынешняя Европа не свободна от старого поиска 75 Григорий Миненков врагов. Но она больше не является исключительно «вопросом Запада», противостоящего Востоку, Северу или Югу. Новая и большая Европа родилась из того, что было наиболее острым проявлением конфронтации между Европой и остальным миром.34 Идея европейского единства, далее, пока не стала альтернативой нациигосударству, как и альтернативой национализму. Имело и имеет место постоянное столкновение культурного и политического измерений европейской идеи.35 Поэтому необходимо отделить этнокультурный идеал Европы от гражданства. За этим скрыто различие между универсальными нормами и релятивистскими культурными ценностями. Гражданство есть нормативный концепт, в то время как Европа есть культурный идеал. Гражданство больше не следует смешивать с «эссенциалистской» Европой, как и с принципом национальности. Идея Европы как геополитической реальности неизбежно ведёт к искажениям и враждующим системам ценностей. При этом особое значение для углубления понимания европейской идентичности имеет идея многочисленных модернити, позволяющая рассматривать европейскую культуру как точку пересечения самых различных культур, а не просто как их параллельное сосуществование. Не-Европа не существует без Европы, т. е. исходным пунктом должно стать наведение мостов, а не демаркация. Прежние символические и геополитические границы «Европы», «Запада», «Востока», «ислама» должны быть пересмотрены исходя из того, что они сформированы исторически и дискурсивно, а не даны естественным образом. И это становится центральным моментом исторической ответственности европейской идентичности. 3. Европоцентризм и его критика. Перспективы европейской транснациональной гражданской идентичности Исходя из предшествующего изложения, можно сказать, что перед нами стоит задача ухода от европоцентристской ошибки прежних эпох, т. е. выхода к такому универсализму, который акцентировал бы идею Европы как культурную ценность, выходящую за пределы любой конкретной идентичности. Европоцентризм является весьма старой идеей, исторически изменчивой. В центре его – традиционная склонность европейских авторов считать свою цивилизацию высшей и самодостаточной и не учитывать неевропейскую точку зрения. Европоцентризм мог принимать крайнюю форму нарциссизма, как, например, у упоминавшегося выше Гизо. Считается, что наиболее ярко и однозначно традицию европоцентризма сформулировал Р. Киплинг в своей знаменитой Балладе о Востоке и Западе. 76 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения Как отмечает Б.��������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� Вальденфельс, «внимательный анализ показывает, что европоцентризм есть особого рода центризм, который не означает, что аналогичные формы центрирования невозможны в других культурах. Согласно наиболее тонким подходам его сторонников, европоцентризм есть не только своего рода домашний этноцентризм, в соответствии с которым своему племени или своей нации отдаётся абсолютное предпочтение по сравнению с чужим или другим… В целом европоцентризм порождается ожиданием, что своё постепенно выявляется как цельное и всеобщее»36. Это можно назвать первым измерением европоцентризма. Европоцентристский универсализм, таким образом, может быть понят как идеологический фундамент экономических, политических и социальных проектов конструирования мирового общества под европейским контролем. Современную глобализацию, представляющую собой следствие этого проекта, начавшегося 500 лет назад с насильственного завоевания «Нового света», следует рассматривать во многом именно в данном контексте. Это выводит нас ко второму измерению европоцентризма – особой философии истории, опиравшейся на своеобразный «космологический миф»: по аналогии с движением солнца этот миф объяснял движение истории как процесс, ограниченный Западом. Развитие Америки явилось лишь его продолжением.37 Сущность европоцентризма заключается, таким образом, в смешении универсальных структур сознания с особенностями отдельных культур. Утверждение идеи Европы в качестве универсального нормативного стандарта связано со своего рода «культурным насилием», что весьма широко распространено при обосновании европеизма. Это, как показывает Г. Терборн, особенно чётко выявилось в отождествлении европейского развития с модернити как таковой. При этом, полагает Терборн, происходило наложение четырёх путей развития модернити: 1) конструирование доктринальных «измов», что вело к внутреннему разделению и проистекало из классовых конфликтов; 2) создание новых миров, творчество мигрантов, что превратило в постоянный вопрос модернити вопрос о том, кто принадлежит к «народу»; 3) колонизация и навязывание колониям привнесённых ценностей и норм с последующей культурной травмой в этой зоне; 4) индуцирование модернизации извне (наиболее успешный пример – Япония).38 Как полагает Диленти, важно, чтобы «идея Европы была отделена от притязаний на универсальную этическую валидность, маскирующих эссенциалистский этнокультурализм. Идея Европы, будучи геополитическим концептом, есть культурная модель, культурный конструкт, и в качестве такового она не может претендовать на универсальность. Это нерефлексивная категория культурного воспроизводства. Хотя она и может быть связана с моральным измерением общества, сама она не является моральным концептом»39. Соответственно, во 77 Григорий Миненков второй половине ХХ в. развивается сопротивление европоцентризму, особенно в рамках постколониального дискурса. Вызовом европоцентризму стал также и мультикультурализм. Как подчёркивает Б. Страт, сегодня нужна активная Европа, но в новом смысле, а именно: как посредник и строитель мостов в глобальном мире, посредник, опирающийся на готовность слышать иные представления и содействовать диалогу между ними. Лозунги типа: «Культурное разнообразие и общее наследие» или «Единство в разнообразии» – должны приобрести не только европейское, но и глобальное измерение. Межкультурный диалог должен становиться диалогом транскультурным, трансгрессирующим установившиеся границы. Это значит, что ������������������������������������������������������������� XXI���������������������������������������������������������� в. нуждается в новой концептуальной топографии, менее европоцентрической и нарциссической и более глобальной. При этом особенно важной задачей становится новая интеграция индивидов в социальных контекстах. В данном случае концепт европейской социальной ответственности может заполнить опасный разрыв между растущим национализмом и рыночно ориентированным индивидом, оторванным от социальных связей. Это требует также гибкой концепции культуры как постоянно движущегося потока.40 В политическом плане идея Европы всегда больше связывалась, как подчёркивалось выше, с государственной традицией и культурами элит, чем с политикой гражданского общества, что задавало национальную форму политической и гражданской идентичности. Однако развитие ЕС по-новому ставит вопрос о политической идентичности европейцев, которая должна отличаться от традиционной национальной и культурной идентичности. Её содержание может рассматриваться как особая совокупность конституционных ценностей и принципов, включающих модель социальных отношений и особую систему управления, а также формирование особой публичной сферы.41 Соответственно, в социальной и политической теории всё большее значение приобретает вопрос о сути идентичности, когда революция в политической коммуникации становится вызовом самому понятию демократии. Политическая идентичность, согласно Ф. Черутти, есть, прежде всего, совокупность социальных и политических ценностей, которые мы считаем своими и благодаря которым мы рассматриваем себя в качестве некоторой группы.42 В этом формальном смысле отсутствуют какие-либо существенные различия между европейской и любой иной политической идентичностью. Однако сами по себе ценности и принципы не формируют гражданскую идентичность: они нуждаются в интерпретации, прочтении и переводе на особый язык граждан, поколений и сообществ. Это – момент способности суждения в кантовском смысле, возрождённом Х. Арендт. Политические и правовые формулировки этих ценностей и принципов, например в Европейской конституции, 78 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения могут быть универсальными и общими для всех, выходить за пределы конкретной культуры, но при их обсуждении и интерпретации установки и аргументы оказываются чувствительными к отдельным культурам граждан, национальных, локальных, религиозных и идеологических групп. Культурная и политическая идентичности представляют собой различные феномены. Анализ европейской идентичности часто сталкивается с трудностями именно вследствие смешивания обеих идентичностей. Особо следует отметить то, что европейская политическая идентичность является результатом духовной переработки европейцами политического и социального опыта, пережитого последние 3–5 десятилетий, а не столетиями возделываемой интеллектуалами «идеи Европы». Политическая и культурная идентичности не совпадают, а потому отсутствие общей европейской культурной идентичности не может использоваться в качестве аргумента против возможности европейской политической идентичности. В то же время культурная идентичность выступает резервуаром философской рефлексии, правовых и моральных обоснований, исторических перспектив и литературных формулировок, к которым мы обращаемся, обсуждая конкретные нормы и решения.43 Вторым важным элементом является то, что, как и любая иная политическая идентичность, европейская идентичность должна опираться на некоторые общие институты, поскольку политические институты, с одной стороны, являются средствами стабилизации, помогающими гражданам воспроизводить их идентичность во времени, а с другой – воплощают существенный для политической идентичности нормативный элемент. Здесь нужно прояснить важную теоретическую предпосылку. Социология модерного общества обычно сосредоточивается на структурах, лежащих в основе коллективных идентичностей, и на их регулятивных идеях, а именно на государстве, экономике, культуре и обществе. Европейская идея, как правило, артикулируется на языке первых трёх структур и редко ассоциируется с политикой в смысле «гражданского общества» или «публичной сферы», понимаемой в качестве пространства, отличного от государства. Но если европеизм имеет смысл, то важен как раз последний аспект. Постнациональная идентичность сегодня всё более концентрируется на коллективно опосредованных целях, а не на тотализирующем видении единства. Следовательно, в основе общей европейской идентичности неизбежны отсутствие единства и демократический плюрализм.44 Анализ европейской политической структуры и европейского гражданства невозможен вне рассмотрения пространственных измерений идентичности. Интересной в этом плане является концепция С. Роккана, предложившего аналитическую структуру для понимания современного европейского политико79 Григорий Миненков институционального развития.45 Ключевое место в теоретическом анализе национального и государственного строительства в Европе, предложенном Рокканом, занимают концепты границ и структурирования. Можно сказать, что Роккан рассматривает европейское политическое развитие на языке ограничивающего структурирования. Согласно Роккану, формирование государств и наций в Европе после падения Римской империи происходило в фарватере комплексной динамики функциональной и территориальной дифференциации. При этом данный процесс основывался на двух группах базисных структур: структуры центр–периферия и структуры разделения. В первом случае речь идёт о решающей роли центра в организации политической структуры на определённой территории, во втором – о систематическом разделении национальных сообществ. Оба типа структур опираются на сеть инструментальных институтов и организаций. Структурирование означает достижение устойчивости всеми этими паттернами взаимодействия и институционально-организационными формами на основе формирования конкретных объединений акторов, следующих некоторым устойчивым нормам поведения и отношений. Процессы структурирования, соответственно, означают установление границ, под которыми Роккан понимает любого рода «маркер» особых условий, релевантных жизни коллектива, воспринимаемых последним в качестве таковых и используемых в качестве критериев исключения или включения. Граница становится источником групповой идентичности. Именно так исторически утверждались нации и государства в Европе. Так формировалось и послевоенное «государство всеобщего благоденствия», для которого характерно тесное переплетение территориальной идентичности и массовой демократии, что позволило активно развивать социальное гражданство. Глобализация и миграция, однако, многое изменили, в конечном счёте приведя государство всеобщего благоденствия к кризису. Всё это потребовало по-новому взглянуть на вопросы социального гражданства и гражданской идентичности.46 Формирование ЕС с особой остротой поставило вопрос о том, как управлять транснациональным пространством – подлинно европейским пространством, отличающимся от пространств государств-членов. Данное пространство может оказаться основой «европейского общества», пока ещё отсутствующего: без этого звена интеграции европейское управление и европейская демократия невозможны. Речь в данном случае идёт не просто о европеизации государствчленов, а о формировании европейской публичной сферы, или европейского гражданского общества. Необходим анализ трёх тесно связанных проблемных полей: формируемые ЕС формы управления в соответствии с приоритетом развития организованного гражданского общества; отсутствие гражданского общества как проявление дефицита демократии в ЕС; гражданство ЕС требует 80 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения соответствующей публичной сферы, в рамках которой граждане могут реализовывать свои права за пределами нации-государства. Это также побуждает к осмыслению глобального измерения интеграции ЕС. Гражданство, управление и демократия должны рассматриваться как пост- или транснациональные по источникам и космополитические в практическом плане, что требует учёта культурных измерений глобализации.47 Согласно Ю. Хабермасу, «общеевропейскую публичную сферу нельзя представлять как проекцию известной нам структуры с национального на европейский уровень. Она будет возникать из взаимной открытости друг другу существующих национальных универсумов»48. Однако само понимание такого гражданского общества формируется с трудом и сложно отрывается от аналогий с национальным гражданским обществом и, соответственно, национальной гражданской идентичностью. Многими исследователями в качестве первого шага к такому обществу рассматривается развитие европейского публичного пространства и постнационального гражданства. Понятие европейского постнационального гражданства, полагает Диленти, является более значимым идеалом, чем понятие «европейского единства», оно может предложить более нормативно обоснованную точку референции для европейской идентичности.49 Согласно А. Амину, новая идея Европы может базироваться на двух принципах. Во-первых, принципе гостеприимства, который Ю. Кристева этимологически связывает с исходным греческим определением этоса как обычая предоставления постоянного убежища. Такой принцип становится всё более важным в современной мультикультурной Европе. Во-вторых, принципе, проистекающем из сократовского понимания свободы как взаимной связи, составляющей основу идентификации и принадлежности. Быть европейцем – значит решать проблему взаимодействия между чужаками с целью конструирования общей публичной сферы и этоса солидарности. Этот процесс включает больше, чем взаимное признание другого в его/её инаковости, как к тому недавно призывали Хабермас и Деррида, говоря о Европе как «единстве в различии».50 Взаимная связь требует отказа от поиска того, кто первый назвал себя европейцем, а также от навешивания всякого рода ярлыков мигрантам и пр. Она означает, что европейскость есть не предопределённая культурная идентичность, но процесс становления европейцем через встречу различий. Принятие европейской идентичности оказывается полем осознанного выбора.51 Именно в этой связи проблема гражданства в последние годы вышла в центр европейских исследований. Речь идёт о том, что гражданство больше не может привязываться исключительно к национальной принадлежности. Формы постнационального гражданства предполагают включение и участие в структурах наций-государств, не требуя формальной принадлежности к национально 81 Григорий Миненков определённым сообществам.52 Европейское гражданство выступает потенциальной основой коллективной идентичности Европы и идеи инклюзивного сообщества за пределами нации-государства.53 При этом, согласно Сойсал, нужно учитывать многообразие источников европейской гражданской идентичности, а также её тесную связь с культурной идентичностью. По словам Диленти, «мы ныне живём в эпоху, в которую стало невозможным возвращение к одной из великих грёз проекта модернити, а именно: к созданию единого принципа интеграции, способного объединить сферы экономики, политики, культуры и общества»54. Данная проблема становится всё более острой в связи с нарастающей мультикультурностью и полиэтничностью Европы в результате миграции и необходимостью защиты прав на собственную культуру.55 Одновременно меняются представления об идентичности коренных европейцев, всё шире утверждается идея многообразия и текучести идентичностей. Именно поэтому на передний план выходит проблема гражданской транснациональной идентичности, космополитической идентичности в целом. А. Мелуччи развивает в этой связи тему несогласованности современных конфликтов с традиционными формами репрезентации, и особенно политической репрезентации. В результате формируется скрытая сеть групп, мест встречи и кругов солидарности, глубоко отличающаяся от традиционного образа политически организованного актора. Солидарность, отмечает Мелуччи, принимает культурный характер и размещается на территории символического производства в повседневной жизни. Во всё большей степени проблемы индивидуальной идентичности и коллективного действия переплетаются: солидарность группы неотделима от личного поиска и повседневных эмоциональных и коммуникативных потребностей участия в сети.56 Старая европейская идея с этим справиться не может. Всё это ставит вопрос о новой идее Европы, о том, каким образом Европа может стать действительно Европой, избегая ксенофобии, закрытости и т. п.57 Амин отмечает, что фигура беженца – сейчас массовая, но фактически бесправная фигура в Европе – должна способствовать радикальному переосмыслению традиционного подхода к наделению правами через национальное гражданство. В такой новой идее Европы принцип убежища, ненационального гражданства может стать смысловым ядром права на признание.58 С этим сочетается принцип гостеприимства, которое представляет собой не просто равнодушную толерантность, но безусловную ответственность за другого, предоставление другому пространства признания. Как отмечает М. Дикеш, «гостеприимство в этом смысле означает отказ от понимания хозяина и гостя как заранее предписанных идентичностей. Речь идёт о взаимном конститутивном признании друг друга, которое столь же реляционно и подвижно, как и все идентичности»59. 82 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения В политическом плане это означает движение Европы к постнациональному политическому устройству в плане углубления и расширения (для резидентов, а не только граждан) конституционно защищаемых универсальных прав и, соответственно, развитие «конституционного патриотизма». Эти права должны базироваться, как показывает Сойсал, на личностном, а не территориальном начале, что соответствует современной социальной мобильности и движению идентичностей. Как отмечает К. Кэлхун, конституционный патриотизм, опирающийся на «тонкие идентичности и нормативный универсализм» и поддерживаемый режимом соответствующих прав, не «достигает такой солидарности, которая одинаково мотивировала бы всех индивидов». Для этого необходима активная, плюралистическая и агонистическая публичная сфера за пределами государства и режимов его правил, действующая как живое «царство культурной креативности, а также рационального дискурса, царство взаимодействия», в котором конструировались бы и выявлялись новые идентичности, интересы и солидарности.60 В ситуации глобализации гражданство оказывается индексом той степени, в какой общество скорее являет собой пространство для различий, чем институционализирует социальное деление. 4. А что же Беларусь? Естественным оказывается вопрос: что всё сказанное означает для Беларуси? Ответ на данный вопрос может быть очень длинным, и он не прост. Действительно, сегодня много говорят о европейском пути Беларуси, но мало проясняется, что он, собственно, значит именно в контексте белорусской идентичности. Беларусь всегда стремилась в европейское пространство и начинала свою историю как европейская культура, но при этом постоянно, в силу самых различных исторических причин, оказывалась вырванной из этого пространства. Данную тенденцию отрыва от Европы сознательно поддерживает нынешняя белорусская власть. В итоге, на мой взгляд, сложилась парадоксальная ситуация: белорусам в сокращённой форме нужно пройти определённые этапы, уже пережитые Европой, с тем, чтобы претендовать на европейскую идентичность. И в этом смысле всё, что было сказано выше о процессах и перспективах европейской идентичности, существенно и для Беларуси. Но, с другой стороны, нам нужно подчеркнуть, вероятно, и более важный момент. Каждая страна становится европейской по-своему, по-своему же прочитывая европейский текст. Речь идёт о том, чтобы, оставаясь самими собой, стать понятными другим. Пока Беларусь скорее идёт в обратном направлении и в итоге… становится всё более непонятной самой себе. 83 Григорий Миненков Попытки осмысливать процессы, происходящие в нашей стране, вне тенденций, характерных для современного мира, обречены на провал. Конечно, однозначно оценить происходящее в мире невозможно. Поэтому современная социальная теория предлагает самые различные концептуальные модели для решения данной задачи. Одной из самых радикальных является, например, социальная теория Ж. Бодрийара. Далеко не со всеми её выводами можно согласиться. Но именно радикальностью своих выводов и оценок Бодрийар побуждает нас серьёзно размышлять о реальных проблемах. При этом важно понять, что то, о чём пишет французский философ, происходит не только «где-то там», но так или иначе влияет на Беларусь, нравится кому-то это или нет. Важно понять, что означают распространённые ныне суждения о «конце истории», в том числе в интерпретации Бодрийара. Интересны его слова: «Единственная вещь, которую мы пытаемся представить, – как избавиться от нашей истории, которая слишком тяжела, и к тому же начинается снова и снова. И мы мечтаем о любом событии, которое пришло бы извне, из другой истории. Это фантазия, секретная формула тысячелетия, которая могла бы все изменить вокруг. Что-то неизбежно, мы чувствуем это»61. Они сказаны по поводу конца тысячелетия. Но для Беларуси тысячелетие ещё не окончилось: страх перед будущим побуждает к попыткам заморозить время. Отсюда постоянные стремления найти чудодейственную формулу изменения, некую тайну национальной истории, причём независимо от связанных с этим политических коннотаций. Есть ли такая тайна? Или же эта тайна – мы сами и характер нашего действия? Бодрийар полагает, что данные тенденции являются результатом глобализации. Поставим в этой связи вопрос: не является ли нынешняя ситуация в Беларуси, её неспособность сделать выбор проявлением страха перед историей, отражением неспособности адекватно ответить на вызовы глобализации? И в этой ситуации не начинает ли осуществляться попытка «уйти от истории», задержать прошлое и тем самым предотвратить будущее? Интересно в этой связи замечание Бодрийара: «Чем больше будущее избегает нас, тем больше поиск возврата к истокам, возврата к первичной сцене (как индивидуальной, так и коллективной) становится нашей навязчивой идеей. Как следствие, мы пробуем собрать свидетельства: свидетельства времени прошлого, человеческой эволюции»62. Особенно ярко подобный поиск выражается в конструировании национальных идентичностей и в попытках сформулировать так называемую «национальную идею», выполняющую функцию отграничивания данной национальной идентичности от других. И именно при формулировании подобных идей чётко проявляется связь интерпретаций истории, или конструирования собственного прошлого, с политическими взглядами и практиками «конструкторов». А. Казакевич удачно раскрывает эту проблему на примере конструирования знания о 84 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения Великом княжестве Литовском.63 Автор выделяет и подробно анализирует три принципа такого конструирования исторического знания: генеалогия, национальное присутствие, роль власти. Представляется, что на основе данных принципов можно анализировать любой процесс конструирования исторических истоков конкретной идентичности. Речь в данном случае чаще всего идёт об осознании своего места в мире, т. е. осознании своей особости и естественности своего государственного существования, на чём бы оно ни базировалось. Ярким примером подобного подхода является концепция «русской идеи» русского мыслителя Вл. Соловьёва.64 Очевидно, что под влиянием такой концептуальной структуры начались и поиски «белорусской идеи». Достаточно в этой связи напомнить о концепции И. Абдираловича65. Абдиралович отмечает, что часто в реальной жизни форма подчиняет себе содержание, не давая ему свободно развиваться, хотя любые формы создаются самими людьми. Собственно, эта идея была сформулирована Гегелем и Марксом в виде концепции отчуждения. Необходима же, отмечает Абдиралович, следуя Гераклиту, «льющаяся», изменчивая форма, которая отвечала бы потребностям меняющейся жизни. В то же время, как можно понять из текста Абдираловича, «размытость форм» и делает белорусскую идентичность неопределённой. Задача – найти её устойчивую форму («белорусскую форму жизни»), что фактически противоречит концепту льющейся формы: как только белорусы вернутся на свой изначальный, вечный путь, форма должна приобрести устойчивость и неизменность. Но для этого требуется высокий духовный уровень людей, поскольку именно при низком духовном развитии они и подчиняют свою жизнь внешним формам: «Чем темнее душа, тем безраздельнее господство формулы». Критикуя европейские формы, Абдиралович фактически следует традиционной для русской мысли критике европейского мещанства, моды, дисциплины, «канцелярии», опираясь на идею «переоценки всех ценностей» Ницше. Отсюда его вывод: «Не мёртвые формы, а сам человек – хозяин своей жизни. Он творит все формы жизни, они зависят от человека, а не человек должен оставаться под мёртвой властью прогнивших форм: религии, морали, законов, общих целей. Время понять, что жизнь управляет формами, а не наоборот, что сам человек, его великая, родственная солнечным лучам душа, её естественные стремления к свету, красоте, правде – содержание жизни, что в истинной независимой жизни нет места ни идеалам, ни жертвам». Именно такой облик должна принять «белорусская идея», точнее, «белорусский путь». Очевидна противоречивость подобного мыслительного конструкта. Хотя Абдиралович и настаивает на движении, само это движение оказывается просто вечным возвращением на некий изначально существующий путь, от которого народ когда-то уклонился. Понятно, что в таком случае конструировать нечего: 85 Григорий Миненков организм растёт сам, как растение из почки; нужно только создавать благоприятные условия для роста. Правда, в действительности подобный эссенциализм оборачивается, как правило, самым радикальным конструктивизмом. Судьба такого возвращения к истокам часто оказывается весьма трагичной. Вряд ли стоит подробно напоминать, какими результатами заканчивалось подобное конструирование национальных идентичностей для многих европейских народов в XX столетии. Другой и, на мой взгляд, более адекватный и соответствующий современным тенденциям социальных изменений подход предлагает В. Акудович.66 Автор констатирует кризис идеи Беларуси, причины которого он видит в характере самой постановки данной проблемы, отмечая бесперспективность данного предприятия в силу ошибочности задаваемой системы координат. Акудович противопоставляет идею Беларуси и, дискурс Беларуси в контексте различения модерного и постмодерного подходов к белорусской идентичности. В отличие от эссенциалистской идеи Беларуси дискурс Беларуси выявляет открытость белорусской идентичности и в какой-то мере совпадает с идеей «льющейся формы» Абдираловича. Процитируем Акудовича: «Беларусь как дискурс Беларуси и Беларусь как идея Беларуси – это две концептуально враждебные позиции, два решительно несовместимых видения как реального, так и а-реального миров. Идея Беларуси – это обычный платоновский симулякр, которым не обозначается нечто реально существующее и который имеет смысл лишь применительно к а-реальности, и к тому же только в её логоцентрическом измерении… Дискурс Беларуси – это определённое измерение вечно движущегося существования, охватывающее все социокультурные феномены… В отличие от идеи Беларуси, выражающейся в некоторой сумме абсорбированных, систематизированных и статично зафиксированных знаков, дискурс Беларуси наперёд ничем не задан… Беларусь как дискурс, противостоя идее Беларуси как таковой, вместе с тем не отрицает всё то, что мы воплощаем в этой идее, чем мы её подкрепляем и обеспечиваем, – он отрицает только само понятие идеи и методологию её функционирования». Во многом близки к данной концептуальной структуре и идеи В. Булгакова, в частности, при анализе им концепта национального возрождения.67 Следуя Акудовичу и Булгакову, можно сказать, что осмысление белорусской идентичности и её границ требует сегодня нового типа мышления. Конечно, этот тип мышления должен включаться в контекст европейской идентичности, но последнюю не следует рассматривать как некую неизменную сущность, которую нужно только принять. Европейская идентичность есть дискурсивная формация, в которой в режиме диалога встречаются различные модели европейского дискурса. В этом контексте необходимо, согласимся с Булгаковым, отказаться от маргинальности и вторичности мышления, от комплекса неполноценности, за86 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения висимости от внешних источников мысли; нужно, напротив, научиться вступать в равноправный диалог с другими типами мышления. Требуется конкретный и строгий анализ проблемы, а не просто жёсткие и в чём-то безответственные высказывания о «смерти народа». Ведь сразу возникают вопросы: о каком «народе» идёт речь? Существует ли этот «народ» как таковой? Или это только наша конструкция, которая оказалась не в ладах с реальностью, и тогда мы начинаем проклинать реальность? Кроме того, важно учитывать историю развития той или иной нации. В этой связи весьма удачно роль исторического наследия в определении различия путей развития Украины и Беларуси после распада СССР показана в работе М. Нордберга и Т. Кузио68. Авторы видят истоки этих различий в различной степени развитости национального сознания – что обусловливается предшествующим историческим развитием украинского и белорусского народов – более высокой в Украине и более низкой в Беларуси. Анализ, предложенный авторами, во многом дополняет подходы Акудовича с точки зрения того, как необходимо строить конкретный национальный дискурс, а не просто рассуждать о некой абстрактной «белорусской идее». Подчеркнём, что в центре национального воображения, как и воображения любой иной идентичности, находится концепт границы. Граница как утверждение отличия от другого – это разрыв тождества, встреча и переход своего и чужого. Границы – это событие.69 При этом важно всегда иметь в виду политическое и культурное измерения границы, которые, стремясь в идеале к совпадению, никогда его не достигают. Модернити задаёт тенденцию конструирования политических и культурных границ в духе их фактического совпадения. Результатом стали катастрофы двух мировых войн, этнические чистки и т. п. явления. Причём, как показывает опыт, самое опасное начинается тогда, когда некоторая культура, пытаясь утвердить свою идентичность, всё время сосредоточена на установлении границы и, соответственно, своего отличия от других. Классическим сюжетом, отражающим названный феномен, является известная дилемма «Россия» и «Запад» и продолжающийся уже два столетия «спор» славянофилов и западников в России. Заметим, что нынешние белорусские власти перетягивают этот спор в границы белорусской культуры, пытаясь почти анекдотически представить себя антизападным форпостом, охраняющим ценности некой «славянской цивилизации». Продолжение названного спора в современной России вкупе с имперским сознанием перекрывает пути выхода российского общества к самодостаточному развитию. «Запад» в данной конструкции – это не те или иные конкретные страны и общества, но исключительно «значимый другой», миф, фиксирующий границу собственной идентичности. Причём граница, как ни парадоксально, проведена 87 Григорий Миненков «извне», поскольку «Запад» – это смысловая точка, а «Россия» – феномен производный и представляемый лишь в негативной форме, в категориях непринадлежности к «Западу». Фактически, хотя и с иными знаками, воспроизводится всё та же логика европоцентризма. При этом данная граница – как бы двусторонняя: она ограждает Россию не только для того, чтобы в неё не проникало западное, но и чтобы не тратилось, не терялось, «не расплёскивалось» своё. Этой же логике следует и вообразившая себя неким имперским центром белорусская власть. Сосредоточённость на границе тем самым обнаруживает незавершённость и закомплексованность соответствующей культуры. Отсюда же и смысл, который придаётся в конструировании русской (а сегодня и белорусской) идентичности войнам: они показали именно «другим», какие мы есть на «самом» деле, и при этом не просто защитили, но и расширили наши границы. Иными словами, анализируя ту или иную культуру как совокупность «практик ограничивания», мы всегда должны исходить из той конкретной ситуации, в рамках которой порождаются культурные конструкты. Это – ситуация многочисленных голосов, реально существующих в том или ином обществе, позиционированных в соответствии с отношениями власти и авторитета. С этой точки зрения, замечает Дж. Фридман, культура не есть нечто там, в каком-то далёком от нас пространстве, которое мы стремимся схватить, какой-то текст или скрытый код. Это – относительно неустойчивый продукт практик производства смысла, многочисленных и социально размещённых актов приписывания смысла миру, многообразных интерпретаций как внутри определённого общества, так и между обществами.70 Это значит, что мы должны реконструировать культуру как поле практик и дискурсов, с которыми связаны конкретные социальные акторы и которые развиваются и изменяются в их взаимодействии. В каждом конкретном случае дискурсы и схемы, соответственно, конкретные границы являются результатом взаимодействия и в этом смысле оказывают обратное влияние на акторов. Именно с этой точки зрения может рассматриваться то, что обозначается как «европейская культура», и, соответственно, конструироваться белорусские дискурсы европеизма. Иначе говоря, следует исходить из проективного характера культуры. Характерным признаком культуры является наличие схем воображения – и прежде всего воображения границ. Схемы объединяют то, что реально разделено, сводят к одному пункту то, что многообразно. Они показывают единство там, где его нет, и пытаются установить контроль над разделенной траекторией. Подобные схемы достигают определённой степени социальной убедительности, усваиваются многими акторами и становятся «истинными» благодаря действиям, обретая тем самым социальную власть определения, редко оспариваемую. Действительные основания этой власти состоят в том, что подобные схемы не являются 88 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения «реальными», их необходимо подвергнуть проверке, приблизить к реальности, к «жизни». Чтобы быть успешными, такие попытки должны возобновляться снова и снова. Но в итоге они никогда не достигнут полного успеха – граница устанавливается логикой идентичности, что легко провоцирует на использование силы при конструировании границ. Особое значение в этом контексте имеет концепт пограничья (borderlands). Этот термин первоначально использовался для описания регионов, расположенных вдоль политических, обычно национальных, границ, для которых характерен высокий уровень экономического, социального и культурного обмена. Постепенно он стал распространяться и на описание ментального, культурного или психологического пространств сначала в США (особенно популярен этот подход при анализе границ между США и Мексикой, США и Канадой), а затем и на геополитические дискуссии об этнической идентичности в Европе. Идея пограничья представляет собой попытку справиться с идентичностями, которые не соответствуют господствующим дискурсам этничности, расы и нации, понять противоречия, которые возникают в случае наложения правовой и политической «большой картины» на реальный жизненный опыт культуры, пересекающей границы.71 Приведём определение пограничья, предлагаемое И. Бобковым: «Термин пограничье определённым образом характеризует топику пространства; это пространство, прилегающее к границе, соединённое и связанное границей, пространство, для которого именно граница является организующим принципом, сущностью и центром притяжения. Пограничье лежит по обе стороны от границы, и его топологический статус парадоксален: пограничье приобретает определённую целостность через факт собственной разделённости, т. е. через динамическое событие разграничения, встречи и перехода Своего и Чужого, или Единого и Иного. Именно это динамическое событие соответствует тому, что в европейском мышлении называется сущностью, центром, принципом, первопричиной, Богом»72. Правда, здесь нужно подумать, насколько целесообразно использование термина сущность. Может, лучше говорить о практиках конструирования сущностей. Очевидно при этом, что на границе происходит не слияние культур и идентичностей, но балансирование между ними, движение между культурами. Именно так, возможно, стоит осмысливать белорусские культуру и идентичность.73 Согласно Х. Бхабха, пограничье сегодня есть не просто географическое понятие, но скорее способ восприятия ситуации культуры, положения в этой культуре «промежуточных» пространств конструирования идентичностей. «Эти пространства “между” становятся фундаментом для выработки стратегий самости – индивидуальной или коллективной, – которые порождают новые черты идентичности, новые зоны взаимодействия и попытки переосмыслить идею 89 Григорий Миненков общества самого по себе».74 Тезис Бхабха нужно серьёзно осмыслить в плане интерпретации белорусского пограничья в контексте конструирования европейской идентичности. В центре подобного осмысления находится поиск ответа на вопрос: каким образом стратегии репрезентации и формирования (субъектов) возникают из разноречивых попыток самоидентификации сообществ, в которых взаимообмен ценностями, значениями и приоритетами действия далеко не всегда основывается на принципах равенства и сотрудничества, а порой и вовсе наоборот – на антагонизме, конфликтности и даже полнейшем взаимонепонимании? Вернёмся в этой связи к концепции Абдираловича, согласно которой бытие на границе, колебания между Западом и Востоком и отсутствие при этом чёткого выбора и составляют своеобразие белорусской идентичности. Правда, автор, как представляется, несколько упрощает проблему. Ведь ни «Запад», ни «Восток» не представляют собой в реальности нечто единое. Это всегда конструкции, обусловленные временем и политическими задачами, и их нельзя толковать внеисторически. Здесь, сошлёмся на Бхабха, не может быть каких-то заранее предзаданных культурных качеств, жёстко зафиксированных традицией, но имеет место процесс постоянного конструирования, особенно в ситуациях исторических трансформаций. Прямо к ситуации белорусского пограничья относятся следующие слова Бхабха: «“Право” наделять значениями (в отношениях периферии и авторизованной власти) нисколько не определяется господством традиции; оно каждый раз артикулируется заново посредством проявления мощи традиции в условиях неопределённости и противоречивости жизни тех, кто “в меньшинстве”. Признание того, что привносится традицией, является лишь частичной формой идентификации. Посредством реструктуризации прошедшего и внесения в него иновременных культурных конструктов осуществляется изобретение традиции. Этот процесс затрудняет непосредственный доступ к изначальной идентичности и “унаследованной” традиции. Пограничные столкновения культурных различий могут как достигать консенсуса, так и вступать в конфликт. Они способны вносить сумятицу в наши определения традиционного и современного обществ, перекраивать устоявшиеся границы между индивидуальным и общественным, между высоким и низким, бросать вызов традиционному пониманию развития и прогресса»75. В этой связи мы обращаемся к языку анализа границ идентичностей, разработанному в рамках постколониальных исследований. В частности, речь идёт о концептах гибридности и гибридных идентичностей. Во многом продолжая идеи С. Холла, Бхабха отмечает, что гибридная стратегия, или практика, открывает пространство согласования, в котором силы неравны, но их артикуляция допускает двойное толкование. Согласование делает возможным возникнове90 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения ние промежуточной деятельности, которая отказывается от бинарной репрезентации социального антагонизма. Иными словами, смысл гибридности в том, что такая идентичность занимает «третье пространство» между пространством колонизаторов и пространством колонизированных, т. е. ведёт пограничное существование. Она постоянно пересекает границу, не находясь нигде конкретно. Более того, гибридность – ключ к обсуждениям идентичности не только потому, что она усложняет и при этом предохраняет от узких категоризаций людей, но и потому, что она по-новому фиксирует изменчивость и случайность идентичностей, показывая, что они всегда являются продуктом конкретных цепей исторических событий и идей. Представляется, что именно в этом контексте возможно адекватное развитие европейских дискурсов Беларуси. Дискурс гибридности в данном случае пересекается с мультикультуральным дискурсом. Мультикультуральное в современном культурном и политическом дискурсе стало «плавающим означающим», загадка которого скрыта не столько в нём самом, сколько в его дискурсивном употреблении для обозначения социальных процессов, в которых дифференциация и конденсация происходят, по-видимому, почти одновременно. Переходность культуры, скажем, как в ситуации Беларуси, открывает более широкие возможности для конструирования идентичностей. Попытки строить закрытые культуры не имеют перспектив, ибо это, отмечает Бхабха, ведёт к разрушениям и хаосу. Речь должна идти о многообразии критического прочтения тех или иных культурных текстов, что превращает конструирование идентичности в политический процесс. По словам Бхабха, язык критики эффективен «потому, что он преодолевает предзаданные оппозиции и открывает пространство преобразования: выражаясь метафорически, пространство гибридности, где происходит конструирование политического объекта как нового, ни того и ни другого, совершенно отличного от наших политических ожиданий и с необходимостью трансформирующего саму форму прежнего понимания политического дискурса»76. Именно поэтому приоритет согласования над отрицанием позволяет развивать гибридные идентичности в позитивном направлении. Важно также учитывать пределы применения подобного языка при анализе белорусской идентичности в европейском измерении. Как отмечает И. Бобков, при обращении к проблеме белорусской идентичности мы обнаруживаем наличие в архиве европейского мышления двух стратегий: универсализация уникального (белорусский опыт рассматривается как часть более широкого, родового опыта) и уникализация универсального (белорусский опыт выступает как несоизмеримое и ни с чем не сравнимое событие). Очевидно политико-культурное различие последствий обеих стратегий. Именно поэтому, согласимся с Бобковым, «как цельная и полная, белорусская культура может состояться – в сегод91 Григорий Миненков няшних условиях – только как культура пограничья, как культура внутренней разграниченности, встречи и перехода отличных (разнонаправленных, конфликтных) культурных частей»77. В этом плане особое значение имеет освобождение Беларуси от колониального сознания и преодоление ею своей периферийности. Итак, очевидно, что возможны различные стратегии вхождения Беларуси в горизонты европейской идентичности. Среди этих стратегий ключевое значение принадлежит, на мой взгляд, стратегии конструирования современной белорусской идентичности как идентичности космополитической. Само наложение различных культурных потоков в Беларуси делает перспективным не исключение какого-то из них, но их взаимопризнание в форме строительства космополиса под названием «Беларусь», который может стать своеобразной моделью космополиса «Европа». И это не притязания на исключительность или центральность белорусского топоса, это констатация реального факта. Если прежде космополитизм оценивался скорее негативно, то сегодня он принимается более благосклонно, что связано с радикальными социальными изменениями и появлением новых практик идентификации. Более того, считается, что именно космополитизм в современном фрагментированном мире может стать основой согласования многообразных идентичностей, поскольку за ним скрыт принцип изначального равенства всех людей. Космополитизм как определённая идеология складывается, при опоре на античное и ренессансное наследие, в эпоху Просвещения. Наиболее чётко космополитическая идея в её классической форме в качестве политической философии была артикулирована И. Кантом, причём на основе её противопоставления не национализму, а теориям, преувеличивающим роль национального государства. И по сей день концепция Канта остается наиболее важным философским источникам современных нормативных теорий международных отношений, включая концепции глобального гражданского общества и транснациональной публичной сферы. Однако, обращаясь к сегодняшнему осмыслению космополитизма, важно учитывать время возникновения концепции Канта. «Вечный мир» Канта предшествует тому, что лорд Актон назвал эпохой «модерной теории национальности». Кант поэтому сосредоточен на философском обосновании гражданского республиканизма и федерализма. Феномен и концепт нации находились ещё в стадии формирования, и потому права нации для Канта не имели особого значения. Новое понимание космополитизма, уже противостоящее национализму, появляется тогда, когда нация привязывается к территориальному государству. Так, для К. Маркса (Манифест коммунистической партии) космополитизм есть выражение капиталистической эксплуатации во всемирном масштабе, а 92 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения сама буржуазия космополитична по своей сути. Космополитизм (интернационализм) есть результат реального развития производительных сил. Согласно Марксу, национальность принадлежит к начальной стадии капиталистического производства, являясь его естественной стадией. И даже если она уже устарела ввиду космополитического капитализма, она всё ещё существует, и её уход должен быть ускорен критикой идеологии. При этом космополитизм буржуазии есть необходимое и позитивное условие всемирной пролетарской революции, а также того, что пролетариат должен разрушить. В отличие от Канта, Маркс учитывает феномен нации, но также не придаёт ему особого значения, рассматривая его скорее как препятствие для космополитического развития. Афоризм о том, что «рабочие не имеют отечества», отсылает к неизбежной неспособности буржуазных наций господствовать над лояльностью пролетариата. Маркса более интересовало уничтожение государственного аппарата, чем его эпифеномена – национальной формы. Многие исследователи подчеркивают необходимость современного переосмысления космополитических идей Канта в ключе формирования нового космополитизма. Космополитическая политическая философия обосновывает возможность и желательность ограничения национального суверенитета во имя космополитической справедливости. Новый космополитизм отвергает идею, что формы солидарности концептуально связаны с национальным государством, и обращается к утверждению постнациональной, транснациональной или глобальной демократии. Аналогичный подход можно обнаружить и в социологии, отказывающейся от концепта национального общества в силу его несоответствия эпохе глобализации с глобальными рисками (У. Бек, Дж. Ури). В целом новый космополитизм оказывается синтезом самых различных новейших подходов в социальных и гуманитарных науках. Согласно Беку, космополитизация, будучи продуктом глобализации, представляет собой «внутреннюю глобализацию, глобализацию изнутри национально-государственных обществ. Это существенным образом трансформирует повседневное сознание и идентичности. Глобальные интересы становятся частью повседневного локального опыта и «“моральных жизненных миров” людей».78 Космополитизм оказывается и транснациональным словарём символов, и глубоким вовлечением в локальную деятельность, локальное сознание. В результате национальное перестаёт быть национальным как таковым и должно по-новому исследоваться как интернализованное79 глобальное. Если говорить обобщённо, то современный космополитизм по-новому оценивает обе ключевые опоры самопонимания модерных обществ, а именно нации и классы, отвергая претензию их партикулярных установок на универсальные идентичности. Подчёркивается, что обе установки следуют одной и той 93 Григорий Миненков же логике и ведут к насилию по отношению к другим. Это относится и к так называемому социалистическому интернационализму, который просто объявляет отдельные национальные интересы универсальными, исходя из принципа «классовой солидарности». Новый космополитизм ставит перед собой задачу преодоления как узкого партикуляризма, так и абстрактного универсализма. В этой связи важно понять установленную Беком связь между космополитизацией мира и «диалогическим воображением» как основой взаимной интерпретации культур. Национальное воображение является, по сути, монологическим, отмечает Бек. Космополитизм предлагает альтернативное воображение, или воображение альтернативных образов жизни и рациональностей, которые включают инаковость другого. В центр деятельности попадают рассмотрение и обсуждение противоречивого культурного опыта. Согласно Беку, методологический космополитизм революционизирует социальную науку, её принципы, методы и концепты, предлагая вместо принципа «или–или» принцип «и то, и другое» (например, «космополитический патриот»). Бек связывает космополитизм со своей теорией рефлексивной модернизации, ключевым индикатором которой является плюрализация границ. Этот момент принципиален для понимания космополитической идентичности. В частности, речь идёт о плюрализации границ между нациями-государствами, или «имплозии дуализма национального и интернационального». На языке методологического национализма границы сталкиваются, на языке же методологического космополитизма они сливаются. Иными словами, подчёркивает Бек, границы больше не являются детерминирующими факторами, они могут выбираться (и интерпретироваться) и одновременно – перерисовываться и легитимироваться наново.80 Этим полностью опровергаются прежние практики исключения идентичностей, не вписывающихся в принятые границы. Закономерно в этой связи то, что Бек настаивает на различении космополитизации и космополитизма. Последний для Бека представляет собой скорее искусственную идеологическую конструкцию, в то время как космополитизация есть структура референции для эмпирического исследования глобализации изнутри, или интернализованной глобализации. Одновременно космополитизация усиливает значение этического измерения социальной жизни. Следует также обратить внимание на то, как, согласно Беку, космополитизм устраняет претензии европейского модерна на исключительность. Космополитическая перспектива связана, таким образом, с воображением альтернативных образов жизни и рациональностей, включающих инаковость другого. Согласно У. Ханнерцу, «космополитизм есть отношение к самому разнообразию, к сосуществованию культур в индивидуальном опыте. Космополитизм есть прежде всего ориентация, стремление принять другого. Это интеллек94 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения туальная и эстетическая открытость дивергентному культурному опыту, поиск скорее оттенков, чем единообразия. И одновременно он может быть вопросом компетенции как в общем, так и в более специализированном смысле. Имеется в виду состояние готовности, способность принять иную культуру на основе слушания, смотрения, проникновения и осмысления. Речь идёт о культурной компетенции в строгом смысле слова, т. е. навыках постижения особой системы смыслов и смысловых форм»81. Именно в этом смысл того, что Бек называет «космо-логикой», или мышлением и жизнью на языке инклюзивных противоположностей. Такое мышление в «движущихся границах» действительно делает нас гражданами мира, показывая, что всякое жёсткое определение границ есть чаще всего нежелание и/или неспособность видеть иное. Идентичности всё время оказываются на пересечение различных культурных и иных полей, т. е. открытыми, обсуждаемыми, инклюзивными. В этом и заключается смысл внутренней глобализации, что оборачивается серьёзными этическими вопросами, ибо очевиден кризис легитимации национальной этики исключения. Оказываются под вопросом принципы конструирования внутренних иерархий элементов или состояний. В этой связи интересна, в том числе в контексте белорусской идентичности, интерпретация К. Аппиа соотношения космополитизма с патриотизмом, национализмом, либерализмом. Особое значение имеет его идея о том, что космополитизм не отменяет единообразия, а, напротив, приветствует его, следуя в этом либерализму: «Защищаемый мною либеральный космополитизм можно представить следующим образом: мы ценим разнообразие форм социальной и культурной жизни людей; мы не хотим, чтобы все стали частью гомогенной глобальной культуры; и мы знаем, что это также подразумевает существование локальных различий (как внутри государств, так и между ними)»82. В этом смысле космополитизм отнюдь не выступает против государства или локальных сообществ. Напротив, они как раз и позволяют, если организованы в либеральном духе, гарантировать космополитическое разнообразие идентичностей. И хотя, по словам А. Аппадураи, сегодня наступили трудные времена для патриотизма, всё же можно найти новые его интерпретации. Аппиа, например, использует концепт «космополитического патриота»: «Космополитический патриот может принимать возможность мира, в котором каждый является укоренённым космополитом, связанным со своим домом, со своими культурными особенностями, но испытывать удовольствие от существования других, отличающихся, мест, являющихся домом других, отличающихся, людей»83. Хабермас в этом контексте работает с концептом «конституционного патриотизма», синтезирующим космополитические институты с новым пониманием национальной идентичности. 95 Григорий Миненков В этой связи обратим внимание на тезис Бека: переживание космополитического кризиса означает, что люди по всему миру подвергают сомнению коллективное будущее, поскольку оно противоречит национально фундированной памяти о прошлом. Это сменяет сам ракурс конструирования идентичности как желаемого будущего. Память о глобальном прошлом у людей отсутствует, но при этом есть воображение глобально общего коллективного будущего как космополитического общества. Конечно, отмечает Бек, и национальное, и космополитическое воображение ориентировано и на прошлое, и на будущее. Однако методологический национализм исходит из следствий для будущего общего национального прошлого, воображаемого прошлого, в то время как методологический космополитизм – из следствий настоящего для глобально общего будущего, воображаемого будущего. Именно будущее, а не прошлое «интегрирует» космополитическую эпоху.84 Но при этом мы сталкиваемся с существенным противоречием между сознанием и действием: глобальное осознание общего коллективного будущего не включает адекватные формы действия, поскольку последние основываются только на прошлом неглобальном опыте. Это значит, продолжим мысль Бека, что космополитический кризис в острой форме выражается как кризис идентичности. В политическом измерении речь, следовательно, должна идти о выходе за пределы жёстких политических делений. Представляется, что применительно к Беларуси и авторитарная власть, и старая оппозиция, особенно её «национальное» крыло, всё ещё остаются в пределах «методологического национализма», не важно с каким знаком. Именно здесь источник несостоятельности и неудачи их проектов конструирования идентичности. Интуитивно именно новая белорусская оппозиция, которая растёт и организовывается «снизу», выразила современные тенденции политики своей обращенностью к миру, свободе, достоинству индивида, не ограниченным языковыми или национальными рамками. И в таком качестве она стала понятной миру, и будет становиться всё более понятной массовому сознанию, также интуитивно космополитическому, открытому. Неслучайно такая установка сознания новой оппозиции оказалась той силой, которая, несмотря на все усилия государственных СМИ, явилась источником разрушения зомбированного сознания.85 Обобщённо Аппиа следующим образом описывает космополитическую идентичность: «По сути, я утверждаю, что можно быть космополитом – приветствуя многообразие человеческих культур; укоренённым – преданным одному (или нескольким) локальному обществу, которое индивид считает своим домом; либералом – убеждённым в ценности индивида; патриотом – приветствуя институты государства (или государств), в котором индивид проживает. Космополитизм проистекает из тех же источников, которые питают и либерализм, по96 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения скольку именно многообразие форм жизни людей обеспечивает словарём язык индивидуального выбора. А патриотизм проистекает из либерализма, поскольку государство упорным трудом создаёт пространство, в рамках которого мы открываем возможности свободы. Для укоренённого космополита всё это есть одно целое»86. В то же время важно понять мысль Аппадураи о том, что постнациональные движения и идентичности ещё не нашли путей выхода за пределы логики нации-государства, что часто приводит к насильственным практикам.87 Согласно А. Аппадураи, с появлением символических миров глобальных культурных индустрий тождество государства, общества и национальной идентичности упраздняется: представление о возможных жизнях уже нельзя понимать исключительно в национальном, этническом или каком-либо ещё партикулярном плане. Особое внимание должно быть сосредоточено на том, что сегодня называют детерриториализацией, которая охватывает не только экономические потоки, но и этнические группы, социальные движения и политические образования, преодолевающие конкретные территориальные границы и идентичности. Повседневное воображение людей уже не связано исключительно с данным геополитическим пространством и его культурными идентичностями. Даже мусорщики живут в мусоре мирового общества, благодаря этому мусору включаясь в круговорот символов глобальной культурной индустрии. Всё сказанное означает, что в центр воображения белорусской идентичности как идентичности европейской и космополитической должно быть поставлено понятие гражданской идентичности. Впервые связь космополитизма с гражданством установлена Кантом, который выдвинул идею о гарантиях права мирового гражданства для всех. Цивилизация будет защищена от варварства только тогда, когда основное правоотношение будет действовать глобально. Но здесь мы сталкиваемся с парадоксом, отмечает Бек. Гарантия основных прав, как считается, предполагает наличие нации-государства. Но как тогда гарантировать космополитическое правоотношение между государствами и гражданами различных стран? Здесь начинают конкурировать различные структуры идентификации. Выход – формирование в этой сфере через борьбу и компромиссы космополитической модели: в центре анализа должен находиться индивид, а между индивидами, межгосударственными и неправительственными организациями необходимо наличие прямых отношений. «Не межкультурный консенсус по основным правам, а процесс сотрудничества и возникающие при этом взаимозависимости дают ключ к транснациональным гарантиям основного права. Это частично кодифицированные, частично некодифицированные процедуры, в которых закладываются, улаживаются и выстраиваются транснациональные связи – плотная многомерная ткань из взаимных переплетений и обязательств, 97 Григорий Миненков и эти связи должны, по-видимому, выражать идею космополитической демократии и сделать возможной её реализацию».88 Дж. Диленти предлагает модель гражданского космополитизма. Важным при этом является обоснование идеи космополитической публичной сферы как результата взаимодействия между транснациональной, национальной и локальной публичными сферами. Гражданский космополитизм есть политика автономии, которая предохраняет гражданское общество от новой фрагментации.89 По мнению Диленти, необходимо, следуя Хабермасу, переосмыслить отношение между космосом и полисом. Если национализм есть выражение человеческого порядка полиса, а постнационализм – более высокого порядка космоса, то как найти точку опосредования? Диленти в этой связи не принимает крайности коммунитаризма и постнационализма. Выходом из этого противоречия является «гражданский космополитизм», поскольку если космополитизм не включает признание, он неэффективен. Национализм монополизирует идею солидарности. Задача космополитизма и состоит в том, чтобы примирить сообщество и глобализацию. Причём, в отличие от Хабермаса, нужно подчёркивать и культурное измерение космополитизма.90 Формой выражения такого гражданства и является космополитическая публичная сфера. Без нее правовые и политические формы глобального гражданского общества не будут укоренены в гражданском измерении сообщества, что необходимо для того, чтобы сопротивляться гомогенизации, вызываемой глобализацией. Публичная сфера есть более фундаментальная форма сообщества, чем политическая и правовая сферы гражданского общества. Это – сфера коммуникации и культурных споров. Космополитическая публичная сфера не является с необходимостью глобальной публичной сферой как таковой, хотя это и может быть одним из её измерений; она размещается в национальных и субнациональных публичных сферах, которые трансформируются в результате взаимодействия. Короче говоря, необходимо различать субнациональную, национальную и транснациональную публичные сферы с точки зрения выражения в них степени космополитизма. Когда такие гражданские космополитические публичные сферы становится очевидными, можно обращаться к особому вопросу правовых и политических форм космополитического гражданского общества.91 Очевидно наличие врагов у подобных установок. Бек выделяет три враждебные космополитизму позиции: национализм, глобализм, демократический авторитаризм. Для наших целей особенно интересна третья позиция.92 При всём ослаблении нации-государства не следует недооценивать, замечает Бек, возможности его маневрирования и движения к авторитаризму при сохранении демократического фасада, что вполне отвечает элитарной модели демократии. 98 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения В этом и выражается суть демократического авторитаризма. Например, если усиливаются тенденции к насилию среди молодёжи, то почему бы не ужесточить наказания? Или почему бы, как в случае Беларуси, ради так называемого порядка и корпоративности не уничтожить оппозицию и не превратить выборы в «демократическое» издевательство над выборами? Правда, отмечает Бек, эта тенденция усиливает и космополитическое движение, от которого требуется выдвижение нового политического проекта, ориентированного на свободу, с целью формирования эффективной космополитической мировой политики, исходящей из новой диалектики глобального и локального, не вмещающейся в рамки традиционной национальной политики. Такая политика, полагает Бек, должна опираться и на нового политического субъекта – космополитические партии, которые в транснациональном измерении репрезентировали бы транснациональные интересы, действуя при этом также и на арене национальной политики. При каких условиях такие партии могут достичь силы и реального влияния? Ответ на этот вопрос, делает вывод Бек, можно найти только в пространстве политического экспериментирования. Как представляется, одним из направлений такого экспериментирования может стать белорусский, космополитический по сути, дискурс европеизма. Примечания 1 2 3 4 Поскольку буквальный русский перевод термина modernity как «современность» не только не выражает сути соответствующего понятия, но и, более того, затемняет её, я использую кальку английского термина. Учитывая, что мы находимся в переходной ситуации, которую удобнее всего называть «поздней модернити», приведём для обозначения позиции следующую характеристику: «Как культурная идея модернити связана со способностью общества интерпретировать само себя и действовать на основе знания; как социальный концепт модернити связана со сферой социальных институтов, в которых структурируются социальные отношения; и как политическое понятие модернити связана с динамическим движением общества, в ходе которого социальные акторы производят социальные изменения, интегрируя свои креативные и присваивающие силы в ту конкретную ситуацию, в которой они себя обнаруживают» (Delanty G. Social Theory in a Changing World: Conceptions of Modernity. Polity Press, 1999. P. 12). Stråth B. An European Identity: To the Historical Limits of a Concept // European Journal of Social Theory. 2002. Vol. 5(4). Р. 388. Delanty G. Inventing Europe: Idea, Identity, Reality. N. Y.: St. Martin’s Press, 1995. Р. 1. Ibid. P. 3. 99 Григорий Миненков 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 100 См.: Nelson B., Roberts D., Veit W. (eds.) The Idea of Europe: Problems of National and Transnational Identity. New York, Oxford: Berg, 1992. См.: Therborn G. Multiculturality and East Central Europe in European Modernity. In: T. Forsgren, M. Peterson (eds.) Cultural Crossroads in Europe. Uppsala: FRN, 1997. См.: Delanty G. (1995) Op.cit. P. viii. См.: Goddard V. A., Llobern J. R., Shore C. (eds.) The Anthropology of Europe: Identification and Boundaries in Conflict. Oxford: Berg, 1994. См.: Stråth B. Op. cit. P. 388. Подробнее см.: Дэвiс Н. Канцэпцыi Эўропы // Фрагмэнты. 2000. № 3–4 (www.frahmenty.knihi.com). Stråth B. Op. cit. P. 391. См.: Nelson B., Roberts D., Veit W. Op. cit. P. 12–13. Delanty G. (1995) Op. cit. P. 2. См.: Taylor C. The Ethics of Authenticity. Cambridge, MA & London: Harvard University Press, 1992; Ferrara A. Reflective Authenticity: Rethinking the Project of Modernity. London & New York: Routledge, 1995. Toulmin S. Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. Chicago: The University of Chicago Press, 1990. См.: Delanty G. (1995) Op. cit. P. 13. См.: Strath B. Op. cit. P. 391. См.: Delanty G. (1995) Op. cit. P. 4–5. Подробнее см.: Delanty G. (1995) Op. cit.; Stråth B. Op. cit.; Браг Р. Европа, римский путь // Вестник Европы. 2003. № 10 (http://magazines.russ.ru/vestnik/). Mikkeli H. Europe as an Idea and Identity. London: Macmillan, 1998. Р. 230. Бэрджыс П. Эўрапейскiя межы: гiсторыя прасторы/прастора гiсторыi // Фрагмэнты. 2000. № 3–4 (www.frahmenty.knihi.com). Stråth B. Op. cit. P. 391. Анализ различных вариантов трактовки Европы как Запада см. в: Дэвiс Н. Указ. соч. Подробнее см.: Терин Д. Ф. «Цивилизация» против «варварства»: к историографии идеи европейской уникальности // Социологический журнал. 2003. № 1 (http://knowledge.isras.ru/sj/) См.: Дэвiс Н. Указ. соч. Delanty G. (1995) Op. cit. P. 85–86. Подробнее см.: Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб.: Алетейя, 2000; Миллер А. И. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // Новое литературное обозрение. 2002. № 52 (http://magazines.russ.ru/nlo/2001/52/); Миненков Г. Я. (авт.-сост.) Проблема религиозно-культурной идентичности в русской мысли XIX–XX веков: современное прочтение. Учебно-методическое пособие. Мн.: ЕГУ, 2003; Новопашин Ю. С. (ред.) Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности: Сб. статей // Международный исторический журнал. 2000. № 11 Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 (http://www.history.machaon.ru/number_01/index.html). Шимов Я. Средняя Европа: путь домой // Неприкосновенный запас. 2001. № 4(18) (http://magazines. russ.ru/nz/2001/4/). Delanty G. (1995) Op. cit. P. 100. См.: Ambjörnsson R. East and West: On the Construction of a European Identity. In: T. Forsgren, M. Peterson (eds.) Cultural Crossroads in Europe. Uppsala: FRN, 1997. Seton-Watson H. What Is Europe, Where Is Europe? From Mystique to Politique // Encounter. 1985. Vol. 65(2). От реификация – восприятие человеческих феноменов в качестве вещей, то есть в нечеловеческих и, возможно, в сверхчеловеческих терминах. То же самое можно сказать иначе: реификация – это восприятие продуктов человеческой деятельности как чего-то совершенно от этого отличного, вроде природных явлений, следствий космических законов или проявлений божественной воли. «Реификация означает как то, что человек может забыть о своём авторстве в деле создания человеческого мира, так и то, что у него нет понимания диалектической связи между человеком-творцом и его творениями. Реифицированный мир, по определению, мир дегуманизированный. Он воспринимается человеком как чуждая фактичность, как opus alienum, который ему неподконтролен, а не как opus proprium его собственной производительной деятельности» (Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С. 145). От англ. рattern – модель, образец. Повторяющаяся комбинация действий, событий или элементов системы. Данное понятие широко используется в прикладных науках (например, в программировании) и в психологии. В последней паттернами обычно обозначают устойчивые модели поведения индивида или сообщества, а также систематически повторяющиеся распределения ролей. Подробнее см.: Шлёгель К. Европа – пограничная страна // Вестник Европы. 2003. № 9 (http://magazines.russ.ru/vestnik/). Delanty G. (1995) Op. cit. P. 156. См.: Дэвiс Н. Указ. соч. Цит. по: Kozlarek O. Critical Theory and the Challenge of Globalization // International Sociology. 2001. Vol. 16(4). Р. 612. Ibid. См.: Therborn G. Op. cit. Р. 26–28. Delanty G. (1995) Op. cit. P. 15. См.: Strath B. Op. cit. P. 397–398. Подробнее см.: Cerutti F. A Political Identity of the Europeans? // Thesis Eleven. 72 (2003). Ibid. Р. 27. Ibid. Р. 28–29. 101 Григорий Миненков 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 102 См.: Delanty G. (1995) Op. cit. P. 10; см. также: Dijkstra S., Geuijen K., De Ruijter A. Multiculturalism and Social Integration in Europe // International Political Science Review. 2001. Vol. 22(1). См.: Роккан С., Урвин Д. В. Политика территориальной идентичности: Исследования по европейскому регионализму // Логос. 2003. № 6 (http:// magazines.russ.ru/logos/2003/6/). См.: Ferrera M. European Integration and National Social Citizenship: Changing Boundaries, New Structuring? // Comparative Political Studies. 2003. Vol. 36(6). См.: Rumford C. European Civil Society or Transnational Social Space? Conceptions of Society in Discourses of EU Citizenship, Governance and the Democratic Deficit: An Emerging Agenda // European Journal of Social Theory. 2003. Vol. 6(1). Р. 26. Habermas J. Why Europe Needs a Constitution // New Left Review. 11 (2001). September/October (www.newleftreview.net/NLR24501.shtml). Delanty G. (1995) Op. cit. P. 12. См.: Borradori G. Philosophy in a Time of Terror: Dialogue with Jurgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago: University of Chicago Press, 2003. См.: Amin A. Multi-ethnicity and the Idea of Europe // Theory, Culture & Society. 2004. Vol. 21(2). Подробнее см.: Soysal Y. Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe. Chicago: Chicago University Press, 1994; Soysal Y. Changing Boundaries of Participation in European Public Spheres: Reflections on Citizenship and Civil Society. In: K. Eder, B. Giesen (eds.) European Citizenship Between National Legacies and Postnational Projects. Oxford: Oxford University Press, 2001. Eder K., Giesen B. Conclusion. In: K. Eder, B. Giesen (eds.) Op. cit. Р. 267. Delanty G. Citizenship in a Global Age: Society, Culture, Politics. Open University Press, 2000. Р. 87. Подробнее см.: Sypnowich C. The Culture of Citizenship // European Journal of Social Theory. 2000. Vol. 28(4). Melucci A. Challenging Codes: Collective Action in the Information Age. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996. Р. 115–116. Amin A. Op. cit. Р. 13. Подробнее см.: Agamben G. Means without Ends. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000. Dikeç M. Pera Peras Poros: Longings for Spaces of Hospitality // Theory, Culture & Society. 2002. Vol. 19(1–2). Р. 239. Calhoun C. Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, and the Public Sphere // Public Culture. 2002. Vol. 14(1). Р. 157, 171. Бодрийар Ж. В тени тысячелетия, или Приостановка года 2000 (http://anthropologia.spbu.ru/ru/texts/baudrill/shmill.html). Там же. См.: Казакевіч А. Вялікае Княства Літоўскае як ідэалягічная рэальнасьць // ARCHE. 2003. № 5 (http://arche.home.by/index.html). Европейская идентичность как горизонт белорусского воображения 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Подробнее см.: Миненков Г. Я. Идея человечества Вл. Соловьёва в контексте глобализации // Россия и Вселенская церковь: В. С. Соловьёв и проблема религиозного и культурного единения человечества. М., 2004. Абдзiраловiч I. Адвечным шляхам. Дасьледзiны беларускага светапогляду. Мн., 1993. Акудовіч В. Разбурыць Парыж // Фрагмэнты. 2000. № 3–4 (www.frahmenty. knihi.com). См.: Булгакаў В. Блізіня нуля: пра філязофію і «філязофію» беларускіх думаньнікаў // ARCHE. 1999. № 4 (http://arche.home.by/index.html). См.: Нордберг М., Кузио Т. Построение наций и государств. Историческое наследие и национальные самосознания в Белоруссии и Украине (Сравнительный анализ) // Белоруссия и Россия: общества и государства. М.: Права человека, 1998 (http://www.yabloko.ru/Themes/Belarus/belarus-30.html). Бобков И. Этика пограничья: транскультурность как белорусский опыт // Перекрестки: Журнал исследований Восточноевропейского пограничья. 2005. № 3–4. С. 129. Friedman J. Cultural Identity and Global Process. London: Sage, 1994. Р. 75. Подробнее см.: Шпарага О. Как и зачем концептуализировать Беларусь? // Перекрестки. 2004. № 1–2. Бобков И. Указ. соч. Р. 128. См. также: Шпарага О. Указ. соч. Бхабха Х. Местонахождение культуры // Перекрестки. 2005. № 4–5. С. 162. Там же. С. 162–163. Там же. С. 173. Бобков И. Указ. соч. Р. 136. Beck U. The Cosmopolitan Society and its Enemies // Theory, Culture & Society. 2002. Vol. 19(1–2). Р. 17. От лат. intemus – внутренний. Процесс освоения индивидом или группой людей социальных ценностей, норм, представлений, установок, стереотипов, принадлежащих тем, с кем он или они взаимодействуют. В результате структуры внешней по отношению данной личности или группе социальной деятельности превращаются в их внутренние регуляторы поведения. Beck U. Op. cit. Р. 19. Hannerz, U. Cosmopolitans and Locals in World Culture. In: M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (eds.) Global Modernities. London: Sage, 1995. Р. 239. Appiah K. A. Cosmopolitan Patriots. In: P. Cheah, B. Robbins (eds.) Cosmopolitics: Thinking and Feeling Beyond the Nation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. Р. 94. Ibid. Р. 91. Beck U. Op. cit. Р. 27. Подробнее см.: Миненков Г. К новой оппозиции. 2006 (http://belintellectuals. com/discussions/?id=120); Миненков Г. «Отморозки», или О том, как рождается гражданская идентичность // Топос. 2006. № 13. С. 25–45. Appiah K. A. Op. cit. Р. 106–107. 103 Григорий Миненков 87 88 89 90 91 92 104 Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. Р. 166. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000. С. 166. См.: Delanty G. (2000) Op. cit. Р. 6. Ibid. Р. 138–140. Ibid. Р. 145. Подробнее см.: Beck U. Op. cit. Р. 37–41. Альмира Усманова Восточная Европа как новый подчинённый субъект К постановке проблемы На первый взгляд название статьи может показаться несколько вызывающим. Как минимум, вызывающим вопросы: во-первых, что такое «подчинённый субъект», а во-вторых, насколько уместно применение этого термина (и образа) к Восточной Европе. Начну с первого вопроса: понятие «подчинённого», или «угнетённого», субъекта (Subaltern) мною позаимствовано у теоретиков постколониальных исследований – Гайятри Спивак и др. индийских марксистов1, – которые, в свою очередь, извлекли его из теоретического наследия Антонио Грамши. К слову сказать, в настоящее время Subaltern Studies, выделившись из постколониальной теории, представляют собой достаточно авторитетное и автономное академическое направление, у которого есть и свой – одноимённый – журнал. Слово Subaltern с трудом поддаётся переводу на русский язык в силу своей многозначности. Помимо значения «угнетённый» (коннотация классовой гегемонии), оно имеет и другие смыслы: «низший по рангу» (коннотация искусственно закреплённого статусного положения), «подчинённый» (коннотация функциональной зависимости). Во всех случаях – идёт ли речь о рабочем классе, о населении стран третьего мира, о женщинах – имеются в виду беспрекословная (в буквальном смысле – без права на речь от первого лица) зависимость от «вышестоящих инстанций» и отсутствие доступа к институциональным механизмам борьбы за власть. Отвечая на второй из поставленных выше вопросов, можно отметить, что постколониальная теория сегодня – это не столько исторические или социологические исследования, 105 Альмира Усманова сколько эпистемологическая теория, критика определённой парадигмы знания, которая производит «колониального» субъекта и формы подчинённой рациональности. Говоря словами Вальтера Миньоло, «постколониальные теоретические практики не только изменяют наше восприятие колониальных процессов, но также бросают вызов самим основаниям западной концепции знания путём установления эпистемологических связей между геокультурным положением и теоретической продукцией»2. Итак, в качестве объекта постколониальной критики выступает «Запад» и порождённые им дискурсивные модели, натурализующие завоевание, колонизацию, угнетение – как физическое, так и метафизическое – всех остальных, не-западных, субъектов. Эти модели преподносятся как универсальная теоретическая матрица, с помощью которой можно объяснить, сделать интеллигибельными любой опыт и любые исторические и социальные процессы. Например, как показывает на примере исторического знания Дипеш Чакрабарти, Европа была и остаётся суверенным теоретическим субъектом всех историй, включая «индийскую», «кенийскую», «бразильскую», «китайскую» и прочие локальные истории, – то есть изначально, априори, все неевропейские модели объяснения истории оказываются в положении subaltern. Далее, политическая «современность» (modernity) также является порождением европейской политической и философской традиции, и такие понятия, как гражданство, равенство перед законом, государство, гражданское общество, публичная сфера, права человека, индивид, различие между приватным и публичным, идея субъекта, демократия, суверенитет, социальная справедливость, научная рациональность и многие другие, применяются повсеместно как универсальные.3 Скрытый европоцентризм (кстати, подвергающийся в последнее время серьёзной критике и со стороны европейских теоретиков4) большинства научных теорий и используемых ими понятий опирается на такую идею истории, согласно которой любое явление сначала имело место быть на Западе, а потом – в другом месте. Нетрудно заметить, что практически все гуманитарные и социальные науки – от антропологии до лингвистики – представляют эволюцию своего объекта таким образом, чтобы создавалась целостная картина прогрессивного, последовательного развития разных культур и народов в одном направлении и часто из одного центра (таким центром, как правило, выступает античная Греция), при этом некоторые страны и народы (как правило, европейские) прибывают к месту назначения раньше, чем другие. Эта идеология (известная нам под названием «историцизм»), несомненно, способствовала установлению европейского господства над миром в XIX в. и сохраняет свою роль влиятельного инструмента власти-знания в политическом, экономическом и академическом дискурсах по сей день – как весьма убедительный способ сказать другим на106 Восточная Европа как новый подчинённый субъект родам «пока ещё нет». Дипеш Чакрабарти полагает, что истоки колониальной модели истории (для которой историческое время стало способом измерения культурной дистанции между Западом и не-Западом) следует искать в работах Стюарта Милля (О свободе, О представительном правлении), где, в частности, высказывается и «доказывается» мысль о том, что индийцы или африканцы ещё не настолько цивилизованы, чтобы управлять самими собой.5 Соответственно, историцизм характеризуется постколониальными теоретиками как своеобразная рекомендация колонизированным народам овладеть искусством ожидания. Как мне представляется, в том сценарии «нормализации», который был предложен Евросоюзом Восточной Европе в 1990-е гг. (в рамках специально разработанных условий для вступления в ЕС), мы имеем очень похожую ситуацию, где «сырые» нации приговариваются к пребыванию в воображаемой комнате ожидания в мировой истории, прежде чем будут приняты в сообщество развитых стран. Немаловажно, что термин «постколониализм» фактически означает «неоколониализм», поскольку в современных условиях, когда, с точки зрения международного права, деления на метрополии и колонии больше не существует, сам феномен колонизации никуда не исчез: он просто принял другие, более изощрённые и скрытые формы в рамках экономических, политических, культурных, лингвистических, научных обменов. И это позволяет нам выявлять колониальные амбиции даже в тех случаях, когда в классическом смысле слово «колония» выглядит совершенно не уместным – такова, на мой взгляд, ситуация Восточной Европы после 1989 г. в её отношениях с Западом (будь то «старая Европа» или США). Сегодня «колонизация» осуществляется в первую очередь посредством языка и академических дискурсов, которые затем с готовностью используют политики и экономисты для легитимации собственных действий и стратегий (говоря подругому, интеллектуалы способствуют международному разделению труда6). С одной стороны, как пишет Вальтер Миньоло, «не существует географического или эпистемологического места, которое обладает правами собственности на теоретические практики»7, но с другой – в действительности мы сталкиваемся с тем, что «локус постмодерного теоретизирования находится в первом мире»8, а теоретики, пишущие из ситуации «маргинализации» и исходящие «из подчинённого опыта», оказываются в положении лишённых речи «угнетённых субъектов»: для того чтобы их/нас услышали или приняли во внимание, им/нам приходится говорить на колониальном языке, используя предлагаемые им/нам концепты, методы и интерпретативные схемы. Я исхожу из того, что сегодня теоретику из Восточной Европы, пытающемуся осмыслить современные социальные, экономические и политические процессы в этом регионе, чтобы затем 107 Альмира Усманова донести результаты своего анализа до более широкой аудитории, волей-неволей приходится учитывать локус собственной речи: многие из нас неоднократно сталкивались с тем, что если нам и не отказано в праве на высказывание, то в любом случае произносимое нами должно вписываться в горизонт ожиданий западной публики, так как, по умолчанию, теоретику из Штатов или Европы «оттуда» виднее, что с нами происходит, и он «лучше знает», как это можно концептуализировать. Неважно, идёт ли речь о политике, кино или советской истории: например, любая попытка позитивного анализа советской модели гендерных отношений в сравнении с западным опытом или значения левой утопии в истории европейского сообщества, чаще всего обречена на самый суровый отпор со стороны западных «экспертов». Однако невнимание к произнесённому «где-то в другом месте», за пределами Европы, – и особенно произнесённом на своём языке – далеко не всегда является осознанным жестом неприятия, отталкивания, репрессии: то, что происходит здесь и сейчас, нередко оказывается интересным только для нас, для аборигенов (и в этом смысле работу по концептуальному осмыслению нашего опыта нельзя перепоручить, отложить, оставить на усмотрение кого-то другого). Соответственно, «угнетённый» – это ещё и субъект, значение которого для центров власти и автономии слишком ничтожно, чтобы о нём вообще стоило говорить. Можно согласиться здесь с Игорем Бобковым, который полагает, что Старый Свет пытается скрыть «глубокое внутреннее безразличие» к Другому, а сам этот Другой нужен «первому миру» в качестве «экзотического дополнения», удовлетворяющего «рыночную потребность в разнообразии потребительских предложений».9 Забегая вперёд, хотелось бы отметить, что Беларусь, в отличие от той же России, по большому счёту западному миру не интересна, и потому центральная проблема данного сборника – проблема осмысления отношений между Беларусью и Европой – актуальна, скорее всего, лишь для нас самих, но не для Европы10, и я лично не питаю по этому поводу никаких иллюзий. Собственно говоря, не менее щекотливым оказывается положение Беларуси (как и некоторых других малых стран, которые получили независимость в начале 1990-х гг.) также и в отношении России, ещё одного Большого Брата, сыгравшего непоследнюю роль в «запущенном сценарии провинциализации» (если использовать мысль Дмитрия Пригова) бывших советских республик. С учётом того, что после развала Советского Союза в свете новых геополитических реалий имперские амбиции России значительно возросли (и это также прослеживается в различных дискурсивных формах), позиция «подчинённого субъекта» становится ещё более уязвимой. Итак, центральной проблемой данного текста является та эпистемологическая конструкция, те способы интерпретации, тот концептуальный язык, кото108 Восточная Европа как новый подчинённый субъект рые применяются сегодня для анализа процессов, происходивших в Восточной Европе в последние пятнадцать лет, в соответствии с которыми оформляется, легитимируется и воспроизводится различие между «мы» и «они» (в данном случае, между Восточной и Западной Европой, а также между теми, кто уже стал членом Евросоюза, и теми, кто не сможет на это претендовать и в будущем). Понятие «границы» в этой связи приобретает особое значение, причём, с одной стороны, речь пойдёт о вполне осязаемых, материальных границах, пришедших на смену непроницаемому «железному занавесу», а с другой – о дискурсивных границах, невидимость которых обусловлена тем, что чаще всего они не осознаются, от чего их эффективность только возрастает (их действие можно сравнить с пресловутым «стеклянным потолком»11). Те ограничения и последствия, которые налагаются дискурсами, наиболее рельефно проявляются в «политиках имени» – в тех способах, которыми обозначаются территории и процессы, на этих территориях протекающие. Сформулированная выше задача кажется неподъёмной для решения в рамках одной статьи (тем более что для убедительного доказательства основного тезиса – о структурной и дискурсивной маргинализации Восточной Европы – мне потребовались бы аргументы и конкретные примеры из таких областей знания, как экономика или политология), поэтому, вероятно, мне придётся ограничиться лишь постановкой вопросов, которые в связи с этой темой было бы важно обсудить. К сожалению, целый ряд тем, которые я первоначально планировала раскрыть, не будут затронуты в этом тексте по причине ограниченного объёма. В первую очередь, это касается вопроса о левой утопии и судьбе марксизма в «старой» и «новой» Европе, хотя для понимания того, что произошло в Европе после 1989 г. (как с точки зрения «большой политики» и экономики, так и в плане поиска адекватной модели описания случившегося), – это ключевая и, возможно, наиболее болезненная проблема, которая к тому же приобретает особое звучание применительно к белорусской ситуации. Поскольку нынешняя белорусская власть монополизировала право на критику либеральной идеологии, а вместе с ней и всего Запада, прибегая в зависимости от коммуникативного контекста то к стилистике советского политического дискурса, то к риторике западных антиглобалистов, постольку найти правильную интонацию и ракурс обсуждения проблемы сопротивления идеологии рынка и либеральной демократии, а вместе с ними и места Беларуси в современной геополитике довольно сложно, однако я попытаюсь это сделать в заключительном разделе данной статьи. 109 Альмира Усманова After the Wall: великая иллюзия объединённой Европы Впервые мысль о том, что из «Другого» Восточная Европа плавно трансформировалась в Subaltern, посетила меня несколько лет назад, когда вся Европа эйфорически праздновала десятилетие падения Берлинской стены. После того как завершились празднества, конференции и выставки, приуроченные к этому событию, казалось, наступила новая эпоха. Эпоха, когда на место стремительным изменениям и постоянному ожиданию ещё большего чуда, пришло осознание того, что настало время заняться бюрократическим оформлением новых отношений. Бывшим восточно-европейским странам о советском прошлом полагалось забыть и настроиться только на мысли о будущем – о перспективах вступления в Евросоюз. И именно тогда стало понятно, что наступила эпоха новых различий, границ и иерархий: мечтать о светлом будущем предлагалось не всем, а лишь happy few. Кроме того, выяснилось, что новый мировой порядок, радикально изменивший расстановку сил на геополитической арене, не изменил главного: страны Восточной и Центральной Европы, выйдя из-под влияния СССР и приобретя долгожданную независимость, были вынуждены признать – ключевые для них решения опять принимаются где-то в другом месте и другими людьми. С точки же зрения Запада восточно-европейцы, казалось, нормализовались настолько, что пора перестать рассматривать их как диковинных зверюшек, но ещё вопрос, стоит ли к ним относиться как к полноправным партнёрам по диалогу. Восточная Европа была интересна Западу, пока она жила за «железным занавесом», то есть пока сохраняла статус реального Другого. С течением времени – и особенно на фоне того, как границы становились всё более осязаемыми, а политические отношения между бывшими «братьями» и «сестрами» всё более напряжёнными, – у многих из нас возникло ощущение, что первоначальная эйфория, вызванная объединением двух Германий и последовавшими за этим событием политическими и экономическими трансформациями во всем регионе, куда-то улетучилась. И дело здесь не только и не столько во временной дистанции, отделяющей нас от того памятного дня, когда пала стена, бывшая для многих поколений немцев, и не только их, зримым воплощением самой идеи холодной войны и той враждебности, которая в течение многих десятилетий разделяла страны Восточной и Западной Европы на два лагеря. На смену прежней восторженности пришло разочарование, поскольку как-то вдруг обнаружилось, что границы никуда не исчезли, что Запад если и готов распахнуть свои объятия, то далеко не всем и вовсе не бескорыстно, а при соблюдении определённых им же самим условий; что безработица, трудовая миграция, преступность, бедность, насилие (включая кровавые военные конфликты в бывших соцстранах) стали привычным явлением повседневной 110 Восточная Европа как новый подчинённый субъект жизни во многих постсоветских странах – невзирая на ту опеку и заботу (а во многих случаях и «благодаря» ей), которые Запад проявил по отношению к новым членам своей семьи. «Эйфория наконец достигнутой свободы» сменилась осознанием того, что падение «железного занавеса» не привело к увеличению взаимного понимания.12 Идея объединённой Европы, питавшая европейское Воображаемое много столетий – очень красива сама по себе, реальность же выглядит иначе. Условия, на которых одни европейцы присоединяют к себе других (именно – присоединяют), наводят на мысль о том, что сама идея расширения базируется на делении «европейцев» на граждан первого и второго сорта. Неслучайно Хейден Уайт в одном из своих недавних выступлений иронично назвал эту корыстную во многих отношениях политику «Drang nach Osten». В дискурсе «расширения» (�������������������������������������������������������������������������� enlargement��������������������������������������������������������������� ) Восточная Европа неизменно презентируется как не до конца цивилизованный регион, как пациент, не полностью вылечившийся от тяжёлой болезни (имя которой – социализм, и посему граждане этих стран должны испытывать чувство вины за то, что они родились и жили в советские времена), как регион, который экономически, политически (в смысле демократических институтов) и социально не дотягивает до европейских стандартов и т. д. По разработанным ЕС критериям сроки вступления той или иной страны в Евросоюз расписаны по годам: одни страны вступили в ЕС в 2004 г., другие вступят в 2012 и т. д. План интеграции – постепенного включения стран Центральной и Восточной Европы в существующую институциональную структуру содружества европейских стран – в самых общих чертах был сформулирован в 1991–1992 гг. В те годы речь шла преимущественно об экономических мерах (и особую роль в этом процессе должны были сыграть Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития). Ужесточение политических требований последовало после того, как произошла катастрофа на Балканах.13 Согласно этому плану членство в Евросоюзе предполагало выполнение ряда обязательных условий (экономическая либерализация и демократизация и др.), в том числе и адаптацию национальных законодательств в рамках acquis communautair14. Очевидно, что вхождение в ЕС осуществляется на тех условиях, которые выдвинул Запад. И не страны-члены ЕС, а «новички» должны были приспособиться к ситуации, которая сложилась в начале 1990-х гг. Страны бывшего Советского Союза (за исключением стран Прибалтики) изначально были чужие на этом празднике: выход стран бывшего «соцлагеря» из зоны геополитического влияния бывшей коммунистической империи, да и сам распад этой империи на множество независимых стран вовсе не означали, что Россия, Беларусь, Украина и другие республики стали «ближе» и «роднее» Западу. И не стоит забывать о том, что вместе с Берлинской стеной пало множество 111 Альмира Усманова прежних политических и социальных барьеров, но сохранились другие – культурные (семиотические) барьеры, значение которых ни в коем случае нельзя игнорировать. Физическое разрушение стены, разделявшей восточный и западный Берлин, по своему эмоциональному воздействию, наверное, не может сравниться ни с одним другим событием последних десятилетий. Когда пала стена, пишет Джон Борнеман в своей книге о «двух Берлинах», «старые категории: Запад и Восток, коммунизм и капитализм, союзники и противники – потеряли свой смысл, их заменило не нуждающееся в словах “братство”»15. Люди словно лишились дара речи (о чём позже вспоминали многие как восточные, так и западные немцы), описывая произошедшее одним словом: «Wahnsinn!» (буквально – сумасшедшее чувство, безумие). Благодаря communitas, чувству единения, которым было пронизано это событие, такие сакральные понятия, как братство, солидарность, единство, свобода, «захватили воображение людей и выразились в экстатических формах; все чувствовали свою общность, единение и ликование»16. Не исключено, что объединение двух Германий останется в памяти миллионов людей как постановочное медиа-событие, как если бы телевидение было главным участником этого действа, а историческая мутация произошла непосредственно под взглядом камеры.17 (Подобным же образом в историю войдет и 1 мая 2004 г. – дата официального вступления целого ряда восточно-европейских стран в Евросоюз: годы ожидания, переговоров и рутинной подготовки уйдут из коллективной памяти так же быстро, как и всё то, что предшествовало ноябрьским событиям 1989 г.) Следы этого эмоционального потрясения и переживания события как чуда, которое делает возможным мгновенный трансферт во времени и пространстве, мы можем найти во многих фильмах: самым свежим примером, пожалуй, является фильм немецкого режиссёра Вольфганга Беккера «������������������������������������������������������������������������� Goodbuy������������������������������������������������������������������ , Lenin����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� !» (2002), однако наиболее примечательным в плане репрезентации эмоционального фона и тех ожиданий, которые бывшие советские люди связывали с исчезновением границ, я всё же считаю фильм российского режиссёра Юрия Мамина «Окно в Париж» (1993). После всего того, что в действительности произошло в Берлине, история магического перемещения в Париж через окно питерской коммунальной квартиры и сама возможность неоднократного перехода «границы» по собственному желанию (без пограничников, паспортов, виз, вмешательства партийных чиновников или органов госбезопасности) уже не кажутся нам столь невероятными, как это предполагает гротескный нарратив. Сюжетная канва фильма заставляет нас поверить не только в «нормальность» беспрепятственного перемещения в Европу и обратно, но и в то, что границы действительно могут стать невидимыми… Как выяснилось позже, границы, действительно, открылись, но не для всех и не в одночасье. 112 Восточная Европа как новый подчинённый субъект Вероятно, вопрос о том, какие именно границы, для кого и в каком смысле оказались открытыми, нам следовало бы обсудить чуть подробнее. Поскольку, с одной стороны, для граждан бывшего Советского Союза символическая граница Востока и Запада остаётся глубокой и очень болезненной метафизической «травмой»18, а с другой – наш опыт по пересечению вполне конкретных границ в современной Европе (сопряжённый с получением виз, общением с пограничниками и таможенниками и т. п.) причиняет нам большое количество микротравм, поскольку каждый такой случай является суровым напоминанием как о бдительности государства, следящего за своими гражданами, так и о новом геополитическом порядке, в котором различие между «своими» и «чужими» подчиняется жёстким иерархическим правилам. Иначе, как систематическим (и системным) унижением, эти процедуры и не назовёшь. Можно лишь согласиться с Этьеном Балибаром, который, не разделяя наивного оптимизма целого ряда западных теоретиков (теоретическая позиция которых определяется в том числе и местом, откуда они говорят) по поводу «постнационального» человечества, продвигающегося к миру без границ, отмечает, что в действительности западные государства никогда не откажутся от этого средства контроля над населением и что именно в этом вопросе можно увидеть, что «напряжение между полицейской и демократической логикой обостряется». Между тем нынешний статус границ является, с его точки зрения, не выдерживающим никакой критики анахронизмом.19 Увы, то, что для многих из нас выглядит как анахронизм, с точки зрения государственной логики сохраняет незыблемость, эффективность и не подлежит вообще какому бы то ни было сомнению или критике. Границы видимые и невидимые: новый мировой порядок и люди «второго сорта» Культурная идентичность Европы всегда определялась по отношению к тем, кого она считала своим Другим: в разные исторические периоды роль Другого отводилась Ближнему Востоку, Африке, Латинской Америке. Понятие идентичности изначально содержит в себе негативное ядро: чтобы понять, кто ты есть, нужно сначала определиться, кем ты не являешься. Конструирование европейской идентичности, осуществлявшееся на протяжении столетий, представляло собой процесс не только культурного обмена и продуктивной коммуникации с другими странами, но в ещё большей мере оно базировалось на исключении и отталкивании. Некоторые исследователи полагают, что «сама концепция мира, разделённого по пространственному признаку, может считаться специфически европейским изобретением» 20, и восходит она к 1492 г., когда эдиктом папы Александра VI����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� на карте мира были обозначены границы, отделявшие террито113 Альмира Усманова рии, находящиеся под протекторатом Европы, от тех, которые ещё предстояло завоевать или окультурить. Это и было началом того, что Карл Шмитт назвал «глобальным линеарным мышлением»21: все страны и земли, включая обе Америки, Азию и Африку, должны были (само)определиться по отношению к центру – Европе. Создание этого нового пространственного порядка имело множественные и весьма разнообразные последствия для мировой истории, и, как мне представляется, даже с падением колониальных режимов само понятие «пустого пространства», территории («free to be occupied»), которую европейцы должны освоить и цивилизовать, никуда не исчезло – оно всего лишь приобрело другой смысл. Итак, границы, отделяющие Европу от всего остального мира, всегда играли существенную роль в оформлении дискурса объединённой Европы, причём эти границы никогда не совпадали с физическими пределами континента под названием «Европа». Для Западной Европы вопрос о восточных границах, кажется, уже давно решён (если не метафизически, то прагматически): Европа заканчивается на границе между Польшей и Беларусью22 (нынешняя граница, отделяющая страны Евросоюза от всех остальных, совпадает с той границей, которая до 1939 отделяла Европу от Советского Союза – совпадает опять же не в физическом смысле, а в символическом). Мирные договоры, заключённые после завершения Второй мировой войны, жёстко обозначили и документально закрепили государственные границы на месте, или, точнее, вместо довольно условных границ, отделявших Западную Европу от Восточной, Центральную от Южной. После 1989 прежние названия, отсылающие не столько к государственным границам, сколько к региональным, межконфессиональным, культурным, этническим и прочим линиям раздела (как, например, Балканы), вернулись в политический и интеллектуальный дискурсы: их возвращение явилось симптомом радикальных изменений на геополитической карте мира и одновременно – эффективным средством их замаскировать. Ведь, с одной стороны, распад Советского Союза или исчезновение Югославии привели к значительному ослаблению (если не сказать больше – к полной беззащитности) тех малых стран, которые появились на месте некогда сильных многонациональных государств, однако подчёркивание культурной самобытности и значения культурной (религиозной, этнической и пр.) идентичностей в рамках политики Евросоюза позволяет абстрагироваться от политических последствий этого передела и сосредоточиться на вопросах культурного различия как главном позитивном достижении нового политического и экономического порядка. Интересно отметить, что по инерции универсализирующего и субстанциализирующего мышления эпохи холодной войны страны бывшего социали114 Восточная Европа как новый подчинённый субъект стического блока после распада «советской империи» ещё на протяжении нескольких лет (я бы сказала, что как раз до 1999 г.) выглядели, по крайней мере дискурсивно, как определённая целостность – именно это подразумевалось под термином «постсоветское пространство». Однако по мере приближения даты вступления новых членов в Евросоюз этот термин начал использоваться всё реже и реже, и теперь мы имеем дело с расколотым субъектом, целостность которого вызывает большие сомнения. Термин «постсоветское пространство» отсылает к прошлому, которого уже нет (ведь речь идёт о странах, переживающих распад «советской» идентичности), приписывает травматическую по сути общность народам, которые этой общности всячески избегают, стараются забыть о ней как о дурном сне, и этот «парадокс единства» заслуживает отдельного разговора. Практически в одночасье возникли новые политические субъекты (страны, которые раньше не существовали в качестве независимых государств), были воздвигнуты новые границы (материальность которых становится всё более ощутимой по мере расширения Евросоюза и НАТО на Восток); русский язык утратил функцию межнационального и универсального языка общения между народами, населяющими этот регион; коллективная история (на создание которой в своё время было потрачено так много усилий) распалась на множество самостоятельных нарративов о прошлом. Культурные различия даже между близкими соседями (такими, например, как Украина и Молдавия, Беларусь и Польша или Россия) приобрели особую роль в формировании новых политик идентичности. Более того, у каждого из них появился свой Другой. Новые реалии потребовали пересмотра тех норм и способов коммуникации, которые до недавних пор определяли ментальность, повседневную жизнь и формы экономического обмена между нашими странами. В разделённых политическими границами восточно-европейских государствах формируются и новые (невидимые) культурные и идеологические границы: приоритетное значение обретает различие (и различание), а не сходство.23 Так или иначе, но Восточная Европа в этом новом политическом контексте перестала восприниматься как гомогенное пространство, которое во времена холодной войны отделялось железным занавесом как единая зона. И хотя внешние (государственные) границы не претерпели существенных изменений с 1945 г., их статус подвергся серьёзному пересмотру – во всяком случае, их «жёсткость» была поставлена под вопрос – как берлинскими событиями, так и Маастрихтским договором.24 Огромная территория, ранее известная как «социалистический лагерь», превратилась в восточно-европейское пограничье, где бывшие ранее непроницаемыми государственные границы утратили защитную, военную функцию, но при этом более отчётливо проступили внутренние, ра115 Альмира Усманова нее невидимые, границы, которые отделяют верующих одной конфессии или представителей одной этнической группы от другой. Если вспомнить о тех «невидимых» барьерах, которые разделяют теперь мусульман и православных в той же Сербии, то может показаться, что эти невидимые границы имеют гораздо большую прочность, нежели границы, обозначенные пограничными столбами. Итак, последствия необычайных событий в ноябре 1989 г. оказались не столь простыми и однозначными. Согласно Кевину Мартину, изменение границ всегда является индикатором установления нового мирового порядка.25 Идея объединённой Европы заменила собой прежнюю утопию не- или посткапиталистического мира, и, таким образом, сквозь риторику объединения и демократизации проступил новый гегемонный нарратив. И с точки зрения этого нарратива капитализм представляет собой «нормальный и естественный» порядок вещей и установление социальной жизни. В начале 1990-х гг., как пишет Славой Жижек, Запад был просто в восторге от «крушения» коммунизма в Восточной Европе. Прежде всего оттого, что благодаря произошедшим там политическим и экономическим потрясениям конца он вновь открыл для себя демократию. В то время как на самом Западе демократия давно погрязла в бюрократической рутине и стилизованных под рекламные акции предвыборных кампаниях, в которых одного кандидата невозможно отличить от другого, в Восточной Европе демократия вдруг засияла во всей её новизне и свежести. При этом можно себе позволить рассуждать о большей или меньшей демократичности того или иного политического режима, о большей или меньшей степени соответствия тому идеалу, который призвана воплощать собой демократическая Европа (как если бы сама Европа внутри своих политических границ не имела никаких различий). Иначе говоря, как пишет Жижек, в Восточной Европе Запад обрёл свои утраченные корни; Восточная Европа предстает как Я-Идеал, как точка, из которой Запад воспринимает себя как идеальную форму, заслуживающую любви и поклонения.26 Таким образом, в мире без коммунизма либеральная идеология претендует на статус универсальной и единственно правильной картины мира. Провозглашённый «желанным и неизбежным»27, капитализм с триумфом оккупировал «пустые пространства», которые ранее занимал поверженный враг (социализм), и заполнил их новой идеологией, новыми товарами, образом жизни, политическими установлениями и формами экономической эксплуатации. Миф объединения Европы постепенно начал проседать под тяжестью социальных и экономических трансформаций, ввиду которых «ossies»a стали много терять – как в материальном, так и в символическом плане. Глобальный a 116 Так начали называть восточных немцев после объединения Германии в 1989 году (от немецкого Ost). Восточная Европа как новый подчинённый субъект капитализм, не преминувший воспользоваться структурным дисбалансом, быстро колонизировал экономические, социальные и культурные пространства постсоветских стран. И пока Запад подсчитывал свои экономические прибыли, Восточная Европа переживала «девальвацию своей валюты и своей идентичности» (что, кстати, также довольно реалистическим образом представлено в уже упоминавшемся ранее фильме Беккера «Goodbuy, Lenin!»). Мечта о братстве и равенстве натолкнулась на суровую действительность постсоциалистического мира: Восточная Европа, по словам Джона Борнемана28, превратилась во всеевропейскую свалку и ещё долго будет восприниматься Западом в качестве менее «ценной», стоящей на более низкой ступеньке развития зоны, куда можно «переселить» устаревшие технологии, второсортные товары и давно утратившие свежесть идеи. Далее, готовность «старой Европы» распахнуть объятия для братьев из Восточной Европы не распространялась на всех и каждого: не все посткоммунистические страны получили приглашение стать членами «Евроклуба». Расширение Евросоюза на Восток задумывалось как тщательная и в высшей степени формализованная процедура отбора, определявшая, кто и когда именно может на это членство рассчитывать. Словом, практики исключения и отталкивания опять сыграли свою роль, как всегда, когда решается вопрос о границах европейской культуры и идентичности. Не может обойтись без своего Другого и либеральнодемократическая идеология: она нуждается в границах, отделяющих «внутреннее» от «внешнего», и способах различения тех, кто может остаться «внутри», от тех, кто должен остаться «вовне».29 Политический дискурс с готовностью обеспечивает риторические дистинкции между теми, кто «более» и «менее» демократизирован. Соответственно, говоря о «невидимых границах», я имею в виду тот новый мировой порядок, в котором право на «братство» и «равенство» оговорено множеством формальных условий, запечатлённых лишь на бумаге, но осуществляющих процедуры селекции и исключения гораздо более эффективно, чем любые физические барьеры и препятствия. К тому же, в отличие от тех непроницаемых границ, которые во времена холодной войны надежно защищали капиталистический Запад и коммунистический Восток друг от друга и создавали тем самым почти онтологический разрыв, сегодня количество, а главное, специфика границ таковы, что линии водораздела между гражданами первого и второго сорта не заметны стороннему наблюдателю, но весьма болезненны для тех, кто оказывается внутри этого «сепаратора». (И, кстати, членство в ЕС вовсе не является гарантией того, что медик из Литвы и его коллега из Англии, или учёный из Словакии и его коллега во Франции будут получать равнозначную зарплату и одинаковое признание.) Я полагаю, что в функционировании этих невидимых 117 Альмира Усманова границ наше, казалось бы, полустёртое из коллективной памяти прошлое ещё долго будет играть свою роковую роль – так же, как и исторический спор, проигранный коммунистической идеологией либеральному Западу. Восток–Запад: политики репрезентации Некоторые исследователи полагают, что к концу 1990-х гг. само понятие Восточной Европы как некой целостности утратило смысл, поскольку экономическое, политическое и социальное развитие в странах региона после 1989, вкупе с возникновением новых политических союзов, государств, сфер влияния и т. п., привело к диссоциации «Восточной Европы» на Центральную Восточную Европу и Балканский регион, в то время как балтийские государства, Россия, Украина, Молдова и Беларусь относятся «к чему-то ещё»30 (например, не так давно мне пришлось столкнуться с обозначением Беларуси как «ЮжноБалтийского региона»). Говоря о «Восточной Европе», следует в первую очередь иметь в виду (научный) дискурс, то самое «производство реальности», результатом которого становится не только/столько изучение и описание другого мира, культуры и т. п., сколько «создание» его как «другого», контроль над ним и манипулирование им. Дать имя территории – значит освоить её в терминах той или иной идеологии, вписать в определённую символическую матрицу – и в политическую игру. Идея (или дискурс) под названием «Восточная Европа» всегда существовала в соотнесении с политическими и экономическими интересами говорящих/пишущих о ней и изучающих её; и этому дискурсу были соположены определённые политические и экономические институты.31 Возможно, нам следовало бы задаться вопросом о том, уместно ли сегодня вообще говорить о Европе в терминах бинарной оппозиции Восток–Запад? Может показаться, что в политическом воображаемом деление на восточный и западный блоки более не актуально, равно как и представление о гомогенности каждого из них: то, что ранее выступало для нас как монолитный Запад, сегодня предстает как множество очень разных – в культурном, экономическом и политическом отношении – стран, которые не всегда способны прийти к единому решению и проявить солидарность даже по очень важным вопросам, когда речь заходит об общеевропейских проблемах. Очевидно, что и для «Запада» «Восток» расслоился, обнаружив внутреннюю противоречивость и многоликость. Безусловно, в реальности ни одна из упомянутых нами сторон никогда не являлась монолитной целостностью, однако если мы говорим о внешнем взгляде, то становится понятно, что капитализм и социализм, либерализм и тоталитаризм являлись конститутивными элементами этого дискурсивного единства и униформности. В то же время деление на Восток и Запад является гораздо более 118 Восточная Европа как новый подчинённый субъект ранним изобретением: тема культурного провинциализма и экономической отсталости Восточной Европы была, конечно, раскручена во времена холодной войны, но возникла она значительно раньше и, увы, не исчезла из политического воображаемого европейцев после 1989 г. По мнению Сьюзан Гэл и Гейл Клигман, оппозиция Восток–Запад являет собой своего рода ориенталистскую установку, эманирующую из властных центров Западной Европы и далее подхватываемую – с готовностью и для реализации собственных целей – региональными элитами, а также и обывательскими массами.32 Эта властная иерархия между «недоцивилизованным» Востоком и экономически и технологически развитым Западом воспроизводится на самых разных уровнях коммуникации между «старой» и «новой» Европой. Хорошим примером тому является широко использовавшийся в последнее десятилетие термин «transition», который точно передаёт сущность западного видения и отношения к посткоммунистическим странам: он предполагает эволюционное развитие от одной хорошо известной исторической стадии к другой (правда, с точки зрения классической марксистской социальной теории речь должна скорее идти о регрессе) и подразумевает достижение некой конечной цели, которая должна быть достигнута в процессе перехода. Таким образом, субъект, определённый изначально как недоразвитый и уже потому ущербный, должен двигаться в заранее заданном для него направлении и строго следовать инструкциям, которыми его снабдили. Во всяком случае, именно такое впечатление производят и теории «транзита», и политика присоединения восточно-европейских стран к Евросоюзу. Не трудно увидеть, что в рамках этих моделей «Запад» позиционирует себя как конечный пункт развития, как норма во всей её метафизической неподвижности и совершенстве. Майкл Кеннеди полагает, что, в то время как Запад желал видеть в Восточной Европе подтверждение универсальности своей модели развития, восточные европейцы хотели всячески продемонстрировать, что они и в самом деле являются частью Запада.33 Не менее показательным примером этой сложной властной диспозиции, установившейся между Западной и Восточной Европой, могут служить и репрезентации в западных масс-медиа. В 1990-х гг. мы все могли быть свидетелями коммуникативного дисбаланса, в соответствии с которым западной аудитории предлагались в высшей степени стереотипные и почти всегда негативные образы Восточной Европы. Когда бы ни заходила речь о том, что происходит в этом регионе, западные СМИ проявляли интерес лишь к «клубничке» – нелегальной иммиграции, безработице, проституции, «русской» мафии, коррупции и политическим скандалам. Новостной жанр повсюду ориентирован прежде всего на негативную информацию, но по сравнению с другими регионами мира количество «чернухи», способной основательно запугать европейского обыва119 Альмира Усманова теля, явно зашкаливало. Ещё в 1990 г. французский теоретик Доминик Волтон, обсуждая проблемы журналистской этики, поднял вопрос о том, что западным СМИ необходимо более осторожно и взвешенно подходить к вопросу о новостном контенте из Восточной Европы, а всему Западу не мешало бы переосмыслить стратегию коммуникации с восточным партнером, который, по его словам, оказался в роли «la chasse gardée de notre médiatisation» (объекта нападок, если не сказать больше – козла отпущения, со стороны западных СМИ).34 Очевидно, что столь «однобокая» репрезентация является следствием (или побочным продуктом) структурного неравенства в сфере экономики и политики, и, до тех пор пока условия обмена не изменятся, о более продуктивном сотрудничестве не приходится и мечтать. В то же время если сравнить этот «медиа-демократический патронаж» (Д. Волтон), осуществляемый западными СМИ в отношении Восточной Европы, с репрезентациями Европы в посткоммунистических масс-медиа, то мы столкнёмся с совершенно иным подходом, который лучше всего, на мой взгляд, описала Светлана Бойм в своей книге Будущее ностальгии. Она пишет, в частности, что чем дальше от центра, тем более искренним оказывается чувство, испытываемое к Европе. В отличие от западного – делового и прагматичного – подхода к самой идее Европы, отношение «Востока» можно описать как страсть, лишённую каких бы то ни было меркантильных соображений, причём речь может идти о самых разнообразных оттенках этого чувства – от безответной любви до автоэротизма.35 После распада советской системы, когда коммунистическая идея ушла в прошлое, желание «быть в Европе», «вернуться» к её традициям, политическим устоям, ощущать себя её гражданами после многих десятилетий изоляции было самым важным моментом идентификации для многих бывших социалистических стран. В своей книге Кафе «Европа», написанной в середине 1990-х, хорватская журналистка и писательница Славенка Дракулич говорит о страстном желании Восточной Европы принадлежать «настоящей Европе», быть «как они» – что бы под этим ни понималось: западный модернизационный проект, прогресс, права человека, рациональная экономика, интеллектуализм и объективность или просто благосостояние.36 Правда, Беларусь и здесь является «белой вороной»: чем более плотно сжимается кольцо изоляции вокруг нашей страны, тем мрачнее и безрадостнее «картинка», представляемая государственными белорусскими СМИ, когда речь заходит о Европе – чего стоит один только телевизионный проект ОНТ «Разъединённые Штаты Европы»37. Стоило бы отметить, что столь сильное чувство, испытываемое восточными европейцами по отношению к Западной Европе, возникло не сегодня (вспомним, например, спор между славянофилами и западниками в России XIX века), однако в 1990-е гг. оно окрасилось в новые тона – и, кстати, сама любовь пере120 Восточная Европа как новый подчинённый субъект стала быть такой уж бескорыстной, как это было раньше. Как отмечает Нэнси Рис в своей книге о постперестроечной российской повседневности, в период гласности, когда всё, что было связано с социализмом, подверглось жёсткой критике и практически тотальному отрицанию, всё то, на чём прежде стояло клеймо «капиталистический Запад», вдруг начало возвеличиваться. И если ранее «советские СМИ регулярно выставляли напоказ примеры жестокости, несправедливости и противоречивости капиталистической системы», то перестройка поменяла минус на плюс: ритуальная инверсия потребовала смены советской идеологии на диаметрально противоположную. «Мифические картины Запада (такие же односторонние, какими были прежние демонстрации «ада» западной жизни) стали орудием в атаке на мифологию социализма».38 Популярное мифотворчество на тему западного изобилия привело к тому, что идеи капитализма были приняты «оптом»; потребовалось по меньшей мере десятилетие, чтобы выработать иммунитет по отношению к утопическим картинам «западного образа жизни» (заметим, что эти утопические образы Запада как общества благоденствия существовали уже в советские времена – в качестве тайной мечты каждого советского человека) и приобрести критическую дистанцию по отношению к Западу в целом и либеральной идеологии в частности. И всё же нельзя не заметить того, что мифологизированный образ Запада оказался удивительно живучим (несмотря на тот шок, который произвели бомбежки НАТО в Сербии, и в целом – несмотря на растущее сомнение в том, что Европа когда-либо ответит нам взаимностью). Виктор Мизиано объясняет это тем, что «Запад остается ещё реальностью, превышающей ресурсы понимания, слишком ещё далёкой от индивидуального и коллективного опыта, а потому превращающейся в травмирующий объект желания, который хочется либо конвульсивно присвоить, либо невротически сломать»39. Производство знания и позиция говорящего субъекта В начале статьи я уже писала о том, что проблема «места», или пространства высказывания, имеет большое значение. Осознавая проблему детерминированности дискурса, американский теоретик Майк Физерстоун, тем не менее, уповает на то, что уже сложилось сообщество транснациональных интеллектуалов, которые активно участвуют в создании и укреплении глобальных культурных потоков, не будучи привязанными к дому (к своей культуре), что позволяет им сохранять рефлексивную, метакультурную или эстетическую дистанцию к различным культурным опытам.40 Часто из этого «ниоткуда» с нами говорят и постколониальные теоретики, получившие возможность высказаться о своей культуре благодаря тому, что больше они к ней не принадлежат и у них есть 121 Альмира Усманова «властная» позиция, обеспечивающая им видимость. Нелепо упрекать их всех в том, что они критикуют неравенство или несправедливость из той точки, откуда они лучше всего видны. То же самое я могла бы сказать о славистах, якобы лучше нас с вами понимающих советскую культуру, или об американских феминистках, упорно осуждающих гендерный порядок, существовавший в Советском Союзе. Но, безусловно, мы хотя бы должны отдавать себе отчёт в том, что транслировать эти идеи мы можем с известной степенью осторожности – именно потому, что локус нашего существования и источник нашей речи находятся в другом месте. Мне представляется, что хотя мы все и хотели бы выступать в роли упомянутых «транснациональных интеллектуалов», мы не можем не замечать, что в коммуникации с западным миром мы всё-таки выступаем не в качестве экспертов и специалистов, а, скорее, в роли «информантов». Как отмечает философ из Екатеринбурга Елена Трубина, «в сложившемся в мире разделении умственного труда нам … отводится роль либо поставщиков сырого материала, предназначенного для интерпретации более интеллектуально искушёнными специалистами, либо носителей специфического типа “локального знания”». В итоге место нашей профессиональной группы – «где-нибудь между малайскими мастерами “жёлтой сборки” и китайскими швеями, работающими по итальянским лекалам».41 Поэтому на поставленный Гайятри Спивак вопрос о том, может ли угнетённый говорить, мне хочется вдогонку ответить: «Да, но кто его будет слушать…». Концептуально Восточная Европа практически неизвестна и потому неинтересна западному интеллектуальному сообществу: за исключением «классиков» Бахтина и Лотмана, лишь Жижек оказался конвертируемым и актуальным для Запада мыслителем. С точки зрения американского или западноевропейского академического сообщества, мы – абсолютные аборигены, говорящие на своём языке. Представить себе, что где-то в Англии или Голландии будут изучать работы кого-то из постсоветских философов или социологов, как изучают работы даже самых вторичных американских авторов, я при всём своём желании не могу. Конечно, на Западе есть люди, которые интересуются, но очень локально (в том числе благодаря личным дружеским или межинституциональным контактам), тем, что производит наше научное сообщество, но вот цитировать – не цитируют. По мнению постколониального теоретика Дипеша Чакрабарти, то, что Европа функционирует как молчаливый референт в академическом знании, становится очевидным с помощью очень простого примера, касающегося симптомов «подчинённости» не-западного субъекта в исторической науке. Историки из стран третьего мира чувствуют необходимость ссылаться на работы известных европейских историков, историки же Европы не ощущают ни малейшей 122 Восточная Европа как новый подчинённый субъект необходимости отвечать тем же. Кого бы мы ни взяли: будь то Эдвард Томпсон, Ле Руа Ладюри, Жорж Дюби, Натали Дэвис и многие другие – все они хотя бы по своему культурному происхождению и образованию европейцы. Они проводят свои исследования, не имея никакого представления о не-западных моделях исторического знания, что, однако, ни в коей мере не портит их репутацию. И наоборот, местные – не-западные – исследователи не могут игнорировать то, что произведено Западом, если они не хотят оказаться на обочине академической жизни42. Эту проблему Чакрабарти именует «асимметричным невежеством». Именно поэтому говорить о равенстве применительно к академическому дискурсу (в терминах разнонаправленных потоков и равноправной коммуникации между центром и перифериями) представляется мне абсолютно неправомерным, и быть здесь оптимистом было бы слишком наивно. Как писала Чандра Моханти, мы имеем дело с глобальной гегемонией западной теории – в том, что касается производства, публикации, распространения и потребления информации и идей.43 Следовательно, мы должны исследовать политические последствия наших академических стратегий и принципов для того, чтобы понять, насколько сложным и многоуровневым оказывается в наше время процесс глобального доминирования. Как уже было сказано выше, мы (или сама реальность, с которой мы имеем дело) ушли слишком далеко от того времени, когда под «колонизацией» понимался всего лишь эксплуататорский экономический обмен. Теперь нам приходится говорить об «очевидных экономических и политических иерархиях в производстве конкретных культурных дискурсов, касающихся так называемого “третьего мира”». Колонизация предполагает отношения структурного доминирования, будь то дискурсивное или политическое вытеснение гетерогенности вовлечённых в этот процесс субъектов.44 Уместно здесь вспомнить и ещё об одной проблеме – адекватности языка описания. Мы все оперируем в нашем академическом письме непереводимыми на русский язык терминами, как-то: печально известный своей герметичностью «гендер», идентичность, мультикультурализм, репрезентация (наиболее значимое для меня лично понятие именно в его непереводимой на русский язык полисемичности), дискурс и т. д. При этом всё время возникает шальная мысль о том, насколько уместен заимствованный глоссарий для описания наших реалий: об одном и том же мы говорим (по отношению к носителям английского языка) или нет – всё же язык определённым образом призван схватывать описываемую реальность. Ещё более серьёзной ловушкой оказывается идеологическая подоплека в использовании чужого языка. Многие из нас ощущают, насколько не случаен и не нейтрален английский язык в постсоветских гендерных, постколониальных, культурных и др. исследованиях. 123 Альмира Усманова В полной мере осознавая относительность универсалистских допущений западной эпистемологии, у многих возникает соблазн заменить универсалистские понятия западной теории локальными, местными и «партикуляристскими нарративами» (И. Валлерстайн). То есть, пытаясь противостоять глобальному доминированию хотя бы на уровне дискурса, мы сталкиваемся с необходимостью предложить некий альтернативный иерархическому, «евро- или американоцентристскому» и модернистскому языку социальной теории язык, пригодный для описания иных сообществ, иных систем значений, иных культурных кодов и, в конце концов, иных способов жизни.45 Но в итоге с ответом третьего мира первому возникает довольно нелепая ситуация, которая получила название «отуземливание» дискурса глобализации. Так, процедура интерсемиотического перевода, понимаемая как идеологический жест, как жест сопротивления посредством языка, в ответ на политику культурного и интеллектуального доминирования Запада, по сути, уподобляется ответу обиженного ребёнка, изобретающего свой «лялязык», если использовать термин Жака Лакана46. Тем более что на языке глобальной теории и это явление вписывается в предлагаемую ею аналитическую схему. Это называется «локализм», ассоциируемый с отстаиванием местных интересов и националистически понимаемой самобытности.47 Таким образом, как мне кажется, проблема производства знания в контексте глобализации и форм коммуникации в глобальном мировом сообществе для постсоветских теоретиков имеет такое же значение, как проблема адаптации западных экономических и политических моделей и решений, принимаемых транснациональными институтами, – для наших политиков. Не впадая в соблазн как восторженного принятия, так и детски-обиженного отказа, нам всётаки необходимо создать рефлексивную дистанцию по отношению ко всем тем концепциям и идеям, которые используются нами в нашей работе, – с учётом того, что всё это концепции, произведённые на Западе и предназначенные прежде всего для «внутреннего» использования. Что же касается изменения вектора интеллектуальной коммуникации, то здесь, увы, вряд ли пока можно что-то сделать – не только потому, что интеллектуальное производство в большой степени зависит от финансовой и политической состоятельности того или иного государства, но и потому, что на формирование новой, рефлексивной и оригинально мыслящей интеллектуальной среды, а также на существенное изменение (в сторону улучшения качества и добросовестности) стандартов академической работы уйдет ещё немало времени. Только тогда или только в том случае, когда мы станем интересны самим себе, можно будет рассчитывать на включение постсоветских теоретиков в процесс интеллектуальной глобализации не на правах потребителей, а в некотором ином качестве. 124 Восточная Европа как новый подчинённый субъект Беларусь и вызовы глобализации: стратегия существования в пространстве in-between Положение Беларуси по отношению к Европе было и остаётся двусмысленным. С одной стороны, мы обречены на то, чтобы быть европейцами: наши экономические и политические институты, интеллектуальные дискурсы и образ мышления (но не образ жизни) сформированы западной традицией. Воображаемая Европа является одним из центральных символических конструктов, обусловливающих нашу культурную идентичность. Эта «Европа» – совсем не то же самое, что Евросоюз и родственные ему структуры, присвоившие себе функцию определять, кто может, а кто не может быть европейцем.48 Это, скорее, идея Европы как культурной вотчины, утопическая конструкция, значимость которой не зависит от того, каковы в реальности наши отношения и статус в общем европейском доме. С другой стороны, именно с учётом этого последнего обстоятельства – когда быть европейцем означает, прежде всего, иметь паспорт гражданина одной из стран, входящих в Евросоюз, – мы находимся не просто на периферии Европы – мы по ту сторону от неё. Как наше недавнее прошлое, связанное с Советским Союзом (своего рода неизгладимое «клеймо», которое с других восточно-европейских стран снято, поскольку они рассматриваются как жертвы советской оккупации), так и наше нынешнее положение изгоя на международной арене (благодаря действиям режима Лукашенко) вкупе с особо интимными отношениями, связывающими Беларусь с Россией, делают для белорусов саму перспективу присоединения к Евросоюзу более чем призрачной, если не невозможной. Мы безнадежно застряли в пространстве in-between, в буферной зоне, отделяющей Россию от Европы, и пребывание в ней может затянуться надолго, ибо такое положение дел выгодно как одной, так и другой стороне. Это даже не «комната ожидания», ибо ждать нам по большому счёту нечего; это, скорее, сторожевая будка – наблюдательный пункт, позволяющий следить за перемещениями в ту или другую сторону, при условии, что мы сами будем оставаться на своём месте. Это, действительно, пограничье и пространство «транзита» – но в самом примитивном, буквальном смысле. Сколько бы ни говорили западные политики о том, что главным бонусом за правильное голосование в ходе очередных выборов для белорусов может стать реализация заветной мечты всех восточно-европейцев – возможное в отдалённом будущем вхождение в Евросоюз, – на самом деле это не более чем привычная риторика, используемая в терапевтических целях. Примеры Турции (уже двадцать лет пытающейся доказать своё право на членство в этой организации) или Украины, всеми силами стремящихся продемонстрировать желание 125 Альмира Усманова и готовность быть настоящими европейцами, следуя всем предписаниям ЕС, но при этом наталкивающихся на очередной, хоть и не всегда внятно сформулированный отказ, лишнее тому подтверждение. Случай России – особый, и, видимо, он заслуживает отдельного комментария. Россия задолго до Октябрьской революции и установления Советской власти была тем Другим для европейского сознания, роль которого в утверждении европейского «Я» трудно переоценить. И в данном случае не имеет никакого значения тот факт, что предполагаемая географическая граница европейского континента пролегает через Уральские горы. Для постороннего наблюдателя та подозрительность и, я бы даже сказала, нелюбовь, которую испытывает Европа по отношению к России, могут выглядеть как совершенно иррациональные, но за этой иррациональностью просматривается боязнь непредсказуемости, которую Россия воплощает для Запада. Ведь, кроме всего прочего, красота, стабильность и нерушимость демократических принципов могут быть сохранены лишь внутри определённых границ – Россия же слишком велика, аморфна и неуправляема. Интересно, что в европейской культуре, и особенно политике, начиная с XIX века получил широкое распространение образ России как «варвара у ворот Европы».49 И если Карл Маркс в декларации принципов для I Интернационала в 1864 г. писал о «варварской мощи» России, имея в виду царский режим, то в XX веке, во времена холодной войны, Черчилль или Аденауэр, стращая своих граждан напоминанием о «варваре, дошедшем до самого сердца Европы», подразумевали совсем другую – Советскую – Россию. Думаю, что и сегодня (в том числе в бывших социалистических странах) этот демонизированный с помощью масс-медиа и кинематографа образ по-прежнему превалирует в представлениях европейцев о своём восточном соседе.50 На протяжении всей своей истории Россия воспринималась Западом как только что «укрощённая», или только что «окультурившаяся», или только вступившая на путь европеизации.51 Видимо, она обречена на то, чтобы к ней относились как к вечному нерадивому ученику, которого всячески пытаются научить хорошим манерам, а он этому всеми силами сопротивляется – то ли в силу неспособности научиться, то ли из упрямства. Довольно часто в спорах о европейском или азиатском путях развития России русские писатели и мыслители (как славянофилы, так и западники) любили подчеркнуть непохожесть и исключительность своей страны. Только в одном случае эта уникальность подавалась как достоинство и свидетельство культурной самобытности, в другом – как вечная проблема неистребимости варварского духа, следствием которой является огромный комплекс неполноценности, сформировавшийся у русских перед лицом Запада. Как писал в свое время Достоевский, «в Европе мы – татары, а в Азии – европейцы». 126 Восточная Европа как новый подчинённый субъект И всё же нельзя не признать, что с этой особой ролью России, независимо от её геополитической роли в тот или иной исторический промежуток, Запад всегда считался (газ и нефть – не единственная причина включения России в «большую восьмёрку», например). Чего не скажешь обо всех других – малых и не очень (подобно Польше или Украине) – странах, располагающихся в пространстве in-between, которым всегда приходилось выбирать, на чьей стороне, под чьим протекторатом им находиться. Вот почему, едва обретя независимость в начале 1990-х, многие посткоммунистические страны столкнулись с необходимостью выбрать нового Большого Брата. При этом членство в ЕС рассматривалось политическими элитами многих государств Восточной Европы как способ добиться международного признания национальной идентичности, политической независимости и культурной автономии этих стран52 и, конечно же, как самый эффективный способ избавиться от «прошлого» и защитить себя от имперских амбиций России. В этом контексте случай Беларуси интересен только тем, что она никак не определится, с кем же ей лучше дружить. По сравнению с Россией мы не можем претендовать даже на роль «поставщика эмоционального сырья» для левой европейской интеллигенции (если использовать меткое выражение Михаила Рыклина53). Наш «третий путь» – это не столько сознательный и просчитанный выбор в пользу политического и экономического суверенитета (для этого необходимы соответствующие предпосылки), а, скорее, попытка приспособиться к этому положению и извлечь из него определённые выгоды, о чём и пойдёт речь ниже. При этом если Беларусь и остаётся на обочине процессов политической интеграции с Европой, то избежать или уклониться от культурной и экономической глобализации мы не в силах. Беларусь, находящаяся в центре (или «почти» в центре) Европы, является, на мой взгляд, интереснейшим примером стратегии отношения «национального локального» к «интернациональному глобальному». В собственных глазах и глазах своих сторонников Александр Лукашенко выглядит как мифологический герой-одиночка, способный противостоять как международным политическим организациям, так и ТНК, единственной целью которых, по-видимому (как нам это представляют белорусские медиа), является уничтожение белорусского суверенитета54 и «сильной и процветающей Беларуси». Лукашенко уверовал в то, что Беларусь, переживающая экономический рост, не берущая кредиты у МВФ, сумевшая диверсифицировать свой импорт (что рассматривается как одно из важнейших условий независимости) и не вступившая ни в какие политические альянсы и мезальянсы, может диктовать свои правила игры транснациональным корпорациям, как если бы у Беларуси была нефть или, как минимум, ядерное оружие. Способ коммуникации Лукашенко с Западом (в частности, с ОБСЕ и 127 Альмира Усманова Евросоюзом) всё чаще напоминает поведение известного советского лидера, стучавшего ботинком по трибуне ООН, правда, у Хрущёва на то были кое-какие основания. Очевидно, что со стороны такая политика выглядит по меньшей мере странно (как блеф или клоунада) – я имею в виду подобное позиционирование политического субъекта, влияние которого на мировые экономические и политические процессы ничтожно мало, – но в то же время, с точки зрения постколониальной теории, эта позиция, как минимум, своеобразна: Subaltern не просто обретает голос55, но и пытается изменить правила игры в отношениях с теми, у кого есть власть и деньги. Вообще-то Беларусь, у которой нет никакого особенного символического капитала, вполне могла бы сегодня стать центром антиглобалистского движения. Лукашенко мог бы в этом случае сыграть роль «полезного идиота» (как его охарактеризовала одна итальянская газета) не только для России, но и для западных левых. Однако сегодня быть антиглобалистом в Беларуси и занимать антизападную позицию – значит быть заодно с Лукашенко: если ты не согласен с политикой США или готов покритиковать либеральную идеологию, значит, тебе самое место среди его сторонников. Но не всё так просто. Критика Запада, либеральной идеологии и глобализационных процессов, равно как и презрительное отношение ко всякого рода посредникам (=спекулянтам) и малому бизнесу, вовсе не мешают Лукашенко исподтишка создавать свою «империю», строить капитализм в отдельно взятой стране, как ни странно это может прозвучать. Как если бы можно было представить себе «капитализм без капиталистов: денег и консюмеризма хочется, а образованного, активного, консолидированного, космополитичного, независимого от локальных властей Посредника – боже упаси»56. Здесь нам, вероятно, следовало бы вспомнить о том, что для понимания феномена глобализации необходимо в равной степени учитывать его экономическую и идеологическую составляющие. Если мы говорим об экономических аспектах, тогда речь идёт о свободном и безграничном движении капитала, о проблемах, связанных с попытками государственного регулирования и контроля над деятельностью ТНК, о трудовой миграции, виртуальной экономике и пр. С другой стороны, у глобализации есть идеология, и это – идеология либеральной демократии (которая отождествляет свободу человека с частной собственностью57). Либерализм является той ширмой, которая маскирует и оправдывает политику ТНК: частная собственность и рынок – это те священные животные, убийство которых подорвало бы устои всего западного мира. Пока либеральная идеология остаётся безальтернативной системой ценностей, борьба с экономическими последствиями глобального капитализма будет походить на декоративный ремонт фасада – при том, что само здание изначально 128 Восточная Европа как новый подчинённый субъект имеет ущербную конструкцию, которая и обусловливает появление трещин то тут, то там. Беларусь проводит политику изоляционизма, пытаясь отгородиться от глобализации (читай: транснационального капитала) и замкнуть свой капитализм в границах национального государства. Борьба с глобализацией, как мне представляется, включает в себя: 1) систему идеологического противодействия: – критику либерального дискурса и международных политических институций; – работу по созданию и распространению собственной идеологии; – формирование «патриотических» молодёжных организаций типа БРСМ, конечная цель которых – контролировать и «воспитывать» молодёжь вообще и студенческую молодёжь в особенности; – ограничение деятельности негосударственных организаций, что позволяет контролировать и даже перенаправлять движение денежных потоков с Запада внутри республики (поскольку многие НГО существуют на средства, выделяемые западными грантодателями); 2) комплекс экономических мер: – защиту внутреннего рынка путём поддержки своего производителя и борьбы с «агентами» ТНК, чего бы это ни стоило; – поддержку крупной промышленности (которой многие постсоветские страны уже лишились); – повышение таможенных пошлин и всяческих налогов (от импортной обуви и спиртного до подержанных машин) и т. д. Итак, логика глобализации – это логика капитализма, поэтому бороться с глобализацией означает борьбу с капитализмом как таковым. Но в этом ли состоит пресловутая белорусская специфика? Лукашенко – антиглобалист в том, что касается экспансии западного капитала и либеральной идеологии, однако парадокс состоит в том, что он совсем не против капитала как такового58. Отвлекая всеобщее внимание на те способы, посредством которых ведётся борьба с гражданским обществом (благотворительными фондами, правозащитными организациями, партиями, НГО, с наукой, например социологией, со всеми организациями, спонсируемыми Западом и способствующими закреплению роли Запада как субъекта, устанавливающего правила игры), он тем временем создаёт фундамент госкапиталистической системы, базирующейся на модели нации– государства. Как считает Валлерстайн, «капиталистическая миро-экономика – это система, построенная на бесконечном накоплении капитала. Одним из главных механизмов, делающих такое накопление возможным, является коммодифика129 Альмира Усманова ция, превращение всего в предметы потребления. Эти предметы потребления обращаются на мировом рынке в форме товаров, капитала и рабочей силы. Предположительно, чем более свободным является это обращение, тем больше степень коммодификации. Следовательно, всё, что сдерживает потоки этого обращения, гипотетически является вредным»59. Речь идёт о том, что в условиях рынка любой «партикуляризм» представляется совершенно несовместимым с логикой капиталистической системы или же, как минимум, препятствующим её оптимальному функционированию. Возвращаясь в этом контексте к вопросу расширения Евросоюза на Восток, нелишне вспомнить о том, что для Европы этот проект – не только политический: быть может, гораздо более важное значение он имеет с точки зрения своей перспективы для глобализированного европейского рынка. Для нас здесь важны два момента: во-первых, становится понятно, почему капитализм нуждается в универсалистской идеологии, и vice versa: необходимость распространения демократии по всему миру с соответствующим набором «универсальных» ценностей и принципов обусловлена логикой безграничного движения капитала. Во-вторых, верным признаком капиталистического пути развития является коммодификация, превращение всего, чего угодно, в предметы потребления: в нашем случае таким «предметом» становится сама нация, и это вызвано как спецификой капитализма по-белорусски (госкапитализм, увязший в партикуляризмах разного рода), так и стадиальным анахронизмом попытки сформировать белорусскую нацию в условиях исчезновения национальных государств. Итак, позиция Лукашенко предполагает защиту национальногосударственных интересов. Однако, о какой нации и каком национализме мы говорим? Мой тезис состоит в том, что наш национализм (и патриотизм) – товарный, а не романтический (культурный); его особенность в том, что идея нации базируется не на общности языка, истории, традиции, а на общности практики потребления – мы должны «Купляць беларускае!» (слоган, помещаемый на рекламных щитах и в телевизионных роликах), и только так мы сможем доказать, что мы – настоящие белорусы.60 И в этом смысле наш «путь» гораздо ближе американской модели национального строительства, нежели европейской. Нации формируются по-разному, но одной из самых эффективных современных стратегий является формирование национального духа через практики потребления. Лукашенко предлагает белорусам новую национальную идею – белорусский товар как самый дешёвый и уже поэтому лучший в мире. При этом национальная идея экспроприируется, изымается из постсоветского националистического проекта, что лишает политическую оппозицию наиболее важной части её политической программы. Наш патриотизм должен состоять в том, что 130 Восточная Европа как новый подчинённый субъект из всех товаров в мире мы неизменно будем выбирать наш белорусский; язык или культурная история здесь не играют никакой роли (что в условиях белорусского двуязычия чрезвычайно перспективный и беспроигрышный ход). Что это – потребительская логика политической культуры или политическая логика потребительской культуры в стихийно складывающемся белорусском капитализме? Подведение консюмеристского фундамента под идею нации позволяет решить одновременно несколько проблем: поднятие национального духа способствует росту национальной экономики, ибо члены воображенного сообщества (нации) одновременно (или уже) являются членами ещё более сплочённого сообщества – потребителей. В аспекте же соотнесённости с внешним миром, которая является неотъемлемым признаком глобализации61, оказывается, что человек, которого призывают/вынуждают потреблять «белорусское», волейневолей становится на защиту внутреннего рынка страны. Дух ксенофобии, воспитываемый в обывателе через потребительские практики, надёжнее всего оберегает его от вредного воздействия международных политических институций. Так видится со стороны идеальный план, сценарий капитализма по-белорусски, который пытается реализовать нынешняя власть. Несмотря на то что политику Лукашенко зачастую интерпретируют как рецидив советского, на самом деле проблема здесь в другом. Конечно, это завершение процесса модернизации (который, как известно, не был завершён при социализме) и стадия «запоздалой национализации». Следует заметить, что после революции 1917 г. коммунизм как космополитическая универсалистская идеология должен был прийти на смену партикуляристским националистическим идеологиям в качестве программы для экономической модернизации; после 1945 г. эта идеология в сочетании с советским господством и последствиями холодной войны служила целям подавления национальных дискурсов в коммунистических странах. Так что посткоммунистическая Европа после 1989 года должна была столкнуться с тем фактом, что её собственная история национального строительства оказалась «недописанной страницей».62 В то же время нынешняя социальная и экономическая политика Беларуси хоть и является реакцией на 70 лет советской власти, но в действительности, кроме риторики просоветского типа, эта власть ничего собственно советского не производит63 и не поддерживает; скорее уж речь может идти о своего рода крестьянском реваншизме – в том числе по отношению к репрессивной политике советской власти, всё время «воевавшей» с деревней и крестьянством как классом. Следует, правда, заметить, что «социалистический способ производства» в действительности представлял собой неустойчивое сочетание государственного капитализма и стремления пролетариата к коммунизму64, так что реставрация в постсоветских 131 Альмира Усманова условиях не капитализма вообще, а именно госкапитализма с сельскохозяйственным уклоном выглядит вполне естественно. Упразднение национально-государственного фактора (когда органы управления отдельного государства всё менее оказываются в состоянии решить внутренние проблемы без учёта внешних обстоятельств) является одним из ключевых признаков глобализации. Согласно этому признаку национальные государства представляют собой лишь подсистемы общей мировой политики. В соответствии с этим они всё больше делегируют свой суверенитет в пользу объединения в наднациональные организации. И, соответственно, процессы глобализации делают невозможной автономию национального государства. Многие страны постсоветского региона, включая Беларусь, с одной стороны, испытывают на себе все «прелести» глобализации – я имею в виду и поспешную демократизацию/приватизацию по образу и подобию развитых западных обществ, и распространение информационных технологий, и появление новых форм потребления (возьмем те же ночные клубы, гипермаркеты или покупки в кредит), и участие в их судьбе мировых бюрократических институций (таких как МВФ или Евросоюз), – но одновременно в этих странах происходит явный ренессанс идеологий нации-государства. Восточно-европейских политиков всё ещё волнуют вопросы герметичности территориальных границ, сохранения и укрепления национальной идентичности и национальной гомогенности культур и пр. Здесь усиливается тенденция националистического популизма за счёт ослабления либерально-демократических сил. И всё это никак не согласуется с позитивными намерениями политических глобалистов. В Беларуси, похоже, процесс формирования нации-государства ещё не завершён, но мы живём в эпоху, когда развитые страны давно перешагнули эту фазу, двигаясь навстречу капитализму и либерализму. В итоге неизбежно возникает противоречие между «локализмом» (речь идёт о территориально ограниченной культуре и образе жизни людей, привязанных к ней) и «космополитизмом» (транснациональные культурные сети).65 При этом не глобальные ценности и ориентиры получают априорное доминирование по отношению к местным (локальным) ценностям, а, скорее, «локальное» обретает статус высшей нормативной ценности. Такая характеристика глобализации, выделяемая американскими теоретиками, как признание гражданского общества единственной формой социального порядка в любой части света, так же вряд ли распространяется на современную белорусскую ситуацию. Беларусь – непризнанная страна, которая живёт в пространстве собственного фантазма (с верой в то, что «мы лучшие»), экономически же и политически она никому не интересна. Запад не приемлет Беларусь в качестве полноценного партнёра, и потому мы постоянно наблюдаем, как белорусские власти пытаются 132 Восточная Европа как новый подчинённый субъект найти наиболее эффективные механизмы символической компенсации за это непризнание и таким образом уйти от навязываемой Западом роли «подчинённого субъекта» с её ограниченным поведенческим сценарием. И если изменить правила коммуникации в политике белорусским властям не под силу, то в сфере культуры и спорта остаётся небольшой шанс на то, что «Беларусь» прозвучит гордо. Олимпиада – это, конечно, пункт «номер один» в борьбе за символическое признание нации (которую сплотил вокруг самого себя Лукашенко), следом за ней идут конкурсы красоты, олимпиады для школьников и в последние годы – «Евровидение» (надежды на теннис и хоккей себя пока не оправдали). Победа Ксении Ситник в детском «Евровидении» до сих пор преподносится официальной пропагандой как главное свидетельство «европейскости» Беларуси. Ирония состоит в том, что согласно громким политическим заявлениям Запад нам якобы не нужен и считаться с его мнением Беларуси не пристало, однако Беларусь изо всех сил старается добиться от Запада если не политической, то хотя бы культурной компенсации, и, таким образом, вопреки официальной риторике, Запад как был, так и остаётся универсальным референтом политических высказываний. Для нас же – белорусских интеллектуалов – Запад (Европа в первую очередь), как и в советские времена, сохраняет своё значение в качестве наиболее влиятельной интеллектуальной (а не только консюмеристской) утопии. И подобно тому, как эта «фантазия» позволяла советским диссидентам оппонировать коммунистическому режиму, наша вера в то, что мы – европейцы по языку и способу мышления, помогает нам держать дистанцию по отношению к существующему политическому режиму. Утопия, как пишет болгарский теоретик Миглена Николчина, – это способность мыслить безместность того, что не существует, вплоть до невозможного и включая это невозможное.66 Однако если или когда на смену нынешнему режиму придут другие политики, утопия может превратиться в гетеротопию67, и все те вопросы, которые я сформулировала выше по поводу условий коммуникации Восточной Европы со своим новым «патроном», актуализируются и для нас. Примечания 1 См., в частности: Спивак Г. Ч. Могут ли угнетённые говорить? // Введение в гендерные исследования. Часть II: Хрестоматия. Спб.: Алетейя, 2001. С. 649–670. Полная оригинальная версия см.: Spivak G. C. Can the Subaltern Speak? In: C. Nelson, L. Grossberg (eds.) Marxism and the Interpretation of Culture. Macmillan Education: Basingstoke, 1988. Р. 271–313. Или: Spivak G. C. Subaltern Studies: deconstructing historiography. In: G. Ranajit, G. C. Spivak (eds.) Selected Subaltern Studies. Delhi: Oxford University Press, 1988. 133 Альмира Усманова 2 3 4 7 8 9 5 6 10 11 12 13 14 134 Миньоло В. Оксидентализм, колониальность и подчинённая рациональность с префиксом «пост» // Перекрёстки. 1–2 (2004). С. 184. См.: Chakrabarty D. Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton University Press, 2000. Р. 4, 27. Одним из первых европейских критиков европоцентризма можно считать Жака Деррида, который в своей работе О грамматологии (1968) обратил внимание на то, как в западной истории письма представлена проблема неевропейских видов письменности (пиктография, иероглифика и т. п.). По сути, говорит он, эта история есть не что иное, как отказ признать, что другие народы тоже умели писать (подобно тому как греки считали, что другие народы не умеют говорить). Отказ назвать тот или иной способ записи «письмом» есть не что иное, как проявление европейского «этноцентризма», которым пропитана вся западная наука. Соответственно, по мнению Деррида, история алфавита станет возможной лишь после того, как будет осуществлена децентрация, отказ от идеи (перво)начала письма, после того, как будет осмыслена принципиальная множественность систем письма, обладающих своей историей (см.: Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С. 205–218). Chakrabarty D. Op. cit. P. 8. См.: Спивак Г. Ч. Указ. соч. С. 654. Миньоло В. Указ. соч. С. 178. Там же. С. 183. Бобков И. Этика пограничья: транскультурность как белорусский опыт // Перекрёстки. 3–4 (2005). С. 132. Помимо того что в западных СМИ вялый интерес к нашей стране поддерживается лишь фигурой Лукашенко, среди академических публикаций последнего десятилетия о современной Беларуси на английском или французском языках мы найдём буквально одно–два наименования, и то, при ближайшем рассмотрении оказывается, что редакторами или авторами этих книг являются выходцы из Беларуси, уехавшие на Запад и пытающиеся извлечь из своего положения «туземных информаторов» хоть какую-нибудь пользу. Понятие, которое часто используется в гендерной теории для обозначения предела возможностей для дальнейшего продвижения по иерархической лестнице. Петровская Е. Этот смутный образ девяностых // Художественный журнал. 25 (1999). С. 14. См.: Janos A. C. From Eastern Empire to Western Hegemony. East Central Europe under Two International Regimes. In: M. Minkenberg, T. Beichelt (eds.) Сultural Legacies in Post-Socialist Europe. The Role of Various Pasts in the Current Transformation Process. Frankfurter Institut fűr Transformationsstudien, 2003. Р. 19–20. Дословно с франц. «совместно нажитое имущество». Здесь: весь комплекс правовых норм ЕС, без подчинения которым или согласования с которыми членство в Евросоюзе невозможно. Восточная Европа как новый подчинённый субъект 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Cм.: Borneman J. Belonging in the Two Berlins: Kin, State, Nation. Cambridge University Press, 1992. Р. 316. Цит. по: Рис Н. Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М., 2005. С. 316. Там же. Wolton D. Eloge du grand publique. Une théorie critique de la télévision. Flammarion Champs, 1990. Р. 253. См.: Мизиано В. Институционализация дружбы // Художественный журнал. 28–29. С. 43. Балибар Э. Глобализация/Цивилизация – 2 // № 1. Зима 2003. М.: Ecce homo. С. 112. Buck-Morss S. Dreamworld and Catastrophe. The Passing of Mass Utopia in East and West. The MIT Press, 2000. Р. 32. См.: Schmitt C. Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Berlin: Duncker&Humblot, 1972. Мне много раз приходилось видеть европейские «карты» – от политических до железнодорожных, где территория, располагающаяся восточнее Польши, вообще никак не маркирована – ни цветом, ни названием. Это то «пустое пространство», которое в европейском воображаемом ассоциируется с Беларусью, Украиной, Россией. См.: Усманова А. Концептуализируя пограничье: от культурной антропологии к семиотике культуры // Перекрёстки. 1–2 (2003). С. 209. Gal S., Kligman G. The Politics of Gender After Socialism. A����������������� Comparative����� ���������������� His���� torical Essay. Princeton University Press, 2000. Р. 7. Кевин Мартин отмечает, что в мировой истории были два ключевых момента, сигнализировавших об установлении новых мировых порядков и радикальном изменении картографии: географические открытия (и последовавшая за ними колонизация) в XIV������������������������������������������������ ��������������������������������������������������� –����������������������������������������������� XVI�������������������������������������������� вв. и «холодная война» в ХХ в. Что же касается современного мира, то Мартин полагает, что новый мировой порядок ещё только устанавливается, а картография находится в процессе концептуального, семантического и технологического изменения. См.: Martin S. K. Changing Borders, Changing Cartography: Possibilities for Intervening in the New World Order. In: А. Callari, S. Cullenberg, C. Biewener (eds.) Marxism in the postmodern age. Confronting the new world order. London&New York: The Guilford Press, 1995. Р. 459. Zizek S. Enjoy Your Nation аs Yourself? In: Zizek S. Tarrying with the Negative. Kant, Hegel and the Critique of Ideology. Duke University Press, 1991. P. 200. Buck-Morss S. Op. cit. Р. xiii. См.: Рис Н. Указ. соч. С. 316–317. К этому я могу только добавить, что со вступлением отдельных стран Восточной Европы в ЕС месторасположение «свалки» сместилось дальше в восточном направлении. Во всяком случае, это касается как вывоза и захоронения экологически опасного мусора (от автомобильных покрышек до радиоактивных отходов), так и переноса промышленного производства и продажи устаревшего оборудования и техноло- 135 Альмира Усманова 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40 32 33 41 42 43 44 45 46 47 48 136 гий. Всегда найдётся кто-то, кто будет вынужден занять структурную позицию Subaltern. См.: Žižek S. Enjoy Your Nation as Yourself! In: Tarrying with the Negative. Durham: Duke University Press, 1993. Р. 222. Wood N., Iordanova D. Introduction to Eastern European cinema. In: R. Taylor, N. Wood, J. Graffy, D. Iordanova (eds.) The BFI Companion to Eastern European and Russian Cinema. BFI Publishing, 2000. Р. 2. См.: Гапова Е., Усманова А. Размышления на темы географии и истории // Е. Гапова, А. Пето, А. Усманова (ред.) Гендерные���������������������� истории�������������� ��������������������� Восточной���� ������������� Ев��� ропы. Мн.: ЕГУ Пресс, 2002. С. 5. Gal S., Kligman G. Op. cit. Р. 119. Kennedy M. D. Op. cit. Р. 44. См.: Wolton D. Op. cit. Boym S. The Future of Nostalgia. Basic Books, 2001. Р. 221–222. См.: Гапова Е., Усманова А. Указ. соч. С. 6. Подробнее об этом см. статью Андрея Горных в этом же сборнике. См.: Рис Н. Указ. соч. С. 300. См.: Мизиано В. Указ. соч. С. 44. Featherstone M. Introduction: Globalizing Cultural Complexity. In: Undoing Culture. Globalization, Postmodernism and identity. SAGE Publications, 1995. P. 9. Трубина Е. Г. О соотношении глобального и локального в циркуляции социального знания // Социемы. 8 (2002) С. 62. Он пишет: «We cannot even afford an equality or symmetry of ignorance at this level without taking the risk of appearing “old-fashioned” or outdated» См.: Chakrabarty D. Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton University Press, 2000. Р. 28. Mohanty Ch. Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses // Feminist Review. 30 (Autumn, 1988). P. 64. Mohanty Ch. Op. сit. P. 61. Девятко И. Ф. Модернизация, глобализация и институциональный изоморфизм: к социологической теории глобального общества // А. Согомонов, С. Кухтерина (ред.) Глобализация и постсоветское общество («Аспекты 2001»). М.: Стови, 2001. С. 36. Под которым он имел в виду нечто такое, что не подчиняется не только контролю говорящего, но и научному изучению. Кагарлицкий Б. Ю. Глобализация и международные радикальные движения // А. Согомонова, С. Кухтерина (ред.) Указ. соч. С. 94. В подтверждение последнего тезиса (о присвоении Евросоюзом полномочий «репрезентировать» идею Европы) приведу один маленький, но красноречивый пример. Не так давно в одном из немецких аэропортов я обратила внимание на огромный постер, размещённый в зале ожидания (что по-своему симптоматично, учитывая, как в европейских аэропортах сегрегированы зоны прилёта и отлёта для прибывающих из стран Евросоюза и всех остальных, а также разделены потоки для прохождения паспортного контроля, где Восточная Европа как новый подчинённый субъект 49 50 51 52 53 54 55 56 57 обладатели заветных паспортов со звёздочками имеют очевидные преимущества безвизовых перелётов – в отличие от не-граждан ЕС, то есть пассажиров из стран второго и третьего миров…), надпись на котором гласила: «Европа приносит счастье». При этом в слове «Европа» заглавными буквами выделены первые две буквы – EUrope, – чтобы ни у кого не могло возникнуть даже малейших сомнений в том, что за тем огромным счастьем, которое сулит иностранцам пребывание в Европе, невидимо, но надёжно стоит Евросоюз, он же – главный гарант благополучия и безопасности европейцев. См.: Neumann I. B. Uses of the Other. �������������������������������������� «������������������������������������� The East����������������������������� »���������������������������� in European Identity Formation. V. 9. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999. Р. 96–102. Примеров тому не счесть: недавно мне на глаза попался номер литовской ежедневной газеты «Республика» (от 13 февраля 2006), в котором речь шла об «объединении Европы» – против угроз исламского мира в связи с публикацией карикатур «Лики Мухаммеда». По мнению газеты, свою солидарность с Европой можно было проявить лишь одним способом – перепечаткой карикатур. Литва, таким образом, оказалась среди «свободных, смелых и достойных стран». Соответственно, те страны, которые не стали этого делать, были заклеймены литовским изданием как «равнодушная, коварная и трусливая компания». Конечно, была в этом списке и Беларусь, но в сугубо визуальном плане главенствующая роль отводилась России – изображение российского флага было в четыре раза больше всех остальных. Neumann I. B. Op. cit. Р. 110. См.: Crawford B. Old Legacies, New Institutions: What will Shape the EU Enlargement Process? In: M. Minkenberg, T. Beichelt (eds.) Сultural Legacies in Post-Socialist Europe. The Role of Various Pasts in the Current Transformation Process. Frankfurter Institut fűr Transformationsstudien, 2003. Р. 36. Рыклин М. Back in Moscow, sans the USSR // Жак Деррида в Москве. М.: РИК «Культура», 1993. С. 132. С точки зрения «Лукашенко» (то есть того политического режима, который он воплощает), сущностными признаками суверенитета являются неподконтрольность и неподотчётность действий белорусских властей другим государствам или международным институтам, т. е. подразумевается определённая обособленность внутренней политики, несопоставимость её с любыми внешними системами оценок. Белорусские телезрители имеют возможность регулярно наблюдать выступления пресс-секретаря Министерства иностранных дел РБ, которые представляют собой гневную отповедь с соответствующей риторикой в ответ на попытки международного сообщества хоть каким-то образом повлиять на действия белорусских властей. Горных А. Беларусь: случай антимодернистской идеологии // Топос. 1/10 (2005). С. 33. См.: Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Логос, 2004. С. 213. 137 Альмира Усманова 58 59 60 61 62 63 66 64 65 67 138 Например, присутствие арабского капитала его ничуть не смущает. Предполагается, что «взаимовыгодное» сотрудничество с арабскими странами будет осуществляться по принципу: деньги – ваши, идеи и продукты – наши, то есть Беларуси здесь отводится роль поставщика технологий и качественной продукции. Очевидно, что в отношениях с Западом это в принципе невозможно. Балибар Э., Валлерстайн И. Указ. соч. С. 42. Более подробно я рассматриваю эту проблему в статье Женщина как нация как товар, или Культурная логика капитализма по-белорусски, которая будет опубликована в коллективной монографии «Белорусский FORMAT: другая реальность» (ЕГУ Пресс, 2006; в печати). Глобализация подразумевает состояние «соотнесённости» (даже в негативном смысле – как отрицания чего-либо) с другими странами, с некими реалиями, находящимися вне данной местности или данного государства. Прежде всего, конечно, с западным миром, его политикой и экономикой. Именно Запад выступает как «референт», как некий универсальный стандарт, по отношению к которому определяется специфичность той или иной культуры. См.: Crawford B. Op. cit. Р. 35. «Одной рукой» это государство обещает нам всем бесплатную медицину, с другой – ничего от этой бесплатной медицины уже не осталось (разве что пару часов бесплатного приёма в поликлиниках). Государство якобы гарантирует всем право на образование, но вообще-то более 50 процентов от общего числа студентов сейчас вынуждено платить за своё образование; громогласно озвучиваемые цифры о количестве построенного жилья и о снижении стоимости за квадратный метр на деле означают лишь то, что люди самостоятельно изыскивают деньги на решение квартирного вопроса, а государство об этом радостно рапортует, точно так же, как оно – в лице Лукашенко – заявило после закрытия ЕГУ, что студентам были обеспечены все условия для завершения образования, тогда как на деле государство к этому не имело никакого отношения – скорее, наоборот, создало саму проблему. Балибар Э., Валлерстайн И. Указ. соч. С. 11. Featherstone M. Op. cit. P. 11–12. См.: Николчина М. Запад как интеллектуальная утопия // Гендерные исследования. 12 (2005). С. 5–6. По мысли Мишеля Фуко, который писал об этом в работе О других мирах (1967), гетеротопия – это эффективно воплощённая утопия. Диалектика «Европы» и белорусская госидеология Пётра Рудкоўскі Адкрытае грамадзтва і спосабы яго замыканьня* Preliminaria I «Адкрытае грамадзтва» (open society) ёсьць – на першы погляд – няўлоўным і «неэмпірычным» паняткам. Гэта, так бы мовіць, абстрактная ідэя, таксама як і іншыя ўнівэрсаліі, тыпу «дэмакратыя», «свабода», «грамадзянская супольнасьць», лёгка паддаецца сэмантычнай інфляцыі, а ў выніку можа зрабіцца чыста рытарычнай фігурай безь якога-кольвек акрэсьленага значэньня. Суровы наміналіст мог бы зьедліва зацеміць, што гэта – чарговы flatus vocis, пусты гук, пазбаўлены «намацавальнага» дэсыгнату, чарговая ілюзія наіўных розумаў. Але вось парадокс – менавіта наміналіст Карл Раймунд Попэр стаўся штандаровым прадстаўніком ідэі адкрытага грамадзтва. Яго сацыяльна-філязафічныя працы хоць і не зрабілі гэту ідэю цалкам яснай і выразнай, ўсё ж паказалі шлях яе праясьненьня. Інакш кажучы, хоць адназначная ідэнтыфікацыя тыпу: «Вось тут – адкрытае, а там – замкнёнае грамадзтва» – і не зьяўляецца магчымай, то ўсё ж існуе сукупнасьць распазнавальных пазыцыяў і перакананьняў, якія канстытуююць ці то адкрытае, ці замкнёнае грамадзтва. Гэтыя пазыцыі і перакананьні паспрабуем выявіць і назваць у нашай працы. Нас будуць цікавіць два абшары – Беларусь і Эўропа. Зноў жа, аналягічна як і ў выпадку вышэй уведзеных паняткаў, Беларусь і Эўропу будзем разумець не эсэнцыяльна, як два быцьці са сталай і нязьменнаю сутнасьцю, а намінальна, як назвы, якія адносяцца да шэрагу разнастайных фэномэнаў і працэсаў. Хочучы дасьледаваць праяўленьні адкрытага/замкнёнага гра* 140 В авторской транскрипции (прим. редакции). Адкрытае грамадзтва і спосабы яго замыканьня мадзтва на гэтых абшарах, трэба дамовіцца, якія спосабы праяўленьня прымем вызначальнымі. Можна прыняць, напрыклад, што вызначальнікам open/closed society ёсьць унівэрсум палітычных рашэньняў або характар заканадаўства. У гэтым выпадку, каб вызначыць, ці маем дачыненьне з замкнёным ці адкрытым грамадзтвам, мусім прааналізаваць палітычную практыку і тое, у якіх межах яна раскручваецца (праўную сыстэму) і наколькі яны, гэтыя межы, істотныя ў прыняцьці рашэньняў. А можна засяродзіцца на «мэтапалітычнай сфэры», у якую ўваходзяць пануючыя ў дадзеным грамадзтве маральныя ўстаноўкі, філязофія і «прэфілязофія» (пад гэтым апошнім будзем разумець «народную філязофію» – сукупнасьць устойлівых перакананьняў, пераважна вызнаваных бескрытычна).1 Нас будзе цікавіць перадусім мэтапалітычная, ідэйна-дыскурсыўная сфэра. Але інтэрпрэтаваць яе будзем пры дапамозе нашай веды аб палітычнай праксе ў дадзенай прасторы. Інакш кажучы, будзем спалучаць праксіс і лексіс. Preliminaria II Пры дапамозе словазлучэньняў open/closed societу ідэнтыфікуем не субстанцыі, а працэсы, прычым складаныя і разнастайныя працэсы. Гэта вядзе да прызнаньня, што падача адназначнай дэфініцыі гэтых паняцьцяў ёсьць немагчымай. А адсутнасьць дэфініцыі можа весьці да тэрміналягічнае блытаніны і розных непаразуменьняў. Ёсьць, аднак, «трэцяе выйсьце», якой ёсьць літаралізацыя гэтых паняцьцяў. Літаралізацыя паняцьця П значыць прывядзеньне шэрагу іншых паняцьцяў р–1, р–2 ... р–п, якія ў большай ці меншай ступені раскрыюць зьмест N. Гэтыя паняцьці р–1, р–2, ... р–п, будуць называцца інтэрпрэтантамі. Такім чынам, не абавязкова дэфініяваць паняцьце, а дастаткова стварыць для яго сям’ю інтэрпрэтантаў, якая хай сабе і не гарантуе абсалютнай адназначнасьці, то ўсё ж значна дапаможа здабыць рэлятыўную адназначнасьць. Пашукаем найперш такіх інтэрпрэтантаў у тэкстах самога Попэра. «Мы мусім крочыць у кірунку невядомага, у кірунку няпэўнага, крочыць без падстрахоўкі, максымальна выкарыстоўваючы свой розум, каб, наколькі гэта магчыма, гарантаваць і бясьпеку, і свабоду», – піша аўстрыйскі філёзаф у сваім Адкрытым грамадзтве.2 Як бачым, важным кампанэнтам open society явіцца розум і ягоныя функцыі: прадугледжваньнe і плянаваньне. Рацыяналізм ёсьць для Попэра этычным пастулятам: «Хоць няма рацыянальных, навуковых падстаў этыкі, то існуюць этычныя падставы навукі і рацыянальнасьці»3. У чым палягае этычны характар рацыяналізму? У наступным: «������������������������������� Гэта гатоўнасьць успрымаць кры- 141 Пётра Рудкоўскі тычную думку і вучыцца на базе вопыту»4. Рацыяналізм – нарэшце – «непа­рыўна зьвязаны зь верай у еднасьць чалавечага роду»5. «Крытычная думка», якую Попэр заклікае рэспэктаваць, хавае ў сабе свайго роду «крамолу»: яна дэсакралізуе звычаі, інстытуты, рытуалы, вераваньні, традыцыі, нормы. Крытычны розум «расьсякае» рэчаіснасьць на сьвет натуры і сьвет канвэнцыі. У гэтым першым сьвеце пануюць свае законы, якія мы можам адно толькі пазнаць і выкарыстаць у сваіх мэтах, але якія ня можам зьмяніць. А другі сьвет – залежны ад нас, людзей. Інстытуты, звычаі, нормы паводзін – гэта «рукатворныя» зьявы, маюць чалавечае паходжаньне (man-made) і таму могуць быць крытычна ацэнены і зьменены. «Трэба прызнаць, – піша Попэр, – што структура нашага грамадзкага асяродзьдзя ў пэўным сэнсе створаная чалавекам, у тым менавіта сэнсе, што інстытуты і грамадзкія традыцыі не зьяўляюцца ані Божым творам, ані творам прыроды, але зьяўляюцца вынікам чалавечых дзеяньняў і рашэньняў і могуць, дзякуючы такім дзеяньням і рашэньням, падлягаць зьменам».6 Працэс адрозьніваньня сфэры нязьменных законаў ад сфэры законаў, залежных ад чалавечае волі, Попэр называе крытычным дуалізмам. Крытычны дуалізм, хоць робіць магчымым заняцьне «рэфарматарскай пазыцыі» адносна існуючых інстытутаў, звычаяў ды нормаў, то ўсё ж зусім не імплікуе прынцыповага бунту супраць сьвету man-made, хоць такую інтэрпрэтацыю часьцяком надаюць яму ў сваіх палеміках мысьляры права-кансэрватыўнае арыентацыі. Сам Попэр казаў: «Няма нічога больш небясьпечнага, як зьнішчэньне традыцыйнае грамадзкай тканкі»7. Прыведзеных вышэй выказваньняў Попэра будзе дастаткова, каб на іх базе стварыць дзьве «сем’і інтэрпрэтантаў» для паняцьця адкрытага і паняцьця замкнёнага грамадзтва. Гляньма на табліцу: Адкрытае грамадзтва Замкнёнае грамадзтва Аўтаномнае мысьленьне Гетэраномнае мысьленьне Iндывідуалізм Арганіцызм Дынаміка Статыка Рэфарматарства Фундамэнталізм Наватарства Status quo Эгалітарызм Каставая герархія (вэртыкалізм) Узаемадапаўняльнасьць Падпарадкаваньне Вернасьць сумленьню Вернасьць Лідэру Iдэйны плюралізм Афіцыйная ідэалёгія Дыялёг, дыскусія Маналёг 142 Адкрытае грамадзтва і спосабы яго замыканьня Iніцыятыўнасьць Ляяльнасьць Адкрыты ход гісторыі Наканавальніцтва (дэтэрмінізм) Рацыяналізм Iрацыяналізм Крытыцызм Дагматызм Палітычны плюралізм Палітычны манізм Калі гаворка ўжо пра «сем’і» інтэрпрэтантаў, то дадаць трэба, што гэтыя сем’і не жывуць на розных астравах, ізалявана ад сябе, а жывуць побач, у блізкім суседзтве, настолькі блізкім, што магчымы рознага роду «марыяжы» і – у выніку – мутаваныя вэрсіі адкрытага/замкнёнага грамадзтва. Пры дапамозе зробленай намі табліцы мы можам здабыць адно толькі «ідэальныя тыпы» у вэбэраўскім разуменьні гэтага выразу. Калі разглядваць будзем «уцелаўленьні» гэтых тыпаў, то хутка заўважым, што можна казаць пра адкрытае/замкнёнае грамадзтва толькі загадзя прыняўшы ступнявальнасьць «адкрытасьці» ці «замкнёнасьці». Разьвітаньне з абсалютам і наступствы Абсалют як касьмічны прынцып і рэгулятар жыцьця чалавека спачатку мусіў перажыць шэраг драматычных мэтамарфозаў, каб урэшце стацца тыповай persona non grata у каралеўстве сучаснай і пасьлясучаснай філязофіі. Выдатнай ілюстрацыяй такога стаўленьня да Абсалюту ёсьць выказваньне Мільтана Фрыдмана, які ў сваім камэнтары да папскай энцыклікі Centesimus annus (1991) піша: «У мяне ажно кроў застыла ў жылах ад аднаго з узьнёслых перакананьняў, выражаных у энцыкліцы, а менавіта, што паслухмянасьць Богу і праўдзе ёсьць першай умовай свабоды». I дадае: «Чыёй “праўдзе”? Кім устаноўленай? Няўжо рэха гішпанскай інквізыцыі?»8 Такая ж пазыцыя хаваецца і за лёзунгам Скарпэльлі: «L’etica senza verità!»9, а таксама за постмадэрнісцкім усклікам «Vivat differentia!»10. «Разьвітаньне з Абсалютам» ці, дакладней, «выгнаньне Абсалюту» мае даволі доўгую і складаную гісторыю, якую ня будзем тут рэканструяваць. Нас будуць цікавіць перадусім палемікі з Абсалютам і стратэгіі яго абароны ў эўрапейскай думцы (пасьля)сучаснае пары. Пасьля знаёмства з гэтымі палемікамі паспрабуем паказаць, што Беларусь – гэта прастора, у якой спрагліся настальгія за Абсалютам і бунт супраць Абсалюту. І гэты псыхалягічны комплекс настальгіі-бунту і спарадзіў такі, а ня іншы, варыянт беларускай дзяржідэалёгіі і прапаганды. 143 Пётра Рудкоўскі «Разьвітаньне з Абсалютам» у сучасную эпоху зададзена ў асноўным эпістэмалёгіяй і некаторымі плынямі сацыяльнай філязофіі. Спачатку засяродзімся на эпістэмалёгіі. Крытыка абсалютнага пазнаньня Сучаснасьць вельмі моцна пазначана чатырма тэорыямі пазнаньня: нэапазытывізмам Wiener Kreis, крытычным рацыяналізмам Карла Попэра, рэлятывізмам Томаса Куна і прынцыповым плюралізмам Жана-Франсуа Лiятара. Хоць гэтыя чатыры плыні і не вычэрпваюць цалкам кляс сучасных эпістэмалёгій, то ўсё ж яны настолькі рэпрэзэнтатыўныя, што зробяць магчымым зразумець акалічнасьці «разьвітаньня з Абсалютам». Калі пад словам «Абсалют» будзем разумець Бога, то з пункту гледжаньня нэапазытывізму само пытаньне пра Абсалют ёсьць бессэнсоўным. Звышнатуральнае ня можа быць прадметам навуковых дасьледаваньняў, а на «ненавуковыя» заняткі папросту шкада часу. Прызнаньне існаваньня Абсалюту можа быць хіба што толькі прадуктам асьпірацыяў-спадзяваньняў, а ня вынікам рацыянальнага разумаваньня. Назва «Абсалют», гэтаксама як і «Бог», «душа», «рай» не выконваюць фундамэнтальнае для нэапазытывістаў умовы – эмпірычнай рэфэрэнцыйнасьці. Нэапазытывізм трэба, аднак, залічыць да радыкальных вэрсіяў эпістэмалёгіяў, радыкальных у адмоўным сэнсе гэтага слова. Жорсткія патрабаваньні «Венскага кола» няздольныя выканаць ня толькі гуманітарныя навукі, але нават фізыка і хімія. Апрача таго, навукоўцы гэтай арыентацыі мусілі сустрэцца з закідамі ў свой адрас, што яны самі прасоўваюць пэўную вэрсію «абсалютызму» і «дагматызму». Як трапна зацеміў яшчэ ў 1934 г. (калі адбываліся сэмінары Морыца Шліка, заснавальніка «Венскага кола») польскі фэнамэноляг Роман Інгардэн, нэапазытывісты ўхіляюцца ад адказу на пытаньне: на базе якога назіральнага факту яны фармулююць прынцып вэрыфікацыянізму. Тэза: навуковае (= сэнсоўнае) цьверджаньне павінна рэдукавацца да простых сказаў, якія утвараюць справаздачу аб якім-небудзь назіральным факце – сама аказваецца быць эмпірычна неправяральнай, суадносна, мае дагматычны характар. Тыя ж самыя «пратакольныя сказы» (простыя справаздачныя сказы) прэзэнтаваліся (наўпрост ці ўскосна) нэапазытывістамі як «абсалютны фундамэнт» нашае веды. Значыць – казалі нядобразычліўцы – нават нэпазытывісты маюць свайго Бога, свой Абсалют і свае Ісьціны Веры! Попэраўская і кунаўская эпістэмалёгіі ў нейкай ступені антаганістычныя ў стасунку да нэапазытывізму, але ў нейкай таксама ступені выводзяцца з гэтае плыні. «Выводзяцца», аднак, па-рознаму. Рацыяналізм Попэра можна нaзваць 144 Адкрытае грамадзтва і спосабы яго замыканьня «недаверлівым даверам да розуму». Ужо ў першай уплывовай працы, пісанай у 1920-х гг. Лёгіцы навуковага адкрыцьця, Попэр заняў антыфундамэнталісцкую пазыцыю ў справе «эмпірычнае базы». Яна, гэтая «база» мае вялікае значэньнне, але не зьяўляецца абсалютнай ісьцінай. Нашы вочы і вушы таксама могуць памыляцца, таму крытычны стасунак да інфармацыі, заключанай у «пратакольных сказах», цалкам апраўданы. Сутнасьць Попэравай эпістэмалёгіі ў наступным: «У навуцы выходзім ад праблемы П-1. Прапануем, а пазьней паддаем крытыцы яго пробнае рашэньне ПР, элімінуем памылкі (ЭП) шляхам крытычнай дыскусіі або экспэрымэнтальнага тэсту. У выніку гэтай творчай дзейнасьці зьяўляюцца новыя праблемы (П-2)»11. Навука, такім чынам, мае пераважна гіпатэтычны характар, а сваё існаваньне апраўдвае «пасоўваньнем праблемаў наперад» – прапаноўваньнем новых, больш правераных рашэньняў. Варта тут заўважыць, што аналягічны прынцып Попэр прасоўвае таксама ў сфэры палітычнае практыкі: канстатацыя якойсьці праблемы, якая мае грамадзкае значэньне, падача пробных рашэньняў, публічная дыскусія і элімінацыя найменш пасьпяховых прапаноў, рашэньне, канчатковая ацэнка якой застаецца заўсёды адкрытай, – вось зарыс попэраўскай грамадзкай этыкі. З пазыцыяй Попэра сымпатызавалі некаторыя ўдзельнікі сэмінараў Шліка. Некаторыя пагаджаліся з тым, што пратакольныя сказы прымаюцца канвэнцыянальна, а навуковыя цьверджаньні маюць гіпатэтычны характар. Томас Кун пайшоў яшчэ далей, чымсьці Попэр і неартадаксальныя нэапазытывісты, і пачаў цьвердзіць, што сама навука, узятая цалкам, ёсьць прадуктам канвэнцыі, што яна заўсёды абумоўлена парадыгмай, абавязваючай у дадзенай культуры і эпосе, і што няма ніякіх крытэраў, каб магчы сьцьвердзіць перавагу адной парадыгмы над іншай. Такая пастаноўка спарадзіла зусім спэцыфічнае стаўленьне да Абсалюту. Спэцыфіка ў наступным: эпістэмалягічны рэлятывізм Томаса Куна ўводзіў забарону на агульны Абсалют, але санкцыянаваў існаваньне прыватных Абсалютаў: кожны, маўляў, мае «сваю праўду» і мае права яе вызнаваць, толькі не павінен надаваць ёй такое значэньне, што пачне навязваць гэту праўду іншым. Прыкладна ў такім жа духу разважае аўтар слыннай кніжыцы La condition postmoderne Ж.-Ф. Ліятар. Пры тым, што Ліятар вялікі націск паклаў на ўсьведамленьне стратэгіяў абгрунтаваньня дадзенай праўды. Менавіта ў іх, у гэтых стратэгіях абгрунтаваньня праўды, якія ён назваў нарацыямі, і хаваецца небясьпечная сіла. Нарацыя імкнецца стаць усёабдымным і самадастатковым дыскурсам (мэта-нарацыяй), каб не пакінуць месца для рознага і іншага, а цалкам вычарпаць сабой сфэру «рацыянальнага», аб’явіўшы ўсё астатняе «неразумным» = «брудным» = «дэструктыўным». У сваёй Лібідынальнай эканоміі Ліятар пісаў: «Мы змагаемся зь белым тэрорам праўды, з чырвонай лютасьцю асаблівасьці ... бо насамрэч жа ня ведаем, што такое праўда і ніколі ведаць ня 145 Пётра Рудкоўскі будзем. Ведаем толькі тое, што гэта зброя параноі ўлады, ілюзія таталізаванай цэльнасьці ў прасторы словаў, вяртаньне тэрору»12. «Рэлятывізм – гэта найвялікшае злачынства інтэлектуалаў», – так бескам­ прамісна кінуў Попэр у адрас мысьляроў тыпу Куна і Ліятара. Аўтар Адкрытага грамадзтва глыбока перакананы, што рэлятывізм наўпрост вядзе да «ўлады моцнага кулака», а ня ўлады аргумэнтаў, бо калі – як кажуць рэлятывісты – няма праўды, то губляюць сэнс усякія дыскусіі, бо, дыскутуючы, заўсёды адстойваем свае пазыцыі ў імя якойсьці супольнай праўды. Агрэсіўнасьць і мускулятура, а ня этыка і закон вызначаюць у такім выпадку грамадзкі парадак. Попэр, на першы погляд, апынуўся у парадаксальнай сытуацыі. З аднаго боку, гэта ён «адкрыў шлях» Куну і Ліятару, сьцьвердзіўшы гіпатэтычны і гістарычны характар якіх-кольвек навуковых цьверджаньняў. З другога боку, Попэр усяк імкнуўся «зачыніць шлях» да тэзы, што навука ёсьць рабыня парадыгмаў і што ніколі ня зможа ад іх вызваліцца, як гэта сугераваў Т. Кун. Абумоўленьне навукі гістарычна-культурнымі парадыгмамі не абавязкова мусіць быць абсалютным, а навуковец насамрэч можа трансцэндаваць гэтыя парадыгмы, займаць у стасунку да іх крытычную паставу. Трэба, аднак, зацеміць, што Попэр усё ж такі ня мог не пагадзіцца з рэлятывістамі, што нават калі і існуе аб’ектыўная праўда (эпістэмалягічны Абсалют), то ніхто ня можа прэтэндаваць на манаполію на гэту праўду. У выніку, Попэр прыняў канцэпцыю абсалютнай праўды як рэгулятарнай ідэі. Вера ў абсалютную праўду накіроўвае і інтэгруе наш пазнавальны высілак, хоць увесь час мы застаемся сьвядомымі, што гэты высілак і ня будзе ўзнагароджаны «здабыцьцём» Абсалюту... *** Усьведамленьне адсутнасьці моцнага трывалішча (даступнай тут і цяпер аб’ектыўнай праўды), на якім магла б мацавацца навука і філязофія, спарадзіла падвойны эфэкт: з аднаго боку, тэндэнцыю да стварэньня «ўладнага дыскурсу», гзн. дыскурсу, які адпавядае пануючай эліце, з другога боку, прапагаваньне этыкі талеранцыі і плюралізму, велікадушнага стаўленьня да меншасьцяў і веры ў чалавечую свабоду і розум. Абедзьве опцыі зыходзяць з канстатацыі крызісу абсалютнай13 праўды, але высновы з гэтага робяць адрозныя. Прыхільнікі «ўладнага дыскурсу» разумуюць згодна са змрочным прагнозам Попэра: калі няма аб’ектыўнае праўды, калі, згодна са славутым выслоўем Фоерабэнда, anything goes14, тады трэба нам самім стварыць «праўду» і пры дапамозе адміністрацыйнага рэсурсу прымушаць іншых вызнаваць гэту «праўду». Прыхільнікі этыкі плюралізму цьвердзяць інакш: калі няма (альбо ня маем доступу да) аб’ектыўнае 146 Адкрытае грамадзтва і спосабы яго замыканьня праўды, тады мы абавязаны стварыць атмасфэру павагі і разуменьня для ўсякае іншасьці, дазволіць суіснаваць у адным грамадзтве розных дыскурсаў і розных вераваньняў. Як бачым, «разьвітаньне з Абсалютам», ініцыяванае эпістэмалёгіяй, мае неадназначныя наступствы ў сфэры сацыяльнай этыкі і палітычнага ладу. Сучасная крытыка пазнаньня можа быць выкарыстана як для «адкрываньня», так і для «закрываньня» грамадзтва. У большасьці эўрапейскіх краінах «крытыка абсалютнага пазнаньня» прывяла да выпрацоўкі (лепш: выпрацоўваньня – бо гэта незавершаны працэс) этыкі плюралізму, у той час як у Беларусі гэтая ж крытыка прывяла да «абсалютызацыі рэлятыўнага пазнаньня» ў выглядзе афіцыйнай і для ўсіх абавязковай Ідэалёгіі. Тое, што беларускія ідэолягі абгруноўваюць неабходнасьць белдзяржідэалёгіі, выкарыстоўваючы тэзы сучаснай эўрапейскай эпістэмалёгіі, паспрабуем паказаць крыху пазьней. Цяпер прыгледзімся некаторым момантам палемікі з Абсалютам у сацыяльнай і палітычнай філязофіі. Крытыка абсалютнага панаваньня Штандаровым крытыкам «абсалютнага панаваньня» зьўяляецца, бадай што, Ісая Бэрлін, палітычны мысьляр лібэральнай арыентацыі. У сваім эсэ Дзьве канцэпцыі свабоды ён сфармуляваў свае засьцярогі адносна ідэі «калектыўнай свабоды». Калектыўная, то бок, пазытыўная свабода – гэта сытуацыя, калі цэльнасьць, шырэйшая ад чалавечага індывіда (племя, раса, дзяржава, народ, канфэсійная супольнасьць) прызнаецца «вышэйшым», «сапраўдным Я».15 І гэтая цэльнасьць, «навязваючы сваю калектыўную, то бок “арганічную” волю сваім непаслухмяным “чальцам”, здабывае сапраўдную, а тым самым і “вышэйшую” вольнасьць»16. Цэльнасьць, арганічнасьць, сапраўднае Я, вышэйшае Я – гэта ідэі, якія хаваюць у сабе немалы эмацыйны патэнцыял. Цяжка, мабыць, зразумець, якім чынам сукупнасьць паасобных людзей можа быць «арганізмам», тым ня менш, многім удаецца гэта адчуць. «Хачу быць кімсьці, а не нікім» – такі псыхалягічны мэханізм хаваецца, на думку Бэрліна, за ідэяй калектыўнае вольнасьці. Паводле Гегеля, чалавек толькі тады здабывае сапраўдную свабоду, калі становіцца ўдзельнікам свабоды Абсалюту. Калі ідэя цэльнасьці і адзінства ўводзіцца ў ранг Абсалюту, тады працэс «замыканьня грамадзтва» непазьбежны. Паспрабуем пункт па пункце апісаць гэты працэс. Па-першае, каб захаваць запаветную цэльнасьць, трэба затрымаць зьмены ў грамадзтве і мінімалізаваць усякую флюктуацыю. Выкарыстоўваючы характарыстыку Попэра: «Усякая грамадзкая зьмена ёсьць дэградацыяй, 147 Пётра Рудкоўскі заняпадам альбо дэгенэрацыяй». А для таго, каб затрымаць, то бок узяць пад сьціслы кантроль зьмены ў грамадзтве, патрэбна моцная вэртыкаль, якая прадугледжвае стасунак аднабаковага («зьнізу ўверх») падпарадкаваньня. Такім чынам, уводзіцца герархічная мадэль грамадзкага ладу, а «справядлівасьць» у гэткім выпадку дэфініюецца (наўпрост ці ўскосна) як спрыяньне захаваньню ўстаноўленага ладу. Попэр называе гэты фэномэн arrested state17. Па-другое, у грамадзянаў трэба выхоўваць пачуцьцё асабістай пагрозы і небясьпекі, якая можа іх напаткаць у выпадку, калі пацерпіць калектыўная цэльнасьць. Паасобны чалавек не павінен уяўляць сваё існаваньне па-за калектыўным арганізмам. Наступствам гэтага ёсьць па-трэцяе, замацаваньне прынцыпу безумоўнага першынства дзяржавы над адзінкаю. Як кажа Попэр, інтэрпрэтуючы Плятона: «Гэта “натуральна”, калі індывідуўмы служаць цэльнасьці, якая не зьяўляецца сумай іх, разам узятых, а “натуральным” індывідуўмам вышэйшага ўзроўню»18. Па-чацьвёртае, стабільнасьць, мір і дабрабыт непарыўна зьвязаны з тым, наколькі дзяржава моцная. Дзяржава, аднак, ня можа існаваць аўтаматычна, мусяць быць «выбраныя» (ці Богам, ці Гісторыяй, ці Народам), якія, заўдзячваючы асабліваму якомусь таленту, захаваюць яе ў «здаровым» (гзн. цэльным, непарушным) выглядзе. Таму па-пятае, лёс дзяржавы тоесны зь лёсам яе кіраўнікоў. *** Падводзячы вынік дагэтулешнім разважаньням, зацемім, што «разьвітаньне з Абсалютам», якое можам назіраць у эўрапейскай наасфэры, мае амбівалентны характар. «Разьвітаньне» у першым, эпістэмалягічным значэньні можа – парадаксальным чынам – прывесьці да «прывітаньня Абсалюту» як уладнай сілы. Калі – маўляў – няма абсалютнай Праўды, хай будзе абсалютная Сіла. Вышэй была пастаўлена тэза, што ў Беларусі дзіўным чынам спрагліся бунт супраць Абсалюту і настальгія за Абсалютам. Менавіта гэта і ёсьць той казус, калі спраўдзілася разумаваньне: калі ня праўда, дык сіла. Паспрабуем цяпер бліжэй разгледзіць і прааналізаваць гэтае «спражэньне». Інтранізацыя абсалюту ў беларускай прасторы «Калі я ўбачыў, як усё хістаецца і зьмяняецца бязмэтна, мяне ахапіла роспач і прыгнечанасьць», – чытаем у адным зь Лістоў Плятона. Пэўна, тыя ж самыя словы маглі б паўтарыць многія жыхары Беларусі ў пэрыяд «бескаралеўя» (1991– 1994). Хістаньне, зьмены, напружаньне, няпэўнасьць – гэта ненатуральныя для 148 Адкрытае грамадзтва і спосабы яго замыканьня чалавека станы. Асабістая свабода ня дужа цешыць, калі чалавек знаходзіцца ў стане дэзарыентацыі. Акцэптацыя і ўстойлівая падтрымка народнымі масамі аўтарытарнага лідэра зусім не зьдзіўляе. У 1990-х гг. існаваў выразны попыт на ўладу «моцнай рукі», рэжым Лукашэнкі аформіўся на базе кансэнсусу паміж «нізамі» і «верхам». Беларусь спаткала тое, што Лешак Калакоўскі акрэсьліў наймем «сама­ атручваньне адкрытага грамадзтва». На пачатку 1990-х беларускае грамадзтва сапраўды «адкрылася» ў тым сэнсе, што вызваліліся з-пад кантролю шматлікія дыскурсы і культурна-палітычныя праекты. Але гэтае «вызваленьне» мела сумны фінал. Да згаданай эканамічнай нестабільнасьці дадавалася этычная нясьпеласьць беларускага грамадзтва. Інтэлектуалы (перадусім права-кансэрватыўнай арыентацыі) хутка навучыліся «чытаць пропаведзі» (гзн. «абвяшчаць Ісьціну»), але зусім не былі падрыхтаваныя да таго, каб уважліва слухаць іншых і рэспэктаваць пачутае. Грамадзтва Беларусі першай паловы 1990-х было адкрытае толькі ў тым сэнсе, што да пары да часу талеравала «ідэйнае размнажэньне». Але калі глянуць на гэтае грамадзтва з пункту гледжаньня яго здольнасьці да ўнутранага дыялёгу, то ў гэтым пляне яно заставалася замкнёным. Такое «адкрыта-замкнёнае» грамадзтва можна назваць склератычным грамадзтвам. Склератычнае грамадз­ тва не зьняволенае адной-адзінай ідэалёгіяй (і гэта прызнак «адкрытасьці»), але няма таксама ў ім культурнага ўзаемаабмену. Прыкладам, беларускамоўныя не ўяўлялі суіснаваньня з расейскамоўнымі і наадварот. У дыскурсе гэтых першых расейскамоўныя а прыёры явіліся як рудымэнты савецкай эпохі, якіх трэба альбо «навярнуць» альбо маргіналізаваць. Расейскамоўныя вельмі хутка «выгадавалі» ўласны дыскурс, у якім беларускамоўныя суайчыньнікі явіліся не інакш, як нацыянальныя фрустраты зь нізкай інтэлектуальнай культурай. Аналягічныя стратэгіі ўзаемавыключэньня можна знайсьці і ў дыскурсах іншых грамадзка-культурных субсыстэмаў (рэлігійных, культурных, палітычных). Больш таго, паасобныя дыскурсы, арганізаваныя вакол аднае ідэі, разьбіваліся на некалькі вэрсіяў, напр. дыскурс беларускамоўных дзяліўся на тарашкевіцкую, наркомаўскую, лацініцкую і іншыя, больш экзатычныя, вэрсіі. Каталіцкая дыскурсыўная субсыстэма вельмі хутка падзялілася на польска-традыцыяналісцкую і пра-беларускую вэрсію, а на ўлоньні праваслаўя зарысаваўся яскравы і драматычны падзел на аўтакефалічную і «гетэракефалічную» (Маскоўскага патрыярхату) Царкву. Гэта толькі некаторыя прыклады, ўзятыя з культурнае сфэры. А што ўжо казаць пра палітычную. Культурна-палітычная дыфэрэнцыяцыя грамадзтва – працэс сам па сабе нэўтральны, а можа нават і станоўчы. Пытаньне ў тым, наколькі чальцы (асабліва «кваліфікаваныя» чальцы, гзн. эліты) дадзенага грамадзтва здольныя будуць духоўна «пераварыць» гэту разрозьненасьць. На жаль, працэс «пераварваньня» пайшоў (і ідзе) не найлепей. Паасабныя праекты-дыскурсы прэтэндавалі зазвы149 Пётра Рудкоўскі чай на быцьцё цэльным, самадастатковым і некарыгавальным праектам, які – калі будзе прыняты – здольны будзе «аздаравіць» грамадзтва. Культурная прастора Беларусі пэрыяду «дэмакратызацыі» ўяўляецца як сукупнасьць большых або меншых астраўкоў, абывацелі якіх толькі і ўмелі крычаць: тут – Беларусь! тут – Беларусь! Схільнасьць да культурнай самаізаляцыі і замыканьня ў сваіх субкультурах – вось галоўны грэх Беларусі пасьлясавецкай пары. Стан «склератычнага грамадзтва» ня можа быць даўгавечны. Такое грамадзтва павінна альбо ператварыцца ў прастору дыялёгу, альбо «замкнуцца». На Беларусі перамог гэты другі варыянт: нялюбы плюралізм быў пераадолены шляхам устанаўленьня адной-адзінай артадоксіі, якую павінны будуць хоцькіняхоцькі вызнаваць усе. «Артадаксальны тон» спачатку задаваўся харазматычнымі прамовамі беларускага лідэра і паслухмянымі яму мэдыямі, аж урэшце аформіўся ў інтэлектуальна падмацаваны дыскурс у выглядзе беларускай дзяржаўнай ідэалёгіі. Зьявіліся, такім чынам, інтэлектуальныя стратэгіі «замыканьня грамадзтва». Пад «замыканьнем» будзем тут разумець замацаваньне ў сьвядомасьці людзей дагматызаваных перакананьняў адносна мінулага і актуаліяў, адносна ўлады і апазыцыі, адносна самой краіны і міжнароднай супольнасьці. Галоўнай задачай беларускіх ідэолягаў было інтэлектуальна абгрунтаваць неабходнасьць (а нават непазьбежнасьць) самой дзяржідэалёгіі. Паспрабуем прасачыць лінію абгрунтаваньня ідэалёгіі на прыкладзе ходу разважаньняў аднаго з афіцыйных ідэолягаў Уладзіміра Мельніка. 1. Няма і ня можа быць такой сацыяльна-палітычнае тэорыі, канцэпцыі ці дактрыны, якая была б гнасэалягічна чыстай і ідэалягічна нэўтральнай, гзн. пазбаўленай якой-кольвек сувязі з тымі ці іншымі інтарэсамі сацыяльных групаў.19 2. Дзяржаўная ідэалёгія ў па-сапраўднаму дэмакратычным грамадзтве існуе як адна з многіх іншых ідэалёгіяў, не навязваная дзяржаваю гвалтоўна, а аб’ектыўна займае прыярытэтнае становішча дзеля агульнай значнасьці свайго зьместу.20 3. Дзяржаўная ідэалёгія ёсьць, па-сутнасьці, ідэйнай «скрэпкай» грамадзянскай супольнасьці... Безь яе, гэтаксама як і без інстытуту права, грамадзтва пагразьне ў бясконцых спрэчках, у выясьненьні кожным сацыяльным суб’ектам сваёй «праўды».21 4. Разбурэньне дзяржаўнай ідэалёгіі ёсьць разбурэньнем і самой дзяржавы.22 5. Ідэйная разнастайнасьць у грамадзянскай супольнасьці мае права на існаваньне толькі ў межах асновапалеглых каштоўнасьцяў нацыянальнадзяржаўнай ідэалёгіі. ...Усякі іншы «плюралізм» ёсьць калябарацыянізмам і кампрадорствам, які ўва ўсіх краінах перасьледуецца па закону.23 150 Адкрытае грамадзтва і спосабы яго замыканьня У вышэйпрыведзеным разумаваньні можам добра заўважыць, якім чынам «бунт супраць эпістэмалягічнага Абсалюту» вядзе да інтранізацыі «палітычнага Абсалюту». Усё пачынаецца ад «нявіннай» заўвагі, цалкам кагерэнтнай з сучаснымі эпістэмалёгіямі, што няма «нэўтральнага пазнаньня», асабліва калі аб’ектамі пазнаньня зьяўляюцца такія «ненэўтральныя» сфэры, як соцыюм і палітыка. Тэза (1) ў ідэалягічным дыскурсе Мельніка становіцца падставай для сфармуляваньня выразна антылібэральнай тэзы (3). Згадкі пра «бясконцыя спрэчкі» і суцэльны вэрхал, які паўстае ў сытуацыі адсутнасьці ідэалягічнай «скрэпкі», – гэта ўлюбёны прыём праціўнікаў дэмакратычнай культуры і ідэйнага плюралізму. Паколькі апошнія згаданыя паняткі (дэмакратыя і плюралізм) было б вельмі рызыкоўна выкінуць зь ідэалягічнага лексыкону, ім папросту надаецца іншае, вывернутае значэньне, аб чым сьведчаць тэзы (2) і (5). У «па-сапраўднаму дэмакратычных» краінах, – кажа Мельнік, – дзяржідэалёгія не навязваецца, а аб’ектыўна займае прыярытэтнае месца. Ужо апэраваньне функтарам «па-сапраўднаму» без паясьненьня, што значыць у гэтым кантэксьце «сапраўднасьць», выклікае падазрэньне ў тым, што выказваньне носіць прапагандысцкі, а не інфармацыйна-выясьняльны характар. Супрацьпастаўленьне «не навязваецца, а аб’ектыўна займае» пацьвярджае гэтае падазрэньне: водле якога крытэру тут вызначаецца «аб’ектыўнасьць» месца, якое займае дадзеная ідэалёгія? Ясна, што водле ўладнага, то бок сілавога, крытэру. Вось як: кожны абавязаны вызнаваць гэту ідэалёгію і паўтараць пры тым, што яна не навязана, а «дабраахвотна» прынята. Вось дакуль можа пасунуцца ідэалягічны імпэрыялізм. Навязваньне камусьці чаго-небудзь і пераконваньне яго ў аб’ектыўнасьці навязванага – гэта неад’емная рыса таталітарнай нарацыі. Таталітарны характар дзяржідэалёгіі ў Мельнікавай вэрсіі пацьвярджаецца наяўнасьцю пагрозьлівых намёкаў на «калябарацыянізм» і «кампрадарства», якія будуць выяўлены ў кожнага, хто, прыкрываючыся плюралізмам, захоча адыйсьці ад дзяржаўнай артадоксіі. І зусім ужо абсурдальнай і чыста дэмагагічнай ёсьць заўвага Мельніка, што нявернасьць дзяржідэалёгіі быццам бы «ўва ўсіх краінах перасьледуецца па закону». Такім чынам, няма нічога дзіўнага ў тым, што «плюралізм» трактуецца Мельнікам цалкам па-гегельянску (гл. тэза (5)). Паасобныя дыскурсы могуць выконваць функцыю складовых частак абсалютнага (пануючага) дыскурсу, але ня могуць існаваць аўтаномна, гзн. утвараць альтэрнатыўны варыянт апісаньня і інтэрпрэтацыі рэчаіснасьці. У замкнёным грамадзтве няма аўтаноміі дыскурсаў, гэтаксама як няма ў ім аўтаноміі чалавечай асобы. 151 Пётра Рудкоўскі *** Беларусь усьцяж прабывае ў статыцы замкнёнага грамадзтва. Усялякі «рух», «зьмена», «трансфармацыя» магчымы толькі настолькі, наколькі дазволіць улада і толькі тады, калі дазволіць. А аўтарытарная ўлада здольная да руху толькі тады, калі гэтага патрабуе яе самазахаваўчы інстынкт; ува ўсіх астатніх выпадках яна аддае перавагу status quo. Яна панічна баіцца ўсякага аддольнага руху ды рэфарматарскіх парываў і душыць іх у зародку. Інэрцыя, псыхалёгія пешкі, пачуцьцё глябальнай залежнасьці ад вонкавых фактараў становяцца найбольш прэфэраванымі рысамі палітычных паводзінаў грамадзян, гэтыя рысы аўтарытарная ўлада старанна выхоўвае і замацоўвае. А ў якасьці мацавальнікаў гэтага стану (інэрцыя нізоў – абсалютызм вярхоў) служаць ідэалы стабільнасьці, міру і дабрабыту. «Стабільнасьць», «мір» і «дабрабыт» утвараюць свайго роду «канчатковы слоўнік» беларускай ідэалёгіі, пры тым, што ў ідэалягічным дыскурсе сэмантыка гэтых тэрмінаў набывае пачварны выгляд. Ідэал стабільнасьці маскіруе ня што іншае, як палітычны манізм, які дасягаецца шляхам вернасьці лідэру і замацоўваецца афіцыйнай ідэалёгіяй. Афіцыйная ідэалёгія ў сваю чаргу задае бескрытычнае, дагматычнае ўспрыманьне рэчаіснасьці, нэўтралізуе парасткі самастойнай думкі і касуе інтэлектульную незалежнасьць. Мір – гэта тое, што замацавана ў Мельнікавай тэзе (3), а мяноўна: адсутнасьць публічных дыскусіяў, кансэрвацыя маналягічнай культуры. Канцэпцыйныя спрэчкі ў варунках палітычнага манізму і ідэалягічнай манаполіі амаль загнаны ў падпольне, схаваныя ад вачэй і вушэй шырокай публікі, паколькі яны мабілізуюць да самастойнага мысьленьня і зьяўляюцца маторам культурнага разьвіцьця і асновай адкрытага грамадзтва. Самастойнае мысьленьне і аўтаномія культурнай сфэры зьяўляецца пагрозай для вэртыкальна-герархічнай сыстэмы. Дабрабыт – гэта перадусім сталы кантроль над гаспадарчымі працэсамі, спалучаны з элімінацыяй неляяльных і занадта самастойных гаспадарнікаў ды бізнэсоўцаў. *** На Беларусі пасьпяхова прыжыўся ідэал замкнёнага грамадзтва, зьмест якога мы паспрабавалі раскрыць вышэй. Беларуская дзяржаўная ідэалёгія зьяўляецца ў значнай ступені трансьляцыяй антылібэральнай традыцыі, якая паўстала і сфармавалася ў сваёй клясычнай вэрсіі менавіта ў Эўропе. Яе абгрунтаваньне пачынаецца ад сьцьверджаньня прынцыповага пазнаўчага рэлятывізму і заканчваецца апалягетыкай улады «моцнае рукі». 152 Адкрытае грамадзтва і спосабы яго замыканьня Пэрспэктыва «інтаксыкацыі» адкрытага грамадзтва застаецца актуальнай для ўсяе Эўропы. Бо нікому насамрэч невядома, ці Беларусь – гэта «апошняя дыктатура» ў Эўропе, ці наадварот – вястун вяртаньня «абсалютнага панаваньня» ў Эўропе. Плятонаўская візія ідэальнай дзяржавы, кіраванай шляхетным мудрацомманархам, заўжды спакушала і спакушае як візія дасканалага (у этычным і эстэтычным пляне) грамадзтва, «не сапсаванага» «дэмакратычнай разбэшчанасьцю» і «лібэральнай сваволяй». Мэтай нашых разважаньняў было паказаць, што (пасьля)сучасны стан эўрапейскай культуры зусім не гарантуе перамогі ідэяў open society. За гэтыя ідэі ўвесь час трэба змагацца і ўвесь час абгрунтоўвась іх выбар. Парадаксальнасьць такога выбару ў тым, што ён прадугледжвае гатоўнасьць заакцэптаваць недасканалую мадэль грамадзтва. Бо «адкрытасьць» – гэта, бадай, тое самае, што «недасканаласьць». Гэта, канешне ж, ня значыць, што існуе якаясь альтэрнатыўная вэрсія «дасканалага» грамадзтва, бо «замкнёнае» ёсьць таксама недасканалым грамадзтвам, з тым толькі адрозьненьнем, што ўсе недасканаласьці ў ім кансэрвуюцца і маскіруюцца; замкнёнае грамадзтва робіць немыгчымым выяўленьне недасканаласьцяў і ў выніку становіцца немагчымым іх пераадольваньне. Многія людзі ў нова-дэмакратычных краінах кажуць: «Заўжды ведама было, што там, на версе, усякае творыцца. Але нашто яны гэта ўсё публічна па тэлевізіі паказваюць?» Спэцыфікай адкрытага грамадзтва ёсьць тое, што яго недасканаласьць становіцца ўсьвядомленай, калі хібы і недахопы могуць быць паддадзены сумеснаму абмеркаваньню і пошукам іх элімінацыі. Але гэта патрабуе інтэлектуальнай сьпеласьці і шмат добрай волі. Як трапна падкрэсьлівае цытаваны вышэй Мацей Земба, неабходнай умовай дэмакратыі ёсьць наяўнасьць этычнага і інтэлектуальнага аптымізму. «Беларускі казус» вельмі павучальны для ўсяе Эўропы. Ён ёсьць жывым папярэджаньнем, што можа стацца, калі будзе занядбана культура дыялёгу і ўзаемапавагі. Заўвагі 1 2 3 Падзел на «палітыку» і «мэтапалітыку» ўвёў польскі дамініканец Мацей Земба: Kościół wobec liberalnej demokracji // Michel Novak, Anton Ruscher SJ, Maciej Zięba OP. Chrześcijaństwo, demokracja, kapitalizm. Poznań, 1993. S. 115–116. Popper K. Open Society and its Enemies. New York, 1962. P. 185. Цытата паводле польскага перакладу: Popper K. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, tom I. Tłum. H. Krahelska, oprac. A. Chmielewski. Warszawa. 1993. S. 251. 153 Пётра Рудкоўскі 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 154 Тамсама. S. 237. Тамсама. S. 244. Тамсама. P. 101–102. Popper K. Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, tłum. S. Amsterdamski. Warszawa, 1999. S. 585–586. Цытата паводле: Zięba М. Demokracja i antyewangelizacja. Poznań, 1997. S. 40. З iтал. «этыка бяз праўды». З лац. «хай жыве розьніца!» Popper К. Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tłum. A. Chmielewski. Warszawa, 1992. S. 166. Цытатата паводле: Wilkoszewska К. Wariacje na postmodernizm. Kraków, 1997. S. 26. Хоць «аб’ектыўны» і «абсалютны» – нятоесныя паняцьці, у дадзеным кантэксьце няма проціпаказаньняў, каб ўжываць іх узаемазамяняльна. З ангел. «усё пройдзе» – у сэнсе: якая-кольвечы тэза, нават самая абсурдальная, пры наяўнасьці пэўных умоваў будзе закваліфікавана як навуковая. Гл.: Berlin I. Dwie koncepcje wolności, wybór i opracowanie J. Jedlicki. Warszawa, 1991. S. 130–131. Тамсама. S. 131. З ангел. «стан спыненасьці» альбо «спыненая дзяржава». Popper К. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie… S. 102. Мельник В. Государственная идеология Республики Беларусь. Концептульные основы. Мн.: ТЕСЕЙ, 2004. С. 45. Тамсама. С. 92. Тамсама. Тамсама. С. 69. Тамсама. С. 93. Андрей Горных Белорусское телевидение: окно в Европу или зеркало для героя Документальный сериал «Разъединённые Штаты Европы» (5 фильмов), созданный государственной корпорацией «Общенациональное телевидение» в 2005 г., является первой попыткой систематического взаимосоотнесения Беларуси и «новой Европы» в массовом сознании. Будучи органической частью новейшего официального агитпропа и концентрированно сочетая в себе его стиль и «идейное содержание», этот сериал интересен не столько сам по себе, сколько как визуальный текст. Визуальный текст, который в качестве аналитического объекта конституируется, во-первых, как форма, разнообразные имманентные связи текста, генерирующие «побочные», непредвиденные для автора смыслы. Во-вторых, как феномен рецепции: социальный смысл формы всегда возникает в напряжении, в зоне неопределённости, в отношениях взаимопорождения между авторским замыслом и системой ожиданий публики, задаваемой традиционными культурными схемами восприятия. В современном визуальном тексте, в этой зоне неопределённости на стыке между индивидуальной фантазий авторов (не заходящей, впрочем, слишком далеко) и рецепцией аудитории (в которой локализуется и любой интерпретатор) формирование значения происходит за секунды и доли секунды. С помощью текстуального анализа и психоанализа мы попытаемся выделить в этом процессе некоторые существенные черты как воображения Европы, так и собственной идентификации официальной Беларуси. 155 Андрей Горных Телевизионная репрезентация Европы и Беларуси Начнём с того, что каждый фильм сериала, чтобы с самого начала не оставить шансов белорусскому зрителю на «неправильную» интерпретацию, предваряется одним и тем же пространным «эпиграфом», в котором формулируется отчётливый идеологический посыл, а вместе с ним и расширяющий его визуальный текст. Визуальное начало фильма выполнено в космогоническом ключе – начало новейшей политической истории уподобляется началу мира. В первом кадре звёзды Евросоюза, как диск восходящего солнца, подвешены в мрачном «изначальном хаосе» с мерцающими точками и тревожными сполохами тёмно-синего света (напоминающими цвет ночи в триллерах). Застрявшее на горизонте новое «солнце» не в силах наполнить мир стабильным светом. Это солнце «ущербное», с отсутствующим сегментом, оно так и не обретает полноту своей формы. (В этом смысле телекартинка коннотирует скорее с новым «закатом Европы», словно флаг Евросоюза с тяжкой медлительностью развевается, мерно погружаясь во тьму.) Сами звёзды напоминают вырезанный траИлл. 1 фарет, сквозь который струится свет: они не столько светят сами, сколько заслоняют настоящий источник света, находящийся за ними, в своём вращении вокруг собственной оси и по часовой стрелке вокруг центра круга сдерживая и регулируя световой поток. (Илл. 1) В этом «доисторическом» пространстве раздаётся Слово, и в кадр вплывает текст. Слова плывущего в кадре текста, с одной стороны, проясняют идею фильма и параллельно служат подсознательным объяснением самой картинки – изначально постулируемой тревожной неполноценности Единой Европы. В своём объяснительном движении снизу вверх они буквально затыкают «дырку в солнце» – отсутствующий сегмент в звёздном круге Евросоюза. (Илл. 2) Вот что «гласит» постоянно повторяемый эпиграф ко всему сериалу в целом и к каждой серии в отдельности: «Идея Единой Европы в последние десятилетия становится весьма популярной. Политики сходятся во мнении, что уравновесить однополярный мир и конкурировать с мировым лидером – США – может только Европейский Союз. По аналогии его иногда называют Соединёнными Штатами Европы. Но Евросоюз весьма неоднороден. Быстрое расширение ЕС 156 Белорусское телевидение: окно в Европу или зеркало для героя разделило его на два лагеря: на развитые западноевропейские страны и новичков из Восточной и Центральной Европы. “Здоровое дитя за один месяц не смогут выносить даже девять беременных женщин”, – так комментируют эксперты последнее расширение ЕС, произошедшее в мае 2004 г. Первые итоги жизни стран-новичков в Евросоюзе, провал единой Конституции летом 2005 г., судьба общей Илл. 2 денежной единицы “евро”, конкурирующей с американским долларом, – об этом в документальном сериале “Разъединённые Штаты Европы”». Гипнотически плывущие в кадре слова, дублируемые чуждым любому сомнению голосом за кадром, как семена, падают и прорастают в визуально удобренной почве. Становится понятно, что «хаос» возник в результате исходной травмы, задающей точку отсчёта повествования: одно «божество» одержало верх, пожрало другое «божество», вместо инь и ян, земли и неба, света и тьмы, СССР и США – остался один термин оппозиции, мир стал дисбалансированным, «однополярным». Отсюда базовая мотивировка всего хода повествования – необходимость «уравновешивания», восстановления утраченного баланса мировых сил. Евросоюз вводится как неудачный герой в этой мифологической повествовательной схеме. Он изначально не обладает самотождественностью – «весьма неоднороден» (позднее мы увидим кадр с фрагментированной Европой в виде кубиков (илл. 3)), а значит, в соответствии с онтологическим аргументом, не вполне обладает и признаком бытия. Илл. 3 Он отчасти не существует, выполняя функцию «призрачного брата» (О. Ранк) некоего настоящего героя, который и восстановит глобальное равновесие и гармонию. Визуальная тема ущербности, несостоятельности современного Евросоюза подхватывается и развивается вербально в терминах нездоровья – ЕС шифруется в тексте как создание недоношенное, то есть изначально обречённое быть больным («здоровое дитя не родишь за один месяц»). К фразе «первые итоги 157 Андрей Горных жизни стран-новичков» тут же прилагается слово «провал» (относящееся к Евроконституции). Вместе с этим «провалом» в качестве темы всего цикла анонсируется судьба европейской «общей денежной единицы», конкурирующей с долларом. Идея Европы, таким образом, кодируется в сознании зрителя как создание неполноценного, нездорового единства, конкретным выражением которого выступает общность денег, а не общность людей. Последующие кадры празднования вступления новых членов в Евросоюз сопровождаются развивающим эту идею комментарием. Сущностью торжественного момента, выдержанного в классическом европейском ключе с симфонической музыкой и фейерверками, объявляется неуклюжее мелкобуржуазное предательство неких революционных идеалов. Это предательство кодируется языком патриотической детской литературы сталинского СССР: «Восьмёрка мальчишей, окончательно растоптав ненавистные будёновки, отправилась в трудный путь за буржуинским вареньем», – комментирует голос за кадром. Тезис о попранных идеалах, казалось бы, задаёт основу для принципиальной оценки новой Европы с совершенно особой точки зрения Беларуси. Однако «попранные идеалы» упоминаются лишь в форме ёрнического намёка (что это за люди в будёновках, за что они – в идеале – боролись?) в первый и последний раз. Все остальные упрёки и разоблачения будут касаться не самого факта смены будёновки на банку варенья, но того, что европейская «банка варенья» оказалась не полнее и не слаще собственной. Белорусская идеология, раз за разом стремясь сходу сформулировать какое-то принципиальное антизападное различие, опереться на некое некапиталистическое прошлое, явно не находит точки опоры и сразу скатывается к сравнительной «аналитике» мелких выгод. Симптоматично в этом контексте, что идея Соединённых Штатов Европы в фильме упоминается в связи с кем угодно (от средневековых королей до Черчилля), только не с Лениным, который своей работой О лозунге «Соединённые Штаты Европы» (1915), собственно, и утвердил её в политологическом обиходе. Это вполне объяснимо, учитывая идеологическую прямоту ленинского марксизма, который последовательно называл любую попытку говорить от имени всего народа (а не от имени своего класса) буржуазной уловкой, а ключевой революционной идеей объявлял фундаментальное изменение структур социально-экономического обмена (подрыв товарного фетишизма, а не просто стабильную сытость). На фоне этих сильных теоретических тезисов центральные положения белорусской идеологии о «народности» и «социальной ориентированности» гегемонистского Государства своей блеклостью и бессодержательностью скорее разоблачают, нежели прикрывают мелкобуржуазную, чуждую любой революционности сущность существующего политического режима. В рамках белорусской идеологии марксизм становится особым объектом 158 Белорусское телевидение: окно в Европу или зеркало для героя вытеснения: близким, но непонятным и поэтому опасным магическим предметом предков. После невнятных отсылок к преданной революционной идее в сухом остатке остаётся только одно: основным фактором, движущим народы в Европу, является мелкая – неразумная, нерасчётливая в своей мелочности – корысть без примеси культурной традиции или политических интересов. Это тут же наглядно демонстрируется на примере Литвы, в которой голос «за» единую Европу фактически покупается всего за одну бутылку пива или пачку стирального порошка. (Илл. 4) Всё последующее развитие сериала превращается в сплошную калькуляИлл. 4 цию: кто кому сколько дал и кто от этого выиграл – «старая» или «новая» Европа. Тщательно подсчитывается баланс субсидий и налогов, дотаций и упущенных выгод, доходов и косвенных убытков. Бесконечно перечисляется, что и насколько подорожало – от колбас до недвижимости. Монтажные перебивки считаемых на машине денег, денежные выкладки в комментариях автора, «простые люди», занятые подсчётом своих купюр и монет, – всё это образует основной лейтмотив фильма. Начав со слабого тезиса о том, что «неизвестно чего больше – плюсов или минусов» от объединения для новичков Евросоюза, авторы фильма тут же усиливают тезис. Для «простых людей» плюсов не обнаруживается вообще: рост цен – «катастрофичен», последствия расширения – «трагичны», в самом лучшем случае – в Единой Европе «ничего не изменилось». Ключевой приём визуальной репрезентации Европы на фоне такого комментария – монтаж живых общих планов городов и улиц, наполненных прогуливающимися «простыми людьми», и изображений властных институций. Европейские властные институты репрезентированы с помощью монтажных «двухходовок»: внешний вид властных учреждений стыкуется с картинами внутренней жизни в них. И внешний вид, и внутренняя жизнь в данном случае имеют специфический вид. Снаружи европейская власть напоминает герметичные архитектурные коконы, покрытые зеркально-стеклянным панцирем. (Илл. 5) Эти самодостаточные, глухие и слепые коконы возвращают внешнему миру его искаженные отражения, не пропускают ничего извне и не выпускают изнутри. Моменты, точки и ракурсы съёмки подчёркивают безлюдность и пустоту вокруг европейских «очагов власти». Время от времени у глухих зеркальных или каменных стен симво159 Андрей Горных лического центра Европы появляется отечественный журналист со своими комментариями. Это появление отсылает к иконографии выхода рыцаря к неприступным стенам вражеской крепости, чтобы бросить вызов и проявить собственную храбрость. Внутреннее пространство евробюрократии геометризировано и пронумеровано, оно пропитано поэтикой тех безжизненных схем, Илл. 5 которые без всяких объяснений и комментариев разрабатывают политики и навязывают идущей где-то вдалеке от них жизни, с которой они никогда не смешиваются. (Илл. 6, 7) И внешнее и внутреннее пространство отмечено визуальными знаками власти – знамёнами, гербами, логотипами. Это как бы публично предъявляемые «благородные» метки постмодернистского политического процесса, сутью которого является постоянное перераспределение невидимых для публики денежных потоков. Собственно постмодернистская политика и сводится к тому, чтобы генерировать и комбинировать эти внешние качества (цвета флагов, рисунки гербов, партийные логотипы, картинно правильные лозунги), чтобы прикрыть «скучную» для массового зрителя (электората) силовую борьбу властных группировок за контроль над денежными потоками. В итоге монтажный образ Европы складывается из аморфной массы обывателей, безразлично потребляющих товары и услуги или высказывающих индивидуальные жалобы (касающиеся наполнения собственного кошелька), и далёкой чуждой власти, находящейся где-то посреди этих масс. В центре воображаемой Европы, в некой зоне отчуждения от простых людей располагаются «коконы» власти, внутри которых происходит комбинаторика знаков власти, а результаты лишь предъявляются публике. Простые люди уже ничего не понимают в этом политическом визуальном тексте – ибо его конечное содержание (содержимое кошельков граждан) вполне автономно от формы. Визуальный текст влаИлл. 6 сти – подвижные комбинации флагов 160 Белорусское телевидение: окно в Европу или зеркало для героя и логотипов, схем и графиков, лиц и жестов политиков – служит скорее сбивающей с толку «легендой» к той карте повседневной экономической жизни, с которой блуждает на «местности» обыватель. Беларусь же репрезентирована без посредников-журналистов в кадре – она сама говорит за себя. Основное отличие в репрезентации ещё не вошедших в Евросоюз бывших стран Илл. 7 соцлагеря и республик СССР – образы их близости к естественным источникам изобилия, органической «плодотворности» суверенитета. Экономическая жизнь представлена изобильными потоками естественных богатств: стали, хлеба, вина. (Илл. 8, 9) В то время как новые члены Евросоюза репрезентированы стерильными, автоматическими, «дегуманизированными» пространствами перерабатывающей промышленности. (Илл. 10) Беларусь на телекартинке выглядит как маленькая восточно-европейская страна: ратуша, католические храмы, двух-, трехэтажные предместья (президентский дворец является чуть ли не единственным советским сооружением, попадающим в кадр в данной монтажной нарезке). (Илл. 11, 12) Этот монтажный образ Беларуси, облик которой определяется исключительно городским духом XVII– XIX вв., сопровождается закадровым комментарием о том, что Беларусь давно «созрела» для Европы – и даже в большей степени, чем те постсоветские республики, которые надеются в обозримом будущем получить в ней место. Вышедшая в этом виде на поверхность вера в избранность обнажает парадокс, питательный для идеологического воображения: мы тем вернее причастны к Европе, чем менее она нам нужна. Между репрезентированными таким образом Беларусью и Европой пролегает особая граница. Ключевые параметры воображения этой границы задаются образами Игналинской АЭС и старых бытовых вещей, перемещаемых из старой в новую Европу. Закрывающаяся Игналинская АЭС трансформируется в огромное захоронение радиоактивных отходов Илл. 8 прямо на границе Литвы и Беларуси, 161 Андрей Горных куда, как полагают герои сериала, скорее всего будут свозить радиоактивные отходы и из других стран Европы. Поток вещей, бывших в употреблении в старой Европе – от одежды и бытовой техники до подержанных автомобилей, – движется к периферии новой Европы и оседает на её границах в виде свалок, от которых, таким образом, разгружается старая Европа. Такова отечественная версия Илл. 9 западного неоколониалистского утилитаризма, понимаемого в буквальном смысле как утилизация отходов за счёт новых территорий. Европа, таким образом, отделяется от Беларуси растущим валом из худших и опасных отбросов своей экономики, валом омертвевшей материальной цивилизации. Этот вал, помимо функций утилизации и освобождения жизненного пространства для старой Европы, играет также роль инертного «буфера», как говорится в сериале, между западной и незападной (Россия, Азия) цивилизациями. Беларусь, с советских времен сохраняющая, по словам авторов, «девственную чистоту» (очевидно, как в экологическом смысле, так и в смысле идейного пуризма), вынуждена со своей стороны подпирать этот буферный вал, чтобы поток западного подержанного ширпотреба, а вместе с ним и узко утилитарных западных принципов не вышел из своих берегов. За спиной же ЕС маячит настоящий враг – безличный, милитаризированный, Единый: Соединённые Штаты Америки. (Илл. 13, 14) Это единство со знаком минус, которому вся Европа не может противопоставить ничего существенного. Таков «видимый мир» с точки зрения белорусской ТВ-идеологии. Попробуем указать на некоторые механизмы, которые задействованы для его конструирования. Илл. 10 162 Белорусское телевидение: окно в Европу или зеркало для героя Идеологическая проекция «Противоположность между индивидуальной психологией и социальной психологией (или психологией масс), кажущаяся на первый взгляд весьма значительной, – пишет Фрейд, – оказывается при тщательном исследовании не столь резкой».1 В нашем случае воображение белорусской ТВ-идеологии обнаруживает много общего с индивидуальной невротической фантазией. Представленное выше видение Европы явственно содержит в себе свойства защитного механизма проекции, описанного в психоанализе. При проекции определённые внутренние влечения и желания (либидо), ощущаемые как опасные и невозможные для субъекта, выносятся вовне и, найдя «подходящий» объект Илл. 11 в реальности, заземляются на него. Фрейд выделяет две фазы проекции: «Первая осуществляет вытеснение и перевод либидо в страх, связанный с внешней опасностью. Вторая заключается в выдвижении всех предосторожностей и предупреждений, благодаря чему предотвращается столкновение с этой опасностью, которая считается внешней»2. Наделяя внешний объект фобическим содержанием (переводя его в план воображаемых объектов), социальный идеологический субъект, так же как и невротик, разворачивает вокруг него целую систему «предосторожностей и предупреждений», систему интерпретации этого объекта, объясняющую его опасность и предписывающую способы её избегания (к чему, собственно, и сводится основной корпус идеологии). При этом тотальность, «стройность» и «непротиворечивость» системы идеологической интерпретации опасного объекта, с лёгкостью вписывающей любой новый факт в свою систему в качестве подтверждающего аргумента, явным образом граничит с параноидальными симптомами: с чрезмерным, как говорят психоаналитики, увлечением интерпретаторством, весьма связным по форме, но неадекватным Илл. 12 163 Андрей Горных в исходной посылке и направленным сугубо на объект фобии. Без всяких полутонов и исключений – первый стилистический признак идеологической проекции – белорусское телевидение, концентрированно отразившись в магическом кристалле нового жанра «документального сериала», изображает Новую Европу как опасный объект. Всё, о чем идёт речь в сериале, наИлл. 13 правлено в одну сторону, ложится на одну чашу весов, является бесконечным повторением одного и того же тезиса: простому человеку жить в Новой Европе неуютнее, нестабильнее, беднее – короче, во всех смыслах слова, себе дороже. Сначала это сообщение в самых разнообразных упаковках подаётся авторским голосом, ему вторят простые люди на улицах, затем то же самое и порой в ещё более примитивной форме повторяют «эксперты» сериала3. Понятен нехитрый агитпроповский расчёт на эффективность такого повторения в отношении населения, в советские времена почти безгранично доверявшего печатному слову, а ещё недавно с таким же доверием относившегося к телевизионному слову реклам финансовых пирамид. В данном случае нам интересен сам идеологический субъект: в каком отношении он находится с генерируемым дискурсом, какие функции этот дискурс выполняет по отношению к этому субъекту. Под идеологическим субъектом здесь понимается собирательный образ человека, причастного к реальной власти в Беларуси и пытающегося так или иначе дискурсивно её легитимировать. Понятно, что сегодня во власти (и не только белорусской) находятся далеко не идеалисты, а, скажем, жёсткие прагматики. Понятно, что друг с другом они общаются на другом языке, отличающемся от того языка, на котором они разговаривают с «народом». Естественно, что львиная «доля» белорусского идеологического субъекта – это голый расчёт и технологии (по ту сторону всякой «филоИлл. 14 164 Белорусское телевидение: окно в Европу или зеркало для героя софии») удержания власти. Но психоанализ учит видеть человеческое в любом субъекте. Можно предположить, что подобные идеологические продукты не менее, если не более, нужны как защитные механизмы для самих идеологов режима, этих невротиков-в-законе. Ведь, зомбируя население, они и сами постоянно переживают процесс «идеологического обращения»: ни один субъект не может опереться внутри себя на твёрдое ядро достоверности, делающее его убеждения незыблемыми, а сознание счастливым. Он может это только имитировать с прогнозируемыми невротическими последствиями. Формула идеологического обращения проста, как тибетский молитвенный барабан, о котором говорит Славой Жижек в Возвышенном объекте идеологии: «Оставьте рациональную аргументацию и просто подчинитесь религиозному ритуалу, найдите забвение в повторении бессмысленных жестов, ведите себя так, как будто уже верите, и вера придёт к вам сама собой»4. Вряд ли белорусские идеологи и их ближайшие социальные «собратья» (бюрократы и менеджеры среднего и высшего звена) одержимы идеей народного блага или верой в качественно иное Будущее так же, как ими были одержимы, например, первые большевики. По уровню благосостояния и стилю жизни они всё больше тяготеют к типичному буржуазному среднему классу (не считая единиц, которым дозволено быть «выше среднего» в буржуазном отношении). И народная стихия с её невзыскательными вкусами и «идеологией» мясомолочной стабильности, и тоталитарные фигуры правителей, позиционирующих себя как воплощение этой стихии, в принципе одинаково чужды для этого класса. Это становящееся классовое сознание, внутренняя «жизнь влечений» белорусской протобуржуазии всё чаще сталкивается с фрустрационными тупиками идентичности. Навязчивые попытки стимулировать всенародную подозрительность, дистанцирование и уклонение в отношении Европы могут быть также поняты как формы психоаналитического отрицания, то есть негативного признания собственных бессознательных тревог. Иными словами, в результате проекции «Я ведёт себя так, словно опасность нарастания тревожного страха обусловлена не динамикой влечений, а внешним восприятием, и, стало быть, можно реагировать на эту внешнюю опасность попытками бегства, фобическим уклонением от “опасности”» (Фрейд З. Бессознательное. 1915)5. На наш взгляд, невозможно полноценное объяснение упорного, систематического «уклонения» от Европы (не прямой конфронтации или железного занавеса, а именно «уклонения»), оговорок типа: «Я за цивилизованным миром свою страну не поведу», приписываемых белорусскому президенту, и множества других симптоматических действий со стороны белорусского идеологического субъекта – без учёта подобных механизмов проекции. Все комментарии и сама тематическая траектория сери165 Андрей Горных ала – из гущи европейский интеграционных процессов через анализ ещё незатронутых этими процессами бывших советских республик к независимой ни от кого Беларуси – подчиняются логике уклонения от объекта, который обладает особой, зачаровывающей опасностью, в силу невозможности отойти от него на безопасную дистанцию. В классической работе О. Ранка Миф о рождении героя анализируются архаические повествовательные схемы в качестве способов защиты от такого травматического объекта. Этот объект – прежде всего различные патерналистские фигуры (тотем, отец и т. д.) – вызывает несовместимые амбивалентные чувства: благодарности и страха, гордости и стыда. Эти чувства испытываются и одновременно «разрывают» Я изнутри. Для разрешения этого противоречия воображение генерирует особый тип мифа о герое. В нарративной структуре такого мифа изначальный немыслимый травматический объект подвергается расщеплению. Так, например, патерналистский персонаж удваивается на приёмного и настоящего родителя: на заботливого Отца и деспотичного Преследователя. В напряжении этого расщепления на месте травматического объекта генерируется мифологический сюжет о рождении героя, который сводится к следующей схеме: а) герой приходится сыном очень знатным родителям, но его рождение, по тем или иным причинам, становится нежелательным; героямладенца преследуют, пытаясь лишить семейного очага и самой жизни, б) героя спасают и вскармливают люди низшего происхождения; выросший герой совершает подвиги, узнаёт о своём происхождении и возвращает себе своё положение. В эту схему укладываются самые разнообразные повествования – от драмы Царь Эдип Софокла и эпоса о Зигфриде до пушкинской Сказки о царе Салтане. Белорусский идеологический миф постоянно отсылает к распаду СССР как космической драме утраты мирового баланса, как потере единой могущественной семьи. Патерналистская фигура «Москвы» в отечественном политическом бессознательном расщепляется на официальный Минск и официальный Брюссель. Официальный Минск выступает чем-то вроде любящего, но незнатного приёмного родителя для бывших советских граждан. Функции коварного Преследователя в белорусском идеологическом мифе берёт на себя Брюссель, что особенно акцентирует сериал «Разъединённые Штаты Европы». Политической сутью расширения Европы авторы сериала объявляют смену восточноевропейскими странами «Хозяина» – Брюссель заступает на место Москвы. Ведь малым странам не выжить без Патрона, утверждается в фильме. Просто новый «союзный» лидер более хитрый и более мощный, нежели социалистическая Москва. Но, как отмечают эксперты сериала, современный Брюссель всё более походит на прежнюю Москву, а евробюрократия – на советскую номенклатуру: 166 Белорусское телевидение: окно в Европу или зеркало для героя та же командная система, избыточная формализация и мелочная опека, недемократичность и закрытость. Современная же Москва двоится в сознании белорусского идеологического субъекта: с одной стороны, она выступает самым верным братом, чуть ли не близнецом Минска, с другой – в виде прочно окопавшихся в самом центре, в Кремле, антибелорусских сил она берёт на себя функции Преследователя, пытающегося помешать восходящей славе Героя. Вообще, идея Европейского Союза, его расширения в конечном счёте трактуется, с одной стороны, как несовершенное повторение опыта Советского Союза («у нас была гораздо более близкая и органичная интеграция между социалистическими республиками»), с другой – как усугубление распада СССР. Сериал полнится комментариями о том, что ситуация в расширенном Евросоюзе похожа на ту, когда распался Советский Союз: раздрай и обнищание. Идея Союза европейского парадоксальным образом предстаёт как второй и окончательный этап распада Союза социалистического. А Союз – это атрибутивная форма социально-политического бытия вообще (и в частности, учитывая существование заокеанского Недруга). Так что распад Союза – это коллапс самой социально-экономической структуры общества. Если при распаде Советского Союза в бывших союзных республиках (в данном случае упор делается на страны Прибалтики) закрылись крупные предприятия, то при вступлении в Европейский Союз, утверждают авторы сериала, в массовом порядке закрываются предприятия средние и мелкие, не выдерживая конкуренции. Если сначала были уничтожены колхозы и совхозы, потом сельские кооперативы, то теперь в странах бывшего соцлагеря, и особенно в бывших советских республиках, пришла очередь разорения индивидуальных фермеров. Образ изначального, мощного и благородного Союза, таким образом, расщепляется на два «персонажа» белорусского идеологического нарратива. Первый персонаж – Беларусь: скромно, но праведно живущий «простолюдин», обогревший и накормивший истерзанного ветрами перемен советского обывателя. Простой и тёплый образ советского обывателя героизируется в фигуре Президента, нарративная функция которого состоит в том, чтобы постсоветский обыватель, лишённый иллюзий своего величия, связанного с принадлежностью к привилегированному классу-гегемону или к великой державе, снова начал смутно ощущать себя Героем. Второй персонаж, «Брюссель», играет роль царственного Преследователя этого Героя. «Брюссель» выступает исконным врагом нашего Героя: в других продуктах белорусской ТВ-идеологии в качестве фундаментального обоснования этого тезиса используются славянофильские доктрины о различных народных «инстинктах» Запада и Востока (в частности, концепция Данилевского). «Брюссель» всячески старается помешать расширению власти Лукашенко и процветанию его 167 Андрей Горных страны. Расширению влияния белорусского президента в восточном направлении, в направлении его происхождения (СССР), противостоит и постсоветская Москва (в лице «Кремля», «олигархов» и пр.). Брюссель и отчасти Москва берут на себя нарративную функцию врагов Героя; эти «враги хотят сохранить фикцию его низкого происхождения для того, чтобы пресечь его законные притязания на престол или несметные богатства»6. В то время как сам Герой всё более ощущает «необычность» своего происхождения и свою высшую избранность, совершая один подвиг за другим. Перечень этих подвигов также укладывается в традиционную схему: победа над внутренней «гидрой» (оппозицией), надежный заслон внешним врагам, обеспечение мирного труда хлебопашца. По ходу этих подвигов фигура Героя, всё явственнее воплощаясь в Президенте Беларуси, обретает неуязвимость для врагов, а в пределе – бессмертие (политическое). Такая нарративная структура мифа о герое, по мнению Отто Ранка, аналогична структуре мании преследования и/или величия: она представляет из себя «эгоцентричную систему», в которой утрата и возвеличивание родителей является средством собственного возвеличивания эго как защитного образования по отношению к травматическому объекту, лежащему в основе его происхождения. Если миф о герое – это удавшаяся психологическая защита от переживаний, связанных с травматическим объектом, то мания преследования или величия – это защита, по разным причинам проваленная. Но, как подчёркивает психоанализ, грань, отделяющая здесь норму от патологии, весьма условна и подвижна. Ранк связывает генезис мифа о герое со становлением индивидуальной психики ребёнка: мифы создаются взрослыми, но на основе «ретроградных фантазий». На определённом этапе взросления ребёнок сталкивается с большим затруднением: привыкший рассматривать родителей как всемогущих, «царственных» особ, он так или иначе убеждается в их «простом» происхождении и в необходимости выбора самостоятельного пути. Но этот путь принимает форму поиска настоящего Отца, который, будучи найден, оказывается «мёртвым», изначально отсутствующим. На месте этого психического напряжения возникает протонарративный компенсаторный сюжет: «убивая» Отца, ребёнок не заступает на его место, но становится Героем. Иными словами, самоутверждаясь, он мстит своему Отцу дважды по взаимоисключающим поводам: за то, что он был грозным преследователем, и за то, что как таковой он утрачен. В этом смысле «эго ребёнка ведёт себя так же, как герой мифа, и в действительности героя следует рассматривать как коллективное эго, вооружённое всем необходимым мастерством»7. Само генерирование в рамках белорусского агитпропа подобных мифологических схем показывает, что коллективное эго белорусской 168 Белорусское телевидение: окно в Европу или зеркало для героя идеологии блуждает в поисках самоутверждения в круге детских комплексов, связанных с распадом Союза, переживаемого как двойная утрата Отца. С одной стороны, «Москва» как ядро патерналистской фигуры могущественного Союза угрожает изначальному существованию Героя. Это означает, во-первых: Беларусь не была бы независимым государством, что составляет декларируемую абсолютную ценность для отечественной идеологии. Во-вторых, сам президент Лукашенко и его окружение наверняка не стали бы Героями, перескочив через множество ступеней советской номенклатурной карьеры, каждая из которых была бы для них труднопреодолимым барьером. Наконец, можно сказать, что обычный советский обыватель действительно был мотивирован «жаждой смерти» СССР (хотя желание это, конечно, никогда не осознавалось, как, например, в разнообразных интеллигентских движениях диссидентов). Советское государство помыкало обывателем, жёстко администрируя его сверху, оно клеймило его за мещанство, выводило из себя дефицитом и очередями на фоне двуличных призывов к чему-то большему, нежели стабильная индивидуальная сытость. С другой стороны, официальный Минск постоянно испытывает ни с чем не сравнимую ностальгию по СССР. Более того, культовой фигурой для белорусской идеологии становится не кто иной, как Сталин, реанимируемый в идеологическом Воображаемом в качестве величайшего духовного лидера славянского народа. Протянутая в белорусском идеологическом сознании цепочка «СССР – Москва – Сталин» раскрывает природу официальной белорусской ностальгии «по советскому». В её основе лежит не утопическая тоска по дефетишизации общественных отношений, но любовь к Тирану, которая, как показывает психоанализ, возможна только в том случае, если тиран мёртв. То есть если он изначально воспринимается не как исторический персонаж (которого даже Москва с позором исключила из пантеона поставщиков постсоветской идентичности), а как мифологический утраченный Отец. СССР «породил» белорусского Героя собственной смертью (концом проекта «другого модерна», концом Утопии). Для нашего нарождающегося в качестве Героя постсоветского обывателя распад СССР подготовил необходимую почву для запуска механизмов проекции. По отношению к мёртвому Отцу в глубине практик скорби, как аргументирует Фрейд в Тотеме и табу, «дети» всегда испытывают мучительно переживаемое бессознательное удовлетворение в связи со смертью и даже задним числом, в форме навязчивого комплекса вины, желание этой смерти. Не в силах ассимилировать эти чувства, субъект отвергает собственную враждебность Отцу и переносит её на умершего. Как пишет Фрейд, этот «процесс переживается благодаря особому психическому механизму, который в психоанализе обыкновенно называют проекцией. Враждебность, о кото169 Андрей Горных рой ничего не знаешь и также впредь не хочешь знать, переносится из внутреннего восприятия во внешний мир и при этом отнимается от самого себя и приписывается другим. Не мы, оставшиеся в живых, радуемся теперь тому, что избавились от покойника; нет, мы оплакиваем его, но он теперь странным образом превратился в злого демона, который испытывал бы удовлетворение от нашего несчастия Илл. 15 и старается принести нам смерть. Оставшиеся в живых должны теперь защищаться от злого врага; они свободны от внутреннего гнёта, но заменили его угрозой извне»8. «Оставшиеся в живых» белорусские идеологические «дети» СССР в сериале «Разъединённые Штаты Европы» внутреннюю «Москву» выносят вовне в качестве Брюсселя (второй же половиной расщеплённой Москвы выступает Минск). Тотальность мелкобуржуазного экономического существования вне всяких культурных контекстов и политических интересов, превалирование заботы о молочно-колбасной стабильности и обывательского рытья в собственных кошельках – всё это становится сутью новой Европы. Отсутствие разделения властей? Парламент не выполняет никаких функций и не владеет никакими полномочиями? Нерасторопные, недалёкие чиновники и забюрократизированное государство? Зависимость от старшего Патрона (газа, политической опеки)? Культура секонд-хэнда и подержанных «иномарок»? Рост цен? Особенно на недвижимость? – Всё это Новая Европа. Даже типажи, которые используются в качестве голоса народа Новой Европы, зеркально напоминают белорусский электорат власти. (На илл. 15–17 полный ряд респондентов одного из опросов: четыре пожилые женщины невысокого материального достатка и один пенсионер высказываются сдержанно плохо и очень плохо о своём новом европейском доме, одна молодая динамичная женщина, попавшая в этот ряд, наоборот, исполнена ервооптимизма.) Таким образом, государственный телевизионный сериал «СоединёнИлл. 16 170 Белорусское телевидение: окно в Европу или зеркало для героя ные Штаты Европы» обнажает параметры переживания белорусским идеологическим субъектом внутреннего раскола. О глубине и силе этого раскола свидетельствуют те «детские» защитные механизмы, которые задействуются по отношению к нему. Идеологический субъект Беларуси не признаёт те антиномии, из которых сделан он сам: прежде всего, любовь и страх по отношению к СССР, но также Илл. 17 стремление к нехитрой зажиточной жизни и высокий накал духовности, желание тихо жить своим маленьким патриархальным домом и странные постимперские амбиции, бряцание оружием, культ Силы. Механизмы проекции выносят всё мешающее идеологическому субъекту помыслить себя цельным и непротиворечивым образом на внешнюю фигуру, которая сразу же расщепляется на два персонажа в соответствии с мифом о рождении героя. Это повторение одного и того же нарративного паттерна в политическом бессознательном9 указывает на существенное затруднение в отношениях белорусского идеологического субъекта с собственной историей, на сбои в том, что Лакан называл «реинтеграцией истории»: «Прошлая ситуация безотчётно переживается субъектом в настоящем лишь в той мере, в какой историческое измерение им не признано»10. В той мере, в которой в новом историческом материале всё настойчивее заявляет о себе одна и та же мифологическая (невротическая) структура, можно говорить о том, что у белорусского идеологического субъекта происходит бессознательное короткое замыкание, блокирующее ощущение истории: он сам хотел бы быть собственной «Москвой», собственным Отцом. Проекция, которая работает в недрах белорусской идеологии, – это отказ признать нечто существенное относительно самого себя, своего «происхождения». Результатом такой проекции является образ Другого – как носителя свойств, нежелательных для идентичности самого Героя. При этом важно учитывать эпистемологическую диалектику проекции, которая, по мысли Лапланша и Понталиса, есть «особый способ непонимания, нежелания знать, парадоксальным образом предполагающий понимание в Других именно того, что субъект отказывается видеть в себе»11. Идеологический субъект белорусского политического режима демонстрирует многие справедливые прозрения в отношении западноевропейского капитализма, пусть и в свойственной ему безыскусной дра- 171 Андрей Горных матической форме, рассчитанной на сельского жителя. Но дело в том, что это знание Европы оказывается скорее формой отказа от познания самого себя. Примечания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 172 Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. Кн. 1. Тбилиси: Мерани, 1991. С. 71. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М.: Наука, 1989. С. 262. Вот пример «экспертной» оценки отношения к новой Европе со стороны рыбаков, данной доцентом белорусского университета: «Рыбаки это одна… один, наверное, из тех социальных слоёв, кто выступил против, потому что проблема улова, э-э, квот и так далее… их тоже, в общем-то… боязнь того, что они потеряют и… привело к тому, что именно вот эти слои населения проголосовали против». Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: «Художественный журнал», 1999. С. 46. Цит. по: Лапланш Ж. Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М.: Высшая школа, 1996. С. 381. Ранк О. Миф о рождении героя. М.: Рефл-бук, 1997. С. 246. Там же. С. 223. Фрейд З. «Я» и «Оно»… С. 256. В соответствии с концепцией политического бессознательного Фредрика Джеймисона (см.: Jameson F. The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1981), можно было бы обрисовать следующую структуру протонарративной фантазии белорусской идеологии: Автократия Минск Вашингтон Духовность Богатство Москва Брюссель Бюрократия Лакан Ж. Семинары. Кн. 1: Работы Фрейда по технике психоанализа. М.: Гнозис, Логос, 1998. С. 149. Лапланш Ж. Понталис Ж.-Б. Указ. соч. С. 384. От советской ретроспективы к европейской перспективе Анатолий Паньковский Буферные формы: в Европу через отрицание Европы Для Беларуси, как и для большинства стран бывшего СССР, «европейский выбор» или «европейская перспектива» остаются туманными – в том смысле, что в действительности они никогда не осмысливались на предмет уточнения и детализации, то есть не проходили испытание политической экспертизой. В отличие от ряда стран Центральной и Восточной Европы (далее ЦВЕ), таких как Чехия и Польша, здесь эти перспективы никогда не принимали форму политической программы и фигурировали скорее в качестве «утопического горизонта», смутно предвосхищаемого в качестве единого пространства либеральной демократии – для одних; как время (если следовать З. Бауману) глобального капитализма – для других; как «общечеловеческий» пакет ценностей или же каталог интеллектуальных дискурсов – для третьих; наконец, просто как «качество жизни» или же как набор данностей, как то, что выбору не подлежит, – культурная, историческая и географическая смежность и близость. Неверно полагать, что белорусское общество принципиально разобщено, разделено по критерию отношения к «Европе» (Евроатлантическому миру, широко понимаемому Западу), хотя характер этого позиционирования, разумеется, варьируется. И вместе с тем: «мы – часть Европы» и «мы – недоевропейцы» – под двумя этими констатациями готов подписаться представитель любой социальной группы. Включая представителей правящего класса, использующего в качестве центральной стратегемы два взаимоисключающих положения: а) мы защитили вас от ужасов западного общества, б) все вскоре будем жить как на Западе. «Недоевропа», нацеленная в принципе на превращение в полноценную часть Европы («ми- 174 Буферные формы: в Европу через отрицание Европы рового сообщества»), – вот образ Беларуси, который имеют в голове практически все белорусские «классы на бумаге». Такая, на первый взгляд, парадоксальная самоидентификация характерна, с другой стороны, для всех стран бывшего СССР, включая государства Кавказа и Центральной Азии (но исключая страны Балтии и Туркмению, которые сразу определились с выбором перспектив). Во всех этих случаях Европа мыслится как пункт окончательной приписки: достаточно сказать, что все государства СНГ имеют оформленные по европейскому шаблону демократические конституции и не торопятся отказываться от международных обязательств, принятых в момент вступления в европейские институции (ОБСЕ, Совет Европы и пр.). В высшей степени показательно, что идеологические учебники «последней диктатуры Европы» – хотя само их существование претит принципам демократии по-европейски – присягают этой последней в лояльности.1 Хотя и настаивают на необходимости специфических отклонений и культурных девиаций на пути демократического транзита, тем самым стремясь легализовать – хотя бы временно – «белорусскую модель». Транзитология оказывается удобной доктриной, отчасти позволяющей обосновать «целесообразность» задержек на пути рыночных реформ и демократических преобразований – вплоть до полного их сворачивания. Предполагается, что страны СНГ, прежде чем войти в европейскую семью народов, должны «окуклиться» в пределах постсоветского пространства и как бы дозреть до суверенной кондиции. Таким образом, существует своего рода перспектива в перспективе, контекст в контексте – постсоветикум в Большой Европе (от Ванкувера до Владивостока), – в пределах которого «белорусская модель» выглядит не столько эксцессом, отклонением (если её рассматривать, например, на фоне стран ЦВЕ), сколько правилом.2 Уже это обстоятельство вынуждает нас, прежде чем выстраивать «европейскую перспективу» в пространстве воображаемого, вообразить положение Беларуси в пространстве реального. Постсоветикум – это не просто возникшая на руинах имперского комплекса пустота, не просто пространство, в котором действуют какие-то инерционные силы. Скорее это совокупность пространств – структур и «сопряжённых» с ними полей (точнее сказать, площадок), – обладающих собственной процессуальной логикой и находящихся в сложных взаимоотношениях друг с другом. Назовём эти структуры буферными формами, поскольку постсоветикум, помимо прочего, – это своего рода коллективный экран, опосредующий взаимоотношения между «глобальными» процессами, или «вызовами», как их здесь чаще именуют, и «глокальными» ответами. Наша задача – исследовать логику развития, изоморфную для этих буферных форм, которая, с другой стороны, позволила бы 175 Анатолий Паньковский отчасти специфицировать «белорусский случай», т. е. попросту понять, что он необъясним ни сам из себя, ни из европейской перспективы. 1. СНГ: площадка легитимации суверенитетов Если бы «постсоветское пространство» являлось чем-то вроде судна без переборок, оно затонуло бы давно, скажем, к концу 1990-х – моменту «окончательного» оформления суверенитетов. Однако постсоветский ковчег устроен более хитроумно, что позволяет ему некоторым образом удерживаться на плаву – несмотря на затопление отдельных отсеков. А ведь именно это обстоятельство – наличие различного рода интеграционных структур с взаимоисключающими и пересекающимися функциями – долгое время было предметом подслеповатой (как сегодня можно утверждать) критики и самокритики. 1.1. Легализация/легитимация разделов Об отношениях между государствами постсоветикума друг с другом и внешним для них миром уместнее всего было бы говорить в терминах шантажа. Действительно, разве не бесконечными «торгами» сопровождались и сопровождаются все, даже наименее значимые, интеграционные инициативы – от газового сотрудничества до учреждения различного рода структур? Термин «шантажистское государство» был применён американским политологом К. Дарденом в отношении так называемых «гибридных» режимов на территории бывшего СССР.3 По Дардену, определённым образом легитимированный, то есть государственный, шантаж является основным средством воспроизводства властной системы в постсоветских государствах. Сама система базируется на трёх «функциональных» опорах: 1) механизм «поощрения» коррупции; 2) унаследованный от СССР аппарат слежки для «конденсации» различного рода компромата (КГБ, МВД, различные службы безопасности, а также новая опричнина в лице «налоговой инспекции»); и, наконец, 3) вольная манипуляция законами, которые, таким образом, становятся исключительно мягкими для «своих» (политически и экономически лояльных) и чрезвычайно жёсткими для «чужих» (оппозиционеров и иных отступников). Представленная модель выглядит довольно убедительно, хотя ей, на наш взгляд, недостаёт ещё одной опоры, а именно – институтов «внешней» легитимации системы, в роли которых выступают различного рода союзы и, в частности, СНГ, ныне главный гарант (sui generis) «тождества» воли доминирующего меньшинства и воли масс. Сложнее согласиться с утверждением Дардена, что данная система достаточно устойчива и в видимой перспективе не будет подвер176 Буферные формы: в Европу через отрицание Европы жена существенной коррозии. Дело в том, что устойчивость подробной системы определяется не только её специфическим характером (скажем, потенциалом внутренней «прочности»), но и тем, насколько ей удаётся скрыть собственную специфику. В этом смысле «слабые» звенья описываемой системы – Грузия, Украина и, возможно, Молдова – в конечном счёте, способствуют тому, что скрытые её стороны всё чаще оказываются в зоне публичного обозрения. Итак, начать следует с Содружества независимых государств (СНГ) – структуры, призванной «структурировать» серию «бесхозных» пространств, поделенных между новыми независимыми государствами (ННГ). Следовало бы напомнить, что Соглашение о создании Содружества независимых государств (от 8 декабря 1991 г.) предусматривает сохранение единого оборонного пространства, единых вооружённых сил, единого гуманитарного пространства, отсутствие таможенных границ и много такого, чего в настоящий момент не сохранено, не создано, а в конечным счете – не предусматривается. Это, разумеется, не означает, что сегодня между постсоветскими государствами не реализуется более или менее полноценного сотрудничества в различных сферах, однако все эти обмены (от торговых до гуманитарных) осуществляются преимущественно по «лучевому» (Россия – ННГ), либо «региональному» (прямые межгосударственные отношения по типу Беларусь – Украина, Казахстан – Киргизия) принципам. Картина несколько осложняется за счёт сети отношений, реализуемых на базе межправительственных и межведомственных контактов и договоренностей, а также различного рода «фракционных» объединений «со смещённым центром тяжести» (Союзное государство России и Беларуси, Единое экономическое пространство, Организация договора коллективной безопасности, Евразийское экономическое сообщество), которые на деле сложно провести «по балансу» СНГ по той простой причине, что они не предполагают – даже в перспективе – общих обязательных нормативов для всех участников Содружества. Этим СНГ, в частности, отличается от ЕС, по шаблону которого, как ранее напоминали его архитекторы, оно создавалось. Несложно предположить, что полная ликвидация СНГ вовсе не приведёт к тому, что перестанут ходить поезда или начнутся перебои с поставками угля и углеводородов. Серия протоколов по безвизовым передвижениям граждан либо о взаимном признании дипломов, в конечном счёте, также не требует визирования чиновников СНГ. Между тем отсутствие «реальной» отдачи от СНГ вовсе не означает, что оно было и остаётся полностью дисфункциональным институтом, существующим (и финансируемым) неизвестно ради какой цели. Словом, имеется какая-то важная функция (группа функций), которая реализуется только и исключительно за счёт инстанции Содружества. 177 Анатолий Паньковский Если проводить различие между законностью и легитимностью, то некий скрытый смысл Содружества станет более или менее прозрачным. «Законное» требует прописки в Законе, т. е. определённой ратификации решения, притязающего на всеобщность, в то время как «легитимное» некоторым образом ратифицировано до и вне зависимости от оформления в виде всеобщего Закона. Вместе с тем можно согласиться с Пьером Бурдье, настаивающим, в противовес Максу Веберу, на том, что признание легитимности не является свободным актом сознания, поскольку «коренится в непосредственном согласовании инкорпорированных структур, ставших бессознательными»4. Акт денонсации Договора об образовании СССР (1922) можно признать законным, поскольку, являясь «свободным актом сознания», он, с другой стороны, сам по себе являлся законом (поспешно ратифицированным всеми государствами бывшего СССР). Но он не был легитимным, поскольку не согласовывался с «инкорпорированными структурами, ставшими бессознательными»: граждане СССР настолько привыкли к тому, что они граждане СССР, что не представляли себя в качестве каких-то других граждан и в этом смысле были верны «своему стилю». Можно также вспомнить о том, что решение о «самороспуске» СССР было принято вопреки итоговому резюме референдума, на котором подавляющее большинство граждан проголосовало за сохранение СССР (советских республик в составе СССР). Хотя и в полном соответствии с провозглашёнными почти всеми союзными республиками декларациями о государственном суверенитете. Однако реальной изнанкой акта денонсации Договора об образовании СССР явился акт провозглашения СНГ. Собственно говоря, это был единичный акт, состоящий из двух синхронных акций, причём, если можно так выразиться, законная нелегитимность первой подпиралась незаконной легитимностью другой. Таким образом, СНГ перенимало символический капитал СССР, изначально выполняя специфическую компенсаторную функцию, связанную, во-первых, с необходимостью сохранения «опосредующего» центра, без которого все символические и физические обмены представлялись немыслимыми, и, во-вторых – с необходимостью восполнения недостатка суверенитета всех ННГ. Что касается других капиталов – экономических, культурных и пр. (так называемое «наследство СССР»), то они подлежали немедленному дележу, что, собственно, и схватывалось образом «бракоразводной конторы». Образом, слегка вводящим в заблуждение. Некоторые участники вискулевской интермедии, возможно, изначально предполагали, что символическая (номинативная) функция СНГ впоследствии – когда локальные элиты оформятся в государственные элиты, а ННГ станут реальными субъектами международного права – также будет подлежать 178 Буферные формы: в Европу через отрицание Европы «перераспределению». Либо замещению, сопровождающемуся роспуском Содружества. Во всяком случае, показательно, что первоначальное наименование «Союз независимых государств» было заменено «Содружеством». Трудно сказать, в какой стадии находились в тот момент проекты в части различных атрибутов суверенитета (национальные валюты, посольства, флаги, гимны и пр.), однако по всему было видно, что сам процесс низложения имперского центра переживался непосредственными участниками этого события как радикальный, «не имеющий аналогов в истории». Между тем логика такого процесса не является чем-то «из ряда вон». Прекрасной иллюстрацией сценария распада имперского комплекса может служить анализ заката Могольской империи, проделанный Музафаром Аламом. «В условиях разгула политического и военного авантюризма, – отмечает автор, – сопровождавшего императорскую власть и приведшего к её упадку, ни один из авантюристов не был настолько силён, чтобы свергнуть императорскую власть и заставить подчиниться других. Все они боролись отдельно, чтобы нажить личное состояние, и угрожали позициям и достижениям друг друга. Некоторые из них, однако, сумели установить своё доминирование над другими. Когда они добились институционального признания своих завоеваний, им понадобился центр, чтобы узаконить эти приобретения».5 Как демонстрирует М. Алам, упадок императорской власти при одновременном усилении автономии провинций ведёт к тому, что местная знать продолжает соотноситься через «некую видимость имперского центра», которому придаётся легитимирующая функция. В строгом смысле аналогичную модель мы имеем и в случае СНГ: недостаточно располагать необходимыми номинальными и морфологическими (конституция, парламент, национальная валюта, территория, население и пр.) признаками суверенитета, необходимо также, чтобы всё это признавалось с «внешней», так сказать, стороны. Президент республики, – напоминает Джон Остин, – это тот, кто считает себя президентом республики, хотя в отличие от сумасшедшего, принимающего себя за Наполеона, за ним признаётся основание так считать. Таким образом, символическую функцию компенсации/восполнения СНГ реализовывало не только в том смысле, что напоминало гражданам ННГ о «семье народов», но и в том смысле, что восполняло, заделывало бреши в национальных суверенитетах. Если, например, бывший секретарь ЦК КПСС в условиях самороспуска партии превращается в главу государства и, стало быть, некоторым образом наследует партийные капиталы, то некую видимость законности сделке подобного рода может придать лишь внешний легитимирующий центр. Этот центр, собственно, и играет роль того основания, о котором говорит Остин: так агент одной элиты (Ельцин, Шеварднадзе и пр.) загадочным 179 Анатолий Паньковский образом вдруг превращается в лидера новой элиты, за которой закрепляется определённая доля в некогда общем «имуществе». Из сказанного, по меньшей мере, следует, что СНГ никогда не являлось «интегративной» структурой, и в этом отношении всегда являлось чем-то прямо противоположным образованиям вроде ОДКБ и ЕЭП, поскольку налагало прямые ограничения на различного рода централизацию и унификацию. Договор об СНГ – это своего рода договор о разделе сфер влияния и зон обладания, фиксирующий определённое соотношение сил между прямыми конкурентами. Можно сказать, что с задачей «восполнения» суверенитетов СНГ справилось относительно успешно – особенно если сравнивать с аналогичным процессом распада Югославии. Остаётся ряд нерешённых проблем, связанных с взаимными притязаниями стран Содружества (проблема Черноморского флота, вопрос белорусско-украинской границы и пр.), большинство из которых, впрочем, сегодня квалифицируется в качестве «межгосударственных». Вместе с тем, установив определённый «внешний» предел объединения, проистекающий из взаимного соотношения политических сил, признанных в качестве национальных, СНГ не устанавливает пределов распада, автономизации «вглубь», как бы оставляя эти проблемы на усмотрение сотоварищей-участников СНГ. Здесь достаточно уяснить, что центральный костыль империи – КПСС – был выдернут одновременно на всех уровнях. Серия парламентских кризисов, через которые независимо друг от друга в 1990-е прошли многие независимые государства, – свидетельство того, что мы имеем дело не просто со случайным стечением обстоятельств, но с определённой структурной логикой «суверенизаций»/«распадов» того, что в строгом смысле никогда не представляло собой единств типа «нация», «общество» или «государство». Практически во всех постсоветских государствах в какой-то момент была создана «сильная» президентская власть – чаще всего на руинах битв между бывшими совминами и бывшими советами либо между парламентами и президентами, чьё предназначение, казалось бы, заключалось в посредническом присутствии «над схваткой». 1.2. Площадка «преемственности» «Сильная» президентская власть, хотя и располагает серьёзными преимуществами по отношению к другим центрам власти, однако – в условиях отсутствия реальных противовесов – грозит преобразоваться в виртуальный центр по образу и подобию СНГ. Упомянем Нагорный Карабах, Чечню, проблемы взаимоотношений центра с регионами. Возможно, высшим воплощением процесса автономизации (т. е. борьбы за власть между местными элитами и местных 180 Буферные формы: в Европу через отрицание Европы элит – против центра) можно назвать требование Юрия Лужкова, обращённое к федеральным органам, платить арендную плату за пользование «его», то есть Лужкова, зданиями и сооружениями. Имелись в виду Кремль и ряд других подобных строений. Исход этой борьбы, как правило, завершавшийся в пользу «ствола», в наибольшей степени располагавшего ресурсами для победы, нередко требовал в качестве последнего аргумента признания этих завоеваний со стороны сотоварищей по клубу СНГ. Разумеется, не все участники этого клуба, с одной стороны, нуждались в подобном аргументе, а с другой – не все соблюдали определённые джентльменские соглашения. Так, например, Туркменбаши, как только назвал себя «отцом всех туркмен», вообще перестал нуждаться в любой внешней легитимации. Он строил восточную сатрапию и любой внешний легитимат воспринимал скорее как угрозу. Логика сохранения Содружества требовала некоторого преобразования его осевой функции «легализации развода». Такая перспектива нарисовалась, как только перед постсоветскими лидерами встала проблема «преемственности» (т. е. сохранения освоенных капиталов) – в форме обнаружения «преемников» либо в форме прямой пролонгации президентских полномочий. Именно Минску – в ситуации обострения конфликта с Консультативно-наблюдательной группой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (КНГ ОБСЕ) в канун президентских выборов 2001 года6 – выпало предложить небольшую «техническую» новацию, которая, впрочем, изначально задумывалась как полноценная символическая функция СНГ. Неслучайно о «кризисе СНГ» впервые всерьёз заговорили в тот момент, когда некоторые из подписантов Алма-Атинской декларации (21 декабря 1991) – Каримов, Назарбаев и Акаев – отслужили два среднестатистических президентских срока, но до сих пор не нашли приемлемых преемников. Вообще говоря, почти все постсоветские лидеры имели те или иные проблемы с институтами ОБСЕ, посланники которых никак не могли понять, что выборы внутри Содружества являются невероятно «честными», очень «прозрачными» и совершенно «добровольными». Почему Лукашенко первым забил в колокол? Потому что с этими, с позволения сказать, двойными стандартами он столкнулся уже осенью 1996 г., когда решил немного подправить Конституцию в той части, где трактовалось про власть. То обстоятельство, что белорусский референдум не был признан ОБСЕ, но получил признание со стороны СНГ, и предопределило появление идеи о необходимости создания института наблюдателей СНГ. Эта идея была сформулирована 1 июня 2001 г. в Минске, во время саммита глав государств СНГ (за три месяца до президентских выборов в Беларуси), – и тут же получила единодушное одобрение. СНГ де-факто реформируется: за институтом закрепляется монополия легитимной номинации как (воспользуемся 181 Анатолий Паньковский определением Бурдье) «официального – эксплицитного и публичного – благословения легитимного видения социального мира»7. Это власть чудовищной силы, поскольку теперь не те или иные «внешние» инстанции, но именно участники СНГ располагают монопольным правом определять, что есть хорошо, а что плохо. Во всяком случае, до 2001 г. никто из уполномоченных лиц СНГ не осмеливался открыто заявлять о том, что существует «западная демократия», но имеется также и «восточная». Глава российского ЦИК, по совместительству глава временных миссий наблюдателей СНГ, А. Вишняков пообещал разработать специфическую «конвенцию о стандартах свободных и демократических выборов в рамках СНГ» – хотя соглядатаи приступили к соглядатайству, так сказать, в режиме перманентного кредита (в смысле: позитивное заключение утром, стандарты – вечером). И механизм заработал: «легитимируются» президентские, парламентские выборы и референдум в Беларуси, выборы в Армении, Грузии, Азербайджане, Украине или даже президентские выборы в Чечне. Апогей этой истории – ультиматум, направленный летом 2004 г. лидерами СНГ в офис ОБСЕ и содержащий требование немедленной «реформы».8 Между тем «повторное» становление Содружества совершается отчасти под прикрытием недоразумений, порождённых тем обстоятельством, что можно с чистой совестью описывать проблемные и неоднозначные структуры постсоветского, светского и национального государства на определённом языке – языке права, тяготеющего к всеобщности, а не к «модельности» (например, белорусской), – который сообщает им совершенно иное основание и тем самым готовит их преодоление. Адекватного восприятия этих недоразумений вполне достаточно для уяснения того факта, что «неожиданные» революции в Грузии и Украине, а затем в Киргизии не были столь уж неожиданными. В случае с Молдовой речь, разумеется, идёт вовсе не о революции, но об адаптации системы, усвоившей уроки «оранжевого кризиса». Мишень, которую выбирает Воронин & конкуренты с целью предвыборной атаки, показательна сама по себе – это уполномоченные временной миссии неправительственной организации по наблюдению за выборами в странах СНГ (�������������������������� CIS����������������������� /���������������������� EMO������������������� ) – той самой организации, которая осенью 2004 г. признала законность победы Виктора Януковича на президентских выборах в Украине. В итоге г-да Саакашвили, Ющенко и Воронин больше ничем не обязаны СНГ, поскольку законность и легитимность их власти находит опору вовсе не в ортопедическом центре легитимации вроде Кремля или Содружества. Отчасти эти законность и легитимность увязаны с признанием со стороны куда более обширного сообщества, чем СНГ (страны СНГ, напомним, также являются участниками этого сообщества). Таким образом, «цветные революции» намечают тот предел, после которого, собственно, и оформляется «европейский выбор». 182 Буферные формы: в Европу через отрицание Европы Итак, излюбленные «транзитные» аргументы Содружества перестают действовать внутри Содружества: если ранее все говорили о том, что «мы не созрели», что у нас «особое пространство» и пр., то теперь, как говорится, нет кворума. В чём состояла прелесть Содружества? В том, что это была надстройка (или основание) «для всех» и «во имя всех»: мощь единогласия говорила вместо всякой единичной и случайной воли народа. Но сегодня, когда г-н Лукашенко заявляет, что Запад имеет к нему претензии из-за дружбы с Россией, то остаётся необъяснимым: почему из-за дружбы с Россией Запад не критикует Украину? Дело, наконец, ещё и в том, что события в Грузии, Украине и Молдове некотором образом обнажают основное, хотя и неписанное предназначение СНГ. Успех же символического (идеологического) производства в духе «наблюдений» и «номинаций» СНГ во многом определялся тем, что его осевая функция оставалась незамеченной (по той простой причине, что наиболее эффективно работает то, что не контролируется сознанием). Фундаментальный парадокс СНГ можно сформулировать следующим образом: являясь защитным «экраном» от демократии, СНГ – в силу заявленных целей – способствует демократизации входящих в него государств. Те государства, которые достаточно эмансипировались и в целом достигли целей, прямо сформулированные в знаменитом Соглашении о создании СНГ9, выходят из Содружества. Принципиальная логика Содружества, в конечном счёте, состоит в том, что его участники в конечном итоге начинают действовать в прямом соответствии с буквой и духом закона, которому – быть может, в силу какого-то недоразумения, – присягнули. 2. Площадка обороны, или Жизнь и смерть военных союзов В 1945 г. знаменитый гегельянец Александр Кожев в аналитической записке, адресованной французскому правительству, обосновывает невозможность реализации отдельными государствами суверенной политики в ядерную эпоху.10 Будущее, утверждает Кожев, принадлежит крупным квазигосударственным объединениям. Это своего рода негативное резюме под социально-политическими убеждённостями «раннего модерна» (что государства-нации представляют собой высшую и «последнюю» форму социальной организации; что индустриальные общества сделают войну анахронизмом и пр.) быстро подкрепляется группой позитивных проектов. Через 6 лет после создания НАТО (4 апреля 1949) заключается Варшавский договор (14 мая 1955), а спустя 37 лет и один день – Договор о коллективной безопасности (15 мая 1992). 183 Анатолий Паньковский 2.1 «Средний модерн»: глобальное подозрение Принимая всерьёз «факт» заката «ялтинского мира», следовало бы, однако, остановиться на базовой презумпции этого мира, которая принимается как sine qua non мира современного. Ялтинское соглашение 1945 г., «закрывающее» эпоху «Тридцатилетней войны», как иногда именуют период от начала Первой до конца Второй мировой войны, легализует процесс, предполагающий частичный отказ государств от суверенитета в пользу устойчивых (и «неслучайных») военно-политических союзов. Возникновение двух военно-политических блоков – НАТО и Варшавского договора (ВД) – это первая фаза формирования таких объединений (назовём её «средним модерном»). Логика Ялты – это прежде всего логика размежевания, установления новых границ внутри Европы (Одер-Нейсе), разделённой на блоки. Эта модель размежевания предписывается и неевропейскому миру (мировой периферии), который становится своего рода продолжением Европы и её внутренних конфликтов. Каждый из блоков имеет своим центром сверхдержаву и структурирован в виде иерархии суверенитетов – более жёсткой в случае с ВД, менее жёсткой в случае с НАТО. Сосуществование национальных государств внутри военнополитических блоков позволяет не только нейтрализовать потенциальную агрессивность отдельных наций, но и минимизировать возможность нападения со стороны внешнего агрессора: нападение на любого участника альянса рассматривается как нападение на альянс. В этом состоит позитивный опыт сосуществования. Негативный опыт состоит в том, что региональные конфликты, спроецированные в пространство глобального конфликта двух систем – капиталистической и социалистической, – катализируют гонку вооружений и взаимное недоверие и страх. «Разрядка» – это, по-видимому, ключевое слово, маркирующее переход от форм организации «среднего модерна» к альянсам и мезальянсам «позднего», или «высокого, модерна». Процесс разрядки, являющийся лишь одним из измерений переделывания системы межблокового противостояния во что-то иное, в равной степени затронул США и СССР, однако для последнего утрата гегемонии внутри ВД означала аннулирование соответствующего проекта и утрату внешнеполитической легитимности СССР – знаки грядущего развала. Не заостряя внимания на причинах и особенностях этого развала, заметим: по сей день в Москве и Минске господствует ложное убеждение, что демонтаж ялтинской системы требует возврата к политике национального суверенитета. Кризис ялтинского мира между тем не отменяет процесса купирования суверенитетов и движения от национально-государственных образований к крупным (региональным par excellence) объединениям. 184 Буферные формы: в Европу через отрицание Европы 2.2. «Высокий модерн»: ризома ОДКБ ведёт своё начало от Ташкентского договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного в мае 1992 г. Спустя десять лет на основе нормативно-правовой базы ДКБ создаётся ОДКБ, намечающая продолжение политики урезания/компенсации суверенитетов в части безопасности. В этом смысле ОДКБ обнаруживает преемственность с известными альянсами, хотя её учредители любят подчёркивать, что организация не является ни римейком ВД, ни копией НАТО. Следовало бы настоять на том, что само НАТО не является копией собственной предыдущей версии, поскольку цели этой организации пересмотрены сообразно изменениям системы международных отношений и характера угроз. В случае ОДКБ мы также имеем дело с новой расстановкой акцентов в перечне угроз. Принципиальным является включение в Устав ОДКБ положения о том, что одной из целей организации и одним из направлений её деятельности является координация и объединение усилий в борьбе с терроризмом и другими нетрадиционными угрозами безопасности. Учредительные документы ОДКБ не предусматривают противостояния другим военным союзам и государствам и рассматривают саму организацию как региональный фрагмент формирующейся мировой системы безопасности. В более узком смысле целями ОДКБ являются создание системы коллективной безопасности на постсоветском пространстве и военно-политическая интеграция государств-участников для совместного предупреждения угроз. Хотя в ДКБ специально оговаривается, что его участники «не будут вступать в военные союзы или принимать участие в каких-либо группировках государств» (ст. 1 договора), сотрудничество с последними предполагается (ст. 8 договора, ст. 4 устава).11 Некоторые участники (в частности, Минск) склонны усматривать в ОДКБ потенциальную защиту от зачисток, подобных югославской или иракской. Такой «перспективизм» побуждает комментаторов классифицировать ОДКБ как «второе издание Варшавского договора», хотя и карикатурного типа – особенно если иметь в виду эффективность этой организации. Можно вкратце остановиться на той неформальной программе ВД, которая, собственно, и позволила однажды наблюдать организацию в действии. Речь идёт о низложении режима Дубчека (1968), когда СССР вынудил коллег по ВД поучаствовать в «наведении порядка» в Чехословакии. Удержание Европы в сфере советского влияния и профилактика социального бунта – вот неписанные «свойства» договора. Подобные негласные цели приписываются и ОДКБ. Между тем ни один из участников ОДКБ (включая Россию) не получил коллективной военной помощи – косвенное свидетельство того, что организация мало озабочена проблемой коллек- 185 Анатолий Паньковский тивной защиты. По этой причине Молдова, Грузия, Азербайджан и Узбекистан вышли из договора. В аспекте своей эффективности ОДКБ вполне соответствует стандартам других межгосударственных союзов – СГ, СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП. И «стандарты» эти структурно предопределены решительным зазором между декларативными целями данных организаций и «фигами в карманах» их участников. Несложно увидеть, каким образом на «экран» ОДКБ проецируются надежды и страхи его членов. Так, например, для России ОДКБ – одно из средств сохранения влияния в окрестных пространствах и «буферизации» этих пространств, т. е. превращения их в буфер между Федерацией и прочим миром (сегодня это называется «подушкой безопасности»). По той же, в общем, причине, по которой Россия является основным финансовым донором организации (50%-я доля), она не принимает близко к сердцу проблемы, с которыми приходится иметь дело её партнерам, и, того более – способствует усугублению или замораживанию этих проблем. Буфер, он и есть буфер. По мнению белорусской стороны, создание ОДКБ призвано усилить военно-политическую составляющую ДКБ с учётом «процессов, в ходе которых определённые силы предпринимают попытки слома системы миропорядка». В рассуждениях г-на Лукашенко, с их полупрозрачными ссылками на «определённые силы», мы без труда опознаем риторические акценты эпохи «среднего модерна» с его центральной озабоченностью «системным» противостоянием. С «внешней» точки зрения попытка Беларуси выставить себя в качестве последнего оплота на пути продвижения НАТО выглядит, конечно, довольно затейливой: РФ обставлена базами НАТО со всех сторон, и уж совсем в светлую голову западёт мысль о том, что НАТО всенепременно будет ломиться в белорусский «коридор» (навязчивая тень минувшей войны). Третий показательный пример – это Казахстан (и другие страны Центральной Азии). На наш взгляд, точка зрения Казахстана на безопасность является наиболее современным и адекватным восприятием специфики эпохи «высокого модерна». Казахстан состоит одновременно в ОДКБ, ОБСЕ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), активно сотрудничает с НАТО, США и Россией в военной сфере – иными словами, пытается сформировать вокруг себя многослойную систему безопасности. Достоинством такого подхода является, вопервых, избежание сценариев глобальных противостояний (наваждение «среднего модерна»), и, во-вторых, минимизация угрозы превращения территории страны в арену противостояния внешних сил (казус РБ). Наконец, Казахстан, по всей видимости, близок к артикуляции стратегии «селективного подбора» структур безопасности в зависимости от их осевой специализации. В частности, деятельность ОДКБ, полагают в Астане, должна быть преимущественно посвящена 186 Буферные формы: в Европу через отрицание Европы проблемам наркотрафика и терроризма. Высока вероятность того, что позиция Казахстана возобладает – и тогда ОДКБ со временем преобразуется в региональную систему безопасности, основательно интегрированную в мировую систему. Уже сегодня на территории Киргизии и других государств Центральной Азии соседствуют базы США и России. Это и есть значимый симптом эпохи «высокого модерна». В подобных «соседствах» нет никакого скандала: взаимное наложение систем безопасности, их децентрированная структура (которой лучше всего подходит образ ризомы) на деле способствуют разрядке и снижению взаимного недоверия и страха. Словом, вопреки всем «фигам в карманах» ОДКБ, по всей видимости, рано или поздно достигнет своих декларативных целей. В том и состоит урок Варшавского договора. Задним числом констатируем, что историческая миссия Варшавского договора была всё же реализована – в том смысле, что она парадоксальным образом совпала с его декларативным намерением, состоящим в «создании общеевропейской системы безопасности». Сегодня, спустя 50 лет после учреждения ВД, эта (многослойная) система фактически создана: все страны Европы – от Атлантики до Урала – входят в ОБСЕ, подавляющее их большинство являются членами НАТО или сотрудничают с альянсом. Остаётся вопрос ориентации ОДКБ. С этим пока ещё не всё ясно, однако показательна инициатива по изъятию из документов ОДКБ понятия «постсоветское пространство», что прежде всего означает: геном «общей истории» (происхождение из СССР) более не является основой и гарантом военно-политического партнёрства. Иными словами, негласно признаётся, что противниками стран-участниц Договора могут выступить, в том числе, и некоторые бывшие участники Содружества. Между тем термину «постсоветское пространство» не найдено адекватной замены, и это суть свидетельство того, что с объединительным принципом пока не всё ясно. Как и с образом врага, на который – по старинке – напрашивается основной партнёр ОДКБ – НАТО. 3. Кратко: площадка экономическая Подобно ОДКБ, ЕврАзЭС содержит в себе известные родовые пороки, специфичные для интеграционного объединения данного типа (на сей раз «торгово-экономического», а не «военно-политического»). Так же, как и ОДКБ, эта организация позиционируется относительно собственной «потенциальной угрозы» – Всемирной торговой организации (ВТО), вступление в которую, впрочем, включено в актуальную повестку дня. Более того, вступление в ВТО сегодня организует эту повестку. В ВТО хотят и Россия, и Беларусь, и другие 187 Анатолий Паньковский участники ЕврАзЭС – и по этой причине они стремятся окуклиться в пределах пространства льгот, преференций, гарантированного сбыта и пр. И поскольку нормативы унификации (таможенного законодательства, налоговых кодексов, банковских систем и т.д.) оказываются в ведении ВТО, на попечении ЕврАзЭС (так же, как и ЕЭП, шевеление в которой на время прекратилось вследствие «чисто инструментального» подхода Украины) остаётся «спецификация». То есть: возведение таможенных заборов, введение ограничительных мер против товаров стран-участниц (вплоть до объявления торговой войны), но также (и это очень важно) организация прямых президентских поставок крупных товарных партий и других полезных инициатив в обход «невидимой руки рынка». Неэффективность этой структуры (если эту «неэффективность» мыслить узко экономически) – вопреки расхожему мнению – проистекает не из структурных различий, но, напротив, из сходств социально-экономических укладов, структурообразующий принцип которых довольно прост: доля общественного богатства, достающаяся индивиду, прямо зависит от его положения в политической иерархии. Так конкуренция национальных экономик преобразуется в конкуренцию национальных элит, вполне резонно принимающих те или иные экономические интересы (с национальной привязкой) за свои собственные. Подобно всем другим постсоветским интеграционным «точкам роста», ЕврАзЭС никогда не являлся в строгом смысле экономическим союзом, но всегда – политической площадкой для выражения воли к союзу. На площадках ЕврАзЭС и ЕЭП мы говорим о воле к экономическому объединению, на площадке ОДКБ – о воле к формированию пространства коллективной безопасности, на всех площадках (посредством различного рода эвфемизмов) – об угрозе утраты власти и связанных с ней привилегий, а равным образом – о более конкретных и понятных всякому опытному президенту вещах. В отличие от других подобных объединений (например, Союзного государства, ЕЭП или СНГ), ЕврАзЭС является субъектом международного права (организация зарегистрирована в ООН), и это обстоятельство актуализирует известный мотив, связанный с тем, что с коллективным субъектом считаются в большей степени, нежели с субъектом единоличным. Правда, последний мотив скорее умозрительный, нежели руководящий: в случае с постсоветскими странами принцип «максиминимум», известный из теории игр, чаще всего не работает. Так, например, каждый из участников ЕврАзЭС стремится вступить в ВТО быстрее других, разорвав порочный круг гласных и негласных договоренностей. В данном случае выполнение подобных договоренностей парадоксальным образом зависит не столько от договаривающихся сторон, сколько от ВТО. 188 Буферные формы: в Европу через отрицание Европы 4. Еще короче: «союзное государство» Можно утверждать, что количество объединений «постсоветикума», в которых участвует государство, прямо пропорционально, с одной стороны, его неготовности осуществлять полноценную суверенную политику, с другой – необходимости некоторым образом избегать полной политической изоляции. Беларусь, как известно, состоит во всех постсоветских альянсах – это дополнительный момент, затуманивающий «европейскую перспективу», отодвигающий её на неопределённый срок. «Союзное государство» (СГ) – это, пожалуй, самое загадочное государство в мире, поскольку негласно признаётся, что способ его существования не поддаётся определению: оно нигде не зарегистрировано в качестве субъекта международного права (в частности, в ООН). Подавляющее большинство решений по Союзному государству принимаются от имени Беларуси и России как независимых государств, а не от имени СГ. Все три узловых проекта данного государства – Конституционный акт, единая газотранспортная система и единая валюта – так и остались проектами на бумаге, вернее, даже на бумаге эти проекты недостаточно детально прописаны. Между тем СГ существует в виде чисто идеологического, медийного феномена, площадки для встреч президентов двух стран, время от времени актуализирующих одну из трёх проблем: Конституции, валюты, газотранспортного предприятия. Всякий раз каждый из этих проблемных проектов используется в качестве инструмента шантажа, свого рода средства, позволяющего держать ситуацию под «контролируемым давлением»: когда до конфликта остаётся совсем чуть-чуть; разрядка конфликтной ситуации воспринимается как очередной «шаг навстречу друг другу». Когда Сергей Лавров заявляет о том, что «демократические принципы нельзя развивать извне», то в свете предполагаемого наличия СГ это, по всей видимости, можно было бы истолковать таким образом, что демократизация возможна «изнутри». Действительно, Договор 1999 года предусматривает подобную демократизацию: «Союзное государство является светским, демократическим, правовым государством, в котором признаются политическое и идеологическое многообразие, многопартийность» (ст. 5). И поскольку одной из целей СГ является «неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и номами международного права» (ст. 2)12, то выполнение сторонами соответствующих обязательств не следует истолковывать как навязывание демократии «извне». Таким образом, существует один-единственный способ реализовать договоренности СГ: превратить его участников в полноправных членов евроатлантического сообщества. 189 Анатолий Паньковский 5. И чтобы закончить Велик соблазн обозначить происходящее в пределах пространства, выступающего «правопреемником» пространства постсоветского (которое, напомним, являлось «правопреемником» пространства строго советского; сегодня, в строгом смысле, в него входят шесть стран – Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Россия, Таджикистан) в качестве процесса дезинтеграции посредством интеграции. В таком случае речь велась бы о том, что каждый последующий интеграционный проект, с одной стороны, сужает число участников, отсеивая «маргиналов» и «несправившихся», а с другой – перехватывает функции организаций-предшественников (которыми иной раз являются те же самые организации, но «старого типа»). Но это была бы половина правды. Ибо вторая её половина состоит в том, что выбывшие из игры участники – это прежде всего те, кто эмансипировался достаточно, чтобы формировать собственный национальный проект, самостоятельно выбирать судьбу, в том числе – совершая «европейский выбор». И в таком случае мы также имеем дело с процессом эмансипации посредством интеграции: различного рода объединительные проекты позволяют дозреть национальным суверенитетам до кондиции, позволяющей расценивать их в качестве таковых. В практическом смысле позитив партнёрского и союзнического (интеграционного) взаимодействия состоит в том, что подобное «взросление» осуществляется относительно безболезненно, то есть, с одной стороны, без серьёзных региональных конфликтов, с другой – с сокращением числа «потерянных душ» (ситуация «государств вне союзов» – Корея, Куба, Туркмения). При всех оговорках. Примечания 1 2 190 См., напр.: Яскевич Я. С. Основы идеологии белорусского государства. Мн.: ТетраСистемс, 2004. В действительности, если избегать общих ссылок на географическую и культурно-историческую близость, контекстуальную привязку Беларуси к Европе вообще и ЦВЕ в частности обнаружить сложно. Весьма показательно то обстоятельство, что у белорусских элит – как в «позитивной», так и в «протестной» их части – не существует признанной концепции взаимоотношений с ближайшими соседями. Для Беларуси существуют лишь «страны СНГ» и «остальной мир». Единственной значимой попыткой что-либо изменить в этом отношении можно считать учреждение Центрально-европейской инициативы с подачи экс-министра иностранных дел Ивана Антоновича. Следует сказать, что и для стран ЦВЕ, в свою очередь, не существует какоголибо регионального среза: имеются лишь ЕС (внутри которого – например, Буферные формы: в Европу через отрицание Европы 3 4 5 6 7 8 9 Вышеградская группа), с одной стороны, и «постсоветские страны» – с другой. Darden K. A. Blackmail as a tool of state domination: Ukraine under Kuchma // East European Constitutional Review. Vol. 10. № 2–3 (Spring Summer 2001); http://www.law.nyu.edu/eecr/vol10num2_3/focus/darden.html. См.: Бурдье П. Дух государства: Генезис и структура бюрократического поля // Поэтика и политика. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии РАН. М.–СПб., 1999. С. 125– 166. Alam M. The Crisis of Empire in Mughal North India, Awadh and the Penjab. 1708–1748. Oxford-Delhi: Oxford University Press, 1986. Р. 17. 31 декабря 2001 истёк четырёхлетний срок полномочий первого главы КНГ ОБСЕ Ханса-Георга Вика, на место которого руководство ОБСЕ предложило бывшего посла Германии в Украине Эбергарда Хайкена. Официальный Минск не принял нового главу КНГ и потребовал пересмотреть мандат миссии. С 1 января 2002 обязанности главы КНГ исполнял Мишель Риволье. Виза у дипломата истекла 15 апреля. Белорусские власти её не продлили, а 1 июня фактически выдворили Эндрю Карпентера. Финальным аккордом в необъявленной войне против КНГ ОБСЕ стали засекреченные слушания, состоявшиеся 22 мая в Палате представителей, по ситуации, сложившейся вокруг миссии. Главным докладчиком выступал председатель КГБ Беларуси Леонид Ерин. 28 мая Центр информации и общественных связей КГБ Беларуси распространил пресс-релиз, в котором передавался смысл выступления Ерина в парламенте. КГБ в очередной раз обвинило КНГ ОБСЕ в Минске во вмешательстве во внутренние дела страны. Леонид Ерин заявил, что КНГ ОБСЕ с самого начала деятельности на территории Беларуси в 1997 находилась под полным контролем США. Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 72. Ультиматум, адресованный ОБСЕ, вдохновлён идеей расщепления вопросов «подлинной» безопасности (предотвращение угроз незаконной миграции, терроризма и пр.) и «вторичной» гуманитарной проблематики. Смысл этого ультиматума, возможно, представляется несколько туманным для европейцев, которые не вполне понимают, каким образом можно отделить проблемы безопасности от проблем гуманитарного цикла или шире – проблем демократии, которая мыслится в качестве предусловия безопасного мира (или мира, более или менее безопасного). «Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация, Украина как государстваучредители Союза ССР … стремясь построить демократические правовые государства … подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединённых Наций, Хельсинского заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о правах человека и народов, договорились о нижеследующем… » (Соглашение о 191 Анатолий Паньковский 10 11 12 192 создании Содружества независимых государств. Преамбула: http://cis.minsk. by/main.aspx?uid=176). См.: Погорельский А. Восточноевропейская мечта // Политический журнал. 2005. № 21(61); http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=67 &tek=3667&issue=106. Пакет документов к проекту Закона РБ «О ратификации Устава Организации Договора о коллективной безопасности»: http://www.mizinov.net/ articles/3232. Договор о создании Союзного государства: http://www.rg.ru/oficial/doc/sng/ dog.htm. Алексей Пикулик Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации1 Светлой памяти Багиры, кошки из Пьяна дель Муньоне, которая умела бодаться Данный текст является попыткой вписать особый случай Беларуси в контекст трансформаций стран Центральной и Восточной Европы. В чём именно заключается особенность белорусского пути и какие теоретические модели лежат в основе анализа ситуации в стране в контексте других случаев трансформации? Основной целью данной работы является создание теоретического фрейма, в рамках которого «особенность» белорусского пути станет максимально операционализированным конструктом. Введение Хитрый Путин не похож на хитрого Саакашвили. Злой Лукашенко не похож на доброго Клауса (не Санту, а Вацлава). Да и на Санта-Клауса он тоже, кстати, совсем не похож. «Оранжевый» Киев не похож на «розовый» Тбилиси, а вступивший в Евросоюз Бухарест не похож на не собирающийся никуда вступать Ашхабад. Монструозные библиотеки («shit, they landed!») не впишутся в 80 000 страниц «acquis communautaire»2, а Еврокомиссия никогда не откроет нормальный офис в Бобруйске или Путрышках. Постсоветское пространство через пятнадцать лет после начала переходного периода всё ещё представляется гетерогенным. Знаменитая фраза Льва Толстого: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» – отлично характеризует разницу между 193 Алексей Пикулик эволюциями постсоветских стран. Так, траектория развития государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) коренным образом отличается от траекторий развития постсоветских республик. Оттолкнувшись от одной и той же структуры (СССР), обладая при этом различными степенями интегрированности в советскую систему, все эти страны начали свой путь из автократического государственного социализма в консолидированную либеральную демократию по политической оси и из плановой экономики в рыночную – по оси экономической. (Естественно, начало трансформации не является ситуацией tabula rasa.����������������������������������������������������������������������� ) Практически все страны ЦВЕ через пятнадцать лет политических и экономических реформ пришли к общему знаменателю, став членами Европейского Союза. В этих странах политическая демократизация была успешно совмещена с экономической либерализацией. Здесь большую роль сыграли внешние факторы: левередж международных финансовых институтов и интеграционная политика Евросоюза, усиленные внутренними общественными желаниями «возврата в Европу». Кроме того, эти страны и в советские времена отличались определённой либерализацией рынков, там существовали относительно автономные от государства общества. Таким образом, большинство стран ЦВЕ очутились в «пункте назначения», который можно охарактеризовать как консолидированная либеральная демократия, совмещённая с общественно регулируемой рыночной экономикой. И незначительные временные отклонения, как, например, Словакия мечьяровских времен, были исключениями из правил. «Конец истории» всё же наступил на значительной территории бывшего социалистического блока. Пути (pathways) развития «проблемной» группы постсоветских республик привели к иным результатам, судя по тем ингредиентам, которые смешаны в коктейлях новых «гибридных режимов».3 Согласно рейтингам демократизации, составляемым организацией Freedom House, в 2006 г. из 12 постсоветских республик (не считая Балтийских стран) пять являлись консолидированными авторитарными режимами (Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Киргизия, Узбекистан), пять – частично консолидированными авторитарными режимами (Россия, Азербайджан, Таджикистан, Армения) и три – так называемыми «гибридными режимами» (Молдова, Грузия и Украина). В том, что касается рейтинга «экономических свобод», согласно Heritage Foundation, три страны имеют частично свободные экономики (Армения, Грузия, Казахстан), семь – «несвободные экономики» (Киргизия, Молдова, Таджикистан, Азербайджан, Россия, Украина, Узбекистан) и две – «репрессированные экономики» (Беларусь, Туркменистан). Авторитаризм в этих странах зачастую сосуществует с плюрализмом, либеральные рыночные экономики подчас содержат элементы плановых механизмов. 194 Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации И в этой пёстрой компании непохожих семей Беларусь занимает уникальное место. «Уникальность Беларуси» стала притчей во языцех в узких и широких исследовательских кругах нашей страны. Беларусь обозначают то «последней диктатурой в Европе», то «султанистским режимом», то «авторитаризмом», «персоналистской автократией», «странным соседом Евросоюза». Данные определения соревнуются за звание лучшей метафоры, но, увы, лишь поверхностно затрагивают саму суть белорусской проблемы. Авторитаризм и диктатура per se не являются новыми феноменами или чем-то, что было изобретено в лесах и на болотах могилёвщины. Скорее это старый паттерн4 институционального развития некоторых политических систем. Более того, история знает многочисленные неудачные демократизации – как в странах Латинской Америки, так и в постсоветских республиках (страны Центральной Азии, Украина, Россия). Авторитарные тенденции периодически проявлялись и в удачных случаях трансформации (Словакия – самый яркий тому пример, в меньшей степени – Румыния и Болгария), однако временные отклонения практически никогда не приводили к изменению уровня либерализации экономик.5 Так, усиление авторитарных тенденций в России и построение госкапитализма практически не отразились на общем уровне либерализации экономики России. Фасадная редемократизация политического режима с сохранением либеральной рыночной экономики характеризует опыт Украины времён Ющенко. Либерализация рыночной экономики при сохранении старой автократической системы – это то, что объединяет пути Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Наконец последний пример – демократизация системы с уже существующей либеральной рыночной экономикой – является историческим примером институциональной динамики некоторых стран Латинской Америки. Однако ни в одной стране мира изначальное построение капитализма не имело обратной динамики. Иными словами, только в Беларуси процесс коэволюции политической демократизации и экономической либерализации сменился процессом кодекомпозиции в обеих плоскостях: произошёл откат к авторитаризму одновременно с делиберализацией экономики. Политологические работы о Беларуси зачастую регрессируют к плотному описанию и нарративным экзерсисам. Вполне очевидно, что для символического преодоления границ «необитаемого острова» и нанесения этого острова на географическую карту требуется, как минимум, следовать единым стандартам геодезии и картографии. Более того, позиционирование Беларуси в общих системах координат необходимо для осуществления компаративного анализа, а для этого, в свою очередь, требуется сделать шаг на лестнице абстракций. 195 Алексей Пикулик В значительной части независимых исследовательских работ о Беларуси (в части политологии, по крайней мере) феноменальность пути Беларуси раскрывается через отсылку к двум сценариям. Первый: объяснение белорусского случая через уникальный набор структур, которые практически полностью предопределили как скатывание страны в авторитаризм, так и невозможность создания институтов современного капитализма. Подобного рода анализ рискует стать редукцией к структурному детерминизму и фатальной предопределённости, в нём не предусмотрена роль агентов (политиков). Кроме того, здесь есть опасность «упустить» из виду каузальный механизм, то есть тот набор факторов и переменных, которые «переводят» причины (зачастую отдалённые во времени и в пространстве) в следствие, то есть в конкретную институциональную динамику. Акторы в данной парадигме лишь действуют рационально в рамках экзогенных по отношению к ним структур. Тем не менее, определённые формы демократии и капитализма зачастую возникали и в тех странах, в которых для этого практически отсутствовали какие-либо значимые предпосылки. Обратный – второй – сценарий (ориентированный на роль агентов) также проблематичен по своей сути, так как гиперрационализирует политиков и наделяет их безграничной трансформационной способностью, которой они зачастую попросту не обладают в связи с ограничениями, наложенными внешними структурами. Так, Лукашенко принято изображать лесником из анекдота про Чапаева, который «пришёл и всех прогнал». Естественно, восприятие его как deus ex machinа скорее подходило бы для создания конспирологической теории, чем для научного объяснения. Думаю, что более правильной логикой исследования Беларуси является совмещение двух данных подходов, предполагающее аналитическое преодоление как роли предопределённости, обращением к которой грешит первый подход, так и роли случайности (contingency), которая неизменно встроена во второй подход. Я же исхожу из того, что структуры как ограничивают выбор агентов, так и наделяют их новыми возможностями выбора. Не структуры строят демократии и рыночные экономики, а агенты. Весь вопрос в таком случае заключается в соотношении агентов и структур и в том, насколько структуры делают определённые выборы более вероятными и предсказуемыми. То есть здесь мы говорим уже о «структурированной неопределённости». Зачастую первые шаги и выборы, случайные по сути, приводят к последствиям, изменяющим данные детерминистские структуры и их воздействие. В следующем раунде новые структуры наделяют властью новых игроков, которые, тем не менее, могут совершать случайные действия. Наконец, определённые выборы и изменения приводят к действию path-dependency (зависимость от колеи), и на следующих этапах рекативные цепочки приносят игрокам повышающуюся прибыль. 196 Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации Итак, данная статья является скромной попыткой вписать путь развития Беларуси (рассмотренный в динамике) в контекст теорий трансформации и частично проиллюстрировать эту динамику на фоне двух других стран – России и Украины. Менее скромной является попытка создать фрейм с учётом как качественных определений – типологий, так и количественных измерений – индексов, которые могут быть в дальнейшем использованы для ряда компаративных исследований, оперирующих большим количеством переменных. В завершающей части я также рассмотрю европейскую перспективу Беларуси через призму институционального status-quo, сложившегося в Беларуси, и ещё раз продемонстрирую определённые сложности потенциальной двойной трансформации Беларуси. 1. Совместимы ли демократия и капитализм при трансформации? Поскольку основной проблемой этой статьи является именно коэволюция политических и экономических институтов в рамках белорусского случая, начну с самой возможности совмещения капитализма и демократии в рамках трансформационного процесса. Данная проблема, увы, мало рассматривалась в транзитологической или экономической литературе. «Транзитологи» (Шмиттер6, Оффе7, О’Доннелл8), уделяя значительное внимание политическому аспекту трансформации государств и режимов, недооценивали экономическую детерминанту изменения политической системы. Специалисты в области экономической трансформации (кроме теоретиков так называемого «поствашингтонского консенсуса») останавливались на разгосударствлении экономик и базовых рекомендациях «вашингтонского консенсуса», игнорируя институциональную детерминанту и вынося за скобки трансформации в политическом поле. Дебаты о совместимости капитализма и демократии изначально появились в литературе, посвящённой Латинской Америке. Теоретики первого лагеря, или «теории предпосылок» (�������������������������������������������������������� pre����������������������������������������������������� -���������������������������������������������������� conditions������������������������������������������ ), заявляли, что оба процесса являются совместимыми только благодаря глобальным социальным и экономическим изменениям. Совместимость здесь означает совмещение «правильных» паттернов интересов, норм, поведения, институтов, которые требуются для того, чтобы демократизация и создание капитализма могли сосуществовать. В альтернативной версии «оптимистического аргумента» (согласно О’Доннеллу и Шмиттеру9) совместимость скорее детерминирована интеракциями и координационными процессами (через конфликт и консенсус) между широкими политическими силами, заинтересованными либо в сохранении прежнего режима, либо в его изменении. Кроме того, в отсутствие высоко стратифицированного рыночного 197 Алексей Пикулик (капиталистического) общества с большим количеством потенциальных трансформационных бенефициаров демократизация и либерализация будут несовместимы. Согласно Ласло Брусту (Bruszt), «совмещать капитализм и демократию – не то же самое, что совмещать демократию с капитализмом» 10. Скорее всего, речь здесь идёт о последовательности преобразований и подразумевается вот что: расширять демократические права при работающей рыночной экономике (Латинская Америка) не то же самое, что расширять экономические права сразу после перехода к демократии (Восточная Европа). Практически все страны Центральной и Восточной Европы и постсоветского пространства начали с быстрых демократических реформ и в первые же месяцы оказались в полиархической системе, иначе говоря – в системе институционализированной демократии. В подобной последовательности содержался определённый риск. По мнению Старка и Бруста, этот риск формулируется следующим образом (Stark, Bruszt11): каким образом можно продолжать реформы, когда «проигравшие» от начальной экономической реформы народные массы имеют возможность блокировать ход реформ, используя вновь обретённые демократические права? Иначе говоря, перераспределение ресурсов после начала реформ приводит к накоплению оных в руках небольшой группы «ранних бенефициаров», в то время как критическое большинство оказывается проигравшим. Именно данное недовольное большинство может обладать мобилизационной способностью, необходимой для блокирования или, в крайнем варианте, реверса реформ. Таким образом, одновременная политическая демократизация и экономическая либерализация могут быть двумя антагонистическими процессами. Различные теоретики и практики предлагали преодолевать данный возможный тупик за счёт создания компенсационных пакетов для проигравших, регулирования скорости проведения реформ (градуализм или шоковая терапия) и включения проигравших в политический процесс. Другая опасность одновременного построения демократии и капитализма заключалась не в обнищавших народных массах, а, наоборот, в ранних победителях, которые могут, используя кредитный рычаг по отношению к слабому государству и неэффективной бюрократии, максимально искажать ход реформ и приводить их к так называемому нижнему уравнению. Рациональность такой стратегии для бенефициаров заключается в широких арбитражных возможностях и рентоориентированном поведении, которые как раз возникали из частичной реформы (например, либерализация без макроэкономической стабилизации и «выгодная» гиперинфляция). В политэкономической литературе, посвящённой постсоветской трансформации, также встречаются два варианта ответа на вопрос о совместимости 198 Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации капитализма и демократии. Пессимистичный вариант: вследствие отсталости и искажённости экономических и социальных структур и отсутствия стратифицированного капиталистического общества новые демократии вынуждены выбирать между продолжением демократизации и капиталистической трансформацией. Оптимистичная версия (здесь я опираюсь на работу Бруста12) состоит в том, что в случае создания адекватного правового поля и принятия необходимых институциональных мер предпосылки для совместимости капитализма и демократии будут воссозданы. Это достигается через создание стратифицированного общества с «правильным распределением преференций» и контролем над «бенефициарами от реформ», а также компенсацией потерь потенциальным проигравшим с включением их в политический процесс. Для этого, естественно, требуется сильное правовое государство с «правильным конституционным дизайном», которое позволит сосуществовать различным центрам по репрезентации общественного интереса в рамках демократической политики. Кроме того, подобное государство должно быть способно создавать прозрачные общественные правила игры в экономике, что позволит бюрократии как сохранять автономию от различных рыночных групп, так и удерживаться от хищничества по отношению к экономическому полю, прежде всего по отношению к частному сектору. 2. Демократия и демократизация В данном фрагменте статьи речь пойдёт о политическом аспекте трансформации. Начнём с того, что такие широкие определения, как «демократия» или «авторитаризм», не способны в полной мере отразить разницу между «гибридными» постсоветскими режимами. Для этого требуются более точные инструменты, ведь речь идёт о степени присутствия тех или иных атрибутов и институтов демократии и автократии в гибридной системе. В политологической литературе встречается огромное количество попыток создать классификации подобных «гибридов». Так, Коллиер и Левитски (Collier and������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������� Levitsky��������������������������������������������������������������� , 1997) проанализировали 150 научных статей, посвящённых современным гибридным режимам, и нашли 550 вариантов определений. Большинство определений подходят для рассмотрения постсоветских режимов через призму «демократии минус», то есть для представления их как незавершённой, неконсолидированной демократической системы. Другие теоретики, как, например, Люкан Уэй (Way13) и Лэрри Даймонд (Diamond14), в теории «соревновательных авторитаризмов» исходят из того, что постсоветские режимы являются скорее особой формой неполного авторитаризма, нежели «демократиями минус». В рамках данной теоретизации различия между «соревновательными 199 Алексей Пикулик авторитаризмами» заключаются в сферах, внутри которых оппозиция имеет возможность бросать вызов авторитарной власти: масс-медиа, суды, выборы и законодательство. Иначе говоря, соревновательные авторитаризмы отличаются друг от друга степенью свободы слова, независимостью судебных и законодательных властей и степенью свободы выборов. Несмотря на очевидные преимущества именно такой теоретизации (к слову, она лишена «демократической предвзятости»), в данной статье я буду следовать парадигме «транзитологии» (прежде всего в связи с наличием соответствующих индексов и данных). Концепт демократии совершил длительную карьеру в социальных науках, периодически приобретая новые смыслы, зачастую противоречащие друг другу. Я начну с минималистской концепции Йозефа Шумпетера; продолжу теорией полиархии Роберта Даля и завершу теоретизацию концепцией Гильермо О’Доннелла. В изначальной дефиниции, предложенной Шумпетером, «демократический метод является институциональным построением, дающим возможность политическим акторам принимать политические решения, борясь за голоса избирателей»15. Таким образом, демократия в данном так называемом «минималистском подходе» редуцируется к избирательному процессу, режим является демократическим либо недемократическим в зависимости от следования институционализированной практике проведения честных и открытых выборов. Данное определение стало своеобразным фундаментом в теории демократии, и дальнейшая теоретизация в значительной степени развивалась вокруг критики Шумпетера. Минималистский подход подчёркивает лишь способ легитимации власти волеизъявлением избирателей, однако упускает из виду проблему исключения некоторых групп из участия в выборах, равно как и не учитывает возможность появления Центральной избирательной комиссии с особой логикой подсчёта голосов. Кроме того, ритуал выборов как механизм легитимации власти присутствует во многих режимах и системах, в том числе и авторитарных (так, широко известна любовь многих диктаторов к проведению референдумов – от Наполеона до Чаушеску и Лукашенко). Таким образом, для демократии только лишь наличие шумпетеровского «демократического метода» недостаточно. Поднимаясь по «лестнице абстракции» на один шаг, мы приходим к необходимости расширенного определения демократии, которое можно найти в концепции «полиархии», созданной Робертом Далем. Полиархия является определённого рода компромиссным вариантом либеральной демократии, так как последняя, по мнению Даля, не существует в реальном мире. К критериям полиархии относятся следующие: свобода создавать организации и вступать в них; свобода слова; право голосовать; право избираться; право политических лидеров соревноваться за голоса избирателей; существование альтернатив200 Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации ных средств получения информации; существование свободных и честных выборов; зависимость политики правительства от преференций избирателей.16 Роберт Даль, оставаясь верным концепции Шумпетера, придал ей определённую функциональность, обратившись к тем условиям, которые необходимы для честных и свободных выборов. Гильермо О’Доннел17 предположил, что даже данный функциональный аппарат не будет работать без соблюдения последнего условия – «верховенства закона» по отношению ко всем членам данного общества. Иначе говоря, в разговоре о демократических режимах и у Даля и у О’Доннела появляется новая составляющая – либеральное государство, способное как обеспечить процедуру проведения выборов демократическими институтами (критерии полиархии), так и быть достаточно сильным для поддержания верховенства закона. Наконец, в область дефиниций необходимо включить различение между политическим либерализмом и политической демократией. По мнению Шмиттера и О’Доннела18, несмотря на то что процессы демократизации и либерализации исторически зачастую совпадают, тем не менее, они различаются по своему содержанию и не являются синонимичными. Таким образом, политическая либерализация не всегда соответствует демократизации и наоборот. Первое (либерализация) означает создание гарантий, которые защищают индивида или социальные группы от арбитражных или нелегальных действий, инициированных государством или другими акторами. Демократизация является, по сути, созданием структур, альтернативных власти, цель которых – поддерживать принцип подотчётности (accountability) самой власти обществу. Вкратце идея подотчётности состоит в том, что субъекты власти должны ipso jure отвечать за свои действия либо бездействия перед другими субъектами. Иными словами: возможно разделение на вертикальную и горизонтальную подотчётность. В вертикальной системе субъекты власти «отчитываются» перед избирателями, и те решают, оставить в силе контракт с политиком (переизбрав его/её) либо расторгнуть его. Речь здесь идёт не только о выборах и ex post ретроспективной подотчётности, но и о подотчётности ex ante, когда избиратели могут «выкинуть любого политика из его резиденции», не дожидаясь окончания действия мандата. Горизонтальная подотчётность относится к принципу разделения ветвей власти и к наделению различных субъектов власти достаточными полномочиями для создания системы «балансов и сдержек». В случае если демократизация не следует за либерализацией, мы можем говорить о либеральном авторитаризме. В подобной системе, которую Шмиттер и О’Доннелл назвали «dichtablanda», наличие некоторых гарантированных политических прав граждан сочетается с отсутствием механизма подотчётности и контроля над властью. Другим примером может служить традиция конститу201 Алексей Пикулик ционного либерализма в условиях монархии (Великобритания позапрошлого века). В другом сценарии либерализация может не последовать за демократизацией. В этом случае мы можем говорить о нелиберальной демократии. Эту систему Шмиттер и О’Доннелл назвали «democradura». В подобном политическом режиме механизм подотчётности сосуществует с ограниченными политическими правами граждан. Ещё одна версия этого режима трактуется как «делегативная демократия» (О’Доннелл, Фиш19, Закария20). В этом случае граждане не вмешиваются в действия власти ex ante, жертвуя частью своих прав, но гарантированно могут прийти к избирательным урнам после окончания иммунитета правителей и принять меры ex post. Таким образом, я предлагаю следующую типологию политических режимов: 1) нелиберальный авторитаризм, 2) либеральный авторитаризм, 3) нелиберальная демократия и 4) либеральная демократия21 – в зависимости от сочетания признаков либерализма/авторитаризма в политическом режиме. Созданные дефиниции я предлагаю перевести в «количественное измерение» при помощи индексов Freedom House22. Рейтинги этого агентства в целом соответствуют критериям полиархии. Freedom House ранжирует режимы по шкале свободы–несвободы за счёт пары индексов: гражданские/политические права. Под «политическими правами» понимаются: электоральный процесс, система подотчётности правительства народу и индекс деятельности правительства. Под «гражданскими правами» – свобода самовыражения, право на участие в ассоциациях и организациях, верховенство закона, личная автономия и индивидуальные права.23 3. Экономическая трансформация В предыдущем фрагменте я предложил типологию политических режимов. В этом речь пойдёт о типологии экономических режимов. Сразу оговорюсь, что различные аспекты экономических систем я свожу скорее к структурноинституциональному уровню – интеракции между рынком и государством.24 Более того, в своём определении я уделяю особое внимание сосуществованию трёх составных частей: 1) уровня расширенности экономических прав; 2) эффективности расширенных экономических прав (то есть их реализация); 3) общественного регулирования экономики (подотчётность частного сектора экономики общественности). Начну с определения капитализма. В своих работах социолог М. Вебер неизменно обращался к структурным компонентам капиталистической системы: рынкам, государству, а также понятию рациональности. Согласно Веберу25, капитализм присутствует там, где индустриальное обеспечение потребностей 202 Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации групп людей осуществляется посредством рационального просчитанного предприятия (rational calculative enterprise). Капитализм включает в себя следующие основные компоненты и условия: свобода рынка, рациональная технология, просчитываемый закон и свободная рабочая сила вкупе с коммерциализацией экономической жизни. Вебер имплицитно включает роль государства в экономике в дискуссию о капитализме, говоря о «рациональном государстве». Таким образом, законы и правила в веберианской парадигме должны распространяться на всех без исключения и должны быть администрированы таким образом, чтобы сделать действия, осуществляемые в соответствии с экономическими контрактами, и обеспечение прав высокопредсказуемыми.26 Тем не менее, видение экономики у Вебера остается формой laissez-faire координации. Такая государственная система является основной составляющей капитализма, включающего расширенные права собственности, распределение данных прав и их трансфертность посредством финансовых инструментов и банковских операций, формальную свободу наёмных работников и юридически защищённые рынки. В литературе по экономической либерализации присутствуют три основных подхода к проблеме построения капитализма. 1. Неолиберализм. Расцвет неолиберализма в Восточной и Центральной Европе пришёлся на начало 1990-х гг. Основным постулатом этой доктрины является «маркетизация» экономики посредством разгосударствления (����������� de��������� -�������� statization). Говоря очень коротко, неолиберализм исключает государство и власть из процесса маркетизации и освобождает экономику от государства. 2. Вашингтонский консенсус (ВК). Веберианский, по сути, подход, который очень условно можно определить как «неолиберализм плюс». Этим «плюсом» является роль государства как гаранта прав собственности. Второй подход, как и первый, по сути опирается на принцип laissez-faire в экономике. Вашингтонский консенсус27 возник как доктрина для реформирования стран Латинской Америки такими институциями, как МВФ и Всемирный банк. ВК включает следующие правила для государств: либерализация, приватизация, стабилизация, дерегулирование экономики государством и защита частных экономических прав. Цитируя Бальцеровича, «вашингтонский консенсус» сводится к принципу: «меньше государства, больше частного сектора», репрезентируя форму ограниченного правления (limited governance).28 3. Поствашингтонский консенсус (ПВК). Данный подход фокусируется на создании институтов рыночной экономики и предполагает наличие «регулятивного» государства, в котором акторы могут получать прибыль только от рационального предприятия (перефразируя Вебера), а не от коррумпирования 203 Алексей Пикулик рынков. Таким образом, в поствашингтонский консенсус «возвращается» государство. По мнению Бруста, 1) государство в рамках ПВК должно обладать способностью поддерживать общие права экономических акторов и создавать предсказуемую среду для их действий; 2) не допускать использования государственных институтов частными группами для переформулирования правил экономической игры исключительно «под себя»; 3) регулировать и устанавливать отношения между экономическими акторами так, чтобы исключить злоупотребление неравномерным распределением экономической и информационной власти.29 Более того, Бруст дополняет определение Вебера о «рационально просчитываемом предприятии» существенным посылом: акторы должны получать прибыль только от рационального предприятия, а не от коррумпирования системы и использования асимметрий информации и доступа к политической власти. Таким образом, роль государства (в концепции синтезированного «поствашингтонского консенсуса») состоит в создании не только прозрачных правил рыночной игры, но и механизмов, способных не допустить вмешательства сильных экономических групп в работу государства (не допустить «захвата государства»), а также коррумпирование рынков сильнейшими игроками. Последнее достигается благодаря общественному регулированию экономики – созданию прозрачности и подотчётности и иных конвенций, которые позволяли бы поддерживать состояние баланса между всеми экономическими акторами. Термин «регулирование экономики» здесь следует пояснить. В европейской традиции к регулированию относятся практически все формы координации экономик – реформы, преобразования, правление и социальный контроль. В американской модели (Майоне30) «регулирование экономики» – это более узкий термин, который означает целенаправленный контроль общественных организаций над экономическими действиями и их результатами, которые рассматриваются как предпочтительные для общества. В данной трактовке общественное регулирование экономики напрямую связано с общественным интересом. Естественно, что для осуществления подобного контроля требуется, как минимум, система репрезентации различных общественных интересов в рамках демократической политики или того, что Бруст и Старк называют «гетерархией». Этот процесс включает в себя замену частного саморегулирования общественными правилами игры. Создавая типологию экономик, следует задуматься о трёх вышеперечисленных составных аспектах. Отталкиваясь от первого, в котором акцент делается на создании рынка, мы должны принять во внимание уровень расширенности экономических прав и, основываясь исключительно на данном факторе, вывести некоторые типы экономик, а именно: 1) командную, 2) смешанную социалисти204 Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации ческую, 3) либеральную рыночную экономику. В первом случае экономические права не существуют de jure и de facto; второй тип характеризуется существованием экономических прав только de facto, а в случае последнего – экономические права существуют и de jure, и de facto. Однако сам факт существования экономических прав не обязательно приводит к эффективности этих прав. Поэтому вторым аспектом, включённым в определение, выступает эффективность расширенных экономических прав. Наконец, говоря об общественном регулировании, мы должны понимать, что в командной экономике оно не существует по определению и возникает исключительно в работающих рыночных экономиках, то есть там, где надо уравновешивать и гармонизировать частные экономические интересы. Сказанное можно обобщить с помощью следующей таблицы: Уровень расшире- Уровень эффекния экономиче- тивности расшиских прав ренных экономических прав Уровень общественного регулирования экономики Командная экономика Нет Нет Нет Смешанная социалистическая экономика Низкий Низкий Низкий Коррумпированная рыночная экономика Высокий Низкий Низкий Общественно регулируемая рыночная экономика Высокий Высокий Высокий В таблице представлены четыре возможных случая сочетания и сосуществования составных частей нашего определения. Остальные комбинации не представлены в таблице в связи с двумя обстоятельствами. Во-первых, система, в которой отсутствие экономических прав сочетается с эффективностью расширенных экономических прав, невозможна. Во-вторых, существует высокая корреляция между эффективностью расширенных экономических прав и публичным регулированием экономики (согласно Брусту31). В данном случае общественное регулирование экономики можно вывести из индикаторов Всемирного банка, касающихся качества правления, которое, на мой взгляд, в наибольшей степени соответствует индикатору «верховенства закона» (the rule of law). Командная экономика и общественно регулируемая рыночная экономика представляют собой два крайних случая. Разница между смешанной социали- 205 Алексей Пикулик стической экономикой и коррумпированной рыночной экономикой состоит в уровне расширенности экономических прав. Последний тип – коррумпированная экономика – может принимать два различных состояния. С одной стороны, такая экономика часто ассоциируется с олигархической экономикой – системой, когда власть захвачена определённой группой, использующей власть для дальнейшей капитализации. Это может произойти, например, в результате частичной реформы, когда ранние победители (сильные элиты) заинтересованы в либерализации без общественного регулирования ввиду использования возможностей арбитража и поиска рент. Однако и противоположный сценарий коррумпирования экономики также представляется возможным. Речь идёт о доминировании государства над фирмами и о создании смешанной системы клиентализма и корпоратизма, которая в особых случаях может мутировать в сторону того, что Ядвига Станишкис (Stanizskis) назвала «политическим капитализмом»32, а Макс Вебер – «государственным капитализмом». В данной статье я измеряю уровень либерализации экономики, опираясь на данные Европейского банка реконструкции и развития33 (отчасти в связи с тем, что ЕБРР не создаёт кумулятивный индекс, а предлагает более диверсифицированные рейтинги). Так, индекс экономической либерализации я составляю из следующих рейтингов: 1) уровень приватизации крупных предприятий; 2) уровень приватизации мелких предприятий; 3) уровень либерализации цен; 4) уровень развития торговой и валютной систем. Для измерения уровня эффективности расширенных экономических прав я использую индекс, предложенный Heritage Foundation34. Наконец, в связи с тем, что ЕБРР начал составлять индексы на постсоветском пространстве лишь в 1995, для 1992–1994 гг. я использую Lora index внешней и внутренней либерализации35. 4. Первичные итоги Итак, результаты предыдущих построений можно отобразить на графиках (см. далее). Кратко прокомментируем полученные результаты. Россия начала процесс трансформации, быстро достигнув значительного уровня либерализации. Относительно периода 1991–1998 гг. можно говорить о коэволюции демократизации и экономической либерализации, которая застыла на (некотором) уровне низкого баланса – отсутствие дальнейшей консолидации демократии и отсутствие перехода экономики к фазе общественного регулирования. С 1998 г. начинается нисходящий тренд в сторону либерального авторитаризма и несколько менее либеральной экономики. В период 2000–2005 гг. Россия скатывается ко всё более явному авторитаризму. Наконец происходит трансформация в обла206 Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации сти коррумпированности экономики: на смену «семибанкирщине» приходит «госкапитализм». (Последний график можно представить с помощью таблицы36.) Украина (как и Россия) «входит» в либеральную демократию с либеральной экономикой достаточно быстро. С 1995 по 2000 гг. в области демократизации наблюдается регресс, в то время как либерализация экономики остаётся на том 207 Алексей Пикулик же уровне. В период 2000–2004 гг. происходит некоторый спад темпов демократизации. «Оранжевая революция» не производит кардинальных изменений в области демократизации, а экономика становится ещё более либеральной. Наконец, Беларусь является самым интересным примером. В 1991–1994 гг. намечаются робкие шаги в сторону либеральной демократии и рыночной экономики, которые прерываются в 1995, и страна начинает двигаться в обратном направлении. Этот тренд продолжается вплоть до 2000 г. В период 2000–2003 гг. намечается некоторая либерализация экономики. Наконец, в 2003–2006 гг. Беларусь движется всё дальше в сторону консолидированного нелиберального авторитаризма, сохраняя нелиберальную экономику. 5. Европейские перспективы Беларуси Итак, в случае Беларуси мы наблюдаем уникальное сочетание нелиберальной экономики и нелиберального политического авторитаризма. Каковы перспективы трансформации подобной системы, особенно в контексте возможных проевропейских преобразований? Повторюсь, что любая трансформация системы не начинается с tabula rasa, а, скорее, изменениям подвергается уже работающая и стабилизированная система различного вида интеракций – от рыночных взаимодействий до процесса воссоздания новых элит. Иными словами: ремонт велосипеда производится во время велокросса самим велосипедистом, при этом любая остановка приводит к потере скорости и падению. Беларусь, представляющая собой особый и уникальный гибрид, начнёт свою трансформацию не с чистого листа, а именно из состояния нелиберального авторитаризма и коррумпированного политического капитализма. В этом плане Беларуси будет гораздо сложнее в сравнении с другими странами Центральной и Восточной Европы. Во-первых, проиграно время, во-вторых, «окна возможностей» безнадежно закрылись, в-третьих, политика президента за последние десять лет окончательно загнала развитие системы в односторонний тоннель, заканчивающийся тупиком. «Зависимость от пути» в случае Беларуси с очевидностью напоминает то, что Бродель называл longue durée – определённый, стабильный социоэкономический тренд. И вариантов выхода из сложившейся ситуации немного. Начну с вопроса о европеизации. Процесс вестоксикации (или в данном случае европеизации) не является абстрактным культурологическим понятием, и для вступления страны в Евросоюз недостаточно разделять общеевропейские культурные ценности. Европеизация в контексте стран Центральной и Восточной Европы заключается скорее в приведении страны к определённым западным стандартам. Данные стандарты, изложенные в так называемом «acquis 208 Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации communautaire», занимают 80 000 страниц требований и норм, которые должны быть отражены в национальном законодательстве страны-претендента. То есть европеизация – это адаптация европейских правил другими государствами. Европеизация в таком случае является двусторонним процессом: с одной стороны, основанным на действии ЕС (по «признанию права на потенциальное членство какой-либо страны»), с другой – касается внутренних механизмов адаптации. Не вдаваясь в подробности моделей европеизации, разработанных в рамках теории международных отношений, сделаю лишь несколько принципиальных замечаний на этот счёт. Европеизация возможна, когда: 1) потенциальная «награда» (benefit) стране от вступления в ЕС превышает стоимость адаптации правил; 2) скорость и масштаб адаптации пропорциональны потенциальным наградам; 3) правила являются выполняемыми, то есть легитимными и соответствующими видению развития событий правительствами стран-кандидатов; 4) существует определённая социальная сплочённость в странах-канди­ датах, общественная мобилизация и заинтересованность в евроинтеграции; 5) адаптация правил уже сама по себе решает некоторые внутренние проблемы конкретной страны (выбор пути, макроэкономическая стабилизация и т. д.). Европеизация означает «вмешательство» наднациональных структур во внутренние дела страны через политику кондициональности, или санкций (в русском эквиваленте, «кнута и пряника»), через мониторинг прогресса, консультирование и, наконец, посредством императивной роли acquis’а. Так, например, в 2001 г. Венгерский парламент из 150 законопроектов не ставил на обсуждение перед голосованием 121, поскольку они являлись частью требований ЕС. Европеизация меняет процесс коммуникаций и интеракций между различными национальными субъектами, наделяя властью некоторые элиты и группы и лишая власти других. Нельзя игнорировать и вот какой момент: в аспекте политического решения ЕС о предоставлении обещаний членства странам-кандидатам важным является credibility стран-претендентов. В этом плане даже в случае положительной динамики и прогресса в изменениях и проведении реформ, ожидаемых от странпретендентов на вступление, путь в ЕС может быть закрыт вопреки формальным правилам и «открытости» ЕС. На мой взгляд, вступление Беларуси в ЕС осложнено двумя группами проблем: недостаточной рациональной заинтересованностью белорусов (как различного типа элит, так и широких слоёв населения) в евроинтеграции и институциональной ловушкой, вызванной описанной выше траекторией. Воз209 Алексей Пикулик никновение первой группы проблем обусловлено особенностями режима Лукашенко и той перераспределительной моделью, которая была создана за время его власти. Прежде всего, внешняя рента, а также экспроприируемые внутри страны финансовые ресурсы перераспределяются между различными группами и слоями населения таким образом, чтобы гарантировать лояльность среди самых «взрывоопасных групп». То есть существует определённый неформальный институт деактивации населения – обмен лояльности на трансферты. Данная, по сути дела перераспределительная, модель при европеизации будет нарушена, что невыгодно нынешним бенефициарам. Европеизация возможна тогда, когда различные политические субъекты становятся рационально заинтересованными в евроинтеграции. Данный «интерес» может принимать различные формы для самого широкого спектра социальных групп: от инвестиций до расширения политического поля, от перспектив трудовой миграции до обретения гордости за страну. Проблема в том, что данные интересы должны быть предельно конкретными и просчитываемыми. На данный момент, смею предположить, группы, заинтересованные в евроинтеграции, малочисленны: сторонниками идеи Европы являются в основном лидеры гражданского общества, некоторые представители политической оппозиции и интеллигенции. Милада Вахудова (Vachudova37), говоря об идее «активного левереджа» со стороны Еврокомиссии по отношению к потенциальным кандидатам на членство в Европейском Союзе, утверждала, что в некоторых случаях стратегия ЕС в отношении недемократических режимов (Словакия) была успешна благодаря следующим направлениям деятельности: тренинг лидеров гражданского общества и артикуляция потенциальных благ, которые население этих стран получат от вступления в ЕС. Естественно, что для успешного интеграционного процесса необходима выстроенная коммуникация с целевыми группами и устойчивые связи между центром и периферией. Таким образом, с помощью стратегии и политики кондициональности ЕС мотивировал народные массы самим разбираться с собственными диктаторами. Согласно Шиммелфеннигу и Седелмейеру (����������������������������������� Shimmelfennig���������������������� and������������������ ��������������������� Sedelmeier������� ����������������� ), «авторитарные правительства с высокими адаптационными издержками (как и любое авторитарное правительство, которое испытывает серьёзное давление со стороны западных государств и международных финансовых институтов) не могли противостоять высоким потенциальным выигрышам от европейской интеграции, которые население начало осознавать». Гражданское общество и средний класс Беларуси могли бы стать таким партнёром ЕС, если бы не несколько определяющих факторов. Во-первых, отсутствие гарантированных прав собственности и «робин-гудовская» роль государства по отношению к ры210 Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации ночным отношениям не способствуют созданию среднего класса – основного участника гражданского общества. В результате следует говорить о том, что слабость гражданского общества Беларуси обусловлена отсутствием работающей рыночной экономики. Во-вторых, политические репрессии в отношении белорусских НГО приводят к тому, что организации вынуждены попросту бороться за выживание. Государство в белорусских реалиях обладает монополией на репрезентацию общественных интересов и подвергает жёстким репрессиям любые формы гражданской мобилизации. Таким образом, можно говорить о проникновении государства в логику работы институтов и установлении контроля над любыми видами формальных и неформальных интеракций. Гражданское общество в Беларуси, как и средний класс, существует как бы в двух параллельных модусах: один – аутентичный, другой – являющийся идеологическим конструктом власти. Аутентичное гражданское общество, увы, является лишь виртуальным набором НГО без серьёзной региональной «вмонтированности». Уровень доверия и кооперации в белорусском обществе крайне низок, что логически приводит к непреодолимым сложностям в мобилизации населения для коллективного действия. В этом плане нельзя не согласиться с Робертом Патнамом38, который объяснял наличие работающей демократии через гражданскую культуру, в упрощённом варианте – присутствие развитых социальных сетей, основанных на общественном доверии и большом количестве интеракций. Положение гражданского общества в Беларуси можно уподобить эффективному Конституционному суду в стране, где конституции не существует в принципе… Итак, меры ЕС по поддержке и развитию гражданского общества не работают в Беларуси в связи с тем, что не работает само гражданское общество. Опять же, longue durée страны, которая являлась образцом социализма в советские времена и в которой сетевые отношения (networks) не смогли сложиться в связи с турбулентностью истории, не позволяет эффективно мобилизовать население на любую борьбу – будь то борьба за евроинтеграцию или борьба за права вымирающего зубра. Что касается среднего класса, то в Беларуси он является симулякром среднего класса, идеологической номинацией, дополняющей проект власти по улучшению жизни работников бюджетной сферы. Подобный средний класс, не являющийся ребёнком рынка (������������������������������������������������ petite������������������������������������������ ����������������������������������������� bourgeoisie������������������������������ ) и отцом демократии (перефразируя импликации Алмонда и Вербы39), состоит из традиционного пролетариата и бюджетников, которые если и обладают подобием экономического капитала, присущего аутентичному среднему классу, то при этом обнаруживают полное отсутствие адекватного символического, культурного и социального капиталов. Иначе говоря, псевдосредний класс как иждивенец государства выбирает 211 Алексей Пикулик «гуляш-социализм», тогда как аутентичный средний класс выбрал бы безвизовую поездку в Испанию и возможность отправить детей на учёбу в Лондонскую школу экономики по общему европейскому конкурсу. Ситуация в Беларуси осложняется и российским влиянием. И здесь мы переходим к анализу второй группы проблем, препятствующих интеграции Беларуси в ЕС. Во-первых, Беларусь гораздо ближе к Москве, чем к Брюсселю, и здесь нельзя не принимать в расчёт корреляцию между географическим расстоянием до столицы «империи» и политической демократизацией. «Зависимость от пути» делает Беларусь гораздо ближе во всех смыслах к столице России, если вынести за скобки чисто экономические аргументы (ориентация белорусского экспорта, зависимость от энергоресурсов). Другими словами, развал СССР означал для Беларуси не только обретение независимости, но и потерю центра координации институциональных механизмов и коллапс экономических секторов. Долгое время залогом существования белорусского режима являлось перераспределение рент, полученных благодаря экономическим отношениям с Россией, и в этом плане белорусская модель напоминает «петро-государство» без ресурсов, способное, однако, получать необходимые ресурсы из России как из своей колонии. Изначальное следование политике «большого брата», как и «ползание в Россию на коленях», декларированные в первые годы президентства Лукашенко, являлись скорее рациональным выбором политической элиты, стремящейся преодолеть травмирующую экзистенциальную ситуацию первых лет независимости. Дальнейшая интеграционная риторика, направленная на реконструирование синтетической национальной идентичности и идеологизацию социального пространства, в конечном итоге оказалась парадоксальным процессом. В этом смысле «Лукашенко» (как символ белорусской политики) иногда парадоксально хорош именно своими побочными эффектами: преследуя иные цели, политика президента привела к укреплению государственности и формированию (псевдо)национальной идентичности. Наконец, последняя проблема состоит в том, что институциональная ловушка несёт в себе угрозу, и начинать процесс трансформации после ухода Лукашенко будет сложнее, чем после развала СССР. Во-первых, упущено «окно возможностей», во-вторых, режим консолидирован, в-третьих, произошёл серьёзный процесс обучаемости и настройки авторитарной системы, в-пятых, дизайн экономических и политических институтов стабилизировался. В связи с этим маловероятно, что «Беларусь» захочет и сможет произвести достаточную демократизацию. Боюсь, что построение либеральной демократии попросту не будет рациональным выбором. Ещё менее вероятно, что произойдёт построение общественно-регулируемой рыночной экономики: это, во-первых, отнимет 212 Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации ренту у представителей государственного капитализма, во-вторых, лишит субсидий представителей нереформированного государственного сектора. В терминологии данной статьи каждая страна для получения членства в ЕС, кроме всего прочего, должна прийти к состоянию баланса либеральной демократии и общественно-регулируемой рыночной экономики, причём важен не только сам факт эволюции системы в сторону данного идеального типа, но и последовательность самих преобразований. Иначе говоря, важен не только сам факт прихода в пункт назначения, но и то, каким путём данная трансформация будет осуществлена. Как мне кажется, уход Лукашенко (любым путём) не приведёт к моментальной остановке процесса стагнации системы. В лучшем случае следующей системной конфигурацией станет так называемый «плюрализм по дефолту» и соревновательный авторитаризм, когда ни одна из элитарных групп не сможет установить полный контроль над всеми остальными. Прежде всего потому, что необходимые для этого ресурсы окажутся в руках различных групп. Вполне естественно, что процесс трансформации политического режима будет сосуществовать с процессом номенклатурной приватизации, а значит, многим удастся трансформировать политический капитал в капитал экономический. Во-вторых, проблема заключается в том, что при Лукашенко авторитарный режим сосуществует с персоналистским государством, то есть вся бюрократия, и особенно аппарат государственного насилия, подотчетна только Лукашенко. Здесь необходима трансформация самого государства, и новая организация государства возникнет в результате (а возможно, и по воле случая) борьбы различных групп за право влиять на политику и принимать политические решения. Бюрократическая система, которую наследуют новые белорусские лидеры, едва ли явится пригодной для функционирования в рамках либерального государства в связи с частичной потерей рентных возможностей. В Беларуси можно ожидать появления олигархических групп именно из числа нынешней номенклатуры, которые будут обладать значительным влиянием на бюрократический аппарат и смогут устанавливать максимально выгодные, далёкие от прозрачного демократического капитализма, правила игры для себя. Иначе говоря: обладающие экономическими ресурсами элиты (бенефициары от делиберализации экономики) вполне могут заблокировать возможное проведение демократизации и полную рыночную реформу при смене власти. Не будем забывать, что политическая и экономическая власть в Беларуси остаётся централизованной и обладает монополией на репрезентацию народного интереса, что делает государство крайне уязвимым для захвата конкурирующими экономическими альянсами. Оппозиция Беларуси обладает низким мобилиза- 213 Алексей Пикулик ционным потенциалом, она отказывается понять, что борьба будет проходить не за демократические права, а за установление правил игры в экономике. Всё станет гораздо сложнее с началом рыночных реформ. При создании новых институтов акторы наполняют их рациональностью, и зачастую институты перестают служить прямому назначению. Разгосударствление экономики новым президентом не приведёт к желаемому результату. Классические неолиберальные постулаты, применённые к Беларуси, скорее всего встретят сопротивление со стороны старой бюрократии, заинтересованной в отсутствии цивилизованного капитализма (который автоматически лишит их рент). Кроме этого, необходимо учитывать и ещё несколько факторов. Насколько спокойно белорусский народ сможет выдержать первые сложности рыночных реформ (особенно после опыта «белорусского экономического чуда») и не поддаться на провокации ревизионистов использовать демократические права для возврата к предыдущей системе «чарочно-шкварочного социализма», остаётся большим вопросом. Боюсь, что данные настроения могут быть использованы как электоральный капитал ранними бенефициарами от реформ для политической капитализации и захвата власти. Таким образом, Беларусь, скорее всего, повторит траекторию развития России: к либеральному авторитаризму через захват исполнительной (или законодательной, в случае Украины) ветви власти. Баланс и расстановка сил на данный момент, преодоление longue durée, самоусиливающийся каузальный тренд, слабое гражданское общество и современное состояние политического капитализма никак не смогут способствовать гипотетической европеизации страны – в смысле движения к либеральной демократии и общественно регулируемому капитализму. Это значит, что у современной Беларуси остаётся всё меньше и меньше шансов попасть в Европу. Внутренняя логика развития институтов отдаляет страну от желаемых стандартов и параметров, необходимых для интеграции в наднациональные структуры. Возможно, европейская риторика будет возникать, но, как и в случае Румынии и Болгарии (вплоть до 1999), останется в основном на уровне популизма. Это будет продолжаться до тех пор, пока в Беларуси не сформируются необходимые предпосылки для европеизации. Какой из этих вариантов наиболее вероятен, покажет время. Очевидно лишь одно: Беларусь остаётся замкнутой (locked-in) в своей «зависимости от колеи», и для преодоления данного тренда сменится не одно поколение граждан и не одно правительство. Поэтому когда Александр Милинкевич заявляет о том, что после смены режима Беларусь вступит в Евросоюз в течение 10–20 лет, хочется лишь дать один комментарий: «А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный». 214 Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации Примечания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Я благодарю Ласло Бруста и Ирину Миреа за живой интерес и активное участие в обсуждении основных постулатов данной работы. Кроме того, большое спасибо Филиппу Шмиттеру и Питеру Мейеру за бесценные комментарии к ранним версиям данной статьи. См.: Усманова А. Восточная Европа как новый подчинённый субъект. Прим. 14 (в данном сборнике). Diamond L. Developing Democracy. Toward Consolidation. The Johns Hopkins University Press: Baltimore and London, 1999. См.: Миненков Г. Европейская идентичность как горизонт беларусского воображения. Прим. 32 (в данном сборнике). – Прим. науч. ред. Естественно, приход в середине 1990-х левых к власти в некоторых странах бывшего социалистического блока вызывал изменения в проведении экономических реформ, однако данные отступления от намеченного курса были в основном временными. O’Donnell G., Schmitter Ph. C. Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. The Johns Hopkins Press Ltd.: London, 1986. Offe C. Designing Institutions for Eastern European Transitions. Wien: Institut für Höhere Studien, 1994. O’Donnell G., Schmitter Ph. C. Op. cit. Ibid. Bruszt L. Making Capitalism Compatible with Democracy – Tentative Reflections from the East. In: C. Crouch, W. Streeck (eds.) The diversity of democracy, Atribute to Philippe C. Schmitter. 2006. Stark D., Bruszt L. Post-socialist Pathways: Transforming Politics and Property in Eastern Europe. New York: Cambridge University Press, 1998. Bruszt L. Op. cit. Way L., Levitsky S. The Rise of Competitive Authoritarianism // Journal of Democracy. 2002. Vol. 13. № 2. Diamond L. Developing Democracy. Toward Consolidation. The Johns Hopkins University Press: Baltimore and London, 1999. Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. Unwin University Books: London, 1974. P. 269. Dahl R. Polyarchy. Yale University Press: New Haven–London, 1971. Р. 3. O’Donnell G. Democracy, Law, and Comparative Politics // Studies in Comparative International Development. Spring. 2001. Vol. 36. P. 7–36. O’Donnell G., Schmitter Ph. Op. cit. Fish S. Democratization’s Requisites: The Postcommunist Experience // PostSoviet Affairs. 1998. 14.3. P. 212–247. Zakaria F. The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad. W. W. Norton & Company: New York–London, 2003. Более подробная концептуальная схема см.: Diamond L. (2005). Типология политических режимов: 215 Алексей Пикулик Нелиберальный авторитаризм PR CR (дем) (либ) 5–7 5–7 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 216 Либеральный авторитаризм PR CR (дем) (либ) 3–7 1–5 Нелиберальная демократия PR CR (дем) (либ) 1–5 3–7 Либеральная демократия PR CR (дем) (либ) 1–3 1–3 Рейтинги, которые Freedom House присваивает различным странам, созданы на основе экспертных интервью и ранжируются между 1 (максимально свободная система) и 7 (максимально несвободная система). В нашей типологии два режима – либеральная демократия и нелиберальный авторитаризм – могут быть охарактеризованы парой похожих индексов (1–3, 1–3 и 5–7, 5–7 соответственно), поскольку они репрезентируют консолидированные типы режимов. В западной традиции наиболее успешной парадигмой для сравнения институционального аспекта экономик является т. н. «разнообразие капитализмов» (varieties of capitalism). Однако методология данного подхода не в полной мере подходит для анализа постсоветских капитализмов. Weber M. General economic history. New Brunswick: N. J.: Transaction Books, 1981. P. 275. Collins Rl. Weber’s Last Theory of Capitalism: A Systematization // American Sociological Review. 1980. 45. P. 925–942. Критика ВК для Восточной Европы см.: Kogut B. Critical and alternative perspectives on international assistance to post-communist countries: a review and analysis. World Bank working papers, 2004; Woodruff D. Money Unmade: Barter and the Fate of Russian Capitalism. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1999; Stiglitz J. Whither socialism? Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994. Balcerowicz L. Socialism, Capitalism, Transformation. Budapest: Central European University Press, 1995. Bruszt L. Market Making as State Making: Constitutions and Economic Development in Post-communist Eastern Europe // Constitutional Political Economy. 2002. 13. P. 53–72. Majone G. Deregulation or Re-regulation? Regulatory Reform in Europe and the United States. St. Martin’s Press, NY, NY. 1990. Bruszt L. Making Capitalism Compatible with Democracy… 2006. Staniszkis J. The dynamics of the breakthrough in Eastern Europe: the Polish experience. Berkeley: University of California Press, 1991. См.: EBRD «Transition Reports». Однако в связи с тем, что ни в одной из трех стран рейтинги не дотягивают до минимального значения, данный аспект я оставляю в стороне. Наконец, измерение общественного регулирования экономики является наиболее сложным в связи с отсутствием адекватных рейтингов. Я предлагаю измерять этот вид регулирования через индексы законодательства о конкуренции (competition policies) и банковского регулирования (и то, и другое встречается в индексах ЕБРР). И опять же, как и в предыдущем случае, индексы регулирования являются настолько незначительными, что включать их в исследование не Другая Европа. Беларусь как уникальный случай двойной трансформации представляется возможным: индекс России, например, не дотягивает до 50% от минимального уровня, начиная с которого можно говорить об общественном регулировании экономики. Таким образом, я опираюсь на следующие индексы (4 – максимально, 1 – минимально либеральная экономика). Беларусь Россия Украина 35 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.2 1.8 1.5 1.3 1.25 1.3 1.5 1.7 1.8 1.8 1.8 2.8 2.3 38 39 3.2 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 2.75 3.0 2.75 3.25 3.0 3.25 3.0 3.25 3.2 РБ (5, 0.31) (6, 0.29) (6, 0.34) Россия (3.3, 0.22) (3.3, 0.28) (3.3, 0.29) Украина (3.3, 0.13) (3.3, 0.19) (3.3, 0.33) Таблицы показателей компаративной коэволюции экономической и политической либерализации в период с 1995 по 2005 гг. 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 37 3.2 2.7 Таблицы показателей компаративной коэволюции экономической и политической либерализации в период с 1992 по 1994 гг. 1992 1993 1994 36 3.0 2.5 РБ (5, 2.2) (6, 1.8) (6, 1.5) (6, 1.3) (6, 1.25) (6, 1.3) (6, 1.5) (6, 1.7) (6, 1.8) (6.7, 1.8) (6.7, 1.8) Россия (3.3, 2.8) (3.3, 3) (3.3, 3.2) (4, 3.2) (4.3, 2.7) (5, 2.7) (5, 2.9) (5, 3) (5, 3.25) (5.7, 3.25) (5.7, 3.25) Украина (3.3, 2.3) (3.3, 2.5) (3.3, 2.7) (3.3, 2.6) (3.3, 2.7) (4, 2.7) (4, 2.75) (4, 2.75) (4, 3) (3.7, 3) (3.7, 3.2) Vachudova M. A. The leverage of international institution democratizing states: Eastern Europe and the European Union. Florence: European University Institute, 2001. Putnam R. Op. cit. Almond G. A., Verba S. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. Imprint Boston, Mass, 1965. 217 Приложение Зигмунт Бауман Незавершённое приключение под названием Европа Польский поэт Александр Уотa, сполна испытавший вкус сладких грёз и горьких пробуждений прошедшего века – века надежд и разочарований, – оказываясь на протяжении всей своей жизни то на революционных баррикадах, то в концлагерях, усеивавших Европу, заглянул в сокровищницы и тёмные уголки своей памяти в попытке приоткрыть тайну «европейского характера» и набросать портрет «типичного европейца». «Кто такой европеец?» – задался он вопросом. И сам же ответил: «Изысканный, чуткий, образованный, умеющий держать слово; он никогда не украдёт последний кусок хлеба у голодающего и никогда не донесёт на своего соседа охраннику…». И затем, поразмыслив, добавил: «Мне встречался один такой. Он был армянином». Можно долго спорить по поводу этого описания (в конце концов, это как раз в характере европейцев спорить о своём характере), но трудно не согласиться с двумя утверждениями, вытекающими из рассказанной Уотом истории. Первое: сущность Европы имеет склонность опережать «реально существующую Европу», а сущность «бытия европейцем» («being an European��������������������������������������������������� ») заключается в том, чтобы обладать сущностью, несколько опережающей реальность, и реальностью, отстающей от сущности. Второе: в то время как «реально существующая Европа» может быть и географическим понятием, и пространственно ограниченным сущим (entity), сама сущность Европы не является ни первым, ни вторым. Нельзя стать европейцем a Александр Уот (Wat, 1900–1967) – польский поэт, писатель, теоретик искусства, один из основателей польского футуристического движения в начале 1920-х гг. Здесь и далее в постраничных сносках – прим. перев. 219 Зигмунт Бауман только потому, что тебе посчастливилось родиться или жить в городе, расположенном на политической карте Европы. Но можно быть европейцем, даже если ты никогда не был в таком городе или в любом другом похожем на него. Хорхе Луи Борхес, который сам будучи великим европейцем, прожившим большую часть своей жизни по ту сторону великого атлантического водораздела, писал о «недоумении», которое не может не возникнуть при размышлении о «нелепой случайности», привязывающей идентичность к определённому месту и времени. Он утверждает, что при такой привязке идентичность более походит на выдумку, чем на что-то, о чем мы думаем как о «реальности».1 Совсем недавно Алекс Варлейхb вынес приговор замешательству, преследовавшему все современные попытки дать точное определение европейской идентичности2: европейцы (в смысле «стран-членов Европейского Союза») «скорее стремятся подчеркнуть существующие между ними различия, чем то, что их объединяет», хотя, с другой стороны, «говоря о “европейской” идентичности, уже невозможно сузить её охват до членов Европейского Союза, какой бы аналитический подход тут ни применялся». А как утверждает крупный историк Норманн Дэвисc, всегда было сложно и даже невозможно определить, где Европа берёт начало и где она заканчивается – географически, культурно или этнически. С тех пор ничего не изменилось. Когда мы произносим слово «Европа», то не совсем понятно, говорим ли мы о некоторой сущности в смысле «крови и почвыd», то есть о территориально определённой реальности, или же о свободно парящей идее, которая может возникнуть локально, но, появившись, не знает предела и преодолевает все пространственные узы и ограничения. Упрямая экстерриториальность этой идеи подрывает и размывает прочную территориальность европейской реальности. «Географическая Европа» никогда не имела фиксированных границ, не говоря уже о границах «естественных», и маловероятно, что такие границы когда-либо могут появиться. И всякий раз, когда пытаются обозначить такие границы, запечатлевая их на земле и нанимая стражей для придания им легитимного статуса, b c d 220 Алекс Варлейх (Warleigh) – в настоящее время профессор в Университете Лимерика (Ирландия), отделение политики и общественной администрации. Норманн Дэвис (Davis) – британский историк, автор ряда работ по истории Польши, Европы и британских островов. Многие из его книг стали бестселлерами. Нем. Blut und Boden. Выражение, использованное Адольфом Гитлером, было частью немецкой доктрины о превосходстве немцев над другими нациями (в особенности евреями); означало, что люди с немецкой кровью имеют законное право жить на немецкой земле. Выражение пущено в широкий оборот Вальтером Дарре (одним из теоретиков нацизма), который в 1930-х использовал его, чтобы утвердить связь между расой и землёй. Незавершённое приключение под названием Европа не удаётся их узаконить и сделать непроницаемыми. Любая пограничная линия так и останется вызовом и неизменным побуждением к её трансгрессии. Как незабываемо выразился Кристоф Помиан3e, Европа стала местом рождения трансгрессивной цивилизации (transgressive civilization) – цивилизации трансгрессии. Можно сказать, что если судить по её горизонтам и амбициям, хотя и не всегда отвечающим действиям, то эта цивилизация, или эта культура, есть такая форма жизни, которая страдает аллергией на границы, то есть на всё устойчивое и конечное. Она, по сути, является экспансивной культурой, и эта особенность тесно связана с тем фактом, что Европа стала местом того исключительного социального сущего, которое назвало себя «цивилизацией», или «культурой», и поэтому восприняло себя в качестве продукта человеческого выбора, замысла, стиля и управления. Таким образом, она преобразовала человеческий способ бытия-в-мире, включая свой собственный, в объект исследования, критики и корректировки. В наше время утверждение, что все человеческие сообщества обладают «культурой», звучит банально, но оно не стало бы банальным, если бы не произошло европейское открытие культуры как деятельности, совершаемой людьми в человеческом мире. Это открытие (используя терминологию Мартина Хайдеггера) вырвало человеческий мир из падения в тёмную пустоту zuhanden (что означает «подручное», данное прямо в руки, фактически, бесспорно и «непроблематично») и перенесло на ярко освещённую сцену vorhanden (то есть вещей, которые необходимо заметить, схватить, сформировать, изменить, прежде чем использовать). В отличие от мира zuhanden, мир vorhanden означает запрет стоять на месте. Европейское бытие-в-мире – это путь критики и корректировки. Такая форма бытия заразительна. Будучи однажды ею инфицированы, другие способы жизни больше не могут монотонно воспроизводиться. Отныне они могут продолжать своё существование только благодаря бесконечному пере­ утверждению [себя]. Их иммунная система разрушается раз и навсегда. Отношения между европейской культурой – первой себя-открывшей культурой – и всеми остальными культурами планеты были какими угодно, только не симметричными. Дэнис де Ружемонf утверждал4, что Европа открыла все остальные земли планеты, в то время как никто никогда не открывал Европу. Она последовательно доминировала на всех континентах, но никогда не становилась e f Кристоф Помиан (Pomian) – польский историк, философ, эссеист. Автор ряда работ по Восточной Европе и связи философии и политики. Дэнис де Ружемон (Denis de Rougemont, 1906–1985) – швейцарский писатель и философ. В период преподавания в США написал работу Доля дьявола о европейском кризисе совести. Занимал пост директора Европейского центра культуры. 221 Зигмунт Бауман объектом доминирования: она изобрела цивилизацию, подражать которой пробовал весь остальной мир, но обратный процесс никогда (во всяком случае, до сих пор) не наблюдался. Европу можно определить, как предлагает де Ружемон, через её «объединяющую (globalizing) функцию». Европа могла бы прочно и надолго стать нетипичным авантюрным уголком земного шара – однако приключение, длящееся более двух тысячелетий её истории, «оказалось решающим для всего человечества». Иоганн Вольфганг Гёте описал европейскую культуру как прометеевскую. Прометей похитил у богов огонь и открыл его секрет людям. Некогда вырванный из рук богов огонь начал жадно добываться всеми и каждым, и был торжественно зажжён и поддерживался теми, чьи поиски оказались успешными. Случилось бы это, если бы не самонадеянность и отвага Прометея? Культура, повторю ещё раз, – это то, что вырывает мир из безмятежной, всё ещё дремлющей инерции zuhanden и трансплантирует его в исключительно человеческую сферу vorhanden, превращая в объект критического изучения и творческого действия. Этот подвиг совершается ежедневно, повсюду, где живёт человек. Европа, однако, продвинулась на шаг дальше (и, сделав этот шаг первой, она проложила путь для остальных). Она совершила одну и ту же трансплантацию дважды – вначале над «миром вовне», а затем над самой этой операцией [по трансплантации]. Европа первой обнаружила, что мир «творится культурой», но, кроме этого, стала первой, кто открыл/решил, что «культура творится людьми» и что создание культуры может и должно быть работой/судьбой/профессией. Эдуардо Лоуренцо, португальский писатель, живший сначала в Германии и Бразилии, а затем во Франции, заметил5, что европейская культура, именно по этой причине, является «культурой сомнения», «культурой беспокойства, тоски и страдания», культурой радикального сопротивления всему, всем формам уверенности. Она едва ли может быть иной, ведь, как известно, культура – это вид интеллектуальных и духовных практик, не имеющих других оснований, кроме «диалога, который мысль ведёт сама с собой», на что обратил внимание ещё Платон. В итоге мы, европейцы, возможно, единственный народ, который (как исторический субъект и актор культуры) не имеет идентичности в строгом смысле этого слова: устойчивой идентичности, или идентичности, считающейся таковой. «Мы не знаем, кто мы такие». Идея «европейской идентичности» всегда была и, по всей вероятности, обязана остаться в высшей степени дискуссионной проблемой. Желание знать, кто мы есть, и/или желание становиться собой никогда не иссякнет, так же как никогда не исчезнет опасение относительно того, кем мы станем, следуя этому желанию. Европа – это культура, не знающая покоя; дестабилизирующая сила, вместо стабилизирующей, гомеостатической, уравновешивающей движущей силы. Культура, питающаяся вопрошанием о порядке вещей и подвергающая сомнению само это вопрошание. 222 Незавершённое приключение под названием Европа Безмолвная культура, культура, не знающая, что она – культура; культура, держащая знание о себе как культуре в секрете; культура, действующая анонимно или под вымышленным именем; культура, решительно отрицающая своё человеческое происхождение и прячущаяся за величественным зданием божественного правосудия или подписывающая безоговорочную капитуляцию перед лицом непокорного и непостижимого закона истории, – такая культура может быть служанкой, заправочной станцией или ремонтной мастерской, обслуживающей паутину человеческих интеракций, называемых «обществом». Европейская культура, однако, может быть какой угодно, только не безмолвной, – и именно по этой причине она не может быть ничем иным, как шипом в плоти общества. Днём и ночью она призывает общество к ответственности, большую часть времени держа его на скамье подсудимых. Европейская культура готовила себя к этой роли, практикуясь на собственном обществе. Но, подвергнув однажды сомнению окончательный вердикт богов и природы и таким образом сделав своё собственное молчание более не внушающим доверия, она также обнаружила и сделала уязвимым любое другое общество, любую другую форму человеческого единения и любую другую структуру человеческого взаимодействия. Как заметил Поль Валериg ещё в начале прошлого века, в то время когда Европа в зените мирового правления начала бросать тревожный взгляд на первые очертания нисходящего склона по ту сторону горного перевала, «европеизация» мира отразила желание Европы переделать весь оставшийся мир согласно европейским целям – без всякого осознания своей вины. Переделка мира по европейскому образцу обещала свободу самоутверждения для всех, но цена этой переделки оказалась выше той, которую большинство объектов данной реконструкции было готово заплатить. Ото всех, кто встречался во время путешествия по миру посланников Европы, требовалась предельная жертва – отказ от безопасности. Размахивая изречением Мишеля Монтеня, гласящего, что «у нас нет другого критерия истины или справедливости, кроме образцов, мнений и традиций в нашей собственной стране»6, Европа открыла путь к толерантности по отношению к инаковости, в то же время объявляя войну любому виду отличия и сходства, которые не смогли достичь «должных» стандартов или отказались к ним стремиться. g Поль Валери (Valéry, 1871–1945) – французский писатель и поэт, обладавший достаточно широкой сферой интересов. Кроме художественной литературы, известен своими работами по искусству, истории, музыке. Один из известнейших его трудов – дневники, названные Тетради, которые он вёл на протяжении большей части своей зрелой жизни. 223 Зигмунт Бауман *** Когда царская дочь Европа была похищена Зевсом, принявшим образ быка, её отец Агенор, царь Тира, послал сыновей на поиски пропавшей дочери. Кадмон, отправившись на остров Родос, оказался во Фракии и странствовал по землям, которые позже получили имя его несчастной сестры. В Дельфах он спросил у прорицательницы о её местонахождении. На этот вопрос Пифия по привычке ответила уклончиво, но дала Кадмону практический совет: «Тебе не найти её. Ты лучше следуй за коровой [которая встретится тебе при выходе из святилища] и подгоняй её вперед, не давая передохнуть; в месте, где она упадёт от изнеможения, построй город». Так были основаны Фивы. «Искать Европу, – делает вывод из урока Кадмона де Ружемон, – значит создавать её!» «Европа существует благодаря поиску бесконечности – и это то, что я называю приключением». Путешествие Кадмона, позвольте заметить, не единственная древняя история с таким месседжем. В другом сказании финикийцы отправляются в дальнее плавание на поиски мифического континента, а в результате открывают географическую реальность, ставшую Европой… Согласно ещё одной истории, во время раздела мира между тремя сыновьями после великого потопа Ной послал Япета (что на иврите значит «красота») в Европу, снабдив оружием и ободрив обещанием безграничных пространств – «dilatation»h, согласно Вульгатеi и Отцам церкви. Все эти истории различны, однако во всех Европа неизменно предстаёт местом для приключений, бесконечным путешествием, предпринятым, чтобы её достичь. Она подобна жизни Одиссея, который бороздил моря годами, будто откладывая возвращение к скучной безопасности родной Итаки, и который был провозглашён (возможно, как раз по этой причине) предшественником, предком или прототипом европейца. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, в средневековом английском «приключение» (adventure) означало то, что случилось незапланированно, то есть случай, происшествие, шанс, а также возможность угрозы или поражения, то есть риск, опасность, опасное предприятие или поступок. Позже, уже ближе к современности, оно стало означать погоню за судьбой – рискованное начинание или эксперимент, роман или волнующее событие. Эти сдвиги в значении произошли вследствие созревания европейского духа, который стал использовать термины, наполненные его собственной сущностью. Есть один старинный и неразрешимый спор: был ли прав Герберт Уэллс, предположив, что «в стране слепых одноглазый человек будет королём»? Или, скорее, в такой стране он станет монстром, зловещим и пугающим созданием? h i 224 «Расширение, распространение» (лат.). Латинский перевод Библии IV века. Незавершённое приключение под названием Европа По всей вероятности, этот вопрос так и останется неразрешённым в силу того, что аргументы обеих сторон достаточно сильны, и каждая из сторон по-своему права. Обе соперничающие стороны исходят из альтернативы «или–или», хотя её здесь нет. Одна из возможностей, упущенная из поля зрения данной словесной дуэли, – это ситуация «и–и»: одноглазый человек может быть королём так же, как и монстром. Любимым и ненавистным. Желанным и устрашающим. Обожествлённым и демонизированным. Идолом для преклонения и демоном, сражающимся до последней капли крови, которыми он бывает то одновременно, то в быстрой последовательности. Выбор между положением короля и чудовища может быть не во власти одноглазого человека, вернее, не только в его власти. Именно этому научился европейский искатель приключений – и учится до сих пор на своём собственном бурном опыте, испытывая трудности и впадая в отчаяние. Сегодня право выбора, по-видимому, выпадает (или его вырывают?) из рук искателя приключений по имени «Европа», и никакие уловки этого особенного искателя приключений, испытанные на протяжении долгой карьеры, не способны это право ему вернуть. Во время визита (1997) в Университет имени Адама Мицкевича в Познани Вольф Лепениесj зачитал вслух длинный список причин, по которым Европа, ещё недавно такая самоуверенная, а теперь ставшая «старым материком в новом мире» (как предсказал Гёте, она неизбежно им станет в конце юношеского приключения), чувствует себя смущённой, озадаченной и всё более испуганной.7 Европа стареет в мире, который с каждым годом молодеет. Согласно результатам демографов, в течение этого десятилетия число европейцев в возрасте до 20 лет уменьшится на 11%, в то время как число тех, кому за 60, вскоре удвоится; в результате меньший по величине кусок придётся делить на большее число ртов. Эта общая тенденция почти не оставляет места для воображения. Германия, Великобритания и Франция, ещё совсем недавно экономические гиганты среди карликов, скоро спустятся в мировом рейтинге на 10, 19 и 20 места соответственно. Они также могут стать NDCk (новые страны со снижающимися темпами развития) номер два, возникшие как результат ущерба, нанесённого избыточным увеличением и непрекращающимся ростом j k Вольф Лепениес (Wolf Lepenies) – немецкий социолог. Его работы посвящены исследованию возможностей и пределов интеллектуальных обязательств. Лауреат престижной премии Мира немецких книготорговцев 2006 года. Его работы Меланхолия и общество и Конец естественной истории вносят существенный вклад в понимание современного состояния общества. New Declining Countries. 225 Зигмунт Бауман NDCl (новые развивающиеся страны) номер один, которые и отталкивают их с ещё большей силой дальше вниз по лестнице, на низшие слои социальной иерархии. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, к 2010 три европейские страны «Большой семёрки» (Италия, Великобритания и Франция) будут заменены другими, более молодыми экономическими силами, если, конечно, процесс смены членства будет соблюден. «Поскольку производственное превосходство Европы падает, – заключает Лепениес, – европейские идеи бледнеют в сравнении с другими ведущими интеллектуальными системами». Слабое утешение можно извлечь из мысли о том, что европейская миссия всё же будет завершена благодаря невиданным и впечатляющим превращениям прежних «объектов европейской миссии» в храбрых, упорных и, ко всему прочему, талантливых деятелей первого порядка. Даже если бы это изменение оказалось, хотя бы отчасти, подвигом, совершённым Европой или благодаря Европе, то, в конечном счете, оно всё равно не стало бы совершённым для Европы, так что его бенефициарии не согласятся ни на роль, ни на славу благодарных подопечных Европы. К своему великому огорчению и не меньшему беспокойству Европа открыла весьма вероятную возможность «модернизации без вестернизации». Это перспектива, открывающаяся перед учителями, которых опережают и превосходят те, кто отрицает их учительские заслуги. В современной литературе эта смесь недоумения и разочарования усугубляется описанием «кризиса европейской идентичности». «Мы потеряли, – жалуется Лепениес, – желание и способность к долгосрочной ориентации». И, «потеряв способность к долгосрочному мышлению», «европейские элиты прекратили предлагать привлекательный пример для подражания». Значит ли это, что Европа пала жертвой своего собственного мирового триумфа, отработав своё историческое задание? Ричард Капучинскиm отмечает роковое, в определённом смысле, тайное изменение в планетарном настроении.8 В ходе последних пяти столетий военное и экономическое доминирование Европы привело в своей высшей точке к не вызывающему возражений положению, в соответствии с которым Европа стала критерием для оценки, похвалы или осуждения других, прошлых и настоящих, форм человеческого существования. Европа стала воплощением верховного суда, в ходе которого такая оценка авторитетно объявлялась и навязывалась. Достаточно быть европейцем, говорит Капучински, чтобы везде чувствовать себя хозяином и властелином. Даже заурядный человек со скромным положением l m 226 New Developing Countries. Ричард Капучински (Ryszard Kapuściński) родился в Пинске в 1932; один из выдающихся польских репортёров. Большую часть своей жизни провёл в поездках по странам Азии, Африки, Америки, работая корреспондентом и запечатлевая происходящие в этих регионах войны и революции. Незавершённое приключение под названием Европа в обществе и невысокой репутацией в своей родной (но европейской!) стране достигал самого высокого социального положения, оказавшись в Малайзии или Замбии… Это, однако, уже в прошлом. Сегодняшнее время отмечено как никогда ясным самосознанием людей, полвека назад возведших Европу на алтарь поклонения, а сейчас демонстрирующих быстро растущее чувство собственной ценности и ещё более откровенное стремление достичь и сохранить независимое и весомое место в новом, всё более демократичном и мультикультурном мире. Когда-то давно, вспоминает Капучински, каждый житель далёких стран интересовался и расспрашивал его о Европе, но сегодня этого уже нет. Сегодня у «местных» жителей есть собственные задачи и проблемы, ожидающие их и только их внимания. «Европейское присутствие» всё менее заметно как физически, так и духовно. Итак, продолжается ли европейское приключение? И независимо от того, продолжается оно или нет, что может побуждать нас полагать сегодня, что оно продолжается? *** С самого начала европейского приключения, и особенно на протяжении последних, легко воскрешаемых в памяти веков его длинной истории, мир был европейской площадкой развлечений. Или, по крайней мере, казался таковой для неугомонных, отважных и авантюрных натур. Эти столетия описаны в европейских книжках по истории как «век великих географических открытий». Европейские открытия, конечно же, совершались европейскими посланниками и эмиссарами, и для их же блага. Безбрежные земли распростёрлись в ожидании, что их откроют. «Быть открытым» не означало то же, что быть «найденным». Это означало обнаружить сокровища до сих пор праздно лежащие, чтобы переместить их в другое место, где им можно найти достойное практическое применение. Это также означало открытие необъятного, до сих пор заброшенного и крайне запущенного пространства для проживания и продуктивного использования людьми. Европа нуждалась и в первом, и во втором: в богатстве для пополнения своих истощившихся ресурсов, и в землях для мужчин и женщин, для физического выживания и социальных стремлений которых на родине не было места. Земля стала той пустотой, которую природа (посредством Европы, её высших достижений и наиболее находчивых исполнителей) не терпит и стремится заполнить. И эта необъятная субстанция отчаянно искала пустоту, чтобы её заполнить. В европейской гонке за незакреплённой и ускользающей сущностью не 227 Зигмунт Бауман все участники состязания смогли сохранить темп. Многие отстали, ещё больше было тех, кто боялся сойти с дистанции, иных же обвинили в том, что они тормозят гонку или даже намереваются отклонить движение от пункта назначения, другими словами – обвинили в саботаже. Обе категории отвергнутых – неудачники и побеждённые – необходимо заменить, чтобы не создавать помехи на беговой дорожке и не препятствовать движению более удачливых соперников. Некоторые из отвергнутых по своей воле скроются в менее переполненных местах с надеждой «родиться заново» и начать другую жизнь. На кого-то надо будет накричать и заставать двигаться дальше. Спасибо Богу за пустую планету, или за планету, которую можно опустошить, или которая может быть рассмотрена, воспринята или использована так, как будто она пустая. На планете, где есть достаточное количество свободного места, можно избавиться от проблем (и, что более важно, от «проблемных людей»). Сейчас, на закате дня, проясняется, что постоянная необходимость в избавлении от них была первоначальной, возможно, даже основной движущей силой европейской мировой экспансии. Любая творческая деятельность влечёт за собой повторяющееся действие по исключению/включению, работу по отделению пригодного от непригодного, удовлетворяющего от неприятного, полезного от вредного, нужного от ненужного. Короче говоря, отделение желанного от отталкивающего. Творческое возбуждение, охватившее европейское приключение, не было отклонением от нормы (исключением). Оно, собственно говоря, послужило преддверием всего последующего массового производства «отверженных». Два свойства данной творческой суматохи нацелены, в частности, на действие по сортировке людей. Во-первых, непреодолимый порыв реорганизовать мир, каждую его часть; движущая сила, только и способная, что оставить позади густой осадок людей, отвергнутых за непригодность и прямую дискредитацию нового и улучшенного варианта человеческого сосуществования. Во-вторых, порыв, который ввиду очевидности цели носит общепринятое название «экономического прогресса», то есть стремления, рассматривающего цель через признание непригодности и уничтожение инструментов и навыков, которые до сих пор обеспечивали выживание человека, и тех форм жизни, которым эти инструменты и навыки придавали убедительность и жизнеспособность. Неизбежным следствием этих двух отраслей (industries) – производства порядка (практикующееся последнее время под именем «модернизации») и экономического прогресса, стремящегося увеличить производительность и эффективность, – стал большой и всё возрастающий объём «человеческого излишка» (human waste), то есть непригодных, неспособных к ассимиляции, избыточных и «нефункциональных» людей. Сами по себе эти две современные отрасли не будут работать, если их не дополнить ещё одной развивающейся отраслью, за228 Незавершённое приключение под названием Европа нимающейся «избавлением от человеческого излишка» (human-waste-disposal). Необходимо избавиться от «человеческого излишка», чтобы его накопление не достигло неуправляемых размеров, а европейская беспокойная и всеобъемлющая форма существования не задохнулась от собственных расходов или не обанкротилась, неспособная более нести такие затраты. На протяжении всей современной европейской истории от этого излишка удавалось избавляться. Во многих случаях он даже был использован благодаря избытку свободных пространств или земель, подходящих для опустошения или рассматриваемых в качестве таковых. На протяжении большей части современной европейской истории лишние и нежеланные люди вытеснялись за пределы европейских границ. Их вытеснение и обоснование расширяли область европейского приключения. Ненужные люди, изгои европейского приключения уносили с собой европейский авантюрный дух в свой новый дом на берегах Америки, Африки или Австралии. Миссионерские пункты, военные гарнизоны и торговые порты метрополий передавали европейское послание соседним землям. «Европеизация» периферийных частей земли началась и продолжилась, трансформируя их одну за другой в свалку для отходов метрополии. Европеизация планеты на протяжении нескольких столетий была эффективным глобальным (global) решением социальных и демографических проблем, локально производимых в Европе. За исключением нескольких малодоступных областей, вся планета была переделана по европейскому образцу и, с готовностью или без, подчинена трансгрессивной модели существования, которая вначале захватила Европу, а потом распространилась и на самые дальние уголки мира. К этому времени европейская миссия завершилась, хоть и не всегда с теми результатами, о которых мечтали пророки и адвокаты человеколюбивого, уютного и гостеприимного мира всеобщего объединения человечества (allgemeine Vereinigung der Menschheit), яркого мира света (lumières), справедливости и равенства, мира, управляемого законом, гармонией и человеческой солидарностью. «Действительно выполненная миссия» стала не чем иным, как глобальным распространением принудительного, навязчивого и вызывающего зависимость порыва упорядочивать и переупорядочивать (кодовое название «модернизация»). Она оказывала непреодолимое давление с тем, чтобы дискредитировать прошлые и настоящие способы зарабатывания на жизнь, лишив их ценности поддержания и способности улучшения качества самой жизни (кодовое название «экономический прогресс»). Эти две особенности европейского дома (specialités de la maison européеnne) несут ответственность за наиболее интенсивную поставку «человеческих излишков». 229 Зигмунт Бауман *** Продемонстрировав блестящее понимание условий возникновения и поведения «ненужных» и «маргинализированных» людей, замечательный польский исследователь Стефан Чарновскиn описал их как «деклассированных (declasées) индивидов, не имеющих определённого социального статуса, считающихся лишними с точки зрения материального и интеллектуального производства и воспринимающих себя в таком качестве»9. «Организованное общество» воспринимает их как «хапуг и непрошенных гостей, обвиняя, в лучшем случае, в необоснованных претензиях и праздности, а часто – во всех видах злонамеренности, таких как плетение интриг, мошенничество и жизнь на грани преступления, – и при этом всегда в паразитировании на теле общества». Оказавшись ненужными, эти люди попадают в безнадежную ситуацию. Если они пытаются соответствовать ныне воспеваемому образу жизни, то их сразу же обвиняют в лживой претенциозности и желании получить незаслуженную награду – если только не в преступных намерениях. Если же они открыто возмущаются и отказываются прославлять образ жизни довольного большинства, которое они рассматривают как причину собственного невезения и лишений, то это сразу же приводят как доказательство того, о чём избранные или самозваные выразители «общественного мнения» «всегда говорили», а именно, что лишние [люди] – это не просто чуждый элемент, а раковая опухоль, питающаяся здоровыми тканями общества. «Лишние» люди сегодня повсеместно появляются в огромном количестве. Даже в таких закоулках мира, которые ещё совсем недавно служили фильтром для европейского прироста населения. Сегодня в разных частях планеты возникают новые фабрики человеческого излишка, в то время как старые фабрики продолжают работать на полную мощность. Однако мощности, предназначенные для замены и переработки данного излишка, заметно сократились. Старые, так называемые «государства всеобщего благосостояния» задыхаются под тяжестью новых задач, в то время как новые фабрики излишка (fabric of waste) строятся и развиваются в отсутствие новых площадок для «размещения излишка» (waste-disposal). В результате, с Европой произошли (происходят) две вещи. Во-первых, больше не осталось территорий для размещения «человеческого излишка», который продолжает производиться. Бывшие «безработные» (которые носили это имя, пока их рассматривали как людей, временно оставшихся без работы в государстве, измеряющем свою мощь количеством активных производителей; людей, которые переведены на время в «резервную армию труда» в ожидании n 230 Стефан Чарновски (Czarnowski, 1879–1937) – польский социолог и историк культуры. Незавершённое приключение под названием Европа возвращения к активной службе, как только экономика восстановится после кратковременного спада) в настоящее время превращаются в «уволенных по сокращению штата» (то есть в людей, в которых не нуждаются для сохранения баланса в экономических отчётах; в людей, в отсутствие которых жизненный уровень нации будет намного выше, чем с ними). В отличие от тех, кого переводили в «резервную трудовую армию», попадание в категорию «уволенных по сокращению штата» скорее выглядит как пожизненное заключение без права досрочного освобождения, чем временное невезение. Заокеанские разгрузочные земли для произведённого дома излишка уже недоступны, в то время как перспективы переработки этих излишков дома, мягко говоря, туманны. Существующие в наше время перерабатывающие ресурсы, изначально созданные для других целей, просто не справятся с новыми задачами. Они не обладают достаточной силой для работы такого масштаба. Накопление произведённых дома «уволенных», их повторное принятие в общество потребления, в котором они были, как «дефектные», негодными потребителями, высланными и отнесёнными в категорию «низших слоев общества», также невозможно. Не похоже, что можно заручиться общественной поддержкой в вопросе возвращения резервных производителей к активной службе. Великое европейское изобретение – «социальное государство» (обычно ошибочно называемое «государством всеобщего благосостояния», или état providence) – зародилось в контексте суверенного государства, которое полностью управляло «национальной экономикой» и распоряжалось финансами. Оно выразило намерение основать законность государства на страховании граждан от последствий повсеместного сокращения, исключения и отвержения. Социальное государство обещало внести уверенность и безопасность в жизнь, которой в ином случае управляли бы хаос и случайность. Если несчастный спотыкался и падал, то рядом всегда оказывался кто-то, готовый помочь ему опять встать на ноги. Сегодня социальное государство отступает на задний план. Оно возникло как локальное дополнение к глобальной, внешней и экстенсивной индустрии по «переработке и замещению излишка» (waste disposal-and-recycling). Оно и воспринималось как такое дополнение, будучи задуманным для решения глобальных проблем, связанных с излишком. Точнее, оно должно было подчистить управляемую массу «человеческих излишков» после того, как «глобальные методы» завершили свою работу. Социальное государство не должно было заменить собой такие «глобальные методы», а также не должно было брать на себя весь суммарный объём остатка, как только «глобальные методы» окажутся недоступными. И менее всего оно обязывалось брать на себя «человеческий излишек», как и находить для него место, «излишек», производимый ещё в боль231 Зигмунт Бауман шем количестве в других странах, вступающих сейчас в стадию модернизации. С возникающими на современном этапе проблемами социальное государство не в состоянии справиться. Простое расширение средств обслуживания здесь уже не поможет. Европа, однако, должна как-то приспособиться к постоянному (возможно, даже неустранимому) присутствию большой массы людей, надолго выброшенных за пределы экономического круговорота, людей, ненужных в качестве производителей и бесполезных как покупатели. Сегодня таких людей называют «внеклассовыми». Это имя присваивается той категории людей, для которых закрыт путь к успеху. Считается, что причиной является неспособность или нежелание перестроиться. Если проблема в отношении «людей из низших слоёв общества» состояла в том, чтобы повысить низкий статус или поощрить попытки самим выкарабкаться из низов, используя собственную находчивость и усердие, то проблема, связанная с «внеклассовыми» людьми, состоит в том, чтобы удержать их на безопасном расстоянии от «обыкновенных» людей и избежать убытков. Проблема «низших слоёв» превратилась одновременно в социальную и политическую проблему. В общем и целом, в проблему закона и порядка. «Человеческий излишек» был переквалифицирован и перемещён из сферы социальной в область уголовной и исправительной политики, туда же направились общественные фонды, выделенные для решения проблем. Все эти перемены и неудачи, которые являются раздражающими и болезненными внутри Европы и на её глобальных аванпостах, усугубляются в частях мира, «европеизированных» совсем недавно, которые только сейчас (на уже «заполненной» планете, без доступных «свободных пространств») сталкиваются с прежде не известным феноменом «избыточного населения». Ни соседние, ни дальние страны не будут привлекать этот избыток, так же как невозможно будет, как это было раньше, заставать их принять и разместить его у себя. Те, кто «поздно вступил в (порождённую Европой) эпоху модерна» (latecomers������� to���� ������ mo��� dernity), оставлены вариться в собственном соку и искать локальные решения для глобально возникшей проблемы. Племенные войны и резня, увеличение числа «партизанских армий» и откровенных бандитских группировок, быстро сменяющих друг друга и уничтожающих в ходе этого процесса «избыточное население» (обычно безработных и молодёжь, не имеющую перспектив), – это один из вариантов «локального решения глобальной проблемы», которым пытаются воспользоваться те, кто «поздно вступил в эпоху модерна». Сотни тысяч людей изгоняются из своих домов, уничтожаются или вынуждены спасать жизнь бегством, покидая разрушенные и опустошённые страны. Вполне возможно, что наиболее активно развивающейся индустрией на пространстве «припозднившихся» является мас232 Незавершённое приключение под названием Европа совое производство беженцев. Недавно британский премьер-министр, предчувствуя или вторя настроениям, преобладающим в остальной части испуганной и обеспокоенной Европы, предложил этот как никогда избыточный продукт индустрии выгрузить «около их родины», временно создав постоянные лагеря (обманчиво названные «безопасными укрытиями»), для того чтобы удерживать «локальные проблемы» на локальном уровне и пресекать в зародыше попытки «опоздавших» последовать примеру пионеров модерна, искавших глобальные (и исключительно эффективные) решения для локально созданных проблем. Но сделано это должно быть, по меньшей мере, не за счёт Европы. Важно, однако, отметить, что попытки сдержать прилив «экономической миграции» в Европу не могут и скорее всего не смогут достичь стопроцентного успеха. Продолжительное страдание приводит миллионы людей в отчаяние, а в нашу эпоху глобализированного криминала мы едва ли можем надеяться на уменьшение числа преступников, жаждущих заработать доллар или несколько миллиардов, превращая безысходность в капитал. Поэтому миллионы мигрантов странствуют по маршрутам, когда-то проложенным людьми, выброшенными европейской теплицей модерна, – только в другом направлении и без помощи армий завоевателей, торговцев и миссионеров. Истинное значение результата этого процесса и его многочисленных влияний до сих пор не выявлено, осознать его нам ещё только предстоит. В данный момент Европа и её заморские филиалы (такие как Соединённые Штаты и Австралия) начинают искать решение новых и неизвестных прежде проблем при помощи тех средств, которые нечасто использовались в европейской истории. Это скорее внутренние, чем внешние средства, центростремительные вместо центробежных, имплозивные вместо эксплозивных. Эти средства походят на ограничения, которые направлены против нас самих, – барьеры, которые увенчаны рентгеновскими аппаратами, и замкнутый круг телевизионных камер, всё увеличивающееся количество служащих в иммиграционных бюро и пограничников снаружи, сеть иммиграционных законов по натурализации, направленных на содержание беженцев в строго охраняемых и изолированных лагерях или на возвращение назад задолго до того, как появится возможность потребовать статус беженца или политического заключённого. Короче говоря, эти средства ведут к закрытию собственных дверей, в то же время делая очень мало, если вообще что-то, для исправления ситуации, которая и вынудила это закрытие. 233 Зигмунт Бауман Наоми Кляйнo отметила ещё более сильную и более распространённую тенденцию (которая возникла в ЕС, а затем распространилась и на США), ведущую к укреплению этой «многоярусной региональной крепости».10 «Неприступный континент образован союзом государств, объединивших усилия для вытягивания подходящих торговых скидок у других стран, в то время как общие внешние границы патрулируются в целях сдерживания прилива людей. Но если материк на самом деле хочет оставаться крепостью, то необходимо впустить пару бедных стран за свои стены, чтобы было кому делать грязную работу и таскать тяжести». НАФТА – внутренний рынок США, расширенный для включения Канады и Мексики (как отмечает Кляйн, «после нефти иммигрантская рабочая сила становится топливом № 2 для юго-западной экономики» США), в июле 2001 был дополнен так называемым «планом Surp», согласно которому мексиканское правительство установило жесткий контроль над своей южной границей, тем самым эффективным образом остановив поток обнищавших людей, текущий из стран Латинской Америки в США. После этого сотни тысяч мигрантов были остановлены, взяты под стражу и депортированы мексиканской полицией, прежде чем успели достичь границы. Что касается крепости Европа, отмечает Наоми Кляйн, то «Польша, Болгария, Венгрия и Чехия являются крепостными постмодерна, занятыми на низкооплачиваемом производстве, где одежда, электроника и машины производятся за 20–25 процентов от затрат, необходимых для их производства в Европе». Внутри континентальной крепости установлена «новая социальная иерархия» в попытке решить загадку квадратуры круга – найти баланс между очевидным противоречием и не менее важными постулатами: между герметичными границами и свободным доступом к дешёвой, неприхотливой и покорной рабочей силе, готовой принять и исполнять всё, что ей будет предложено; или между свободной торговлей и потворством антииммиграционным настроениям – баланс, за который, как за соломинку, пытается ухватиться правительство, ответственное за ослабление суверенитета государств-наций. «Как можно оставаться открытым для бизнеса и закрытым для людей?» – вопрошает Кляйн. И отвечает: «С лёгкостью. Сначала надо расширить периметр. Потом ограничить возможности». Капиталы, которые Европейский Союз весьма охотно и не торгуясь перевёл в страны Восточной и Центральной Европы, подавших заявку на присоединение, были ассигнованы на укрепление их восточных границ. o p 234 Наоми Кляйн (Klein) – канадская журналистка, автор ряда книг и статей. Её книга No Logo многими была воспринята как манифест антиглобалистского движения. «Юг» (исп.). Незавершённое приключение под названием Европа *** Самое время вернуться к нашему вопросу: означает ли всё это, что вековое европейское приключение близится к своему завершению? Лепениес, судя по всему, именно так и думает. По крайней мере, уже во фрагменте, процитированном выше, он обратил внимание своих слушателей на тот факт, что Европа, по крайней мере в долгосрочной перспективе, потеряла не только ориентиры, но и желание их восстановить или создать новые. Он предупредил, что потеря качеств, которые всегда были торговой маркой Европы, лишило её статуса привлекательного примера для других обитателей планеты. Можно даже продвинуться на шаг дальше Лепениеса, предположив, что Европа потеряла зрение (дальновидность). Хуже того, Европа потеряла порыв и волю к приключениям. Во всяком случае, создаётся именно такое впечатление, когда слушаешь людей, избранных европейскими государствами, чтобы говорить и действовать от их имени. Читая текст Маастрихтского соглашения – документа, обрисовавшего будущее Европы и цель, над воплощением которой трудятся сегодня полмиллиарда европейцев, – вряд ли кто-то будет переполнен «конституционным патриотизмом» того типа, в котором Юрген Хабермас обнаружил возможную обезвреженную версию национальных и общественных чувств, или каким-либо другим сильным чувством, за исключением скуки… Если этот или последующий «Договор о вступлении» является современным эквивалентом «Коммунистического манифеста», «Декларации прав человека и гражданина» или «Американской декларации независимости», то остаётся мало надежд на возможность следующей главы европейского приключения, на Европу как закваску общей человеческой истории… Европейцы вместе с американцами и японцами сегодня являются самыми страстными и неутомимыми путешественниками. «Количество миль на человека в год», приходящееся на европейцев, наверно, многократно превышает число, которым могут похвастаться жители других континентов. Но Европа нацелена вовнутрь себя. Обращение к остальному миру больше не является её миссией. Сейчас это место туристических поездок. Но только при условии, что там быстро обслуживают, официанты улыбаются, удобства в полном порядке, снабжение хорошего качества, а цены умеренны. Туристы редко вступают в разговоры с местными жителями. Если они и спорят, то большей частью по поводу цен на рынках. Основой отношений туристов и коренного населения является не что иное, как обслуживание-за-деньги. Мы встречаемся как покупатели и продавцы – конечно, с улыбкой, но, знаете ли, ничего личного… По окончании сделки мы разойдёмся, и каждый из нас уйдёт своим путём… Торговля – вот что объединяет нас, и давайте оставим всё остальное там, где оно и должно быть – в 235 Зигмунт Бауман тишине. То, что ты и я можем предложить друг другу, имеет рыночную стоимость, и кто такие мы с вами, чтобы подвергать сомнению решения рынка? Не все европейцы (или американцы) путешествуют по миру как туристы. Многие едут в дальние страны, чтобы продавать. В некоторых случаях продуктом для продажи выступает собственная страна или континент, а также право рассматривать и обращаться с остальным миром как собранием туристических мест и торговых представительств. Наоми Кляйн как раз и описывает один из таких опытов. Перед Шарлот Бирс, заместителем по общественной дипломатии и общественным вопросам, администрация США поставила задачу «тщательно изучить имидж Соединённых Штатов в других странах»11: «Когда Бирс была в Египте в январе 2002 года с целью улучшить образ Соединённых Штатов среди тех, кто в арабском мире формирует общественное мнение, дело не заладилось. Мухаммед Абдель Хади, издатель газеты Al Ahram, покинул встречу с Бирс, разочарованный тем, что она, казалось, больше внимания уделяет неопределённым американским ценностям, чем конкретной политике США. “Как бы вы ни старались им объяснить, – сказал он, – они всё равно не поймут”». Кляйн указывает на то, что США придерживаются принципа односторонности в сфере международного права, на увеличение неравенства в распределении богатства в планетарном масштабе, на наступление на иммигрантов и нарушение прав человека, чтобы сделать вывод, что «проблема Америки не в её бренде, а в её продукте». «Если они разгневаны, а таких несомненно миллионы, то это потому, что они видят, как политики США не выполняют своих обещаний». То, что «они» видят и принимают к сведению, это не только удобные кроссовки Nike и соблазнительные куклы Барби, ставшие представителями американских (западных) ценностей в мире. «Они» знают из личного опыта, «что начало пути кроссовок Nike» может быть «обнаружено на унизительных полулегальных фабриках Вьетнама, а небольшой комплект одежды для Барби – в детском труде на Суматре…». И это только несколько примеров деятельности многонациональных корпораций, которые, будучи защищёнными борьбой, ведущейся за распространение американских (и западных) ценностей, «весьма далеки от выравнивания глобального поля при помощи работы и технологий для всех, они используют наиболее бедные страны на планете … для получения невообразимых доходов»12. Мало кто на земле не слышал послания о демократии и свободе, которое повторяется при каждом удобном случае и без оного. Но если те, кто истолковывает эту весть, исходят из поведения «посланников», то их можно простить за то, что они понимают «свободу» как эгоизм, а «демократию» – как «право сильного». Их можно простить за косые взгляды, которые они бросают на посланников, и особенно на пославших их, кого они подозревают ответственными за этот обман. 236 Незавершённое приключение под названием Европа Можно понять, почему они настаивают на таком переводе, который отвергает явное содержание послания. Они прекрасно знают из собственного повседневного опыта, что капитуляция перед властью мирового рынка, который объявляется условием демократии и свободы, беспощадная конкуренция, которую эта власть ставит на место дружественного сотрудничества и поддержки, и последующая массовая приватизация и дерегулирование лишают их рабочих мест, ферм, домов и общины и мало что дают взамен – ни школ, ни больниц, ни электричества, ни питьевой воды, более того – ни человеческого уважения, ни перспектив возможного улучшения ситуации в обозримом будущем. Таким образом, рынок претендует на глобальное доминирование. Процитируем Наоми Кляйн в последний раз: «Армии голодающих, уволенных людей, в чьих услугах больше не нуждаются, чей стиль жизни сброшен со счетов как “отсталый”, чьи основные потребности остаются неудовлетворенными. Ограда социального исключения может сбросить со счетов целую индустрию, им ничего не стоит списать со счетов целую страну, как это случилось с Аргентиной. А в случае с Африкой целый континент был изгнан в глобальный теневой мир, стёрт с карты и из новостей. Он проявляется только во время конфликтов, когда на его жителей глядят с подозрением как на потенциальных членов народного ополчения, предполагаемых террористов или антиамериканских фанатиков»13. Рассматривать жертвы безудержной глобализации финансовых и потребительских рынков в качестве первой и основной угрозы безопасности, а не в качестве людей, которым необходима помощь и которые имеют право на компенсацию за разрушенную жизнь, в определённом смысле выгодно. Во-первых, это позволяет избавиться от угрызений совести. Ведь речь идёт о врагах, «презирающих наши ценности» и не выносящих вида мужчин и женщин, живущих в условиях свободы и демократии. Во-вторых, это позволяет перенаправить те фонды, которые иначе были бы «потрачены впустую», на уменьшение неравенства и ослабление враждебности, на укрепление военного производства, продажу оружия и увеличение прибыли акционеров, улучшая тем самым статистику занятости и поднимая уровень оптимизма. Наконец, что не менее важно, это укрепляет слабеющую потребительскую экономику, преобразуя распространённый страх в отсутствие безопасности в побуждение купить небольшую крепость на колёсах (например, абсолютно ненадёжный как снаружи, так и внутри, работающий на газе и всё ещё дорогой «Хаммер» или спортивный внедорожник) или устанавливая непопулярные, но выгодные «права на бренд» или «права на интеллектуальную собственность», под предлогом предотвращения получения доходов, которые могут быть извлечены при помощи нарушения этих прав террористическими ячейками. 237 Зигмунт Бауман Это также позволяет правительствам избавиться от раздражающей необходимости демократического контроля, выдав политический и экономический выбор за военную необходимость. Америка, как всегда, берёт инициативу в свои руки, но за ней пристально наблюдают идущие по пятам европейские правительства. Недавно Уильям Беннетq в своей книге, удачно названной Почему мы сражаемся: моральная чистота и война с терроризмом, очень точно подметил, что «угроза, с которой мы сегодня сталкиваемся, является и внешней и внутренней. Она внешняя, поскольку существуют государства и группы, желающие атаковать Соединённые Штаты, и внутренняя, поскольку обусловлена наличием людей, пользующихся этой возможностью, чтобы продвинуть лозунг “Осуди Америку первым”. Этот страх обусловлен или ненавистью к американской идее свободы и равенства, или непониманием этих идей и того, как их воплощают»14. Беннет убеждён, что доминирование идеологического глянца над практикой уже достигло полного размаха. Взять хотя бы «Патриотический акт США», недвусмысленно направленный на людей, чья политическая деятельность защищена конституцией, и тем самым легализирующий скрытое наблюдение, обыски без ордера, равно как и другие способы вторжения в частную жизнь, а кроме этого заключение в тюрьму без обвинения и предание военному трибуналу. Неудивительно, что Европа и её разбросанные по миру отпрыски всё более погружаются в самих себя. Мир больше не выглядит манящим. Он оказался недружелюбным, предательским, дышащим ненавистью. Этот мир необходимо сделать безопасным для нас, туристов. Это мир, постоянно находящийся в состоянии «войны цивилизаций», мир, в котором любой шаг сопровождается риском. Туристы, осмелившиеся пойти на этот риск, должны быть начеку и оставаться бдительными. Но самое главное, они должны держаться безопасных убежищ, обозначенных и защищённых троп, проложенных ими в этой дикой местности для собственного использования. Забывший эти наставления действует на свой риск и страх и должен быть готов выдержать неминуемые последствия. В ненадёжном мире безопасность – это название игры. Это основная цель игры и её высшая ставка… Это ценность, которая на практике, если не в теории, «отталкивает» все остальные ценности, включая ценности наиболее дорогие «нам» и ненавистные «им», и являющиеся основной причиной «их» желания нанести «нам» вред. В таком ненадёжном мире, как наш, личная свобода слова и действия, право на частную жизнь, доступ к истине и все те вещи, которые обычно мы связываем с демократией и под знаменем которых идём на войну, должны быть приведены в порядок и взвешены. По крайней мере, это то, чем руководствуется официальная версия, подтверждённая практикой. Правда состоит q 238 Уильям Беннет (William J. Bennett) – американский политик, с 1985–88 – министр образования. Незавершённое приключение под названием Европа в том, что мы не можем эффективно отстаивать наши свободы дома, отгораживаясь от всего остального мира, уделяя внимание только внутренним делам… Есть веские причины полагать, что в глобализированном мире, когда положение каждого повсюду обусловливает положение других и в свою очередь определяется положением других, невозможно «сепаратно» владеть свободой и демократией – в одной отдельной стране или нескольких избранных странах. Судьба свободы и демократии в каждой стране определяется и устанавливается на мировом уровне – и только на этом уровне их можно защитить с реальными шансами на долговременный успех. Ни одно государство, даже хорошо вооружённое, уже не в силах решительно и безоговорочно защитить определённые внутренние ценности, отворачиваясь от мечтаний и стремлений тех, кто находится за его пределами. Но мы, европейцы и потомки европейцев, осевшие в бывших заморских колониях, отворачиваемся. Мы держимся за наше богатство и умножаем его за счёт бедного внешнего мира. Достаточно привести всего лишь несколько примеров. Если 40 лет назад доход 5% самой богатой части мирового населения был в 30 раз больше, чем доход 5% самой бедной части, то спустя 15 лет это цифра увеличилась до 60, а в 2002 достигла 114. Жак Атталиr в книге Путь человека15 отмечает, что половина мировой торговли и большая часть мировых инвестиций составляют доход всего 22 стран, в которых проживает не более 14% мирового населения, в то время как 49 наиболее бедных стран, в которых проживает 11% населения мира, получают менее 1% от мирового продукта – практически столько же, сколько составляет суммарный доход трёх самых богатых людей планеты. 90% всего мирового капитала находится в руках 1% жителей планеты. Танзания за год получает прибыль в USD 2.2 млрд, которые нужно разделить на 25 млн человек. Доход банка «������������������������������������������������� Goldman������������������������������������������ Sachs������������������������������������ ����������������������������������������� » составляет ����������������������� USD�������������������� 2.6 млрд в год, которые приходятся на 161 владельца акций. Европа и Соединённые Штаты тратят каждый год ��������������������������������������������������������������� USD������������������������������������������������������������ 17 млрд на корм скоту, в то время как, согласно мнению экспертов, не хватает всего ������������������������������������������������� USD���������������������������������������������� 19 млрд, чтобы решить проблему голода в общемировом масштабе. Джозеф Стиглиц как-то напомнил министрам торговли, готовящимся к встрече в Мексике16, что средняя денежная субсидия на корову в Америке «равна уровню бедности в 2 доллара, на которые пытаются прожить миллиарды людей». В то же время дотации на хлопок в размере USD 4 млрд, выплаченные Америкой 25 тысячам обеспеченных фермеров, «обрекают на нищету 10 миллионов африканских фермеров и намного превосходят скупую помощь, предоставляемую Соединёнными Штатами некоторым из пострадавших r Жак Аттали (Jacques Attali) – французский экономист, 1981–1991 – советник президента. В 1991 стал первым президентом Европейского банка реконструкции и развития. 239 Зигмунт Бауман стран». Периодически приходится слышать, как Европа и Америка публично обвиняют друг друга в «несправедливых сельскохозяйственных правилах». Однако, как подмечает Стиглиц, «ни одна из сторон не желает идти ни на какие уступки». И это несмотря на то, что ничто, кроме существенных уступок, не убедит других перестать смотреть на бесстыдное проявление «грубой экономической власти США и Европы» иначе, как на усилия отстоять привилегии привилегированных, защитить богатство богатых и удовлетворить их интересы, которые, по мнению остальных, сводятся к накоплению всё большего и большего богатства. *** Что ж, в третий и последний раз позвольте мне повторить вопрос: закончилось ли историческое время европейского приключения, а точнее, время для Европы как приключения (adventure)? Мне кажется, что никогда до этого Европа так не нуждалась в смелости (needed to be adventurous) как сейчас. И никогда ранее наша планета, которую привилегированная и богатая Европа делит с несчастной и обездоленной частью человечества, не нуждалась в смелой Европе так, как сейчас. Она нуждается в Европе, обращённой за свои пределы; в Европе, настроенной критически к существующей сегодня тенденции к бездействию и самоизоляции; в Европе, соверщающей усилие для того, чтобы преодолеть нынешнее состояние и, кроме того, нынешнее состояние остального мира. Короче говоря, мы нуждаемся в Европе, выполняющей миссию планетарного значения. 8 марта 1994, обращаясь с речью к Европейскому парламенту, Вацлав Гавел, в последующем президент Чешской Республики, сказал, что Европа нуждается в хартии, которая определила бы, что означает быть Европой или быть европейцем. Она нуждается в «хартии европейской идентичности» для наступающей эры, эры планетарной борьбы за то, чтобы обрести контроль над неизбежной и неуклонной унификацией [человечества]. Я сказал бы, что мы нуждаемся в манифесте европейского raison d’êtres в эру глобализации. Одной из групп, последовавшей призыву Гавела, был «Союз “Европа” Германии» («Europa-Union Deutschland»t), в результате чего 28 октября 1995, во время 41 союзного конгресса в Любеке17, была принята «Хартия европейской идентичности». После ожидаемой преамбулы, посвящённой «Европе как общности судьбы», следуют два раздела, заслуживающие более пристального внимания. В первом разделе речь идёт о «Европе как общности ценностей»; здесь перечисляются такие ценности, как толерантность, человечность и братство, в качестве s t 240 «Право на существование» (франц.) Немецкая секция Союза европейских федералистов. Незавершённое приключение под названием Европа самых главных ценностей, которые Европа «распространяет по всему свету», становясь таким образом «матерью революций в современном мире». Авторы Хартии соглашаются, что на всём протяжении долгой истории Европа «неоднократно ставила эти ценности под вопрос и действовала против них», но при этом они верят в то, что сейчас, после эпохи «необузданного национализма, империализма и тоталитаризма», эти ценности, укоренённые в классической древности и христианстве, помогут Европе принять «свободу, справедливость и демократию в качестве основополагающих принципов международных отношений». Второй раздел посвящён Европе как «общности ответственности». В нём отмечается, что в «современном мире, который сделал нас всех взаимозависимыми, Европейский Союз несёт особую ответственность» по отношению ко всему остальному миру, и только «посредством сотрудничества, солидарности и единства Европа сможет оказать эффективную помощь в решении мировых проблем». Европейский Союз «должен подать пример, особенно в отношении защиты прав человека и меньшинств». Ко всему этому хотелось бы добавить, что он должен подать пример защиты огромной части человечества от последствий привилегированности, которой обладает незначительное меньшинство населения планеты, включающее и Европу. Читая Хартию, можно задуматься о том, что здесь скорее сказано, чем может быть сделано. «Хартия европейской идентичности» является утопическим документом. На самом деле, так оно и есть, но «европейская идентичность» была утопией на протяжении всей истории. Возможно, именно утопический характер, окончательно ещё не достигнутый, раздражительно неуловимый и критический по отношению к себе, был единственным устойчивым элементом, сделавшим европейскую историю (history) последовательным и в конечном счёте цельным повествованием (story). Во все времена Европа находилась в состоянии непрерывных экспериментов и приключений. И в настоящее время она находится в том же состоянии: она колеблется между тем, какой «должна» быть планета – гостеприимной, дружественной, предназначенной оберегать устойчивое развитие всех её обитателей, – и тем, какова она «есть» – с углубляющимся неравенством, племенной враждой и межплеменными барьерами, планетой, которая всё меньше приспособлена для обитания человека. В одной из своих аналитических статей18 Юрген Хабермас очень хорошо подметил, что «искусственные условия, в которых возникло национальное самосознание, выступают против пораженческого допущения, что форма гражданской солидарности между чужаками может быть порождена только в пределах нации. Если такая форма коллективной идентичности была чрезвычайно абстрактным скачком от локального и династического к национальному и демократическому самосознанию, то почему этот познавательный процесс не 241 Зигмунт Бауман может быть продолжен?» Он также замечает, что «национальное государство не в состоянии вернуть бывшую силу, прячась в своей оболочке. Политика самоустранения, позволяющая государству просто влиться в постнациональную систему, не более убедительна. И постмодернистский неолиберализм не в состоянии объяснить, как нехватка в способности управлять и в легитимации, возникающая на национальном уровне, может быть компенсирована на наднациональном без привлечения новых форм политического регулирования». В результате ли умысла или ошибки, но другой скачок, подобный тому что совершила Европа в бурную эпоху на пороге модерна, оказывается на повестке современного поколения европейцев. Он указывает на пространство, в котором сегодня идёт борьба за выживание и решается судьба всех частей света. Планетарное пространство, которое до сих пор остаётся политически пустым и этнически запутанным, испытывает недостаток «способности управлять» и характеризуется отсутствием легитимной власти, оно поражено колоссальным «дефицитом демократии». Среди других потрясений, которые возникли на исходе родовых мук нового времени, Европа изобрела нации. Теперь же среди потрясений, которыми отмечена жизнь нынешнего поколения, потрясений, которые могут оказаться родовыми муками того, что Кант назвал всеобщим объединением человечества (allgemeine Vereinigung der Menschheit), задача состоит в том, чтобы изобрести человечество. Ричард Рорти, великий либеральный мыслитель нашего времени, полагает19, что «марксисты были правы по крайней мере в одном. Основным политическим вопросом остаётся взаимоотношение между богатыми и бедными». Рорти отмечает, что «в сегодняшнем обществе существует глобальный класс, принимающий все главные экономические решения, и делает он это совершенно независимо от существующего законодательства a fortiori, тем более вне зависимости от желания избирателей или отдельной страны… Отсутствие глобальной политики ведёт к тому, что самый богатый класс может руководствоваться в принятии решений только собственными интересами». Результаты этого, позвольте мне добавить, можно наблюдать повсеместно. Одна самоуправляемая ракета стоит USD 800 тыс. Стоимости двух таких ракет хватило бы, чтобы прокормить 270 тыс. семей в Анголе, при этом в первые четыре дня вторжения в Ирак было запущено 320 таких ракет. По подсчётам ЮНЕСКО, 110 млн детей не имеют доступа к образованию. Обеспечение образования для них обошлось бы в USD 5.6 млрд в год. Предварительная сумма, назначенная американским конгрессом для финансирования войны в Ираке и увеличившаяся по ходу дела в несколько раз, составила USD 56 млрд. Вольф Лепениес, подводя итог своего выступления в Познани, выразил уверенность в необходимости появления «второго Маркса», который вместо 242 Незавершённое приключение под названием Европа работы Капитал: критика политической экономики написал бы книгу под названием Финансовый рынок: критика деполитизированной экономики. Лепениес утверждает, что от реполитизации экономики зависит выживание демократии. Мы вправе добавить, выживание не только демократии, но и продолжение существования вида, создавшего и признавшего её подходящей, зависят от этого скачка – от «Великой трансформации номер два», посредством которой необходимо продолжить первую великую трансформацию, инициированную Европой несколько столетий назад.20 Конец истории – это миф. Или неизбежная катастрофа. Следовательно, таков конец европейского приключения, Европы как приключения. Примечания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 12 13 Nooteboom С. L’Enlèvement d’Europe. Calmann-Levy, Paris, 1994. Warleigh А. Democracy in European Union: Theory, Practice and Reform. Sage, 2003. См. также: V. Goddard, J. Llober, C. Shore (eds.) The Anthropology of European Identity and Boundaries in Conflict. Berg, Oxford, 1994; Norman D. Europe: A History. Pimlico, London, 1997. Pomian К. Europe et ses frontières. In: L’Europe retrouvée. Editions de la Baconière, Neuchâtel, 1992. Rougemont D. de. L’aventure mondiale des Européens (orig. 1962). In: Écrits sur l’Europe. Editions de la Difference, Paris, 1994. Lourenço Е. De l’Europe comme culture. In: L’Europe introuvable.������������� Editions Métailié, Paris, 1991. Montaigne M. de. The Complete Essays. Penguin, 1991. Р. 231. Lepenies W. Koniec wieku Europy? In: Europa Wschodu i Zachodu. Poznań, 1998. Kapuściński R. Lapidarium V. Warszawa, 2002. Czarnowski S. Ludzie zbędni w służbie przemocy (1935) // Dziela. ������������� V������������ ol. II������ .����� Warszawa, PWN, 1956. Р. 186–193. Klein N. Fortress Continents // The Guardian. 2003. 16 January. Р. 23. Klein N. America is not a Hamburger // Los Angeles Times. �������������������� 2002. �������������� 10 March. ���� Воспроизведено в: Faces and Windows. London, Flamingo, 2002. Klein N. No Logo. London, Flamingo, 2001. Fаces and Windows. Rampton S., Stauber J. Trading on Fear // The Guardian Weekend. 2003. 12 July. Attali J. La voie humaine. Fayard, 2004. Stiglitz J. Trade Imbalances // The Guardian. 2003. 15 August. См.: http://www.eyrplace.org/diba/citta/cartaci.html. Habermas J. The Liberating Power of Symbols. Polity, Cambridge, 2001. Rorty R. Globalization, the Politics of Identity and Social Hope. In: Philosophy and Social Hope. Penguin Books, 1999. 243 Зигмунт Бауман 20 Bauman Z. In Search of Politics. Cambridge, Polity, 1999; Bauman Z. Society under Siege. Cambridge, Polity, 2002. Перевод с английского Ольги Яцкевич Об авторе Зигмунт Бауман родился в 1925 в Познани. Дважды покидал Польшу: во время Второй мировой войны в связи со своим еврейским происхождением и в 1968 в силу своих интеллектульно-диссидентских взглядов, воспринимавшихся коммунистическим режимом как угроза. С 1972 возглавляет факультет социологии Университета Leeds в Великобритании, проходя профессорские стажировки в США, Австралии и Новой Зеландии, и сохраняет звание Professor Emiritus после своего ухода в 1990 г. Зигмунт Бауман – один из наиболее оригинальных польских социологов и современных философов. Автор более 40 польских и английских книг, переведённых на десятки языков, доктор honoris causа Университета Осло и professor emiritus Университета Варшавы и Университета ��������������������������������������������� Leeds (Великобритания)����������������������� . В 1990 удостоен европейской премии Амалфи, а в 1998 – премии Т. Адорно. 244 Ян Паточка Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века В ранней незавершённой работе Конституция Германии Гегель пишет, что ни единство законов, ни единая религия (по крайней мере, в Новое время) не определяют государство. Однако были эпохи, когда и «в холодной Европе» религия «неизменно оказывалась основополагающим условием возможности государства». И эти «узы» время от времени становились настолько сильными, что даже чуждые народы, живущие в национальной ненависти, неожиданно объединялись в единое государство, «которое как единая мировая сила и как государство обретало отечество для временной и вечной жизни в борьбе против Востока, будучи в единстве народом и господом, а не просто священной христианской общиной, или коалицией, объединяющей интересы во имя достижения своих целей»1. Это значит, что, в версии Гегеля, на пороге XIX века и в преддверии последнего коллапса Римской империи германской нации Европа теряет статус государства – хотя некогда им и была. Европа означает здесь Западную Европу, объединённую когда-то крестовыми походами против исламского мира (хотя в четвёртой экспедиции также и против Византии). Это единство возникло и окрепло в войне, и поэтому его сознание сохранилось также и в эпоху европейского партикуляризма и распада [Европы] на современные суверенные государства. Однако ни у Гегеля, ни у остальных европейцев его времени не было ни малейшего сомнения насчёт духовного происхождения этого европейского единства, и это, конечно же, правильное представление. В чём же оно заключается? Закалённое военными экспедициями единство Западной Европы, изнутри определяемое дуализмом духовной и светской власти при одновременном 245 Ян Паточка верховенстве власти духовной, является одним из вариантов идеи sacrum���� ��� imperium, которая известна в трёх версиях: западноевропейской, византийской и исламской [священных империй]. Идея sacrum imperium в христианской версии выкристаллизовалась на основе исторической теологии, содержащейся в Послании к евреям и Послании к римлянам апостола Павла. Борьба внутри доживающей свой век Римской империи – как на её периферии, так и в средиземноморском центре – за жизненный нерв тогдашнего мира получила в VII в. духовное определение благодаря расколу на Восток – Запад и экспансии арабского мира.2 Западная Европа противостоит византийскому Востоку прежде всего политически, а затем и духовно в борьбе за церковную независимость и автономию по отношению к светской власти, которые удалось отстоять только здесь. Исламская версия [империи], связанная с идеей профетизма и поэтому близкая еврейской концепции3, в ходе крестовых походов потеряла конкурентоспособность так же, как и – на некоторое время – Византия. В результате вновь созданное образование посвятило себя заботе о собственной организации, её внутренней разработке и консолидации, а также колонизации северо-восточного пространства, которое с ослаблением Польши и исчезновением Киевской Руси после татарского нашествия не имело никакой основы для опоры и объединения. Чем же всё-таки была идея sacrum imperium в своей сердцевине? Ничем иным, как духовным наследием Римской империи, пришедшей к упадку в результате отчуждения государственной организации от общества, на которое она опиралась. Римская империя, несомненно, символизирует завершение эпохи эллинизма с его империализмом, который поддерживался убеждённостью в превосходстве греческого духа и его свершений. Однако все эти свершения, без исключения, были осмыслены внутри греческой философии, которая в эллинистической фазе, по крайней мере в рамках самого зрелого направления – стоицизма, – видела одной из главных своих задач преобразование классической философии сократовско-платоновской традиции в воспитательный фермент универсального государства, чьей наиболее удачной версией, в конце концов, оказался Рим. Разумеется, Рим определяется тем, что он одержим идеей империи, то есть идеей государства в аутентичном виде, не зависящем ни от этнического субстрата, ни от территории, ни от формы правления, или, по крайней мере, именно к этому типу государства устремлены все его военные и организационные усилия и именно в нём идея империи находит своё определение. Наиболее значимые фигуры Рима можно понять, только принимая во внимание воодушевленность целью, сформулированной в соответствии со сказанным выше. Однако в своих истоках Рим, по сути, не отличается от греческого полиса, с которым Рим отождествлял ещё Аристотель, а в самом (римском) полисе чем-то обычным и само собой разумеющимся, по крайней мере для 246 Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века образованных слоёв, становится стоически-платоновская идея воспитания, служащего всеобщему благу, универсальности, государству, в котором господствуют право и справедливость и которое основано на истине и созерцании. Цицерон и Сенека представляют литературные свидетельства этой самопонятности, а персонажи философских диалогов Цицерона репрезентируют тенденцию к отождествлению римской государственности с воспитательным идеалом, принадлежащим главному направлению эллинистической философии. Идея sacrum imperium является свидетельством, с одной стороны, провала этой программы, а с другой – её трансформации в новую форму: отнюдь не мирового государства Цезарей с его слишком человеческим колебанием между произволом и волей к справедливости, между естественным деспотизмом и «естественным правом», на которое опирается jus civilea, а града, непосредственно основанного в истине, который берёт начало не из этого, а из того мира, и норму и прообраз которого задаёт не человеческая, а божественная власть и божественная история, входящая в человеческую историю и втягивающая её в себя. Это означает, что наследие Рима само является продолжением того наследия, которое римское и эллинистическое государства переняли от греческого полиса и которое объединено стремлением к граду истины, достигнутой благодаря созерцанию, и к справедливости как высшей моральной идее классической философии. Сама эта идея, однако, вызрела в рефлексии о величии и закате полиса, о мировом значении и нищете греческого человека в типичных для его жизни общественных рамках, в которых он реализовывал себя вопреки простому количественному превосходству [соседей], чтобы затем ввиду недоверия, зависти и боязни того, что он будет побеждён и окажется в тени, дискредитировать и уничтожить сами эти рамки. Судьба истинного и справедливого человека, судьба человека, установившего для себя в качестве жизненной цели жизнь в истине, с необходимостью порождает идею нового человеческого сообщества: только в таком граде истины он сможет жить, без того чтобы погибнуть вследствие конфликта с действительностью. Мир в таком случае лежит во зле, и осуждение миром праведного человека становится приговором для самого мира. Однако человек справедлив и правдив потому, что заботится о душе. Наследие классической греческой философии находит своё выражение в заботе о душе. Забота о душе означает: истина никогда не дана раз и навсегда и не является делом созерцания, которое реализуется только в сознании; истина – это опыт всей жизни, контролирующей саму себя и делающей саму себя идентичной мыслительно-жизненной практике. В греческом мышлении забота о душе была доведена до совершенства в двух формах: мы заботимся о душе, чтобы она могла в абсолютной чистоте и при незамутнённом видении духовно странствовать по a Гражданское, или цивильное, право (лат.). – Прим. редактора. 247 Ян Паточка миру, в вечности космоса, и тем самым хотя бы короткое время вести тот способ существования, который присущ богам (Демокрит, позднее Аристотель); либо, наоборот, мы мыслим и познаём, чтобы сделать свою душу твёрдым кристаллом существования, кристаллом, ставшим, с точки зрения вечности, как сталь. Такое превращение души в кристалл существования является одной из возможностей сущего, имеющего в себе источник движения, выносящего решения о своём бытии и небытии, понятом как растворение в неопределённости инстинктов или непрояснённости традиции (Платон). Забота о душе – это практическая форма того открытия универсума и зрелого мыслительного отношения к нему, к которому пришла уже ионийская прафилософия. Здесь открытие космоса приняло форму философского идеала жизни в истине, которую, вслед за Э. Гуссерлем, последним великим диадохомb этого способа мышления, можно определить следующим образом: мнение должно следовать за созерцанием, а не наоборот. Отсюда становится понятным и доказывается посредством всего процесса возникновения Европы тезис того же философа о «своеобразии европейской культуры» как единственной из мировых культур, которая является культурой созерцания, культурой, в которой во всех существенных жизненных вопросах – и связанных с познанием, и практических – созерцание играет решающую роль. Это историческое образование будет всегда формироваться, по меньшей мере, с участием созерцания, и созерцание здесь заступает на место не-созерцательной, анонимной, уходящей в темноту традиции. В целом здесь следует сказать, что европейское наследство – это нечто тождественное, обнаруживающееся в разных формах и принимающее вид заботы о душе, пережившей две великие исторические катастрофы: распад полиса и распад Римской империи. И можно даже сказать, именно это наследие способствовало тому, что обе катастрофы трансформировались из чисто негативных явлений в попытки преодоления всего окостеневшего и потерявшего жизнеспособность в актуальных исторических условиях, в ходе приспособления и одновременно генерализации европейского наследства. В этой связи в Римской империи забота о душе приобретает форму стремления к правовым отношениям в рамках всей ойкумены, на которую империя по большей части распространяется реально и чей остаток она охватывает благодаря притязанию на него и своему влиянию. Западно-христианская sacrum imperium создаёт гораздо более широкое человеческое сообщество, чем сообщество римскосредиземноморское, и тем самым одновременно дисциплинирует человека и даёт ему внутреннюю глубину. В таком случае забота о душе, tês psychês epimeleia, – это то, откуда возникла Европа. Этот тезис можно отстаивать, не боясь обвинений в преувеличении. b 248 Приемник (греч.). – Прим. редактора. Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века Величайшим переломом в западноевропейской жизни, как представляется, был XVI век. С этого времени в противовес теме заботы о душе выступает вперёд новая тема, которая подчиняет политику, экономику, веру и науку и преобразует их в соответствии с новым стилем. Отнюдь не забота о душе, не забота о том, чтобы быть, а забота о том, чтобы иметь, забота о внешнем мире и овладении им становится доминантной. Этот текст, однако, не нацелен на то, чтобы развивать диалектику, присущую христианским жизнеописаниям, в которые с самого начала вплетена забота о том, чтобы иметь, т. е. воля к господству. Несомненно, экспансия Европы за изначальные границы, экспансия, которая пришла на смену простому подавлению конкурентоспособности внеевропейского мира, содержала в себе семена нового жизненного принципа, пагубного для старого. Направленная на Восток европейская экспансия не привела к изменению европейского стиля жизни. Изменение происходит на Западе в ходе борьбы с исламом, которая приводит к заокеанским открытиям и к заслуживающей удивления дикой погоне за богатствами мира, главным образом Нового света, оставленного на произвол европейской промышленной и военной организации, её вооружению и техникам.4 Только в комбинации с этой экспансией Европы на Запад политическое значение приобретает сущностное, воплощённое в Реформации изменение христианской практики жизни, которая из священной становится мирской. Это политическое значение обнаруживает себя в организации североамериканского континента с помощью радикально протестантских элементов. Не пройдёт и столетия, как Бэкон сформулирует совершенно новую идею знания и познания, глубоко отличную от той, которая определяла заботу, попечение о душе: знание – сила. Иначе говоря, только эффективное знание является действительным знанием, и то, что первоначально было значимым только для практики и производства, теперь значимо для знания вообще. Знание должно вернуть нас в рай, в рай изобретений и возможностей, которые нацелены на то, чтобы изменить мир и овладеть им в соответствии с собственными потребностями – при том, что потребности никак не определены и не ограничены. И вскоре уже Декарт скажет нам, что знание должно сделать нас господами и хозяевами природы. Государство, или, лучше сказать, государства становятся теперь (в противоположность средневековому пониманию, основывающему силу на авторитете, воплощённом в таком образовании, как Imperium Romanum Nationis Germanicae, – нечто среднее между институтом публичного и международного права) оборонительным и военным механизмом, служащим для обеспечения сохранности общественного имущества (как позже определит Гегель). Партикуляризм такого понимания государства привязан к определённым тенденциям средних веков, но в то же время в значительной степени выходит за их пределы. Организация экономической жизни с помощью модерных капиталистических 249 Ян Паточка методов, характерных для той же эпохи, формирует единство её принципиального стиля. С этого времени для осуществляющей экспансию Западной Европы уже не существует универсального связующего звена, универсальной идеи, которая могла бы в конкретном и действенном воплощении связать институции и авторитет: примат обладания перед бытием исключает единство и универсальность, и тщетны попытки заменить последние с помощью гегемонии власти. Политически это проявляется в новой международной системе отношений, в которой империя вытеснена из центра на восточную периферию. Центральное место всё больше и больше занимает Франция как строго организованная сила, представляющая континентальный противовес гигантски разросшимся доменам – Испании и Англии. А когда начинает давать о себе знать мощь молодой Америки, несущая в себе обещание новой формы организации [жизни], не знающей ни иерархии, ни эксплуатации или проявления насилия одних людей в отношении других, не только в Новом свете, но и во всей Европе появляется проблеск надежды на новую эпоху человечества. Однако почти в это же время сначала незаметно, а затем и более интенсивно Европа начинает испытывать давление Востока. Начиная с XVI века московская Русь вступает в византийское наследие восточного христианства, наследие имперской церкви, и присваивает её притязания. К этим притязаниям относится экспансия в пространстве неведомого размаха, приводящая к возникновению на до сих пор неопределённой восточной границе Европы [очага] могущественной, иерархически, сверху, имперски и императорски организованной власти, рубежи которой простираются вплоть до побережья азиатского континента. С этой минуты эта власть стремится определиться, обособиться и укрепиться в противоположность Западу, чтобы затем использовать его, угрожать ему, разложить его и овладеть им. Внутри остатка империи, раздробленной в результате Тридцатилетней войны (выгоды из которой извлекла Франция), концентрирующей внимание на Востоке и обеспокоенной турецкой опасностью, сначала не замечают роста этой гигантской массы, которая начиная с XVIII века ляжет тяжким грузом на плечи империи, а опосредованно и на плечи всей Европы. Затем Европа с невероятным усердием реструктурирует свои идеи, институты, способы производства, государственную и политическую организацию. Этот процесс, получивший название Просвещения, означал, по сути, приспособление прежней Европы к новому положению в мире, к экономике, принимающей планетарный размах, к проникновению европейцев в новые пространства с новыми, вытекающими отсюда требованиями к знанию и вере. Самым глубинным результатом всего этого движения стала современная наука – математика, естествознание, история – с присущими ей иными духом и типом знания в сравнении с духом предшествующей эпохи. Ренессансная наука Коперника, 250 Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века Кеплера и Галилея ещё связана отчётливым образом с античной theoria как моментом заботы о душе. Однако всё больше в самой науке, и прежде всего в математике, проявляется дух технического овладения [миром], универсальность совершенно иного типа – формализующая универсальность, которая незаметно делает результаты предпочтительней содержания, а господство – понимания. Эта наука всё больше раскрывает свой характер как техника, и поэтому всё больше склоняется к технологии и применению. И чем больше этот способ мышления пробивает себе дорогу, тем очевиднее уход на задний план остатков «метафизического» мышления, которое в XVII��������������������������������� ������������������������������������� веке ещё господствует в европейской философии, когда французские и голландские мыслители, а также мыслители, на которых они повлияли, ещё раз попытались достигнуть старых целей новыми средствами. В XVIII веке Франция и Испания возглавляют радикальное движение Просвещения, которое во Франции к этому времени было уже секуляризировано. Достаточно правдоподобным кажется то, что идея революции, идея радикального переворота в человеческих отношениях, возможность жизни без иерархии в равенстве и свободе произрастают из действительности Нового Света, и успех революции в британских колониях лежит у истоков революционного способа мышления как основополагающего характера современной эпохи вообще.5 Франция переняла этот способ мышления напрямую у Америки и придала ему в ходе собственной революции хотя и не в полной мере, но откровенно социальный характер, обнаруживающий, что ничто не сможет избежать потрясения. Французское радикальное Просвещение, борющееся против основ авторитета духовенства, оказалось неспособным, как этого тогда многие ожидали, остановиться перед зданием общественного и государственного устройства. Связь промышленности, технологии и капиталистической организации привела в Англии и в западной части континента к прорыву индустриальной революции. В результате прыжок к богатствам мира приобретает новое значение – ведёт к созданию небывалого военно-технологического превосходства, которому неевропейский мир не может ничего противопоставить. С этого времени мировой рынок функционирует не только во имя благосостояния Европы, но и во имя материальной мощи Европы. Первым ошеломляющим проявлением этой мощи становятся революционные наполеоновские войны, посредством которых Франция как европейский центр пытается утвердить универсальное значение на новом, светско-рациональном, фундаменте, уничтожая тем самым последние иллюзорные остатки Римской империи. Континентальной Европе вместе с Англией удаётся защитить себя не иначе, как посредством открытого обращения к российской власти, которая на длительный период становится арбитром в разрешении европейских вопросов и проектировщиком европейской 251 Ян Паточка политической системы, самым выгодным образом используя европейские конфликты и неудачи. Ослабив конкурентов в лице северо-восточных государств Европы XVII века – Швеции и Польши – и неуклонно вытесняя последнюю со сцены; используя при поддержке набирающей силу Пруссии конфликт между нею и династией Габсбургов – двух, оставшихся на почве Римской империи мощных игроков, и тем самым подспудно уничтожая исторические организмы восточной части империи (такие, как Богемское государство), Россия на пороге XIX����������������������������������������������������������������������� века образует в сердце Европы преграду на пути первой волны американизации, которая на тот момент успела захлестнуть революционную и постреволюционную Европу. В результате, во второй декаде ������������������������ XIX��������������������� века Австрия и Пруссия – две наследницы Европы – впервые сталкиваются на европейской арене, но пока не как политические противники, а только как принципы. По поводу того, кто станет наследником Европы – Америка или же Россия, однажды высказался Гегель. Однако конкретность его размышление о будущем приобрело только тогда, где эта проблема была рассмотрена с точки зрения стремления к общественному равенству и рациональной организации, и пионером такого рассмотрения был де Токвиль.6 В этом смысле европейский способ мышления переняли раньше и глубже именно Соединённые Штаты, а не Россия, что и понятно, поскольку Соединённые Штаты были европеизированной Америкой, а американизированная Европа – постреволюционной Европой. Более глубокого отношения восточного мира к Европе, аналогичного пониманию Токвилля, западный мир ждал долго и, по существу, ждёт до сих пор. Но прежде чем перейти к разговору о Европе XIX века как о поле битвы, уже попавшем в тень будущего с новыми пространствами и новыми силами, выросшими из Европы и поставившими под вопрос её будущее, мы должны упомянуть ещё об одной попытке рефлексии и постановки под вопрос самого принципа Просвещения. Эта попытка дала о себе знать на немецкой почве, на почве распадающейся Римской империи. Прежде всего, речь должна идти о прусском пространстве, в котором Просвещение существовало в форме военного государства, рационально использующего традиционные структуры, а следовательно, в форме парадоксального синтеза старого и нового. Сила и глубина Просвещения заключались в использовании того, что было оставлено без внимания старым, обращённым вовнутрь par excellence и ориентированным на человека знанием, а именно – в новой идее активного, эффективного, ориентированного на результаты и постоянно обогащающегося знания. К этому знанию нельзя уже ни легковесно отнестись, ни просто связать его со старыми европейскими принципами разума и веры. С другой стороны, невозможно ни удовлетвориться синтезом, осуществляемым только под углом зрения непосредственной применимости – как это было в англосаксонских 252 Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века землях, ни прийти к радикальным ампутациям, если не иметь намерения следовать французским революционным путём. Восходящая к Канту немецкая философия и родственная её тенденциям мысль вообще попыталась ещё раз осуществить «поворот» европейского духа. Просвещение должно быть принято, но только как метод постижения природы, т. е. царства закономерностей, которые не затрагивают истинного существа вещи; там, где этот феноменальный мир проанализирован в своей феноменальности (то есть с точки зрения сущности), снова вступает в права старый европейский принцип заботы о душе, философской созерцательной theoria, которая освобождает нас для [бытия в] духовноморальной сфере – области собственного укоренения и назначения человека. После совершения этого прорыва, который не перечёркивает Просвещение, но ограничивает и ослабляет его значение для человечества, в том же направлении прилагаются усилия немецкого искусства, поэзии и музыки. Своего апогея они достигают в философии – в соединении абсолютного идеализма и метафизической радикальности, которую мы не собираемся здесь рассматривать более подробно. Эта духовная Германия предлагала себя Западной Европе как страну, в которую после кризиса революционной анархии может вернуться дух и где он может выздороветь, в чём нуждается свобода для того, чтобы укорениться в реальности через её понимание. Однако духовный универсум, сам по себе лишённый силы, порождает двусмысленные мыслительные формы, пригодные для использования в реальной борьбе за европейское наследство: идею духовной индивидуальности (которая будет служить дальнейшему укреплению партикуляризации и национальному расколу Европы), идею диалектики (которая будет использована для дальнейшей революционной борьбы) и идею государства как божества на земле, не терпящего ограничения суверенности. Таким образом, эта величественная немецкая попытка приводит к усилению тех тенденций европейского раскола, против которых она изначально была направлена. Немецкие философские проекты, сильные и действенные в виде критики, в виде духовных позиций, ограничивших область воздействия Просвещения, оказались неспособными разрешить политические и социальные проблемы в рамках просвещенческой проблематики и на практике деградировали до простого средства борьбы за политическую и социальную реальность. После наслаждения свежим воздухом, который принесли революции и послереволюционные наполеоновские войны, Европа возвращается, прежде всего под давлением имперской России, к дискредитированной, не внушающей доверия «легитимности». Поскольку в борьбе против французской деспотии необходимо было апеллировать к партикуляризму региональных традиций и к спонтанности народов, это только видимое возвращение даёт толчок новым, пёстрым и отчасти хаотичным процессам, которые собирательно можно обо253 Ян Паточка значить как «национализм», «национальные движения». На западе Европы, где издавна существовали централизованные и унифицированные в языковом отношении государственные образования, эти движения естественным образом образовали единство с фактической потребностью промышленной революции в государственной защите предпринимательства и спекуляций, в результате чего государства попали под влияние буржуазного капитализма. Центральная же и центрально-восточная Европа с завистью наблюдала за этим процессом, который являлся для неё образцом, в то время как принципиальный универсализм революционного радикализма [Западной Европы] начал искать прибежище в сфере социальной революции и в возникающем социализме. Все эти тенденции создают пёстрые и зачастую эклектичные смеси, единственным содержанием которых является неприятие status quo. Принимая во внимание, с одной стороны, революции и наполеоновскую эпоху, а с другой – Россию, европейская публицистика в это время развивает понятия «мировая мощь» и «мировая государственная система».7 Между тем Россия, которая с успехом защищается от первых попыток пошатнуть своё имперское состояние посредством западных влияний, разрабатывает собственные, по преимуществу позаимствованные из византийского имперского христианства политические категории. Эти категории венчаются идеей о наследовании приходящей в упадок Европе, Европе в состоянии распада. Идея сохраняется на протяжении всего XIX столетия, включая в себя и пригодные для этой цели европейские мотивы. В сущности, в российском мышлении существует согласие по поводу европейского наследия, которое должно достаться российскому государству, потому что оно предопределено к этому. Различие в трактовках здесь возникает только касательно средств, необходимых для присвоения этого наследия. Старый петровский концепт состоит в том, чтобы использовать Европу, не подчиниться ей и овладеть ею, и этот концепт содержит в себе как возможность более интенсивного присоединения к Западу, так и закрытость в себе в ожидании удобного момента. – Такие европейские публицисты, как Мозес Хесс, Хакстхаузен, Фаллмерайер, взор которых был прикован к России и её возрастающему влиянию в Европе, но, особенно, консервативные католические авторы, такие как Йорг, Марло и Константин Франц, ещё не отошедшие от состояния ностальгии по Римской империи германской нации, придерживаются в своих выступлениях определённых тенденций европеизма, а именно – стремления к европейскому единству, по крайней мере в форме солидарности западных государств по отношению к российскому колоссу. Франц указал также на сходство выявленных тенденций с традиционализмом, содержащимся в позитивизме Конта (с его «позитивной политикой» он не был знаком). Однако эти начинания, к которым в 1860-е присоединяется американский либерал Юлиус Фрёбель, 254 Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века не стали организующей силой в сравнении с преобладающими тенденциями европейской реальности. В буржуазно-капиталистической Европе определяющие силы европейского Запада, то есть Просвещение, наука (естествознание и история) и техника, переплетались с партикулярной реальностью национального государства. На континенте образцом выступала Франция (времён третьей кайзерской империи), которая сыграла судьбоносную роль в движении к партикулярности. Сюда же можно отнести и её эфемерные успехи, как, например, создание раздираемой недоверием друг к другу коалиции европейских государств для противостояния России в Крымской войне или частичное и временное поражение России. Эти успехи усыпляли внимание Европы и создавали видимое доверие друг к другу [национальных] государств, опирающихся на собственный промышленный, технический и научный перевес сил. Исходный универсализм радикального Просвещения преобразуется, как мы уже сказали, в социалистическое мышление и социалистическое движение. Особенно с того момента, когда он приходит к «гегелевскому преодолению мышления Гегеля»8 Марксом: Маркс не перестает обличать неискренность, половинчатость, нелогичность и, особенно, цинизм и нравственный хаос, порождённые в европейских странах буржуазно-либеральным status quo. Прусское решение немецкого вопроса, вытеснившее Францию из центра Европы и вновь поместившее туда Германию, которая приняла новый облик по образцу западноевропейского национального государства, ещё более усилило слабости французского варианта. При этом прусская Германия наследовала дисгармоничные элементы феодальной традиции, которая так и не была ослаблена реальными общественными преобразованиями, а также консервативный восторг по отношению к русскому колоссу, которому Пруссия была обязана всей своей «карьерой», сделанной и в Германии, и в Европе. И всё это связано с пониманием необходимости быстро переориентироваться в направлении проблемы «щита и меча» юго-восточной Европы. Национальное государство, определяемое как защита развивающегося промышленного производства, обнаруживает здесь свою внутреннюю противоречивость – и гораздо отчётливее, чем на европейском Западе. Это обусловлено тем, что усиление промышленного могущества означает одновременно рост того, что тогда было обозначено «четвёртым сословием» с присущими ему самосознанием и несгибаемой организацией. Берущий здесь свой исток и всё более обостряющийся конфликт ведёт к социальному напряжению, неведомому до этого времени, и к увековечиванию господства «твёрдой руки», обеспеченного бисмарковской коалицией 1879 года, над подавляющим большинством населения. (Известен тезис Е. Галеви9, что один из истоков военного конфликта 1914 года необходимо искать в стремлении преодолеть это 255 Ян Паточка внутреннее напряжение посредством мобилизации общества для достижения международных политических целей и высвобождения пространства для немецкой хозяйственной и организационной энергии.) Из этого следует, что в Европе XIX века углубляется политический кризис именно там, где вопросы кажутся уже решёнными: таковы немецкий вопрос, итальянский вопрос. Их кажущееся решение, вместо того чтобы успокоить Европу, в действительности только усилило тенденции к партикуляризации и сделало их смертоносными в узком европейском пространстве. К тому же с течением времени обостряется социальный кризис, и незаменимый промышленный пролетариат всё более настойчиво начинает предъявлять счёт. Именно в этот момент предлагается «выход», который некоторыми считался вершиной мировой государственной дальновидности: ввести европейские проблемы в глобальные рамки, распространить разделение Европы на разделение мира. В результате этот «выход» только выявил до сих пор латентные антагонизмы и послужил средством для включения пространства всего мира в опасное для жизни предприятие, ведомое европейской конкуренцией. И это произошло в тот самый момент, когда неевропейский мир начал осознавать возможность научиться у современной Европы масс, Европы всеобщего избирательного права и больших бюрократизированных партий искусству увеличивать свой собственный политический вес и стоять на своих собственных ногах в противовес той же Европе. Третий и самый глубинный момент состоял в том, что всё более отчетливо осознавался моральный кризис современной Европы. То, что европейские государственные институты, политический и социальный каркас основываются на чём-то таком, чему общество в реальной практике уже давно отказывается доверять и следовать, было выражено в заострённом виде только в революционном радикализме и стало составной частью его преобразовательной программы. Однако сам радикализм, в измерении его «веры», держался идейных дериватов, взятых из европейского наследства, понять которые настолько же сложно, насколько сложно разобраться с представлениями, от которых они производны. Бог мёртв, однако материальная природа, которая с закономерной необходимостью производит человечество и способствует прогрессу, является никак не меньшей фикцией. Она не содержит в себе никакой инстанции, которая могла бы установить контроль над человеком в его индивидуальном стремлении к эскапизму, то есть к приспособлению в этом случайном мире в качестве «последнего человека», «имеющего свою маленькую радость днём и свою маленькую радость ночью»10. Один герой Достоевского выразил это следующим образом: небытие существует, всё дозволено! То, чему противостоял Достоевский, обращаясь к традиционной России с её изломанной душой и к индивиду, который покоряется великим градом, издевающимся над ним и требующим от него просветления, 256 Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века достигаемому благодаря страданию, Ницше выражает с особой остротой для европейской современности. Ницше пишет: будем правдивыми, посмотрим в лицо фактам, мы – нигилисты, мы не убедим себя в обратном – только так мы будем в силах преодолеть тот моральный кризис, который стоит за всем остальным и всё в себе содержит. «То, о чём здесь повествуется, – это история двух последующих столетий. Я описываю то, что приходит и что не может не прийти: восхождение нигилизма. Эту историю можно рассказывать уже сегодня: её творит сама необходимость. Эта будущность говорит уже в тысячах знамений, эта судьба провозглашается везде, для этой музыки все уже навострили уши. Вся наша европейская культура уже издавна движется с мучительным напряжением от одного десятилетия к другому, как будто дорастая до катастрофы: беспокойно, насильственно, поспешно; как течение реки, которая стремится к своему устью – впасть в море, течение, которое уже не осмысливает себя, которое боится самоосмысления».11 Для Ницше нигилизм возникает именно там, куда Достоевский призывает вернуться: в христианском обесценивании этого мира посредством «истинного» мира, в обесценивании жизни, воли, поступков посредством морали и заповеди «ты должен». В таком случае необходимо избавиться от всего потустороннего и от всех уловок, которые превозносят истину над действительностью, необходимо изо всех сил утверждать жизнь и действительность. Действительность, однако, должна пониматься как самопреодоление, возрастающая сила; так будет создана новая ступень существования – человек, избавленный от всех имеющихся на настоящий момент возможностей отступить и найти убежище, от всех слабостей, сверхчеловек, поселившийся в неизбежной, поскольку вечной, действительности. Выступление Ницше против современной европейской цивилизации как нигилистичной, конечно, само нигилистично, а прохождение через нигилизм он считает выражением своей прямоты и своей заслугой. Его радикализм привлекает и сегодня, даже если сам титанизм индивидуальности кажется уже комичным. Предложенная же Ницше критика прогресса и Просвещения как крипто-нигилизма действенна до настоящего времени. Поэтому диагностика европейского общества ����������������������������������������������������� XIX�������������������������������������������������� века как нигилистического вбирает в себя все тогдашние кризисы: кризис политический и социальный заключаются в кризисе моральном. Достоевский предлагает в качестве выхода возвращение к византийскому христианству, Ницше – «вечное возвращение того же самого». Однако собственный фундамент и христианства, и нового открытия вечности делает очевидным всё-таки повторение того, что уже было действительностью когда-то, в самом начале европейской эпохи: действительность души как того в нас, что находится в отношении к той бессмертной, непреходящей компоненте универсума, кото257 Ян Паточка рая делает возможной истину и вместе с ней – бытие-в-истине отнюдь не сверхчеловека, а подлинного человеческого существа. Перевод с чешского Павла Прилуцкого Выполнен по: Patočka J. Kacířské eseje o filozofii dějin // Patočka J. Péče o duši, Sebrané spisy. Sv. III. S. 13–144; OIKOYMENH, Praha, 2002. S. 89–103. Примечания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 258 Ср.: Hegel G. W. F. Die Verfassung Deutschlands. In: Hegel G. W. F. Werke in 20 Bänden, I. Frühe Schriften. Frankfurt/Main, 1986. S. 478. Идея европеизма в католической версии дала о себе знать в йенском романтизме, главным образом, в работе Новалиса Christenheit oder Europa (1799). Здесь также содержится идея новой миссии Германии, которую перенял затем Гегель в Феноменологии духа, разумеется, уже без католической направленности. См.: Dempf А. Sacrum imperium. Muenchen, 1929 (особенно ч. II, гл. 1: Grundbegriffe der christlichen Geschichtstheologie). См.: Strauss L. Philosophie und Gesetz. Berlin, 1935. S. 113 ff (особенно в связи с Платоном, Ибн-Синой, Ибн-Рушдой и Маймонидом). Клод Леви-Стросс обозначил опыт, ознаменованный 1499 годом, как наивысший эксперимент в измерении встречи человека с самим собой; одновременно он показал, насколько брутально протекал этот эксперимент и какой катастрофой обернулся он для неевропейского американского населения. См.: Lévi-Strauss C. Tristes Tropiques. Paris, 1955. Так представляет это Х. Арендт в работе: Arendt H. On Revolution. London, 1963. См.: Tocqueville А. La Démocratie en Amérique. Paris, 1835–40. См.: Groh D. Russland als Weltmacht. In: Orbis scriptus. Muenchen, 1966. S. 331 ff. De Waelhens А. La philosophie et les experiences naturelles. Den Haag, 1961. S. 13. Ср.: Halévy Е. L’ère de tyrannies: études sur le socialisme de la guerre. Paris, 1938. См.: Nietzsche F. Also sprach Zarathustra. In: Sämtliche Werke (Kritische Studienausgabe), hrsg. von G. Colli, M. Montinari. Bd. 4. Berlin/München, 1980. S. 20. Nietzsche F. Nachlass. November 1887 – März 1888. 11/411. In: Sämtliche Werke… Bd. 13. S. 189 (Wille zur Macht, Vorrede № 2). Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века Об авторе Ян Паточка родился 1 июня 1907 в Турнове (северо-восточная Богемия), изучал романистику, славистику и философию в университетах Праги, Парижа и Берлина. Определяющим для его становления было пребывание во Фрайбурге в 1933, где он проходил обучение у Э. Гуссерля и М. Хайдеггера. Паточка выступил соучредителем Пражского философского кружка, в рамках которого происходило распространение идей феноменологии в Чехии. Короткое время, в период войны, Паточка преподавал в Карловом университете. С 1950-го и вплоть до самого конца жизни, за исключением короткого периода «Пражской весны», коммунистическим режимом Паточке была запрещена преподавательская и публицистическая деятельность. Однако благодаря своим легендарным «подпольным семинарам» 1960–70-х Паточка оказывал большое влияние на студентов, которые собирались вокруг него. Ян Паточка был одним из основателей и активистов движения за права человека Хартия 77. Он умер 13 марта 1977, вскоре после опубликования декларации Хартии 77, в Праге, после серии допросов. Осмысление значения его произведений для историко-политического самопонимания Европы осуществляется до сего дня. (По материалам Людгера Хагедорна, перевод с немецкого Ольги Шпараги.) Полную библиографию работ Я. Паточки см. здесь: http://www.ajp.cuni.cz/biblio.html#1970. 259 Ян Паточка Войны XX-го века и XX-й век как война Первая мировая война породила целый ряд объяснений, которые отразили стремления людей понять это чудовищное событие, хотя и осуществлённое людьми, но при этом превосходящее горизонт понимания каждого отдельного человека и всего человечества, – событие в определённом смысле космическое. Мы пытались вместить это событие в наши собственные категории, обращаться с ним так, как мы только умеем, то есть, в сущности, опираясь на способ мышления XIX века. Вторая мировая война не вызвала ничего подобного; в своих непосредственных причинах и по своей форме она была, может быть, даже слишком (на первый взгляд) ясной, и главное – она не закончилась, а перешла в какое-то странное состояние, которое выглядит и не как война, и не как мир. В то же время революцияa, которая как-то позволяла комментировать это состояние, не позволяла набраться духу для произнесения слова, которое «разделяло бы каждую вещь согласно её бытию и говорило, как вещи существуют»1. Кроме того, укрепилось убеждение, что должно существовать некое истинное, то есть марксистское, объяснение Второй мировой войны, нечто сокрытое в идейных арсеналах партии, которая направляет ход истории. То, что подобное объяснение не существует, никем не принималось в расчёт… Я не ставлю задачу критиковать отдельные формулировки, предложенные для интерпретации Первой мировой войны. Однако я обратил бы особое внимание на то, что во всех этих интерпретациях, независимо от того, идёт ли речь о борьбе a 260 Паточка имеет здесь в виду захват власти в Чехии коммунистами в 1948 году. – Прим. Людгера Хагедорна. Войны XX-го века и XX-й век как война германского и славянского миров, об империалистическом конфликте, возникшем на последней стадии капитализма, либо о последствиях современного гипертрофированного субъективизма, который насильственно объективируется, или, как иногда говорят, о борьбе между демократией и теократией, – война рассматривается всегда с позиции мира, дня и жизни, так что исключается тёмная, ночная сторона жизни. С этой точки зрения жизнь, и прежде всего историческая жизнь, оказывается континуумом, в котором отдельные индивиды выступают носителями общего движения, только и имеющего какое-то значение, тогда как смерть означает некое изменение функций. Война – это массовым образом организованная смерть, неприятная, но необходимая пауза, которую мы в интересах действительных целей континуальности жизни должны с необходимостью взять, но при этом не пытаться искать в войне нечто само по себе «позитивное». Прежде всего, как говорил Гегель (а вслед за ним Достоевский), война может служить тем оздоровляющим потрясениям, которое необходимо гражданской жизни, чтобы она не окостенела и не застыла в своей рутине. Но то, что война сама может что-то объяснять, что она сама по себе имеет силу, наделяющую смыслом, – эта идея чужда всем философиям историй, а поэтому и всем известным нам экспликациям мировой войны. Таким образом, война 1914–18 гг. всегда объясняется с позиций идей XIX века, которые являются идеями мира, дня и его интересов. Не удивительно, что при этом не удаётся постигнуть основополагающие принципы нового XX века, поскольку это столетие является эпохой ночи, войны и смерти. Это не означает, что для понимания не нужно возвращаться к предшествующей эпохе. Но посредством идей, программ и целей предшествующей эпохи удаётся объяснить только возникновение той страшной воли, которая столько времени гнала миллионы людей во всепоглощающий огонь войны, а другие неисчислимые миллионы принуждала к грандиозным и бесконечным приготовлениям к этому монументальному аутодафе. Так же, как и нельзя объяснить собственное содержание этого столетия, и прежде всего его столь глубокую склонность к ведению войн. Как и любая европейская война, война 1914–18 гг. проходила на фоне всеобщего убеждения, которое насильственно пробивало путь к манифестации, к осуществлению. И эта война также была идейной, хотя её идею трудно усмотреть, поскольку в своей негативности она не бросается в глаза. Такие войны, как наполеоновские, ещё коренились в идеях Великой французской революции, и Просвещение отразилось в них в особой, военно-технизированной форме. В указанную эпоху Просвещение выступало общим идейным достоянием и убеждением мира, в котором наличествовала позитивная идея, состоявшая в том, что разум управляет миром. Точно так же в период Тридцатилетней войны общим убеждением было то, что необходимо раз и навсегда устранить раскол в запад261 Ян Паточка ном христианстве; в свою очередь крестовые походы опирались на убеждение о превосходстве западного христианства, заключающемся в его внутренней правдивости. Напротив, общую идею, на фоне которой разворачивалась Первая мировая война, питало постепенно укореняющееся убеждение в том, что не существует никакого вечного объективного смысла мира и вещей и что смысл можно установить посредством силы и власти в том окружении, которое доступно человеческому воздействию. В этом духовном настроении разыгрывалась подготовка к войне; с одной стороны, она направлялась волей к поддержанию существующего status quo, с другой – волей, нацеленной на его радикальное изменение. Разумеется, давали о себе знать и дериваты иных, более старых концептов христианского происхождения: просвещенческо-демократическая идея, с одной стороны, и теократически-иерархическая, с другой. Но если мы посмотрим на действительное положение вещей того времени, то увидим, что как раз демократические европейские государства более всего репрезентировали европейский империализм, и в этом случае их демократизм являлся составной частью защиты мирового status quo. Особенно очевидным это становится на примере коалиции с самым слабым звеном тогдашнего империалистического status quo, каким была, конечно же, царская Россия. Без сомнения, обозначенные дериваты ни в коем случае не были тем, за что люди шли на войну, они скорее оказывали влияние на ход событий и на интенсивность воли, которая в них проявлялась. Только вступление в войну Америки и вмешательство социалистической революции в России обнаружили – как на стороне Антанты, так и на стороне её противников, – те направленные против status quo силы, во имя которых война будет закончена, но которые, одновременно, поскольку итоги войны не были подведены, заложат основу для новых, или, скорее, старо-новых конфликтов. В этом отношении важно отметить следующее: если мы рассматриваем военные действия и волю, которая определила неожиданную продолжительность войны, с позиции, единственно отвечающей фактам, тогда сторона, сопротивляющаяся status quo, сторона, которая в действительности и вопреки видимости должна быть названа революционной, является послебисмарковской Германией. Неужели это образование под предводительством консервативной Пруссии с военной кастой и косной бюрократией, предельно ограниченное лютеровской ортодоксией, и есть революционный элемент, носитель и агент мировой революции? Не свидетельствуют ли против этого все факты и, кроме всего прочего, социальная история войны? Если мы отдадим предпочтение общепринятому пониманию революции, выдвигаемому главным образом в рамках социально-экономических доктрин исторического материализма и теории социализма XIX в., где она понимается с политической стороны и, в свою 262 Войны XX-го века и XX-й век как война очередь, стилизуется под революции XVIII в. (главным образом французскую, в меньшей степени – американскую), тогда, конечно же, этот тезис окажется ничем иным, как парадоксом, сконструированным насильственным способом. Но из всех стран мира (кроме Соединённых Штатов) именно Германия, вопреки своим традиционным структурам, выступает тем образованием, которое ближе всего подошло к осуществлению действительности новой научно-технической эпохи. Её консерватизм служит в основном поддержанию дисциплины, которая решительно, безоглядно пренебрегая возможностью всякого нивелирования и демократизацией, устремляется к аккумуляции создающей, организующей и преобразующей энергии. В Рабочем Эрнста Юнгера имплицитно содержится предчувствие этого революционного момента старой, предвоенной Германии.2 Это, прежде всего, всё более углубляющийся научно-технический характер жизни Германии. Это, далее, организационная воля её хозяйственных вождей, технократических репрезентантов, чьи планы неизбежно вступали в противоречие с существующей на тот момент организацией мира. Эти планы целиком и полностью сводились (что совершенно естественно) к некоторой исторически обусловленной форме: не показала ли война 1870–1871 гг., что Франция – нынешний центр Европы – уже не в состоянии выполнять функцию государства, объединяющего наследие Западной Римской империи? Что Австрия как последний остаток старой империи может стать лёгкой добычей этого планирования и что «европейский концерт», рассмотренный в этой перспективе, оказывается совершенно устаревшим понятием? Конечно, в результате возникает впечатление, что империалистическая Германия остаётся традиционалистской и лишь возобновляет властное притязание на старую империю, «обогатившись» национализмом, укрепившемся в войне 1870–71 гг. Её внутренние противники, социалисты, должны были снова усмотреть тут козни алчных капиталистических магнатов, позднее – типичных представителей мирового капиталистического империализма с его стремлением стать хозяином всех богатств планеты и всех производительных сил. В действительности же, они сами участвовали в организации нового общества труда, дисциплины, производства и планомерного строительства, ведущего к высвобождению всё больших запасов энергии. Задолго до войны эта Германия превратила Европу в энергетический комплекс. При всей осмотрительности, с которой остальные европейские страны, и особенно Франция, двигались в том же направлении, их преобразования были более постепенными и направлялись волей к индивидуальному способу жизни, той тенденцией, которую подметил Фридрих Зибург в свой работе Gott���������� ��������� in������� ������ Frankreich3. Консервативные структуры предвоенной Германии широкомасштабно служили этому преобразованию, функционировали так, чтобы эти перемены происходили дисциплинированно, без больших потрясений и чтобы массы 263 Ян Паточка поддавались этому преобразованию, несмотря на скрипение зубов своих политических вождей, хотя, впрочем, и политическая организация рабочего класса в скором времени была поставлена партийной бюрократией на те же рельсы и начала двигаться в том же направлении. Революция, к которой всё шло, имела свою глубокую движущую силу в том очевидном онаучивании, факт которого констатировали все предвоенные мыслители Европы и Германии как главную черту их жизни. Это онаучивание одновременно предполагало понимание науки как техники, означало фактический позитивизм, в рамках которого нейтрализуются или же приспосабливаются к новым научным веяниям те традиции, которые сохранялись в Германии первой половины XIX в., Германии эпохи исчезновения старой империи и исторической, философской и теологической традиции. Вопреки видимости обратного, Ахиллесовой пятой всего этого натиска явилась военная машина. Хотя и она двигалась в направлении менеджерского способа работы и мышления, но многое ей ещё мешало. На пути стояло очарование традицией и её концептами, схемами, целями. С одной стороны, невероятная твёрдость, упорство, с другой – господствующая грубость и недостаток фантазии. Война ведётся механистически, победа обеспечивается благодаря организации, твёрдости и порядку там, где армия сталкивается с недостатком этих качеств на стороне противника. Леность мышления приводит к отсутствию альтернативных планов, например, плана наступления на Восток. Конечно же, и «гниение» в окопной войне является заслугой немецкого генерального штаба. Предпосылки для ведения мобильной войны на моторизованной технике существовали ещё в 1914, и только французы смогли частично воспользоваться ими в битве на Марнеb. Всё «умение» исчерпывалось подавляющим превосходством в огневой мощи, которая, в конце концов, обрушивалась на плечи обороняющихся. Инстинктивная направленность войны на Запад свидетельствует об одном: война велась против существующего status quo, центром которого выступал европейский Запад. Победить и «обезвредить» Россию – достижения такой цели было недостаточно. Необходимо вмешаться туда, где находится сам источник угрозы в виде конкуренции других, похожих организующих центров. Отсюда, возможно, следует очарование Западом и расчёт на бессмысленный план Шлиффенаc, на «подводную войну», на «великое наступление» 1918 года. Идея оставить b c 264 Крупное сражение, состоявшееся между немецкими и англо-французскими войсками 5–12 сентября 1914 на реке Марна, закончилось поражением немецкой армии и сорвало её стратегический наступательный план, ориентированный на быструю победу на западном фронте и взятие Парижа. Здесь и далее постраничные сноски – прим. редактора. План военных действий германского генерального штаба 1905, предусматривающий разгром Франции до окончания мобилизации русской армии. Войны XX-го века и XX-й век как война противника умирать где-нибудь на Рейне, а в это время окончательно завладеть Востоком как базой для организации огромного пространства, в котором не было достаточных сил для противодействий, не обсуждалась или же не нашла должной поддержки. Первая мировая война явилась решающим событием в истории ХХ в. Она определила весь его характер. Прежде всего, именно война показала, что преобразование мира в лабораторию, которая актуализирует запасы энергии, аккумулированные на протяжении миллиардов лет, должно осуществляться именно посредством войны. Поэтому война имела значение определяющего прорыва в том понимании сущего, исток которого принадлежит XVII в. и которое связано с возникновением механистического естествознания, с отстранением всех «конвенций», стоящих на пути этого высвобождения силы, – путём переоценки всех ценностей под знаком силы. Почему энергетическое преобразование мира должно происходить посредством войны? Потому что война как крайняя форма столкновения является самым интенсивным средством быстрого высвобождения аккумулированных сил. Конфликт – это великое средство, которым, выражаясь мифологически, воспользовалась Сила для перехода из потенциального в актуальное состояние. Человек, так же как и отдельные сообщества, в этом процессе не более чем реле. Не в этом ли заключается то впечатление от космичности военных действий, которое так удачно отметил Тейяр-де-Шарден? «Фронт – это не только огневое поле, где обнаруживаются и нейтрализуют друг друга противоположные энергии, сосредоточенные в неприятельских массах. Это также и место частной Жизни, в которой участвуют только те, кто на неё осмелился, и только так долго, пока они там остаются….»4. «Мне кажется, что можно было бы сказать, что фронт – это не только линия огня; это не только поверхностная коррозия людских масс, которые нападают друг на друга; но, в определённом смысле, это "гребень волны", которая уносит человеческий мир к новым предназначениям…. Мне кажется, что здесь человек стоит на границе между тем, что уже произошло, и тем, что ещё предстоит….».5 Материалистический и витальный мистицизм Тейяра несёт на себе отпечаток фронтовых переживаний. Итак, силы дня – это то, что на протяжении четырёх лет посылает миллионы людей в геенну огненную, а фронт – это то место, которое на протяжении В основе идея «блицкрига» – молниеносной войны, для чего французский фронт предполагалось обойти с севера по территории нейтральной Бельгии. Шлиффен, Шлифен (Schlieffen) Альфред фон (28.2.1833, Берлин, – 4.1.1913, там же) – германский воен. деятель, генерал-фельдмаршал (1911). Один из идеологов германского милитаризма. В 1891–1906 – начальник Большого генштаба. 265 Ян Паточка тех же четырёх лет гипнотизирует любую активность индустриальной эпохи, названную фронтовиком Эрнстом Юнгером эпохой рабочего и тотальной мобилизации.6 Сами эти силы не умирают, а только исчерпываются, и им всё равно, уничтожать или организовывать. В сущности, они скорее «стремятся» организовывать и быть при том деле, которому война только мешает. «Военные цели» – это неправильное выражение; речь должна идти о мирных целях, разумеется, в смысле pax teutonica или pax americana и т. д. Но человечество вынужденно проживает четыре года на фронте, и тот, кто прошёл фронт, говорит Тейяр-де-Шарден, становится другим человеком. В каком смысле другим? Существуют разные описания фронтового опыта, составленные с учётом разных углов зрения. Обратимся к описаниям Юнгера и Тейяра-де-Шардена. Оба сполна испытали потрясения фронта, ставшие не просто мгновенной травмой, а основополагающим изменением в человеческом существовании: война как фронт отмечает человека навсегда. Следующая общая черта – ужас. И в окопах каждый надеется на то, что он вскоре будет заменён (даже по не слишком щепетильным меркам генерального штаба там невозможно выдержать более девяти дней), однако на самом дне этих переживаний лежит нечто глубоко и загадочно позитивное. Речь здесь идёт не о притягательности гибели и не о романтике приключений, как и не о перверсии естественных ощущений. То, что овладевает человеком на фронте, – это подавляющее все остальные чувства ощущение смысловой полноты, которую, однако, трудно выразить с помощью слов. Это ощущение, сохраняющееся затем долгие годы. У Юнгера – это надежды на возвращение мирной жизни, партикулярной, национал-шовинистической ментальности. Загадка фронтового переживания таким образом не разрешается, но и не вытесняется. Разумеется, это ощущение имеет разные фазы и разные степени глубины, что играет важную роль в истории более позднего времени. Первая фаза, которую мало кому удаётся перешагнуть, – переживание бессмысленности и невыносимого ужаса. Фронт – это абсурдность par excellеnce. То, что предчувствовалось, становится здесь действительностью: самое драгоценное, что есть у человека, безоглядно разрывается на куски. Осмысленным является лишь демонстрация того, что мир, который порождает нечто подобное, должен исчезнуть. Это ad oculos доказательство того, что мир уже в полной мере созрел для гибели. Тот, кто способен пообещать со всей серьёзностью, что сделает в будущем нечто подобное невозможным, должен нас полностью и во всём подчинить себе, и тем радикальнее, чем дальше его обещание отстоит от социальных реалий сегодняшнего дня, которые и привели нас к чему-то подобному. Такая форма фронтового переживания и её последствия, форма активного неприятия, талантливо изображенная Барбюсом7, лежит в основе такого грандиозного 266 Войны XX-го века и XX-й век как война феномена, как борьба за мир. Этот феномен обнаруживает свою первую, исторически значимую, хотя и исторически недооцененную ипостась в действиях, предпринятых для заключения Брест-Литовского мира, и переживает расцвет в годы Второй мировой войны и после неё. Решимость покончить со всей действительностью, которая допускает подобные вещи, указывает на то, что и здесь имеется нечто «эсхатологическое», нечто наподобие конца всех ценностей дня. Но едва ли понятно здесь то, что это «иное» опять захвачено и секвестрировано взаимосвязями дня. Едва человек оказывается «лицом к лицу» с потрясением мира, он не только захватывается силами мира, но и мобилизуется для новой борьбы. Бессмысленность прежней жизни и прежней войны учреждает смысл новой войны, войны против войны. Тот, кто отверг фронт, на который он вынужденно был призван, осуждает себя на годы к не менее тяжёлому и жестокому фронту. Эта война против войны, кажется, использует новый опыт, кажется, начинается эсхатологически; в действительности же эсхатология поворачивает назад, в плоскость «мирского», в плоскость дня, и использует в интересах дня то, что принадлежало ночи и вечности. Таково коварство дня, который стремится выглядеть как все и вся и может нивелировать и истощить даже то, что лежит за его пределами. Так в 1917, в результате использования радикальными революционерами почвы первой русской революции, собственно, первой русской катастрофы, началась новая война, которая шла вразрез с разворачивающейся прежде борьбой за сохранение status quo. Началась новая борьба, которая должна была разрушить status quo в обеих странах в соответствии с совершенно иным концептом мира, чем тот, который замышлялся немцами, даже если первоначально это была немецкая атака на status quo, которая обусловила, сделала возможной и в радикальной форме поддержала эту новую борьбу. С этой минуты расчет в войне делается на ослабление или даже уничтожение обоих противников, которые прикованы друг к другу во взаимной борьбе не на жизнь, а на смерть. Исчерпание сил одного и победа другого – это всего лишь тактические моменты некой другой борьбы; победа же является видимостью, благодаря которой приготовляется будущее поражение, а поражение образует закваску для новых битв. Победоносный мир – это иллюзия, которая морально разлагает победителя, а то, что война продолжается, следует из того, что в стране победившей революции во всю отрицаются любые соглашения, практикуется всё та же беспощадность по отношению к жизни, «запускается» тот же яд подозрений, клеветы и демагогии, который широко использовался тогда, когда фронт господствовал над всем и когда использовались не только военные средства огневой мощи, но и слабости противника, и иные возможности привести его к внутренней катастрофе, чтобы (хотя бы временно и призрачно) добиться своего. То, что триумфально побеж267 Ян Паточка дает в этой бескомпромиссной борьбе, – та же Сила, которая использует мир как средство войны. В этом случае мир становится составной частью войны, таким его коварным этапом, когда противника поражают без выстрела, поскольку его способность к мобилизации парализуется, тогда как другой, действительный или потенциальный, соперник держится начеку и пытается выстоять внутри гигантского, болезненного и достигаемого ценой жизней, свобод и надрыва движения. Сила, однако, одерживает триумфальную победу ещё и потому, что создаёт новую, возведённую в степень форму взаимного напряжения, напряжения в двух плоскостях одновременно; принимает вид мобилизационной силы, которая до этого момента приглушалась слабой организованностью одного из противников; она становится теперь организационным центром par excellence, таким, где нет «тормозов», создаваемых в остальном мире уважением к традиции или к прежним понятиям бытия. Теперь такие «тормоза» рассматриваются как не заслуживающие внимания предрассудки и материал для манипулирования другими. Неуклюжие попытки европейского Запада повернуть войну на Восток приводят лишь к её новому разгоранию на Западе. Война не завершилась и даже не затихла, она лишь временно превратилась в дымящийся горн, поскольку не до конца побежденная и уничтоженная Германия оказалась способной к повторению драмы 1914 года. А это значит, оказалась способной ни к чему иному, кроме как к повтору, сопровождаемому ещё более бессмысленной военной машинерией, ещё большими недостатками военного плана, более изощрёнными актами насилия и ещё более ужасающими актами мести и ressentiment. Тем самым Германия позволила противнику, побеждённому в Первой мировой войне, взять реванш поистине планетарных размеров: поскольку этот противник между делом переключился с мира на войну и оказался в состоянии выстоять там, где первоначально проявлял слабость. Запад, который стремился обратить силу Германии в направлении этого противника, был вынужден способствовать победе этого противника ценой собственной разрухи и крови, не принимая во внимания то, что одновременно он находится в продолжающейся войне с ним. Так пришло к своему завершению то, что было начато Германией: изменение мирового status quo, но не в пользу Германии, а в пользу более слабого противника. Одновременно вслед за этой новой констелляцией, за этим жалким маневрированием должен был наступить окончательный упадок Европы. Европа – мы имеем в виду Западную Европу, которая выросла из наследия Западно-римской империи, – получила в начале эры Энергии признаки планетарного сверхгосподства, Европа была всем. Эта Европа после Первой мировой войны уступила гегемонию Соединённым Штатам, своему преемнику, выросшему на реализации того, к чему она напряжённо стремилась и чего так и не достигла, – свободы. 268 Войны XX-го века и XX-й век как война И теперь она покинула лидирующую позицию в мире, утратила свои империи, престиж, уверенность в себе и своё самопонимание. Более слабый партнёр Европы в Первой мировой войне (Россия) оказался дееспособным наследником, поскольку благодаря дисциплине, необходимой для длительной мобилизации, для участия в тлеющей и разгорающейся войне, он снова преобразовался в то, чем традиционно был и остаётся, – в наследника Восточного Рима, господствующего одновременно и над телом и над душой человека. Каким же образом день, жизнь, мир властвуют над каждым индивидом, над его телом и душой? При помощи смерти и угрозы для жизни. С точки зрения дня жизнь для индивида является всем, наивысшей ценностью, которая для него существует. Для сил дня не существует смерти, они действуют так, как будто бы её и нет; иначе говоря, они планируют смерть отстранённо и статистически, как если бы она означала всего лишь изменение функций. В воле к войне, следовательно, господствуют день и жизнь, использующие смерть. Воля к войне делает расчёт на будущие поколения, которых здесь пока ещё нет, и свои планы она составляет с их точек зрения. Таким образом, в воле к войне господствует мир. От войны невозможно избавиться тому, кто не отказался от господства мира, дня, жизни в той форме, какая исключает смерть и закрывает на неё глаза. Однако великий, глубокий опыт фронта с его линией огня основывается всё же на том, что этот опыт взывает к ночи с её неотложностью и неизбежностью. Мир и день должны господствовать, посылая одних людей на смерть для того, чтобы они обеспечили другим будущий день с его обещанием прогресса, свободного и поступательного развития, открывающихся возможностей. От тех, кого приносят в жертву, напротив, требуется выдержка перед лицом смерти. Это означает, что они смутно понимают, что жизнь – это не всё, от неё самой можно отказаться. Именно этот отказ, эта жертва и требуется от них. Жертва требуется как нечто относительное, как нечто, что находится в связи с миром и днем. Опыт же фронта – это абсолютный опыт. Как показывает Тейяр, на бойцов этого фронта неожиданно нисходит абсолютная свобода, свобода от всех интересов мира, жизни, дня. Это означает: жертва этих обречённых теряет своё относительное значение, перестает служить путем к программам восстановления, прогресса и расширения жизненных возможностей и получает значение исключительно в себе самой. Абсолютная свобода подразумевает понимание того, что здесь уже достигнуто нечто такое, что является не средством для достижения чего-то другого, не «ступенью к.…», а тем, после чего и над чем ничего последующего уже не может быть. Апогей находится именно здесь, в этой самоотдаче, к которой люди были призваны, будучи оторваны от своих занятий, талантов, возможностей, своей будущности. Оказаться способным к свободе, быть к ней избранным и 269 Ян Паточка призванным в мир, который посредством конфликта мобилизует силу, благодаря чему кажется опредмеченным и опредмечивающим источником кипящей энергии, означает одновременно преодолеть силу. Мотивы дня, которые пробудили к жизни волю к войне, сжигают себя в пекле фронта, если его опыт достаточно глубок, чтобы снова не подчиниться силам дня. Мир, ставший волей к войне, способен опредмечивать и выворачивать наизнанку человека так долго, пока над ним господствует день, надежда, связанная с повседневными заботами, профессией и карьерой, просто с возможностями, о которых он должен беспокоиться и над которыми нависла угроза. Но теперь мы приходим к потрясению этого мира и его планов, программ, его индифферентных по отношению к смертности [человека] идей прогресса. Любая повседневность, любые образы будущей жизни блекнут в сравнении с этим простым апогеем, которого здесь достигает человек. В сравнении с ним любые идеи социализма, прогресса, демократической свободы от принуждения, идеи независимости и свободы как таковой оказываются мало содержательными, недостаточно плодотворными и неконкретными. Свой полный смысл они получают отнюдь не из самих себя, а только там и тогда, когда выводятся из [идеи] вышеназванного апогея и снова возвращаются к ней. Там, где они способствуют тому, чтобы человек действительно осуществил перемену всей своей жизни, всего своего существования. Где они означают отнюдь не наполнение [смыслом] повседневности, а принимают космический и универсальный вид, к которому человек приходит через абсолютное принесение в жертву себя и своих дней. Так ночь внезапно становится абсолютным препятствием на пути к дурной бесконечности завтрашнего дня. Посредством того, что она овладевает нами как предельная возможность, мнимо надындивидуальные возможности дня оказываются отброшенными, и эта жертва провозглашает себя в качестве истинной надындивидуальности. Другое следствие: враг больше не является абсолютным противником на пути воли к миру, он перестаёт быть тем, что находится здесь только для того, чтобы быть устранённым. Враг становится соучастником той же самой ситуации, сооткрывателем абсолютной свободы, тем, с кем возможно согласие в разногласии, – он соучастник потрясения дня, мира и жизни, лишённой оговорённого апогея. И тогда здесь обнаруживается бездонность «молитвы за врага», феномен «любви к тем, кто нас ненавидит», и даёт о себе знать солидарность потрясённых вопреки противостоянию и спорам. Самым глубоким открытием фронта является, таким образом, наличие жизни в ночи, в борьбе и смерти, неустранимость такого положения в жизни, которое с позиции дня кажется просто несуществующим; преобразование жизненного смысла, наталкивающегося здесь на ничто, на непреодолимую гра270 Войны XX-го века и XX-й век как война ницу, на которой всё меняется. Так, например, согласно описаниям известного современного психолога8, с точки зрения переживаний фронтового артиллериста топографический характер ландшафта меняется настолько, что неожиданно становится конечным, и руины оказываются уже совсем не такими, какими они были раньше, то есть деревнями и т. п., в данный момент они выступают прикрытиями и ориентирами. Таким образом, преобразуется и «ландшафт» основополагающих жизненных значений, он приходит к концу, за пределами которого не может располагаться что-то ещё, что-то более обнадеживающее или более высокое. Почему же этот величайший опыт, единственно способный вывести человечество из состояния войны и привести к действительному миру, в истории XX в. так и не стал значимым, вопреки тому что люди прошли через этот опыт дважды в течение четырёх лет, что он действительно их затронул и кардинально изменил? Почему не раскрылся его спасительный потенциал? Почему он не сыграл и почему не продолжает играть в нашей жизни ту ни с чем не сравнимую роль, которую имела и имеет борьба за мир в великой войне, каковой является ХХ столетие? Ответить на эти вопросы нелегко. Не помогает и тот факт, что человечество настолько пропитано и околдовано опытом войны, что только из этого опыта становится возможным понять своеобразие истории нашей эпохи. Вторая мировая война устранила различие между фронтом и тылом. Война в воздухе способна достигнуть в равной мере любого. А ситуация с наличием атомной угрозы привела к тому, что последний спровоцированный военный конфликт, если за ним будет стоять сильная и интеллектуальная имперская воля, станет в буквальном смысле слова последним. В течение некоторого времени говорили о «комплексе Хиросимы» как крайнем обобщении военного опыта, опыта фронта, конца света, наступающего с сенсационной интенсивностью. Здесь даже самые трезвые свидетели этого события не смогли удержаться от эсхатологического восприятия. А историческое воздействие? До ощутимого воздействия, которое стоило бы истолковать как принципиальный поворот и преобразование, которое (по словам Тейяра) ни с чем иным не идёт в сравнение, дело пока не дошло. Сила продолжает пленять нас, вести нас своими путями, завораживать и обольщать, как и превращать нас в юродивых. Там, где, как думается, мы овладели ею и надеемся с её помощью обезопасить себя, на самом деле мы находимся в состоянии демобилизации и неспособности выиграть войну, которая коварным образом изменила форму, но не прекратилась. Жизнь, конечно же, была бы рада возродиться, но именно она, именно сама жизнь и порождает войну и не может выпутаться из неё своими собственными средствами. Где же завершение таких перспектив? Война как средство Силы, служащее её высвобождению, не может 271 Ян Паточка закончиться сама собой. Напрасно искать укрытие в своём мирке, поскольку больше не существует закрытых мирков; Сила и техно-наука открывают воздействиям весь мир, так что в нём каждое действие повсюду находит свой отклик. Перспектива мира, жизни и дня не имеет конца, это позиция бесконечного конфликта, который рождается всегда в новых формах, оставаясь при этом тем же самым. Гигантское предприятие экономического обновления, небывалые социальные завоевания, которые нам даже не снились и которые получили размах в Европе, отпавшей от мировой истории, показывают, что эта часть света решилась на демобилизацию, потому что ей не оставалось ничего иного. Одновременно углубляется пропасть между beati possidentesd и теми, кто на нашей богатой ресурсами планете умирает с голоду, – следовательно, углубляется состояние войны. Бессилие, неспособность победить в войне, набросок которой сделан с позиции мира, у бывших мировых господ совершенно очевидны. Перенести центр тяжести в сферу экономической власти является кратковременным, одномоментным и обманчивым шагом, поскольку он связан с демобилизацией там, где мобилизуются армии трудящихся, исследователей и инженеров: все они, в конце концов, послушны ударам бича. Это стало особенно ясно в ходе энергетического кризиса недавнего времени. В новых условиях атомного вооружения и постоянной угрозы полного уничтожения война может в любой момент превратиться из горячей в холодную или тлеющую. Эта тлеющая война никак не менее сурова, а зачастую даже более сурова, чем горячая война, в которой фронты проходят через целые континенты. Ранее уже было сказано, как война включает в себя «мир» в виде демобилизации. С другой стороны, постоянная мобилизация – это только fatum, тяжело переносимый для мира, которому невыносимо смотреть в лицо и из которого сложно выводить следствия, несмотря на то что они вполне ясны. Тот, кто ещё желает, кто сохраняет свою волю несокрушимой и не подвергает ее коррозии, лишается истины и публичности, непосредственно принуждается к состоянию войны, к состоянию внешней и внутренней диктатуры, тайной дипломатии, насквозь лживой и циничной пропаганды. Наши оппоненты могут указать на то, что крайние средства мобилизации, которые проявились в форме процессов систематического террора или постепенного уничтожения целых социальных групп и слоёв посредством принудительного труда и концентрационных лагерей, уже отошли в прошлое. Вопрос, однако, состоит в том, означает ли это действительную демобилизацию, или же, напротив, войну, которая продолжает вестись «мирными» средствами. Война показывает здесь своё «мирное» лицо, лицо циничной деморализации, призывая к воле жить и иметь. Человечество d 272 «Счастливо обладающие» (лат.). Войны XX-го века и XX-й век как война становится главной жертвой некогда развязанной войны, то есть войны мира и дня. Мир, день рассматривают смерть как средство крайней человеческой несвободы, как путы, на которые люди закрывают глаза, но которые присутствуют здесь в форме vis a tergoe, в виде террора, толкающего людей в огонь, – поскольку человек именно благодаря смерти и страху привязан к жизни и чаще всего подвержен манипулированию. Именно поэтому, однако, существует определённая перспектива того, как исходя из порождённой миром войны обнаружить поле действительного мира. Первая предпосылка – это фронтовой опыт Тейяра-де-Шардена, суть которого в не менее острой, хотя и менее мистической форме сформулировал, например, Юнгер: как позитивное значение фронта, когда фронт понимается отнюдь не как порабощение жизни, а как неслыханное освобождение именно от её рабства. Современная форма войны – это тот половинчатый мир, когда оба противника мобилизуются, рассчитывая при этом на демобилизацию друг друга. Эта война также имеет свой фронт и свои средства, с помощью которых она сжигает и уничтожает, а также лишает людей перспектив и обращается с ними как с материалом, предназначенным для высвобождающейся Силы. Этот фронт противостоит «деморализующим», терроризующим и обольщающим мотивам дня. Он служит разоблачению их характера, выступает протестом, за который платят кровью. Эта кровь не течёт, но гниёт в тюрьмах, в изгнании, в уничтоженных жизненных планах и возможностях, – и она опять потечёт, как только Сила посчитает это выгодным. Необходимо понять, что именно здесь находится место, где разыгрывается собственная драма свободы; свобода не наступит «когда-нибудь потом», когда будет окончена борьба, но именно в этой борьбе её место – punctum saliensf, высшая точка, с которой можно обозревать поле боя. Необходимо понять, что те, кто подвергнут воздействию Силы, свободнее, чем те, кто сидит в тылу и с беспокойством выжидает, когда до него дойдёт очередь. Каким образом «фронтовой опыт» может приобрести ту форму, которая сделала бы его историческим фактором? Почему он им не становится? Потому что в той форме, в которой его так ярко изобразили Тейяр-де-Шарден и Юнгер, – это опыт каждого отдельного человека в наивысшей точке [его жизни], в отношении которой не остаётся ничего иного, как сойти вниз, в повседневность, где человека снова с неизбежностью одолевает война в форме планирования Силой мира. Средством, с помощью которого можно преодолеть это состояние, служит солидарность потрясённых. Солидарность тех, кто сумел понять, о чём идёт речь в [ситуации] жизни и смерти и, в результате, в истории. Потому что история – это и есть конфликт между элементарной, нагой жизнью, скован e f «Сила, действующая сзади» (лат.). «Важный пункт, важное обстоятельство» (лат). 273 Ян Паточка ной страхом, и жизнью в апогее, которая не планирует каждый свой будущий день, но ясно видит, что каждый день, его жизнь и «мир» конечны. Только тот, кто существует, чтобы понять это, кто способен к повороту, к metanoiag, и является духовным человеком. Духовный человек – это тот, кто всегда способен понимать, а его понимание – это не констатирование фактов и не «объективное знание», хотя он должен иметь в своём распоряжении и объективное знание, относя его к сфере тех дел и предметов, которыми он занимается и над которыми имеет преимущество знающего. Солидарность потрясённых, т. е. людей, переживших потрясение в своей вере в «день», в «жизнь» и в «мир», приобретает особое значение именно в эпоху высвобождения Силы. Высвобожденная Сила – это то, без чего не могут существовать «день» и «мир», а также человеческая жизнь, произведённая в мире экспоненциального роста. Солидарность потрясённых – это солидарность тех, кто понимает. Однако понимание в современных условиях должно касаться не только этой основополагающей плоскости, плоскости рабства и свободы по отношению к жизни, оно также должно быть пониманием значения науки и техники, той Силы, которую мы высвобождаем. В руках тех, кто обладает такого рода пониманием, потенциально находятся все силы, опираясь на которые современный человек только и может выжить. Солидарность потрясённых в состоянии сказать «нет» всем тем мобилизационным мероприятиям, которые делают состояние войны непрерывным. Она не будет выдвигать позитивную программу, но будет действовать, как daimonion Сократа, через предостережения и запреты. Она может и должна создать духовный авторитет и стать духовной властью, которая приведёт воюющий мир к его действительным ограничениям и тем самым сделает невозможными определённые действия и операции. Солидарность потрясённых существует в атмосфере преследования и опасности: это её фронт, тихий и избегающий рекламы и сенсаций, который находится даже там, где аппарат насилия господствующей Силы стремится подчинить себе солидарность. Она не боится непопулярности, и даже требует её, и взывает тихо, без слов. Человечество не вступит на почву мира, отдав себя на откуп заботам повседневности и поддавшись её обещаниям. Тот, кто предаёт эту солидарность, должен осознать, что он потворствует войне и является её паразитом в тылу, питающимся кровью других. Особенно активно осознание этого поддерживают жертвы фронта потрясённых. Смысл, который возвышается над апогеем человеческой жизни и над сопротивлением Силе и который g 274 Метанойя (греч. μετάνοια, букв. «после ума») – термин, обозначающий сожаление о чём-то свершившемся, раскаяние (особенно в психологии и психотерапии); в религиозной (особенно раннехристианской) традиции зачастую несёт смысловое значение покаяния. Войны XX-го века и XX-й век как война необходимо достигнуть, преодолев Силу, заключается в способствовании тому, чтобы каждый, кто понимает, почувствовал внутреннее неудобство своей конформистской позиции. Тем самым достигается то, что техническая компонента духа, «техническая интеллигенция» в лице прежде всего исследователей и практиков, первооткрывателей и инженеров начинает чувствовать дуновение этой солидарности и действовать в согласии с ней. Необходимо потрясти повседневность тех, кто привержен фактам и находится во власти рутины. Необходимо показать, что их место по сю сторону фронта, а отнюдь не на стороне бравурных, самодовольных лозунгов «дня», которые в действительности призывают к войне, будь то во имя народа, государства, бесклассового общества, мирового единства, и которые, как и любые другие произнесённые или будущие призывы, уже дискредитированы и легко могут быть дискредитированы в будущем благодаря фактической решительности и беспощадности Силы. В самом начале истории Гераклит Эфесский сформулировал идею войны как такого божественного закона, который лежит в основании всего человеческого. Он не имел в виду «войну» в значении экспансии «жизни», но понимал её как доминирование Ночи, как волю к свободе риска в aristeiah, в том удержании на границе человеческих возможностей, которое выбирают самые лучшие люди, отдающие предпочтение не бренным вещам и эфемерному продолжению удобной жизни, а вечной славе в памяти смертных.9 Эта война (полемос) является матерью всех законов полиса, как и всего сущего в целом: одних она объявляет рабами, других – свободными.10 Но и свободная человеческая жизнь имеет ещё одну вершину над собой. Война способна обнаружить, что некоторые среди свободных способны стать богами, достигнуть области божественного, то есть того, что образует последнее единство и последнюю тайну бытия. Это те, кто понимает, что polemos – это не нечто одностороннее, что polemos не разделяет, а связывает,11 так что противники только кажутся изолированными, в действительности же они связаны друг с другом в совместно переживаемом потрясении повседневности. Они понимают, что таким образом достигли того, что длится во всём и всегда, поскольку образует источник всего сущего и, следовательно, образует божественное. То же самое ощущение и ту же возможность видения описывает Тейяр, когда на фронте переживает сверхчеловеческое божественное. Юнгер же однажды заметил, что идущие в атаку друг на друга становятся двумя частями одной единственной силы, сливаются в единое тело, и добавил: «В одно тело – это сравнение определённого вида. Тот, кто понимает это, тот принимает и себя, и врага, тот живёт одновременно и в частях, и в целом. Тот может помыслить божество, у которого между пальцев скользят эти пестрые нити, – божество с улыбкой на устах».12 h «Доблесть» (греч.). 275 Ян Паточка Случайность ли это, что два самых глубоких теоретика фронтовых переживаний, которые во всех остальных вопросах принципиально отличаются друг от друга, приходят к сравнениям, которые становятся новой версией Гераклитова видения бытия как polemos? Или тут открывается нечто, принадлежащее неопровержимому смыслу истории западного человечества, который сегодня становится смыслом человеческой истории вообще? Перевод с чешского Павла Прилуцкого Выполнен по: Patočka J. Kacířské eseje o filozofii dějin // Patočka J. Péče o duši, Sebrané spisy. Sv. III str. 13–144, OIKOYMENH, Praha, 2002. S. 127–141. Примечания 1 2 3 6 4 5 7 8 9 12 10 11 276 Diels H., Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin, 1951: Heraklit, B 1. Jünger E. Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt (1932). In: Sämtliche Werke, 2. Abt.: Essays II, Bd. 8: Der Arbeiter. Stuttgart, 1981. См.: Sieburg F. Gott in Frankreich? Frankfurt/M., 1929; erweiterter Neudruck, 1954. Teillhard de Chardin P. Écrits du temps de la guerre. Paris, 1965. S. 210. Ibid. S. 201. См.: Jünger E. Die totale Mobilmachung (1930). In: Sämtliche Werke, 2. Abt.: Essays I, Bd. 7: Betrachtungen zur Zeit. Stuttgart, 1980. См.: Barbusse H. Le Feu. Journal d’une escouade. Paris, 1916; sowie Ders., Charté. Paris, 1919. Lewin K. Kriegslandschaft. In: Zeitschrift für angewandte Psychologie, XII (1917). S. 440–447. Diels H., Kranz W. Op. cit.: Heraklit, B 29. Ibid: Heraklit, B 53. Ibid: Heraklit, B 80. Jünger E. Der Kampf als inneres Erlebnis, Sämtliche Werke. 2. Abt.: Essays I, Bd. 7: Betrachtungen zur Zeit. Stuttgart, 1980. Об авторах Ольга Шпарага – кандидат философских наук, редактор Интернет-журнала «Новая Эўропа» (http://n-europe.eu), доцент факультета философии и политических наук Европейского гуманитарного университета (г. Вильнюс, Литва). Автор перевода на русский язык книги М. Мерло-Понти «Видимое и невидимое» (Минск, 2006). Область интересов: феноменология тела и Другого, междисциплинарные исследования публичной сферы, отношения эстетики и политики, современные трансформации идеи Европы. Владимир Фурс – доктор философских наук, профессор факультета философии и политических наук ЕГУ, автор трёх научных монографий (Социальная философия в непопулярном изложении. Вильнюс, 2006; Контуры современной критической теории. Минск, 2002; Философия незавершённого модерна Ю. Хабермаса. Минск, 2000). Сфера научных интересов: современная социальная теория, социальная и политическая философия. Григорий Миненков – кандидат философских наук, профессор, декан факультета философии и политических наук ЕГУ, директор Центра дистанционного обучения ЕГУ, автор пяти научных монографий и учебных пособий, более 100 статей. Область научных интересов: социальная философия и теория, в частности многообразные измерения идентичности, теория и практика высшего образования. 278 Об авторах Альмира Усманова – кандидат философских наук, профессор факультета социальных наук ЕГУ. Автор одной научной монографии, соавтор и составитель ряда коллективных монографий и учебных пособий. Область научных интересов: исследования современной визуальной культуры, гендерные исследования, семиотика. В настоящее время работает над монографией, посвящённой проблемам визуальной истории (на материале советского кинематографа). Пётра Рудкоўскі – магістар багаслоўя (Папская Акадэмія Навук у Кракаве), магістрант філязофіі (Ягелёнскі ўнівэрсытэт), публіцыст ARCHE. Абсяг навуковых зацікаўленьняў: сацыяльная філязофія, мэтадалёгія навук, псыхааналіз, філязофія рэлігіі, біблістыка. Андрей Горных – кандидат философских наук, доцент факультета социальных наук ЕГУ. Автор научной монографии Формализм: от структуры к тексту и за его пределы. Минск, 2001. Сфера научных интересов: критическая теория и современный психоанализ. Анатолий Паньковский – выпускник философской аспирантуры ЕГУ (2003). Независимый политолог, соредактор сайта «Наше мнение» (www.nmnby.org). Алексей Пикулик – Master of Research in Political Science (EUI, Florence), Master���������������������������������������������������������������������������� of������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� Arts�������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ in����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� Sociology������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� and��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ Social�������������������������������������������� �������������������������������������������������� Anthropology������������������������������� ������������������������������������������� (����������������������������� CEU�������������������������� , Budapest���������������� ������������������������ ), докторант факультета политических и социальных наук Института Европейского Университета (European University Institute) (Флоренция). Круг академических интересов: институциональная теория, экономическая социология, трансформация постсоветского пространства, компаративный капитализм. 279 Научное издание Европейская перспектива Беларуси: интеллектуальные модели в авторской редакции Научный редактор О. Шпарага Корректор Е. Ладо Компьютерная верстка О.Э. Малевича На обложке использован фрагмент коллажа Е. Мартинович Взгляды авторов не всегда совпадают с мнением редакции. Издательство Европейского гуманитарного университета г. Вильнюс, Литва www.ehu.lt e-mail: [email protected] Подписано в печать 29.11.2007. Формат 60х901/16. Бумага офсетная. Гарнитура «GaramondNarrow». Усл. печ. л. 17,5. Тираж 200 экз. Заказ № Отпечатано «Petro Ofsetas» Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius