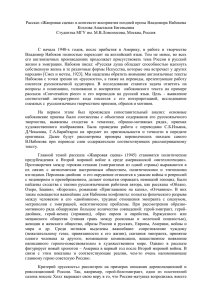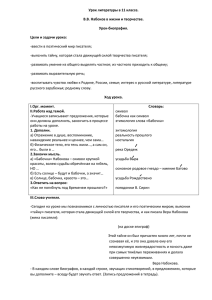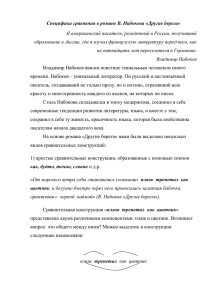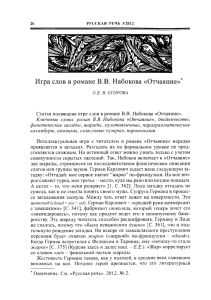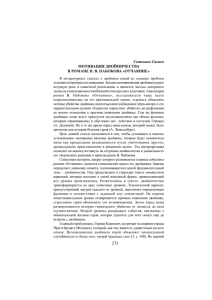художественному произведению (трилогии), по словам ... проявлять «свою погранично-связывающую
реклама
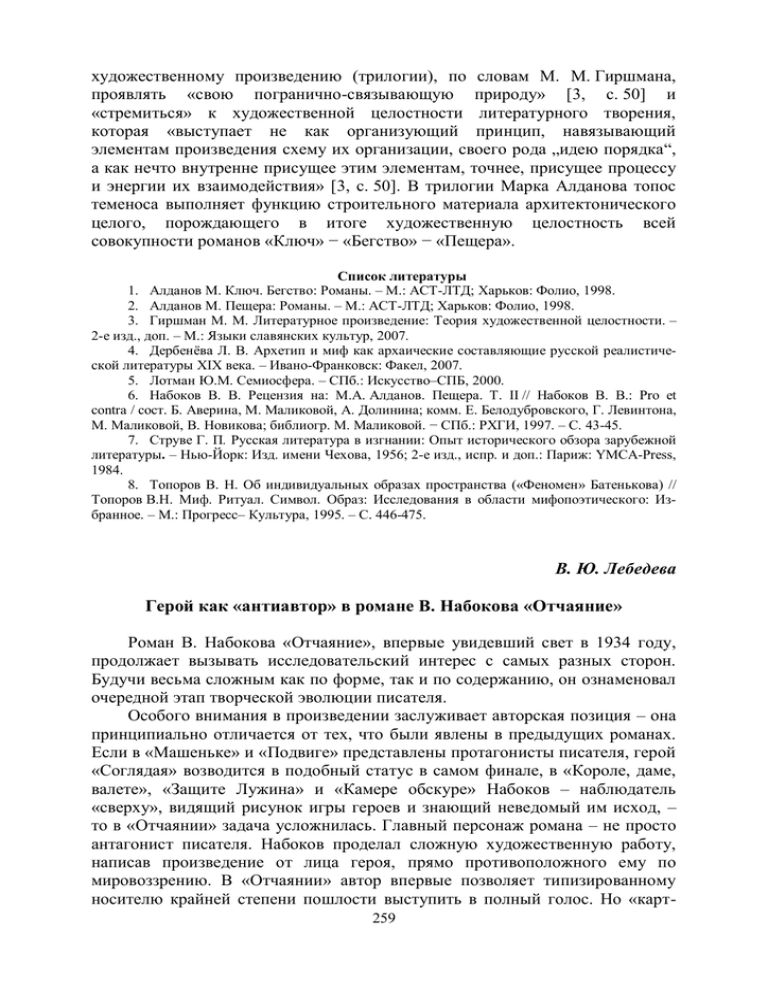
художественному произведению (трилогии), по словам М. М. Гиршмана, проявлять «свою погранично-связывающую природу» [3, с. 50] и «стремиться» к художественной целостности литературного творения, которая «выступает не как организующий принцип, навязывающий элементам произведения схему их организации, своего рода „идею порядка“, а как нечто внутренне присущее этим элементам, точнее, присущее процессу и энергии их взаимодействия» [3, с. 50]. В трилогии Марка Алданова топос теменоса выполняет функцию строительного материала архитектонического целого, порождающего в итоге художественную целостность всей совокупности романов «Ключ» − «Бегство» − «Пещера». Список литературы 1. Алданов М. Ключ. Бегство: Романы. – М.: АСТ-ЛТД; Харьков: Фолио, 1998. 2. Алданов М. Пещера: Романы. – М.: АСТ-ЛТД; Харьков: Фолио, 1998. 3. Гиршман М. М. Литературное произведение: Теория художественной целостности. – 2-е изд., доп. – М.: Языки славянских культур, 2007. 4. Дербенёва Л. В. Архетип и миф как архаические составляющие русской реалистической литературы XIX века. – Ивано-Франковск: Факел, 2007. 5. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство–СПБ, 2000. 6. Набоков В. В. Рецензия на: М.А. Алданов. Пещера. Т. II // Набоков В. В.: Pro et contra / сост. Б. Аверина, М. Маликовой, А. Долинина; комм. Е. Белодубровского, Г. Левинтона, М. Маликовой, В. Новикова; библиогр. М. Маликовой. − СПб.: РХГИ, 1997. – С. 43-45. 7. Струве Г. П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. – Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1956; 2-е изд., испр. и доп.: Париж: YMCA-Press, 1984. 8. Топоров В. Н. Об индивидуальных образах пространства («Феномен» Батенькова) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. – М.: Прогресс– Культура, 1995. – С. 446-475. В. Ю. Лебедева Герой как «антиавтор» в романе В. Набокова «Отчаяние» Роман В. Набокова «Отчаяние», впервые увидевший свет в 1934 году, продолжает вызывать исследовательский интерес с самых разных сторон. Будучи весьма сложным как по форме, так и по содержанию, он ознаменовал очередной этап творческой эволюции писателя. Особого внимания в произведении заслуживает авторская позиция – она принципиально отличается от тех, что были явлены в предыдущих романах. Если в «Машеньке» и «Подвиге» представлены протагонисты писателя, герой «Соглядая» возводится в подобный статус в самом финале, в «Короле, даме, валете», «Защите Лужина» и «Камере обскуре» Набоков – наблюдатель «сверху», видящий рисунок игры героев и знающий неведомый им исход, – то в «Отчаянии» задача усложнилась. Главный персонаж романа – не просто антагонист писателя. Набоков проделал сложную художественную работу, написав произведение от лица героя, прямо противоположного ему по мировоззрению. В «Отчаянии» автор впервые позволяет типизированному носителю крайней степени пошлости выступить в полный голос. Но «карт259 бланш», предоставленный герою, на поверку оказывается хитроумным приемом. Писатель, который, по меткому замечанию А. Савельева, «не рассказывает, а только показывает» [5, с. 59], заставляет Германа совершить нравственный самосуд, о котором тот не догадывается. Догадаться следует проницательному читателю, разделяющему набоковскую аксиологию. Впрочем, персонаж не остается без явного, ощутимого жестокого наказания: он расплачивается за свои поступки отчаянием, одним из самых страшных душевных состояний, какие может испытать человек. В романе исследуется тема внутренней слепоты, наиболее остро заданная в одном из предыдущих произведений «Камера обскура». Эта тема соединилась в «Отчаянии» с повествованием от первого лица, ранее представленном в «Соглядатае». Априорность духовной мертвенности героя ставит роман в один ряд с «Королем, дамой, валетом». Главный персонаж «Отчаяния» – полунемец-полурусский Герман (имя, вероятно, является аллюзией на «Пиковую даму» Пушкина; при таком подходе оно выступает знаком непременного и нежданного «проигрыша» героя после совершенного им преступления). Он с первых строк заявляет о своей литературной одаренности, могучей писательской силе. «Установка на литературность рассказа значительно усложняет его структуру по сравнению с «Соглядатаем», где повествование представляло собой условный, не локализованный в пространстве и времени монолог, сама природа которого нерелевантна. В «Отчаянии» мы имеем дело с литературным произведением героя, мнящего себя художественным гением, с его «документальной повестью» о своей жизни» [1, III, с. 37]. Обращает на себя внимание явное пародийное начало романа. По справедливому замечанию А. Долинина, Набоков «сводит счеты» с декадентством и «достоевщиной» советских писателей 20-х годов, с «парижской школой», превыше всего ставящей «человеческий документ», с эмигрантскими «большевизанами» и западными левыми интеллектуалами [1, III, с. 37]. В романе также имеют место постоянная игра персонажа с временными планами и ввод в повествование метауровня – рефлексии рассказчика по поводу своего текста. «Отчаяние» – своего рода стилизация под крайне посредственное литературное произведение, в подтверждение чему писатель вводит в оборот речи Германа «перлы» вроде «могучий автобус моего рассказа», «закон, который запрещает проливать красненькое», «сердце чешется» и «на веревке надувались мнимой жизнью подштанники». Иногда сумбурный рассказ героя становится явной пародией на «поток сознания». Берлинский коммерсант и писатель-дилетант Герман хотел бы ошеломить своей историей. Им задумано «идеальное» преступление: он собирается застраховать свою жизнь, а затем, поменявшись одеждой и документами со случайным бродягой, показавшимся ему «двойником», убить его и уехать за границу, где к нему присоединится жена Лида, получившая страховку. Созданное им повествование должно послужить доказательством его недюжинного художественного таланта и незаурядного ума. Герою удается ввести в заблуждение Лиду и совершить преступление (характерно, что он убивает «двойника» исподтишка, выстрелом в спину, когда тот в неведении отвернулся). Далее события 260 развиваются непредсказуемым для Германа образом: «глупая» полиция не замечает его сходства с Феликсом, обнаруживает улики и преступление раскрывается. «Автор» ошеломлен, раздосадован и в итоге впадает в отчаяние. Заслуживает внимания точка зрения исследователя Н. Макаричевой, считающей, что в числе причин отчаяния Германа – утрата им своего «я», произошедшая после обмена ролями с Феликсом: «Процесс раздвоения личности и постепенная утрата способности самоидентификации неизбежно приводят к экзистенциальной проблеме подлинности существования человека. Нормальная человеческая логика отрицает возможность одновременного существования двойников и требует, чтобы один из них исчез, признал себя «несуществующим», «нереальным». Но человек, который не в силах определить, какое «я» подлинное, какое мнимое, или отрицает свое повторение, или ставит под вопрос собственное существование» [2, с. 47]. Тут стоит вспомнить, как боролся за свое «я» протагонист Набокова Цинциннат Ц. в одном из последующих романов – «Приглашении на казнь». Вместе с тем Герман жаждет остаться в веках и пишет книгу, намереваясь «добиться признания, оправдать и спасти» свое детище. От первого лица версия событий изложена самонадеянным графоманом, и в пику ей произведение изобилует массой опровергающих улик, свидетельствующих об изъянах сознания персонажа. Это ошибки памяти, восприятия (прежде всего зрительного – в связи с чем функционален мотив слепоты: состояния, на метафизическом уровне присущего всем отрицательным персонажам В. Набокова), ошибки ума и ошибки в интерпретации цитируемых литературных текстов. В «Отчаянии» реализована заявленная еще в романе «Король, дама, валет» идея о бездарной и примитивной сущности преступлений, равно как и их исполнителей, чей удел – деструктивные наклонности, агрессивная посредственность. Таков и Герман, являющийся воплощением пошлости; знаменательно его гордое признание о своей принадлежности к «сливкам мещанства». Ряд исследователей, в частности, С. Семенова, склонны видеть в Германе alter ego автора, но одна лишь указанная самохарактеристика персонажа должна вызывать явное сомнение в правильности такого подхода. Дальнейший ход повествования уже не дает возможности усомниться в том, что Герман – явный антагонист писателя. Как уже отмечалось выше, своеобразие этого метафизического мертвеца состоит в том, что он представлен идеологом определенных эстетических, социальных и онтологических конструкций. Известно, насколько негативно Набоков относился к коммунистическому строю и сопутствующей ему идеологии. Можно, в частности, привести мысли на этот счет самого близкого писателю персонажа, главного героя романа «Дар» ГодуноваЧердынцева, который, будучи в эмиграции, представил однажды «казенные фестивали в России, долгополых солдат, культ скул, исполинский плакат с орущим общим местом в ленинском пиджачке и кепке, и среди грома глупости, литавров скуки, рабьих великолепий, – маленький ярмарочный 261 писк грошовой истины» [3, III, с. 322-323]. Герман, напротив, настолько сочувствует коммунизму, что его размышления даны практически в духе антиутопии: «Но я действительно так думаю, то есть действительно думаю, что надобно что-то такое изменить в нашей пестрой, запутанной, неуловимой жизни, что коммунизм действительно создаст прекрасный квадратный мир одинаковых здоровяков, широкоплечих микроцефалов» [4, III, с. 408]. Главный герой вообще не отличается человеколюбием, будучи преступником по определению. Сначала он признается в «склонности к ненасытной, кропотливой лжи», заключающей в себе тягу к «беззаконию», даже упоминает «карикатурное сходство с Раскольниковым». Потом идет дальше и озвучивает специфический силлогизм: «Предположим, я убил обезьяну. Не трогают. Предположим, что это обезьяна особенно умная. Не трогают. Предположим, что это обезьяна нового вида, говорящая, голая. Не трогают. Осмотрительно поднимаясь по этим тонким ступеням, можно добраться до Лейбница или Шекспира и убить их, и никто тебя не тронет, - так как все делалось постепенно, неизвестно, когда перейдена грань, после которой софисту приходится худо» [4, III, с. 526-527]. Здесь Набоков сводит счеты с дарвинизмом, столь близким сердцу коммунистов, поставившим человека на одну планку с представителями животного мира. Герман не останавливается перед тем, чтобы использовать ничего не подозревающего ребенка в своих целях – просит незнакомую девочку своей рукой опустить письмо в почтовый ящик: «Ах, кстати, кстати… она подрастет, эта девочка, будет хороша собой и, вероятно, счастлива, и никогда не будет знать, в каком диковинном и страшном деле она послужила посредницей, - а впрочем, возможно и другое: судьба, не терпящая такого бессознательного, наивного маклерства, завистливая судьба, у которой самой губа не дура, которая сама знает толк в мелком жульничестве, жестоко девочку эту покарает, за вмешательство, а та станет удивляться, почему я такая несчастная, за что мне это, и никогда, никогда, никогда ничего не поймет. Моя же совесть чиста. Не я написал Феликсу, а он мне, не я послал ему ответ, а неизвестный ребенок» [4, III, с. 473]. Здесь показаны как трусость главного героя, так и его интуитивное ощущение трансцендентного жизненного начала. Герман осознает ответственность перед судьбой, стремится избежать справедливого возмездия и проявляет скудоумие, надеясь обмануть высшие силы посредством мелкого жульничества. В религиозном плане герой естественно, убежденный атеист: «Если я не хозяин своей жизни, не деспот своего бытия, то никакая логика и ничьи экстазы не разубедят меня в невозможной глупости моего положения – положения раба Божьего… <…> Но беспокоиться не о чем, Бога нет, как нет и бессмертия, – это второе чудище можно так же легко уничтожить, как и первое» [4, III, с. 458]. Подобное высказывание дало повод некоторым исследователям (в частности, С. Семеновой) считать Набокова экзистенциальным атеистом, дерзко прокламирующим свою антирелигиозную установку. Однако едва ли писатель стал бы неожиданно выражать собственную мировоззренческую позицию устами героя262 антагониста, чья идейная несостоятельность доказывается уверенно и беспощадно. Тем более, в конечном итоге Герман действительно оказывается рабом Божьим, не постигшим своим слабым умом сложный рисунок жизни и должным понести кару за преступление. Как известно, приставка «анти-» имеет два значения: «вместо» и «против»; оба они реализованы в произведении. Герман – «антиавтор» не только потому, что повествует от первого лица, словно бы замещая самого творца, пытаясь создать в его Вселенной свой мир, но и потому, что выступает сознательным идейным и творческим противником Набокова. Последний присутствует в произведении перманентно: его можно предполагать под маской некоего живущего поблизости русского писателяэмигранта – ему Герман хочет послать свою книгу, чтобы доказать превосходство над ним. (Интересно мнение Н. Макаричевой, считающей что «агрессия героя по отношению к невидимому собеседнику – реакция на непризнание со стороны «других» [2, с. 47]). Таким образом, в романе-обличении «Отчаяние» авторская позиция определяется весьма замысловатым (и способным ввести ряд читателей в заблуждение) образом – по принципу «от противного». Однако прямым взглядам писателя в произведении тоже находится место. Их выражает противостоящий Герману в творческом ключе подлинный художник Ардалион. Он формулирует мысль о том, что одаренная личность «видит именно разницу», а сходство «видит профан», и утверждает уникальность всего сущего. Список литературы 1. Долинин А. А. Истинная жизнь писателя Сирина: от «Соглядатая» - к «Отчаянию» // Набоков В. В. Русский период. Собрание сочинений в 5 т. – СПб.: Симпозиум, 2000. – Т. 3. 2. Макаричева Н. А. Экзистенциальные «уроки» Ф. М. Достоевского в творчестве Л. Андреева и В. Набокова. – Магнитогорск: Изд-во МаГУ, 2002. 3. Набоков В. В. Дар // Набоков В. В. Собр. соч. в 4 т. – М.: Правда, 1990. – Т. 3. 4. Набоков В. В. Отчаяние. Роман // Набоков В. В. Русский период. Собр. соч. в 5 т. – СПб.: Симпозиум, 2000. – Т. 3. 5. Савельев А. Рец.: «Современные записки». Книга 41 // Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии. Сост. Н. Мельников. – М.: Новое литературное обозрение, 2000. И. П. Калинина «Горит село, горит родное… »: истоки публицистичности повести В. Г. Распутина «Пожар» Повесть В.Г. Распутина «Пожар», впервые опубликованная в 1985 году в журнале «Наш современник», по большей части была оценена критикой как излишне публицистическая. В то же время сам писатель никогда не видел непреодолимой преграды между собственно публицистикой и художественной прозой, считая, что «для русской литературы как раз 263