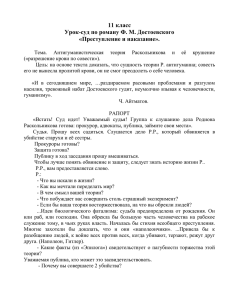1912 (Манифест молодых писателей) Мы, нижеподписавшиеся
реклама
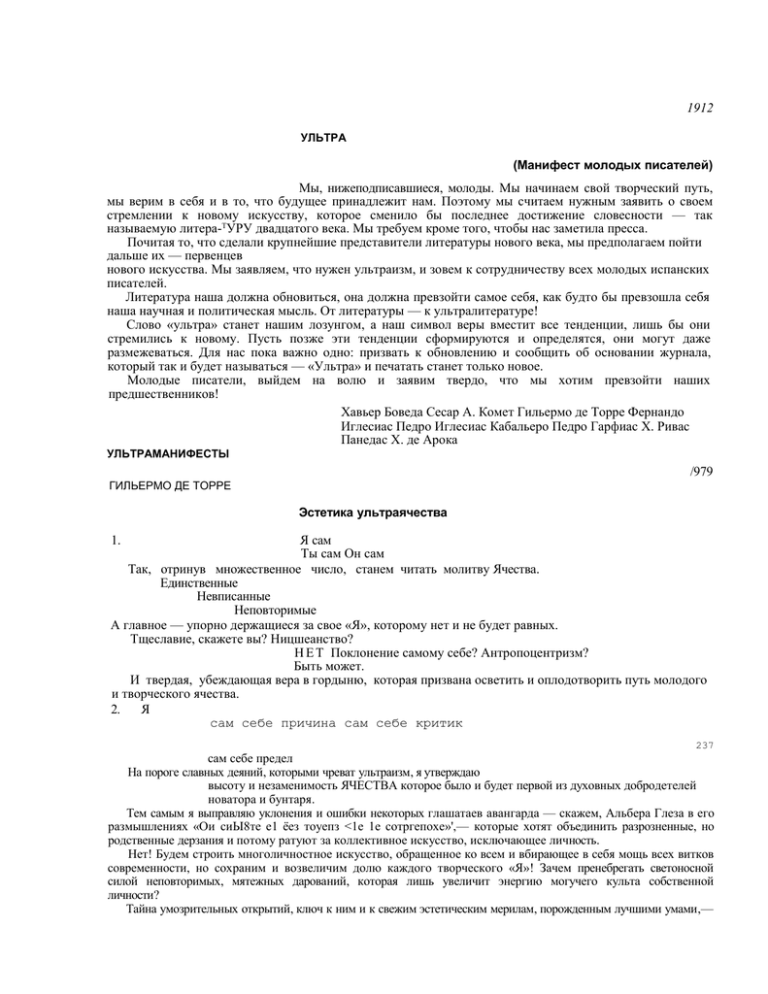
1912
УЛЬТРА
(Манифест молодых писателей)
Мы, нижеподписавшиеся, молоды. Мы начинаем свой творческий путь,
мы верим в себя и в то, что будущее принадлежит нам. Поэтому мы считаем нужным заявить о своем
стремлении к новому искусству, которое сменило бы последнее достижение словесности — так
называемую литера-ТУРУ двадцатого века. Мы требуем кроме того, чтобы нас заметила пресса.
Почитая то, что сделали крупнейшие представители литературы нового века, мы предполагаем пойти
дальше их — первенцев
нового искусства. Мы заявляем, что нужен ультраизм, и зовем к сотрудничеству всех молодых испанских
писателей.
Литература наша должна обновиться, она должна превзойти самое себя, как будто бы превзошла себя
наша научная и политическая мысль. От литературы — к ультралитературе!
Слово «ультра» станет нашим лозунгом, а наш символ веры вместит все тенденции, лишь бы они
стремились к новому. Пусть позже эти тенденции сформируются и определятся, они могут даже
размежеваться. Для нас пока важно одно: призвать к обновлению и сообщить об основании журнала,
который так и будет называться — «Ультра» и печатать станет только новое.
Молодые писатели, выйдем на волю и заявим твердо, что мы хотим превзойти наших
предшественников!
Хавьер Боведа Сесар А. Комет Гильермо де Торре Фернандо
Иглесиас Педро Иглесиас Кабальеро Педро Гарфиас X. Ривас
Панедас X. де Арока
УЛЬТРАМАНИФЕСТЫ
/979
ГИЛЬЕРМО ДЕ ТОРРЕ
Эстетика ультраячества
1.
Я сам
Ты сам Он сам
Так, отринув множественное число, станем читать молитву Ячества.
Единственные
Невписанные
Неповторимые
А главное — упорно держащиеся за свое «Я», которому нет и не будет равных.
Тщеславие, скажете вы? Ницшеанство?
Н Е Т Поклонение самому себе? Антропоцентризм?
Быть может.
И твердая, убеждающая вера в гордыню, которая призвана осветить и оплодотворить путь молодого
и творческого ячества.
2.
Я
сам себе причина сам себе критик
237
сам себе предел
На пороге славных деяний, которыми чреват ультраизм, я утверждаю
высоту и незаменимость ЯЧЕСТВА которое было и будет первой из духовных добродетелей
новатора и бунтаря.
Тем самым я выправляю уклонения и ошибки некоторых глашатаев авангарда — скажем, Альбера Глеза в его
размышлениях «Ои сиЫ8те е1 ёез тоуепз <1е 1е сотргепохе»',— которые хотят объединить разрозненные, но
родственные дерзания и потому ратуют за коллективное искусство, исключающее личность.
Нет! Будем строить многоличностное искусство, обращенное ко всем и вбирающее в себя мощь всех витков
современности, но сохраним и возвеличим долю каждого творческого «Я»! Зачем пренебрегать светоносной
силой неповторимых, мятежных дарований, которая лишь увеличит энергию могучего культа собственной
личности?
Тайна умозрительных открытий, ключ к ним и к свежим эстетическим мерилам, порожденным лучшими умами,—
в предельном возвеличении единственной, исключительной личности; в рождении, росте и вызревании именно
этого Я, запечатленного славной печатью неповторимости и неотторжимости. Оборвав пуповину былых «влияний»
и влекущих вспять реминисценций, должен родиться ТЫ САМ, несущий весть другому.
Мы похожи друг на друга, мы близки, темпераменты наши кровно связаны, но сквозь единство это незаметно
проходит черта, разделяющая личные, неповторимые оттенки заведомо свободной мысли.
Ячество! Торжество «Е§о» над аморфной пошлостью уравниловки. «Е§о», живущего в могучем ритме
духовного избранничества.
3. Ячество — высший синтез всех родственных течений, которые наперебой пытаются овладеть доблестным
бастионом духовного авангарда.
Потому осознающая себя, исполненная жизни личность больше всего на свете хочет одного: самобытности.
Нам особенно близок герой, который мучительно тщится разгадать тайну собственного Я. Так, Пер Гюнт у
Ибсена, остановившийся в сомнении, как герой сказки, перед загадками Великой Кривой, хочет выведать у
этого египетского сфинкса тайну своего «я», растворившегося и распавшегося, пока он, словно во сне, бродил по
жизни кривыми путями.
Могучий Уолт Уитмен, вобравший в себя и возвестивший миру биение толп, славит в «Песне самому себе»
неповторимые доблести своего громоподобного Я, умножившего то, что дано
ему при рождении, и с дивной легкостью выражающего себя в космических частицах.
Мне кажется, своеобычность — не в том, чтобы высветить видимым светом новые горизонты прекрасного.
Она — внутри нас, когда проясняется наш бодрствующий разум, мы порождаем ее непроизвольно и
внеразумно. Ее приуготовляют долгие размышления, словно в сознании нашем творят свое тайное дело железы
внутренней секреции. И выйдя наружу, своеобычность творит новые структуры, ставит небывалые цели,
пролагает нехоженые, невиданные пути сквозь мглу запредельных просторов.
4. Но как определить и очертить, чем ценны, чем неповторимы, неотъемлемы и врожденны самовыражения
художника или писателя-новатора? Как различит он драгоценный камень самобытности среди свойств и
дарований, которые есть у него, но не у него одного?
А вот как, друзья мои! Озирайтесь вокруг, глядите сквозь косную толпу, прикладывайте ухо к бесстрастным
сердцам и непроницаемым лбам. Вы услышите глухой ропот непонимания или предвзятого презренья к тому,
что мы творим. Но вот кто-то протянет руку, вытянет палец, ткнет в какую-то фразу и предъявит нам
конкретный упрек.
Тогда, минуя обиду, радуйтесь странной радостью и кричите: вот оно, ваше и только ваше «я»! Палец
невежды, движимый злобой или пошлостью, сурово карает мою фразу и тем высвечивает ее и обнаруживает ту
самую особенность, то еще небывалое, что отличает именно меня и, преломляясь в сознании рядового читателя,
вызывает его невысказанное негодование. «Се яие 1е риЬНс 1е гергосЬе, си1{1Уе-1е, с'е81 1см»1,— мудро
советует нам Жан Кокто в «Петухе и Арлекине», молитвеннике авангардиста. Кокто дает нам мерило нашей
самобытности,— ведь ей ни за что не пробиться сквозь шкуру заурядного человека. И впрямь, читатель наш,
слушатель или зритель — над книгой стихов, в концерте, в театре — непременно проявит недовольство всем,
что не впишется в принятые нормы, в дурацкие условности и прочные привычки. Следя за его круглой
физиономией, мы обнаружим то, что у нас самобытно,— оно выйдет за рамки его понимания...
Ты нетерпеливо перебил меня, мой почтенный читатель. Нет, в этом откровенном признании я не играю
парадоксами; я ни в малой мере не смеюсь над твоим сословием и не желаю ему зла. Ненависть тупицы и
равнодушие литератора всегда обрамляют у нас чертой молчания и презрения неповторимые и самобытные
сокровища, которые несут стране посланцы новых поколений. Так случилось и с нами, ультраистами, когда мы,
порвав пуповину, дерзновенно возвестили о себе.
5. Мучительно ощущение одиночества и несвободы, когда ты страдаешь от избытка своеобычности. Но в то же
время как
«О кубизме и как его понять» (франц.).
1
Взрасти то, чем тебя попрекает читатель, ибо это—ты (франц.).
прекрасно, что ты вознесен над окружающей заурядностью, чужд ей и непонятен! Только вера в свою высоту,
только избранность, только упоение своим «я» поддержит нас в благородном и тяжком одиночестве. Только
они помогут нам бесстрастно глядеть, как скопища паясничающих павианов, перепевая старомодные пошлости,
красуются на низкопробных выставках псевдолитературы, тогда как мы обречены на одиночество и
безвестность. А все же теперь и у нас, порождающих пламенную поэзию будущего, есть свои радости, и будут
еще!
6. Так примемся же, братья мои и поэты, исповедовать единственную религию ячества! Доведем до предела
наши особенности и возможности, вознесем их над серостью, царящей вокруг, выйдем за пределы заурядности.
Провозгласим же ЯЧЕСТВО — вершину, куда стремятся все пути авангарда! Сольем воедино наши голоса!
Пусть наш вещий клич прорвет нетронутую пелену небес.
Призыв к богохульству
Отрицание — начало сомнения.
Сомнение родит мятеж разума.
Из вихря тайны властно встает Новый Человек и доблестно противоборствует чуждой среде, отдаляясь от
нее или против нее бунтуя. Последнее содроганье мятежного страха, разряжаясь словом, дарит миру жестокие,
кощунственные стихи.
Мы, ультраисты, высадились на левый берег. Рубеж позади. Преисполненные разрушительного пыла, мы
хотим все преобразить, очистить и строить заново в светлом, как заря, порыве (об этом читайте мою
«Вертикаль»). Мы, авангард будущего, чувствуем, как возникает новый мир, новый простор. Но пока еще
длится трудный предутренний час, нас гонят и осмеивают, а мы отвечаем сокрушительным отрицаньем, резко
отделяя себя от врага.
На том берегу спит смертоносным сном тяжкая глыба — подслеповатая, слабоумная публика. Поймите
правильно эту брань — к туманному понятию публики, к этой низкопробной массе, я причисляю ради вящего
пренебреженья замшелых поставщиков царящего ныне лжеискусства, жуликоватых сутенеров, бесстыдно
скрывающих свое бессилие, прелюбодействующих со старухой по имени Академия или в мазохистском раже
отдающих себя на растерзание похотливых покровителей. Поистине гнусно унижение, в котором прозябают
пошлые прислужники тайных пороков. Книги их, картины и стихи вконец сбивают людей с толку, читатель и
зритель видит все хуже и рьяно противится нашему всеобновляющему вторжению. Допотопные чудища тем
временем обмениваются тайными знаками, стремясь разъярить толпу и покончить с нами. Но мы смутим их,
хохоча, срывая с них личины, побивая каменьями смеха их благоглупости.
Да, пора высказать все: мы, презирающие прежние проповеди,
240
вводящие новое в жизнь, готовы орать даже то, «чего не говорят об искусстве», как блестящий автор
дадаистских памфлетов Рибмон-Дессень. Мы обнажаем заразу и застой почитаемого всеми слабоумия. Говорим
правду в лицо. Бьем наотмашь, бичуем словом. Рвем в клочья запреты и ханжеские умолчания трусливых
лицемеров. Мы не стесняем себя, когда надо поскорее открыть истину; мы не гнушаемся сортирным
лексиконом, когда надо вскрыть тайные пороки или «духовные добродетели», присущие заурядности:
врожденную трусость, патологический образ мысли, унаследованные от предков залежи заблуждений.
Слушайте и содрогайтесь, словно это каркает вещий ворон: все гниет, все истощено до смерти!
Официальная жизнь и привычные ритуалы — лишь призраки, заражающие трупным ядом. Рядом громоздятся
горы ни мертвого, ни живого. И мы должны также ненавидеть все, что предлагают отсталые поборники
полумер. Их пресную всеядность вполне удовлетворят те, кто ловко балансирует между замшелыми
пошлостями и сверхновыми откровениями. Но им противны наша тяга к свободе и наши явные успехи, они
обвиняют нас в ереси, зовут смутьянами, лженоваторами и вопят, что творчество наше темно и непонятно.
Окажу им честь, опровергая одно за другим их нелепые обвинения. Мы смутьяны и ересиархи? Конечно, как
же иначе, благодарим за комплимент — мы польщены им так же сильно, как разъярены бессчетные невежи —
писаки и трусы-мещане, трясущиеся над своим добром и сожительницами. Мы злорадно смеемся, ибо в
подлинности нашего всеобновляющего творчества сомневаются слабые духом, жалкие созданья, которые,
вообще-то говоря, собравшись с силами, могли бы прыгнуть через голову и понять хоть что-то, если б не
долгие годы бесплодия и застоя. Им кажется, что они-то и есть истинные поборники нового, тогда как на самом
деле они тормозят все новое, страдая неизлечимой отсталостью.
На третье обвинение я отвечу подробней. Да, есть невежественные и темные читатели, которым застит взор
собственная заурядность; именно они и упрекают нас в том, что мы пишем непонятно, что теории наши сложны
и запутаны, а попытки выразить невыразимое неизвестно к чему ведут. Точно зная, какому пороку зрения мы
обязаны этими укорами, я злорадно усмехаюсь, а порой довожу до предела присущие нам лаконизм и игру
словом, чтобы перед ними мелькало, словно в кинематографе, как можно больше образов, новых по самой
своей структуре. Однако на самом деле язык ультраистов предельно прост по сравнению с тягучей жвачкой —
усладой извращенного вкуса.
Нужно безжалостно резануть по живому, чтобы понять, почему публика не может ни разглядеть, ни
принять свалившихся ей на голову нововведений. Если бы я описал, во что публика верит и что думает,
получился бы трактат по психологии чудищ. Грозный дракон, страшный спрут, зверь, не ведающий зла,— вот
24!
в каких образах предстала бы публика, как она есть. Врожденное невежество, которое в своем высокомерном
дендизме прозрел Уайльд, необоримая приверженность старому, верность обычаю искони присущи публике —
их ничем не сломишь. А невыносимей и занятней всего то, что публика непременно спешит утвердить и
высказать свой (как она его пышно называет) «критерий». Неужто у этого убогого скопища есть свой критерий,
свое мерило ценностей? Вопрос риторический; мы в это не верим и заявляем прямо: публика всегда враждебна
новому, она держится за свои предрассудки, противится всякому нежданному вторжению, всему непохожему на
принятые нормы. Никакого критерия у нее нгт, в чем она и расписывается, стараясь удержать и усилить
привычный застой, заповеданный предками. Быть может, когда-то ценности эти и были ценны, но время их
миновало; теперь они, как стена, преграждают путь очистительной лавине поколений, несущих новое.
Однако прямое противление легче вынести, чем претензии публики на роль непогрешимого судии. Как я
говорил, новые творения и новых творцов, выходящих за пределы нормы, упрекают в том, что те непонятны,
недоступны уразуменью заурядности. Конечно, иногда мы намеренно отъединяемся, чтобы достигнуть чистоты
идей или небывалой новизны самовыражения. Тупая публика этого не приемлет, упорно называя темным то,
что стремится к предельной ясности, присущей высокому духу, к которому мы и обращаемся. Но как сказал
Лотреамон в своих «Стихах» — «непонятного нет». А Ницше, предваряя многих теоретиков символизма,
подтверждает эту мысль: «Желает ли творец, чтобы его понял любой? Тонкий и наделенный вкусом поэт
находит своего читателя, когда хочет найти. Выбирая его, он охраняет себя от «остальных». Отсюда и
происходят все тонкие особенности стиля: они отдаляют, создают зазор, запрещают вход непосвященным и
открывают его тем, кто умеет слышать». Точные и ясные эти слова оправдывают эстетическую позицию поэта,
стремящегося в чистой высоте самовыражения и символической замкнутости встать над уровнем
повседневности. Однако я, как и Гегель, полагаю, что «надо понимать непонятное».
Но сейчас нам ни к чему эти оговорки. Мы создаем искусство, нацеленное в будущее, но средства наши
просты и первичны. Потому ли, что мы действительно хотим обратиться к массе, освобожденной от привычных
пороков? Нет, скорее, мы хотим поднять ее на высоты эстетических абстракций. Уже Оскар Уайльд сказал, в
чем тут разница: «Искусство не может стремиться к тому, чтобы все его понимали. Публика, как это ни трудно,
должна подняться к искусству». Не утрачивая высоты, люди искусства втянут нового читателя и зрителя в круг
своих воззрений.
Но чтобы добиться такого сближения, надо преодолеть несколько препятствий. Прежде всего, не совпадают
основные
понятия. Те, кто мнят себя знатоками, верят еще в сусальное Искусство с большой буквы, отводя ему то
священное место, которым некогда наградили его допотопные жрецы. Нам же, ультраистам, совершенно чужды
эти восторги. Мы сводим искусство на землю, лишая его и ложной запредельности, и официального статуса, без
которого его не мыслят пресмыкающиеся чудища. Кроме того, мы свободны от того цехового чувства, которое,
словно список служащих, держит вместе целые поколения тупых и забитых людей. Наперекор смехотворной
пошлости мы вносим в литературу новые мотивы, порожденные жизнью и техникой. Новое чутье помогло нам
открыть их, и мы облекаем их в новую форму, выводя за пределы плоской реальности.
Сметая с пути соглашательскую неподвижность, мы противопоставляем ей могучий и молодой девиз
«Ультра», как противопоставляют дадаисты свое пеп' пустозвонству и пошлости официозного искусства.
Конечно, это выводит из себя бессильных старцев, прозябающих в трясине компромиссов.
Кампания набирает силу, стремится все сокрушить и громко это возвещает. Ретрограды тщетно
обороняются, пытаясь преуменьшить и принизить наш перешедший все пределы порыв. Мы же усмехаемся,
глядя на этих мертвецов, и идем своим путем.
Дабы окончательно утвердить наш разрыв, я предлагаю слить воедино все мятежные действия и злые
насмешки и призываю моих сотоварищей к кощунству. Очистим воздух бранным словом, очень уж навоняли!
Хватит с нас похабных фарсов, в которых еще подвизаются мнимые свободолюбцы! Заявим прямо о том, что
мы — дикари, что мы ни от кого не зависим и защищаем лишь пыл, искренность и своеобычность! Пронзим
пространство богохульной бранью:
Проклятье искусству, порабощенному кровожадной публикой!
..... нелепым «высшим ценностям»!
и т. д., и т.п.
Всю эту и прочую брань вы — учителя действенного богохульства— должны изрыгать стройным
слаженным хором.
1
Ничто (франц.).
1921
24?