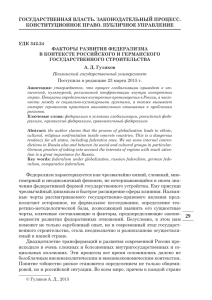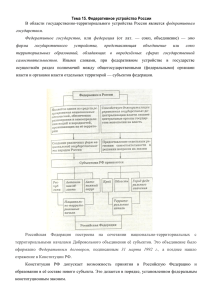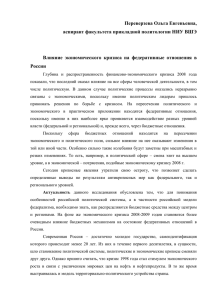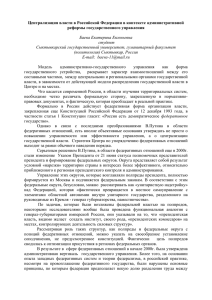сравнительный федерализм и российские проблемы
реклама
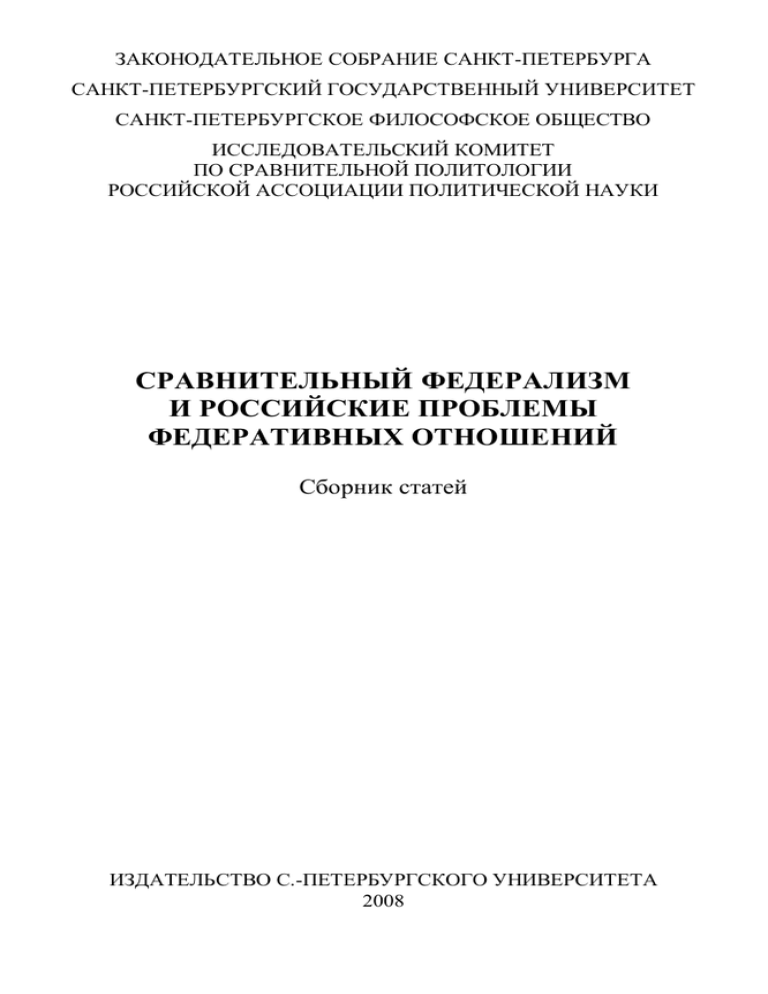
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ПО СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ И РОССИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ Сборник статей ИЗДАТЕЛЬСТВО С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2008 ББК 66.1(0) С75 Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я : проф. Л. В. Сморгунов (отв. ред.), проф. Ю. Н. Солонин (отв. ред.)., проф. В. А. Ачкасов, проф. В. И. Коваленко, проф. Е. В. Морозова, проф. Л. И. Никовская, ст. пр. А. В. Павроз (отв. секр.), проф. Я. А. Пляйс, доц. Д. Н. Разеев, К. Н. Серов, проф. Н. Г. Скворцов. Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета факультета философии и политологии С.-Петербургского государственного университета Сравнительный федерализм и российские проблемы федеС75 ративных отношений. Сборник статей / Под ред. Л. В. Сморгунова, Ю. Н. Солонина. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. 307 с. ISBN 978-5-288-04795-4 Сборник статей посвящен исследованию теоретических и практических проблем федерализма. Сборник включает в себя статьи ученых политологов, философов, социологов, историков, юристов и подготовлен по результатам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современный федерализм: российские проблемы в сравнительной перспективе, 21–22 ноября 2008 г., Санкт-Петербург». Сборник статей предназначен для политологов, социологов, юристов и всех интересующихся вопросами современного федерализма. ББК 66.1(0) © Авторы, 2008 ISBN 978-5-288-04795-4 2 ВВЕДЕНИЕ: ФЕДЕРАЛИЗМ КАК ПРИНЦИП ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА УПРАВЛЯТЬ В последние годы вырос интерес исследователей к сравнительному анализу федеративных государственных устройств. Этот интерес определялся не только «белыми пятнами» в этой тематике, но и изменениями, которыми характеризовалось развитие государств в условиях глобализации. Еще относительно недавно можно было встретить утверждения об упадке и бесперспективности федерализма. Сегодня положение дел изменилось. Традиционные федерации (США, Германия, Австралия, Австрия, Швейцария) в последние десятилетия подверглись различным модификациям, часто серьезным, позволяющим утверждать о переходе части из них от одного федеративного типа к другому. Часть унитарных государственных устройств подверглась вызовам как со стороны глобализации международных отношений, так и со стороны локализации внутренних политических процессов. Такие государства, как Бельгия, Испания, Великобритания, Италия ответили на это либо серьезными процессами децентрализации власти, либо формированием по сути или по конституции федеративных государственных устройств. Создание межгосударственных образований, особенно развитие Европейского Союза, поставило проблему пути, по которому они будут развиваться. Все больший вес в этой связи получали идеи, связанные с построением межгосударственных союзов на принципах федерации. Некоторые федеративные государства перестали существовать в силу ряда причин (СССР, Чехословакия, Югославия) или территориально преобразовались (например, Пакистан в 1971 г. в связи с отделением Восточного Пакистана и образованием самостоятельного государства Бангладеш). Таким образом, проблема федерации стала и теоретически, и практически актуальной. Общим понятием для избранной темы сборника является понятие федерализма. Оксфордский словарь по политологии дает следующее 3 его определение: «Термин предполагает, что все могут быть удовлетворены (или никто постоянно не испытывает неудобства) хорошим объединением национальных и региональных/территориальных интересов внутри сложной структуры сдержек и противовесов между центральной, или национальной, или федеральной системой управления, с одной стороны, и множеством региональных систем, с другой стороны» (McLean, 1996, 179). Это определение фиксирует отношения между центральными и региональными органами власти и управления, построенные на основе разделения властей. Оно близко определению федерации, хотя и включает более широкий контекст. В этом отношении более точными являются определения федерализма, исходящие из его понимания как некоторой нормативной структуры, определенной наличием прав на самоуправление различных групп и/или территорий в рамках объединенной политической системы. Здесь понятие федерализма относится к любой системе управления, где наблюдается сочетание единства и разнообразия в управлении и где существуют какие-либо структуры, имеющие особый статус управления. Пожалуй, трудно согласиться с таким широким пониманием федерализма, если не учитывать, что право на самоуправление здесь включает нечто большее, чем право на местное самоуправление, а именно политическую автономию, суверенитет и способность региональных частей влиять на решения центра. В настоящее время насчитывается 27 государств, которые относятся к федеративным или имеют элементы федерализма (по крайней мере, по конституции). Данные о них представлены в таблице. Современные федеративные государства № Страна 1 Аргентина. Аргентинская Республика 2 Австралия. Австралийский Союз 3 Австрия. Австрийская Республика Число составляющих федерацию единиц 22 провинции 1 национальная территория 1 федеральный округ 6 штатов, 1 территория, 1 столичная территория, 7 административных территорий 9 земель 4 Население, млн 36,1 Год образования 1826 Основные расовые и этнические группы Аргентинцы 82%; итальянцы 5%; испанцы 4% 19,1 1901 Европейцы по происхождению 97% 8,06 1920 Австрийцы 91% № Страна Бельгия. Королевство Бельгия Число составляющих федерацию единиц 3 региона, 3 коммуны Население, млн 10,1 Год образования 1993 4 5 Босния и Герцеговина 2 республики и 1 округ 4,03 1995 6 Бразилия. Федеративная Республика Бразилия 26 штатов, 1 федеральный столичный округ 160,5 1889 7 Венесуэла. Боливарианская Республика Венесуэла 23 1830 8 Германия. Федеративная Республика Германия Индия. Республика Индия 20 штатов, 1 столичный округ, 72 федеральные владения 16 земель 82,16 1949 25 штатов, 7 объединенных территорий 952,0 1950 9 10 Ирак. Республика Ирак 18 провинций 26,8 2005 11 Канада 10 провинций, 3 территории 30,2 1867 12 Коморы. Федеративная Исламская Республика Коморские Острова Малайзия 4 острова 0,6 1978 13 штатов, 2 федеральные территории 21,2 1963 13 5 Основные расовые и этнические группы Фламандцы 51%; валлоны 41%; немцы 1% Бошняки 43,6%; сербы 31,4%; хорваты 17,3% Европейцы 60%; метисы 30%; негры 8%; индейцы 2% Венесуэльцы 90%; колумбийцы 3%; испанцы 3% Немцы 96% Индо-ариане 74% Дравидиане 24% Монголоиды 2% Арабы-шииты 55%; арабысунниты 18,5%; курды 21% Англичане 45% французы 29% другие европейцы 23% индейцы и эскимосы 1,5% Потомки арабов 95% Малазийцы 43% китайцы 34% индийцы 9% № Страна Число составляющих федерацию единиц 31 штат, 1 столичный федеральный округ Население, млн 97,4 Год образования 1917 14 Мексика. Мексиканские Соединенные Штаты 15 Микронезия. Федеративные Штаты Микронезии Непал. Федеративная Демократическая Республика Непал 4 штата 0,14 1986 14 зон 27,7 2007 17 Нигерия. Федеративная Республика Нигерия 36 штатов, 1 федеральный столичный округ 115 1963 18 Объединенные Арабские Эмираты 7 эмиратов 2,7 1971 19 Пакистан. Исламская Республика Пакистан 4 провинции, 6 племенных районов, 1 федеральная столица 130,5 1971 20 Россия. Российская Федерация 142 (1918) 1993 21 Сент-Киттс и Невис 83 субъектов федерации: 21 республика, 46 областей, 9 краев, 2 города федерального значения, 4 округа, 1 автономная область 2 острова 0,42 1983 22 Соединенные Штаты Америки 281,4 1789 16 50 штатов, 1 федеральный округ, 2 ассоциированных государства, 3 федеральных владения и 3 федеральных территории 6 Основные расовые и этнические группы Мексиканцы 84%; американские индейцы 15% Микронезийцы 98% Чхетри 12,8%; горные бахуны 12,7%; магары 7,1%; тхару 6,8% Группа нигерконго 70,5%; хауса 21,5%; канури 4% Арабы ОАЭ 50%; арабы других стран 40%; индийцы 6% Пенджабцы 65%; пуштуны 16%; синдхи 14%; белуджи 2,5% Русские 80%; татары 3,3%; украинцы 2%; чуваши 1,1%; чеченцы 0,94% Негроидная раса 90%; англичане 8% Белые американцы США, 66,5%; черные американцы, 12%; мексиканцы, 3,3%; евреи, 3% № Страна Число составляющих федерацию единиц 26 штатов Население, млн 38,1 Год образования 1998 23 Судан. Республика Судан (формально по конституции) 24 Танзания. Объединенная Республика Танзания Швейцария. Швейцарская Конфедерация 2 субъекта федерации 30 1964 26 кантонов (20 кантонов и 6 полукантонов) 7,1 1848 26 Эфиопия. Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 9 штатов, 1 столичный округ 62,0 1995 27 ЮжноАфриканская Республика (унитарная республика с элементами федерализма) 9 провинций 40,6 1996 25 Основные расовые и этнические группы Арабы 48%; племена негроидной расы 30% Африканцы 98,4%; арабы 0,6% Германошвейцарцы 63%; франкошвейцарцы 17%; итальянцы 7% 100 национальностей и народностей; оромо 45%; амкара 20%; тиграи 10%; шангала 6% и др. Нигер-конго 72%; африканеры (белые потомки голландцев) 9,5%; метисы 9% Источник: Janda K., Berry J., Goldman J. The Challenge of Democracy. Government in America. Boston [et all]: Houghton Mifflin Company, 1989. P. 114–115; Watts R. Comparing Federal Systems. 2nd ed. Montreal; Kingston; London; Ithaca: McGrill-Queen‘s University Press, 1999. Р. 10, 21–33; Rodriguez V. Recasting Federalism in Mexico // Publius: The Journal of Federalism. 1998. Vol. 28. N 1. P. 235–254; и др. Федерации как центральные формы федеральных политических систем характеризуют такие отношения между центром и территориями/группами, когда соответствующие системы управления формируются и действуют, обладая собственными источниками легитимации власти и полномочий. Хотя этот традиционный взгляд на федерацию, основанную на разделении властей, подвержен сегодня модификации, тем не менее он лежит в основании понятия федерации как формы государственного устройства. Этот тип федеративного государства можно отнести к «дуальному» федерализму. 7 Однако концепция «дуального» федерализма была подвергнута критике, так как в развитии федеративных государств происходили существенные изменения, связанные с изменением позиции центральной власти. В Соединенных Штатах подчеркивалось, что эта концепция перестала отражать реальность федерации в США уже в 30-е годы в результате «Большого курса» Рузвельта, во время Второй мировой войны и в первые десятилетия после нее. На смену «дуальному» федерализму пришел «кооперативный» федерализм с сильной центральной властью и ее политикой перераспределения ресурсов между штатами посредством различных федеральных программ помощи, усиления регулятивной функции центрального правительства, фискальной федеральной политики и др. Следует заметить, что эти две формы федерализма в США некоторые исследователи рассматривают в качестве двух исходных идеальных типов, которыми руководствуются в своей политике демократы и республиканцы. Существует мнение, что в конце XX в. появилась третья форма федерализма, которая получила наименование «органического» федерализма с еще более тесной зависимостью между федеральными структурами и составляющими федерацию единицами. Тем не менее, как представляется, первые две формы федерализма выражают две стороны одного и того же явления – единства государства при наличии автономных властей внутри него. Поэтому и в основных принципах федерального государственного устройства находят выражение характеристики обеих его сторон. Тем не менее все идеально-типические формы федерализма включают в себя и элементы разделения компетенций, и элементы единства власти и управления. Акцент на «дуальной» природе федерации ведет к подчеркиванию разделения властей и компетенций, «кооперативная» составляющая находит выражение в принципах единства, а органическая модель подчеркивает интегративный компонет взаимодействия центра и субъектов федерации. В этом отношении можно выделить некоторые общие принципы организации публичного управления в федеративных государствах (Robertson, 1993, 184–184; Watts, 1999, 7): две структуры управления, каждая из которых прямо связана со своими гражданами; обеспечение баланса власти и управления между различными уровнями федерации; формальное конституционное распределение законодательных и исполнительных полномочий и размещение государственных ресурсов между двумя системами управления, гарантирующими определенные области подлинной автономии для каждой системы; субсидиарность как принцип решения проблемы на том уровне управления, где она возникает; 8 обеспечение представительства различных региональных позиций внутри институтов выработки федеральной политики, обычно проводимое особой формой второй палаты парламента; верховенство писаной конституции, поправки в которую вносятся с согласия значительной части составляющих федерацию единиц; посредник (в форме суда или референдумов) для разрешения споров между структурами управления и власти; процессы и институты для облегчения межуправленческого сотрудничества в тех областях, где существует совместная компетенция или ответственность пересекается. Обеспечение этих принципов, однако, является довольно сложным делом и требует определенных способностей государства как на уровне федераций, так и на уровне их субъектов. Понятие «способность государства» (state capacity) во многих его контекстах сегодня используется довольно широко. Сам термин появился в конце 1980-х годов, но именно сейчас он приобрел самостоятельное значение. Часто выделяются отдельные составляющие этой способности: «управленческие способности» (governance capacities), «правительственные способности» (governmental capacities), «административные способности» (administrative capacities), менеджериальные способности (management capacities), «способности формулировать политику» (policy-making capacities), «политические способности» (political capacities), «институциональные способности» (institutional capacities). При этом все термины обладают концептуальной нагрузкой, т. е. занимают определенное место в теоретическом описании публичного управления. В целом способность органов власти проводить политику развития определяется не только имеющимися ресурсами, но и условиями организации государственого управления, а это означает преобразование ряда значимых процессов и структур. Российская административная реформа пока слабо ориентирована именно на те преобразования, которые связаны со способностями государства. А это – идеологические способности государства, т.е. способности к производству легитимных идей, обеспечивающих легитимацию проводимой политики, идентификацию государственных служащих с проводимой политикой и доверие населения к ней. Это и способности государства обеспечить такую структуру управления, которая бы учитывала современный характер самоорганизующихся областей общественной жизни, автономию государственной власти и ее умение создавать благоприятные политикоадминистративные режимы развития. К совокупности способностей следует отнести и так называемые «технические способности», т. е. умение создать экспертную среду и обеспечить необходимый качест9 венный и количественный состав государственных служащих, их способности работать в новых условиях. К важным способностям государства относятся и способности к внедрению выработанных политик развития, которые бы противодействовали как партикуляристским интересам отдельных социальных групп, так и корпоративным интересам бюрократии. Модификация этих способностей, конечно же, определяется особенностями государственного правления, складывающихся федеративных отношений, уровнем самостоятельности региональной власти, развитостью гражданского общества, сочетанием экономических, социальных, политических и культурных составляющих общественного развития. Важным моментом является также развитие интеграционной составляющей развития общества, его способность учитывать свои связи и вовлеченность в более широкие сети взаимодействий, а также создавать это сетевое взаимодействие, учитывая собственную политику развития, а также политику развития сотрудничающих структур. Административно-политические реформы 1990-х годов уже учитывают федеративную составляющую. В федеративных странах Латинской Америки продолжается процесс децентрализации. Ряд стран принимают принцип федерализма в качестве конституционного (Судан, Ирак). Государства, которые традиционно относятся к унитарным (Великобритания, Испания, Италия), в последние десятилетия повышают значительно самостоятельность территориальных частей государства, так что некоторые исследователи считают этот процесс федерализацией. Так, хотя Испания по Конституции 1978 г. не называется федеративным государством, но отношения между центральным правительством и автономными коммунами здесь строятся по признакам федераций. Прежде всего следует отметить, что распределение полномочий здесь строится исходя из приоритета территорий. Конституция записала перечень исключительных полномочий за региональными властями; центральная власть обладает остаточными полномочиями и осуществляет контроль над деятельностью коммунальных властей. 17 автономных коммун обладают достаточно широкими полномочиями во многих сферах общественной жизни, что дает право относить Испанию к одному из самых децентрализованных государств Европы. Правда, как подчеркивает Йозеф Коломер, политическая регионализация здесь обеспечивается скорее партийной стратегией, конкуренцией, соглашениями внутри свободных институциональных структур, а не конституционным мандатом (Colomer, 1998, 40–52). Что касается Великобритании, то дело здесь сложнее. Хотя процесс передачи законодательных и исполнительных полномочий (devolution) в различной комбинации Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии с 1998 г. некоторые и называют «феде10 ральной деволюцией» (Bordanor, 2001) тем не менее, остается значимым здесь признак парламентского приоритета, не содержащий институтов влияния регионов на Вестминстер. Как пишет Анна Гемпер, «деволюция, будь она законодательной или исполнительной, является термином, к которому нужно относиться со вниманием. Самое меньшее, что можно сказать, так это то, что она не во всем подходит для тех европейских систем, которые теперь имеют статус федеративного государства. Однако, конечно, Соединенное Королевство не принадлежит к таким государствам: несмотря на некоторые ―псевдофедеральные‖ признаки – прежде всего, на региональные полномочия первичного законодательства – оно остается сильно децентрализованным, но все же унитарным, объединенным государством» (Gamper, 2005, 1113). Особое значение федеративная составляющая реформ приобретает в связи с развитием интеграционных процессов в Европе и вовлечением внутринациональных регионов в интенсивное внутреннее и внешнее взаимодействие. Однако отмечается и другая тенденция – возрастания роли федеральных органов власти с целью повышения их способности управлять и поддерживать устойчивость и реактивную способность власти. Возникающий «координируемый капитализм» основывается не на государственной интервенции в экономику и другие сферы общества, а на «трансформативной способности» государства, т. е. на его «умении координировать индустриальные изменения, отражая подвижный контекст международной конкуренции» (Weiss, 1998, 7). Стремление не потерять управляемости сопровождается усилением координирующей функции центра. Возникает то, что получило наименование ассиметрической модели власти (Marsh, 2008), применительно к федерациям – «дисперсированный федерализм», «принудительный федерализм», «самоусиливающийся федерализм» (Roberts, 2008; Posner, 2007; De Figuiredo е. а., 2007). Особое значение проблема федерализма имеет для России как крупного и многонационального государства. Хотя Конституция Российской Федерации 1993 г., пятнадцатилетие которой мы можем сегодня отмечать, заложила основание федеративного устройства в стране, но и 1990-е годы и начало нового столетия демонстрирует ряд проблем, разрешить которые является существенной задачей политиков и общества в целом. При этом круг и разнообразие проблем не сужается и не сокращается. При решении одной проблемы (например, соответствие законодательства субъектов федерации законам федерации), возникают другие (как учесть в законе особенности экономического и социального развития регионов, если приведение в соответствие часто понимается как единообразие). К тому же задачи перехода к новой системе соци11 ально-экономических, политических и правовых отношений в 1990-е годы, стабилизационный период первой половины нового десятилетия и политика развития нынешнего политического руководства требовали в прошлом и требуют сейчас определенной коррекции внутри федеральных отношений. А здесь простых ответов нет; к тому же ошибки, несогласованности и непоследовательность в этой политике являются очень чувствительными для общества и государства, порождая часто пессимизм и недоверие. В этом отношении уроки нашей далекой и близкой истории, опыт других стран должны быть изучены и, по возможности, учтены. Российская административная реформа, с одной стороны, включала в себя элемент повышения самостоятельности муниципалитетов и более четкого разграничения полномочий между органами федеральной власти и органами власти субъектов федерации. С другой стороны, повышалась роль федерального центра в управлении, контроле и координации. При этом в тени оставался вопрос о формировании способностей управлять в условиях сложного сочетания самостоятельности и координации. В дальнейшем возникла комплексная проблема – повысить соответствие политико-административного управления задачам политики развития. По-видимому, новые трансформации в политикоадминистративной системе федерального государства будут все более следовать требованиям: не командовать, а координировать; не противостоять, а сотрудничать; не информировать, а общаться; не обязывать, а стимулировать; не только поддерживать инновации, а быть инновативным; быть не только эффективным, но и справедливым. Прошедшая 21–22 ноября 2008 г. в Санкт-Петербурге Всероссийская конференция с международным участием «Современный федерализм: российские проблемы в сравнительной перспективе», материалы которой здесь публикуются, имела отношение ко всем этим вопросам и, в определенной мере, актуализировала проблематику российского федерализма в аспекте сравнительного политического исследования. Она собрала ученых, политиков и управленцев из более чем двадцати регионов России, исследователей из Белоруссии, Германии, Италии, Украины и Эстонии. В данном сборнике можно найти лишь некоторые материалы, которые были представлены и отобраны оргкомитетом конференции для публикации. Содержание представленных статей распадается на три основных раздела. В первом разделе речь идет об основных теоретических подходах к федерализму и особенностях федеративных практик в ряде государств мира. Здесь проявляется одно из важных качеств принципа федерализма – его применимость не только в качестве принципа государственного устройства, но и политического управле12 ния. Во втором разделе помещены материалы, касающиеся истории федеративных отношений, особенностей российского федерализма и общих проблем его развития на современном этапе. Содержание этого раздела свидетельствует об укорененности принципа в России и его потенциале для дальнейшего развития государства. Третий раздел посвящен этническим, конфессиональным, территориально-политическим и политико-административным составляющим процесса федеративного развития российского государства. Из него ясно, что проблемы федерализма являются по природе своей комплексными и многосторонними, требующими, как сказали бы исследователи, холистского, т. е. целостного, подхода в политике. Конференция была проведена при активном участии ряда организаций и исследовательских коллективов. Здесь следует отметить, что она была организована Законодательным собранием Санкт-Петербурга, факультетом философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета, Исследовательским комитетом по сравнительной политологии Российской ассоциации политической науки (СП-РАПН). Финансовым спонсором конференции выступило Правительство СанктПетербурга. Содействовали организации конференции Международная ассоциация политической науки (International Political Science Association), ее Исследовательский комитет 28 по сравнительному федерализму (RC28 on comparative federalism), Центр по изучению Германии и Европы при СПбГУ (The Center for German and European Studies at St. Petersburg State University), Исследовательский комитет по публичной политике и конфликтам РАПН, Санкт-Петербургское отделение Академии политической науки. Литература Colomer J. The Spanish ‗State of Authonomies‘: Non-Institutional Federalism // West European Politics. 1998. Vol. 21. N 4. De Figueiredo R., McFaul M., Weingast B. Constructing Self-Enforcing Federalism in the Early United States and Modern Russia // Publius: The Journal of Federalism. 2007. Vol. 37. N 2. Gamper A. Devolution in the United Kingdom: A New Model of European Federalism? // La Constituzione Britannica/The British Constitution. Vol. 2. / Torre A., Volpe L. (eds.). Torino: G. Giappichelli Edotore, 2005. Janda K., Berry J., Goldman J. The Challenge of Democracy. Government in America. Boston [et all]: Houghton Mifflin Company, 1989 13 Marsh D. Understanding British Government: Analysing Competing Models // The British Journal of Politics & International Relations. 2008. Vol. 10. N 2. Posner P. The Politics of Coercive Federalism in the Bush Era // Publius: The Journal of Federalism. 2007. Vol. 37. N 3. Roberts P. Dispersed Federalism as a New Regional Governance for Homeland Security // Publius: The Journal of Federalism. 2008. Vol. 38. N 3. Robertson D. The Penguin Dictionary of Politics. 2nd ed. Harmondsworth: Penguin Books Ltd., 1993. Rodriguez V. Recasting Federalism in Mexico // Publius: The Journal of Federalism. 1998. Vol. 28. № 1 Watts R. Comparing Federal Systems. 2nd ed. Montreal et al.: McGillQueen‘s University Press, 1999. Weiss L. The Myth of the Powerless State. Ithaca; N.Y.: Cornell University Press, 1998. Л. В. Сморгунов 14 Раздел I СОВРЕМЕННЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА В. П. Макаренко (Ростов-на-Дону) КОНЦЕПТОЛОГИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА: ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ Сегодня в мире существует 17 федеративных государств из общего числа 244 страны и региона (Страны и регионы мира, 2003). До Х1Х в. федерации встречались редко. В начале ХХ в. в мире существовало около 60 государств. За сто лет их число возросло в четыре раза. Это нетрудно объяснить всеобщим ростом национализма. С учетом данной тенденции не исключено, что в ХХI в. наступит закат федераций. Более популярно национальное государство – суверенная политическая организация нации. Его генезис и бытие связано с существованием одной этнической группы. Федерация объединяет разные этнические группы и противоположна национализму. Отсюда вытекает теоретическая и политическая проблема: почему все больше людей поддерживают национализм, но в то же время одобряют федерализм – самое прагматичное политическое устройство? В цитируемом ранее справочнике федерализм определяется как принцип организации, устройства чего-нибудь на основе федерации. Федерация в свою очередь определяется как форма государства, при которой ряд самостоятельных административно-территориальных единиц (республик, штатов) образуют единое целое с общим коллегиальным органом управления; союз различных общественных организаций (Страны…, 269–270). Такое определение неудовлетворительно по следующим соображениям. Обычно федерализм сводят к наличию двух уровней власти – местной и центральной. Местная признает власть федерального правительства над всей территорией страны, сохраняя за собой право управления частью территории. Но все формы правления (за исключением власти в малых группах) тоже состоят как минимум из двух уровней. Поэтому 15 двухуровневая система власти не есть отличительный признак федерализма. Федерализм в строгом смысле слова базируется на договоре. Латинский термин foedus означает особый тип договора, который включает одновременно fides – доверие. Федерация – это договор о форме правления, которая базируется на доверии и исключает насилие. Обычные договоры заключаются при наличии судебной власти, которая наказывает нарушителей договора. Федеративный договор предполагает создание особых судов для разрешения споров. Значит, в момент его заключения невозможно апеллировать к тому, что еще не существует. Федеративный договор полезен сторонам, поскольку каждая из них надеется на обоюдное соблюдение условий договора. Тем самым договор базируется на рациональном взаимном доверии. Эти договоры разделяют функции (сферы, полномочия) уровней власти. Любая система власти имеет определенную структуру. При федерации она становится предметом постоянного договора. На основе договора возникает и действует центральное правительство. Если государство не является федерацией, центральное правительство всегда может ликвидировать (реорганизовать) старые и создать новые местные единицы власти, которые договариваются между собой сохранять идентичность и функции каждой. Итак, федерализм – конституционная структура власти. При исключении конституции федерализм есть просто частный метод децентрализации. Политики и экономисты обычно так и трактуют федерализм, забывая его важнейшее свойство – запрет на произвольное изменение центром структуры власти. Каждая форма правления может самостоятельно и независимо от других осуществлять власть над территорией. Но ради общей цели она может заключить союз как средство ее достижения. В союзе вся власть принадлежит независимым правительствам, но есть и общая исполнительная власть для осуществления согласованных действий. Такие союзы обычно неустойчивы и не достигают цели. Если независимые правительства стремятся к стабильности и успеху, они создают федерацию и центральное правительство, которое обладает правом самостоятельного принятия решений в определенных сферах. Но независимые правительства могут быть ликвидированы возникающим имперским центром. Тем самым шкала централизации включает следующие состояния: независимость–союз–федерация–империя (унитарное государство). Главное отличие федерации от других форм правления состоит в следующем. В федерации центр имеет право самостоятельно принимать решения (хотя бы в одной функции) независимо от местных прави16 тельств. При отсутствии такого права федерация преобразуется в союз. Местные правительства тоже обладают правом принятия решений независимо от центра и друг от друга хотя бы в одной функции. Иначе возникает империя. Федерация – это всестороннее разделение функций. Периферийные федерации обычно движутся к союзу. Движение федерации к единству завершается империей. Но проблема разделения функций всегда остается предметом договора. Авторы конституций одобряют это сложное политическое устройство для того, чтобы независимые государства могли реализовать цели, недостижимые ни в одиночку, ни в союзе. Одно государство может подчинить остальные и объединить ресурсы. В истории империя была более распространенным методом объединения, чем федерация. Но если потенциальные жертвы имперской агрессии сопротивляются, цена империи увеличивается. Поэтому время от времени даже ярые империалисты отказываются от агрессии и создают федерации. Однако главная цель образования федераций – война. Войны ведутся не ради чистой радости борьбы и смерти (хотя есть и такая точка зрения). Агрессивные войны ведутся ради дани, трофеев, контроля над территорией и торговлей. Оборонительные войны ведутся во имя независимости. Победа и поражение в войне всегда зависит от ресурсов. Поэтому главный мотив создания федераций – связь ресурсов с целями войны. Все эффективные федерации (которые существовали длительное время) стремились вначале достичь военных целей. Указанные цели реализуются следующим образом. Восстание и развязывание гражданской войны. Имперские колонии вначале поднимали восстание, затем создавали федерацию для успешного сопротивления. Появление Голландской республики облегчило борьбу восставших нидерландских провинций против Испанской империи. Создание США облегчило восстание колоний против Англии. Латиноамериканские федерации (Аргентина, Мексика, Венесуэла, Великая Колумбия, Федерация Центральной Америки) создавались для борьбы с Испанией. В ХХ в. Ю. Пилсудский стремился создать конфедерацию государств для сопротивления СССР. Защита от имперских амбиций соседей. Швейцарская конфедерация была направлена против империи Габсбургов; Канадская конфедерация – против угрозы со стороны США, которая возникала троекратно и в конце гражданской войны опять была реальной; Австралийский союз направлялся против новой (с 1900 г.) имперской политики Японии и Германии на Тихом океане; СССР был создан путем повторного захвата нерусских провинций против потенциальной угрозы Запада. 17 Поглощение соседей для подготовки агрессии. Югославия стала федерацией для того, чтобы Тито мог создать империю в виде Балканской Федерации. Вначале его планы разрушил Сталин, затем СФРЮ распалась сама. Поглощение соседей без расходов на вооруженную агрессию путем создания их мнимой суверенности. В древности такую цель реализовал Афинский морской союз; в Новое время – Британия в ХVIII в., АвстроВенгрия и Германия в ХIХ в. (она поглотила Баварию и Вюртемберг после 1871 г.). Современная Индийская федерация возникла как средство ликвидации удельных княжеств, Малайская федерация преобразовалась в Малайзию, поглотив Сингапур и Бруней, а Нигерийская федерация способствовала подчинению Юга Севером . Краткий обзор военных причин создания федерации соответствует большинству исторически известных федеративных государств. Они всегда создаются для военных целей. То же самое подтверждают отрицательные примеры. Неудачные федерации после нескольких лет возвращались к независимому государству или образованию единого государства. Неудачи объясняются отсутствием военных целей, неэффективными структурами власти – доминирование одного (СССР, Египетско-Сирийская федерация) или немногих элементов (Новая Зеландия) или влиянием обоих факторов. Британия создавала эффективные и неэффективные федерации одновременно. Она заметила успех США (первой федерации английских колоний), Канады и Австралии, а затем заставляла свои бывшие колонии создавать федерации. Многие послушались. Канада, Австралия и Индия остались федерациями. Новая Зеландия, Южная Африка, Пакистан, Западная Индия и Родезия отказались от федерации. Нигерия была федерацией два кратких периода, а затем стала централизованной диктатурой. Причем, Пакистан и Нигерия обладали крайне неэффективной системой власти (в которой было мало составных единиц при господстве одной). Поэтому после гражданских войн руководители перешли к единому устройству. Пакистан состоял из двух географически отдельных частей и распался на два независимых государства. Нигерия вначале состояла из трех штатов с неэффективной структурой управления. После восстания одного штата вспыхнула гражданская война, затем Нигерия стала федерацией и состояла из 21 штата, что не предотвратило военную диктатуру. Другие неудачные федерации после крушения ко- Некоторые примеры принадлежат одновременно к двум категориям. Индию можно отнести к четвертой и второй категории (защита от Пакистана). Таким же образом Малайзия защищалась от Индонезии. 18 лониального господства Британии отказались от федерализма, поскольку отсутствовали его военные причины. При отсутствии врага государство не обязано стремиться к внутреннему порядку. Неудачные федерации других колониальных стран терпели поражения по тем же причинам. Франция патронировала федерацию Мали, но она распалась на отдельные государства, поскольку не было военной причины существования. Голландия поддерживала Индонезийскую федерацию, но Ява посчитала ее выдумкой голландцев и предпочла вооруженную интеграцию. Таким же образом рухнули латиноамериканские федерации, ненужные с военной точки зрения. Итак, история удачных и неудачных федераций ведет к одному выводу: вначале должна быть военная причина объединения ресурсов. Но в большинстве случаев властители решали военные проблемы путем имперских, а не федеральных институтов. Сравнительная цена обоих пока не установлена. Федерации были в древней Греции (некоторые находят их даже в древнем Израиле), средневековой Европе (Швейцарские, Швабские и Североитальянские лиги), Европе начала Нового времени (Голландская республика). Но федерализм расцвел в ХIХ в. в имперской Германии и на обломках Испанской, Португальской, Британской и Российской империй. Распад империй в ХХ в. увеличил темп образования федераций. Возникли новые федерации в Африке, Азии и Европе. Современный расцвет федерализма объясняется двумя факторами его генезиса: изобретение централизованного федерализма в США второй половины ХVIII в.; распад империй. Изобретение дало такой способ организации, который частично помог восстановить бывшие осколки империи. Имперская власть создает государство для достижения собственных целей, главной из которых является переплетение власти с собственностью (Макаренко, 1998). Но эта цель не гарантирует военный успех. Централизованная федерация позволяет соединить ресурсы, поэтому творцы конституций постимперских государств часто ее использовали. Конечно, не все современные федерации возникли на основе рухнувших империй. Но даже федерации с другим генезисом приобрели централизованную форму. Швейцария реорганизовалась по централизованному образцу в 1848 г., Австрия и Германия после Первой и Второй мировых войн. СССР был, а Югославия хотела быть империей под маской федерации. Но ни СССР, ни Югославия не смогли бы создать федерацию без предшествующего существования империй – Российской, Османской и Австро-Венгерской. Наследники империи используют все формы ее централизации (Ливен, 2007). Новые федеративные движения (в Бельгии) тоже не достигли бы успеха без централизованной модели. 19 Изобретение централизованного федерализма – главный фактор его положительной оценки и практической реализации. Этот факт нуждается в объяснении. 13 первых колоний образовали Соединенные Штаты, восстали против Великобритании и создали свободную периферийную федерацию. Континентальный Конгресс – орган федерации – провозгласил независимость (1776 г.), выслал послов, создал армию и собирал налоги. Но его власть ограничивалась новыми правительствами штатов, которые контролировали налоги и военные ресурсы. В 1781 г. принята периферийная конституция (так называемые Артикулы Конфедерации), которая сводилась к тому, что решения о политике государства в целом принимались в столицах штатов. Националисты были этим недовольны, хотя с 1781 г. контролировали федеральное правительство. Они неоднократно пытались внести поправки в Артикулы, но этому мешало требование единомыслия, типичное для периферийных федераций. Затем они пытались полностью изменить конституцию. Д. Медисон создал проект национального правительства, свободного от влияния штатов и полностью их контролирующего. Это правительство ничем не отличалось от правительств других стран. Но реализация проекта Медисона потребовала признать особые права штатов – независимость суда и назначение федеральных чиновников. Так возник компромисс националистов и провинциалов. На этой основе националисты создали новый вид централизованной федерации. Она обладала сильной единой властью, но признавала особые права и вечные гарантии составных единиц. Связь указанных свойств объясняет успех централизованного федерализма. Таким образом, в основе популярности федерализма лежат прагматические причины, тогда как политические философы обосновывают его моральными аргументами: федерализм способствует свободе, поскольку признает свободу действия малых групп (организационных единиц) и ограничивает роль центрального правительства. Конечно, федерализм ограничивает возможности центрального правительства навязывать общую (государственную) политику. Конституция запрещает центральному правительству нарушать права составных единиц. Но центральное правительство СССР игнорировало такие запреты почти сразу после его создания и вплоть до распада в 1991 г. Федерализм рушится, поскольку диктатура не является федерацией. Если же центр отказывается от всевластия и признает особые права отдельных единиц, группы, проигравшие на центральном уровне, имеют шанс победы на местном уровне. Благодаря такой компенсации для групп, проигравших на общенациональном уровне, общество в целом не является игрой с нулевой суммой. Только в таком смысле федерализм поддерживает сво20 боду – групповую, а не индивидуальную. Эти процессы развиваются в современной России. Но эти последствия федерализма не следует переоценивать. Свобода действия местных властей не порождает реальной свободы. США могут служить двусмысленным примером. В 1787 г. был заключен конституционный компромисс, в итоге которого решения о рабстве отнесены к компетенции штатов. Поколение спустя северные (свободные от рабства и густонаселенные) штаты пожалели об уступке. На редко населенном Юге федерализм начал означать защиту прав собственности рабовладельцев и рабство черных. Север имел абсолютное, но не имел квалифицированного большинства, необходимого для поправок конституции. Поэтому гражданская война (1861–1865 гг.) оказалась единственно успешным методом устранения рабства. Война устранила рабство, но оставила избирательное право в юрисдикции штатов. Поколение спустя после гражданской войны южные штаты опять угнетали бывших рабов. На словах федерализм защищает меньшинства, на деле становится средством репрессий. Лишь в 1954– 1965 гг. Север располагал достаточным числом голосов и надлежащим общественным мнением для полного устранения нового рабства. Следовательно, реальный федерализм в США почти половину своей истории означал свободу белых южан угнетать негров. Это нисколько не противоречит иллюзии федерализма как свободы. Лишь в последнем поколении американский федерализм стал элементом разделения власти и, таким образом, в целом способствовал свободе. Только с учетом всех федераций всех эпох можно считать федерализм способом ограничения власти центральных правительств и утверждать, что он служил индивидуальной свободе. На этой основе можно классифицировать политическую историю всех государств. Успех федерализма как способа объединения ресурсов и средства защиты свободы привел к тому, что современные политические идеалисты надеются приспособить федерализм к новым условиям. Одни из них хотят создать глобальное мировое сообщество, другие – федеральную Европу, третьи – СНГ, четвертые – реанимировать СССР под видом России. Если мое описание генезиса федерации содержит зерно истины, то глобализация и регионализация (как на мировом, так и на уровне континентов и стран) есть утопия. Должен существовать внешний враг и цель агрессии как главная причина объединения ресурсов. В противном случае никто не пожертвует независимостью ради единства. Однако глобальная федерация исключает существование врага и повода для нападения, поэтому нет причины объединения ресурсов. 21 Евросоюз – более сложный пример. В период холодной войны между США и СССР объединение Европы на федеративных началах помогло ей выпутаться из конфликта. Теперь угроза войны отодвинулась. Западная Европа не опасается нападения с востока. Но неизвестно, что она приобретет от федерации, кроме автаркии для исключения азиатских и других товаров из европейского рынка. Эта цель двулична и вредит европейцам больше, чем кому-то другому. Пока трудно описать в деталях процесс длительного федеративного самоубийства. Будущее федеральной Европы – такая же химера, как глобальное объединение мира. То же самое относится к СНГ и России. Но нельзя отрицать, что глобализация способствует воспроизводству геополитики и империи. Литература Ливен Д. Российская империя и ее враги с ХVI века до наших дней. М., 2007. Макаренко В. П. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-Дону, 1998. Страны и регионы мира. 2003: Экономико-политический справочник. М., 2003. 22 М. С. Ильченко (Екатеринбург) ФЕДЕРАЛИЗМ С ПОЗИЦИЙ ИНСТРУМЕНТАЛИЗМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ Изменения, произошедшие в сфере государственно-территориального управления России за последнее десятилетие, ставят перед исследователями серьезную методологическую проблему. Они заставляют их искать качественно новый, адекватный сложившейся ситуации инструментарий анализа федеративных отношений. Очевидно, что изучение федерализма ни с позиций формально-правовых норм, ни с точки зрения политических идеалов в данном случае не в состоянии дать желаемый результат. В этих условиях крайне важно обратиться к теории федерализма и рассмотреть его с позиций инструменталистской трактовки, т. е. как механизм разрешения конфликтов и средство преодоления разногласий. Методологическим фундаментом такого подхода могла бы стать теория рационального выбора, а концептуальным основанием – по крайней мере, два ключевых условия. Во-первых, рассмотрение федерализма как средства и механизма достижения политических целей. Во-вторых, рассмотрение возможности существования чѐтких временных границ федеративного проекта, иными словами, возможности существования федерализма как временного явления. «Федерализм как средство и цель» – пожалуй, именно эта антиномия, сформулированная Даниэлем Элазаром, дала наибольшее распространение тезису о федерализме, понимаемом с точки зрения средства (Elazar, 1987). Этой формулировкой ученый пытался подчеркнуть универсальность рассматриваемого явления и его многоплановый характер. Позиции, акцентирующей внимание на ценностном наполнении федерализма, Элазар противопоставлял установку ряда исследователей на его рассмотрение как средства достижения «политического объединения, демократии, народного самоуправления и обеспечения многообразия» (Elazar, 1987, 80). Очевидно, что и в таком виде ценностная природа в федерализме преобладала над инструменталистской. Но для Элазара имело значение другое. Он подчеркивал, что сторонников трактовки федерализма как средства для достижения целей, не интересовал федерализм как таковой. Федеративные отношения рассматривались ими исключительно в контексте решения собственных политических задач. 23 Таким образом, нормативному представлению о федерализме как идеале общественного устройства противопоставлялось его инструментальное толкование. Это противопоставление имело тем большее значение, что было сформулировано одним из ярких представителей нормативноценностного подхода. Примечательно, что во многом с целью теоретического обоснования обеих позиций Элазар предлагает различать понимание федерализма в ограниченном и широком смысле. Автор отмечает, что в своей «наиболее ограниченной форме» он связан с «распределением и разделением власти» (Elazar, 1987, 84). Такая типологизация в некотором роде получает логическое завершение в предлагаемом Элазаром выделении четырѐх уровней целей, на достижение которых ориентируется федерализм. Первые два уровня – «установление действующих политических структур» и «создание действующего государства» (Elazar, 1987, 104) – соответствуют как раз «ограниченному» смыслу, вкладываемому в понятие федеративных отношений. В сущности, в обоих случаях Элазар говорит о структурных особенностях федерализма, что полностью соответствует его авторской логике. Действие механизмов, направленных на урегулирование конфликтных ситуаций, как и всю политическую практику федерализма в целом Элазар связывает с его институциональным измерением. Универсальность этого понятия, согласно ученому, позволяет видеть в нем в том числе и сугубо структурные особенности, т. е. комплекс институтов. Методологически слабой стороной такой позиции является то, что сам институциональный уровень федеративных отношений рассматривается Элазаром как более низкий и в некотором роде «ущербный» по отношению к его ценностному измерению. Однако такая точка зрения является характерной чертой используемого автором подхода. И уже сам факт того, что в рамках нормативно-ценностной парадигмы получает развитие тезис о федерализме как средстве достижения целей, свидетельствует о его значимости и актуальности в современных условиях. Вполне естественно, что наиболее полное выражение инструменталистский потенциал федерализма получает в рамках институциональнополитологического подхода. Ярким подтверждением этого становится теория Райкера. Федерализм, согласно Райкеру, является результатом институциональной сделки. Он не несет в себе никаких уникальных ценностей и при этом лишен всякого этического измерения. Федерализм – это вопрос выгоды, что отчетливо демонстрирует используемый автором исследовательский инструментарий – теория рационального выбора. Как полагает Михаил Филиппов, основным вкладом Райкера в анализ феде24 ративных отношений стало «успешное применение нового методологического подхода – принципа методологического индивидуализма» (Filippov, 2004). Использование такого метода давало Райкеру возможность поставить федерализм в зависимость от интересов конкретных государственных и политических деятелей. «В федералистской теории Райкера как образование, так и функционирование федерализма связано с мотивацией политиков, а также теми факторами, которые на эту мотивацию влияют», – отмечает Филиппов (Filippov, 2004). В какой степени с интересами политиков связано функционирование федеративной системы, в такой же степени этими интересами обусловливается и само ее появление. Это появление становится возможным лишь в том случае, если оно признается выгодным всеми участниками «сделки». В таком виде федерация выступает инструментом разрешения существующих политических противоречий, позволяющим элитным группам достигнуть единого компромиссного решения. Инструменталистский характер федерализма в теории Райкера подчеркивается еще и тем, что сам федерализм, согласно ученому, не имеет универсальной природы. Не существует никаких особых условий и предпосылок к его появлению, как и устоявшихся механизмов федерализации. Федерализм, как уже отмечалось, может быть только «здесь и сейчас», в сложившейся к определенному моменту конкретной ситуации. Именно поэтому для Райкера он выступает вопросом взаимоотношения элит и их интересов. Сам автор, рассуждая о преимуществах установления федерации, говорил, что необходимо «посмотреть, к каким последствиям это может привести, и какие меньшинства могут извлечь из этого выгоду» (Riker, 1964, 155). Логическое заключение, следующее из рассмотрения основных принципов теории Райкера, может выглядеть следующим образом. Если федерализм не требует существования особого типа сознания и какой-либо объективной предрасположенности к нему со стороны общества и если для него не является обязательным наличие благоприятных социальных, культурных или географических характеристик, значит успех его развития зависит от сугубо инструментального фактора – установления и укрепления соответствующих институтов. В некотором смысле это является свидетельством его универсальности. Но не той, о которой писал Элазар, а универсальности как возможности использования устоявшегося комплекса механизмов и практик в любых условиях, где достижимо согласие между элитами. Стоит сказать, что Райкер никогда не оценивал потенциал федерализма высоко и не считал его уникальным явлением. В работе ученого федерализм являлся скорее объектом приложения методологии рационального выбора, нежели предметом самостоятельного интереса. Бѐрд25 жесс отмечает по этому поводу: «Представляется, что он рассматривал федеративные системы скорее как не имеющие особой значимости, нежели выражающие организованные устоявшиеся интересы» (Burgess, 2006, 38). Со временем эта позиция только ужесточилась. В одной из своих более поздних работ Райкер писал о том, что федерализм представляет собой «не более чем конституционную юридическую фикцию» (Riker, 1969, 146). Несмотря на то, что впоследствии его взгляды вновь претерпели определенные изменения, эта фраза весьма красноречиво характеризует общую направленность рассуждений ученого и его восприятие федерализма. Сферой, где принципы инструменталистской трактовки федерализма наиболее востребованы и применимы для анализа, являются этнические конфликты. Использование федералистских практик в этих случаях преследует вполне конкретную цель – сглаживание противоречий через предоставление той или иной степени автономии этническому меньшинству. Речь может идти и о проблеме сосуществования двух или нескольких крупных этнических общностей. Но это не имеет принципиального значения. И в том, и в другом случае необходимо использование комплекса механизмов федерализации, обеспечивающих урегулирование конфликтных ситуаций через установление соответствующих «правил игры». Требуется решение конкретной задачи, и степень успеха ее достижения впоследствии легко определить. Так, в своей работе, посвященной роли федерализма в решении этнотерриториальных конфликтов, Нэнси Бермео (Bermeo, 2002) ссылается на результаты исследования, согласно которым показатели вооруженных выступлений и недовольства со стороны этнических групп меньшинств в рамках федераций заметно ниже, чем в унитарных государствах (Gurr, 1993). Федерализм рассматривается здесь исключительно как совокупность механизмов, способствующих решению реальных политических проблем. Поэтому в случае этнических конфликтов значение имеет лишь его институциональное измерение и, соответственно, инструментальная ценность. Говорить о существовании полноценных теорий этнофедерализма достаточно сложно. Объяснением этому опять же во многом выступает инструментальный характер его восприятия, что, безусловно, является ощутимым методологическим пробелом. Вместе с тем принципы и концептуальное обоснование этнофедерализма оказываются так или иначе вписанными в теоретические схемы целого ряда авторов. Весьма значительную роль федерализм играет в концепции сообщественной демократии Лейпхарта, где рассматривается как действенный инструмент разрешения этнических противоречий (Лейпхарт, 1997). Сайдеман, Лэ26 ноу, Кампенни и Стэнтон в своей совместной работе, посвященной проблемам этнических конфликтов в контексте демократизации, говорят о том, что «согласно дилемме этнической безопасности, федерализм смягчает этнические разногласия» (Saideman е. а., 2002, 112). Ученые полагают, что «федерализм дает многим группам возможность большего контроля над результатами политического процесса, который бы они в противном случае не имели» (Ibid.). В свою очередь, Уго Аморетти во вступлении к коллективной монографии «Федерализм и территориальные противоречия» отмечает, что основная гипотеза их исследовательского проекта заключалась в том, что «разрешение территориальных противоречий обеспечивается федерализмом, институциональным установлением, которое широкий круг ученых рассматривает в качестве действенного устройства для фрагментированных обществ» (Federalism, 2004, 11). «Объединяя преимущества долевого правления и самоуправления, – пишет автор, – федерализм предлагает широкий выбор решений и возможностей, делающих его предпочтительнее унитаризма» (Ibid.). Таким образом, этнофедерализм как инструмент разрешения конфликтов находит свое проявление в институциональном аспекте. Направленный на предоставление автономии тем или иным этническим группам и распределение полномочий между различными уровнями власти, он приобретает значение, прежде всего, как механизм согласования интересов. В некотором смысле, на выделении этих принципов инструменталистской трактовки федерализма можно было бы остановиться. Однако использование в отношении того или иного типа политической системы понятий «инструмент», «средство» или «проект», как правило, влечет за собой постановку вопроса, обычно остающегося неразрешенным: имеет ли срок ее действия в этом случае какие-либо временные границы? Ведь если речь заходит об использовании комплекса институтов в целях разрешения конкретного противоречия, то что в данном случае считать достижением результата? Когда мы говорим о нормативных моделях, все представляется предельно ясным. Установление федеративных или демократических институтов является здесь лишь шагом и необходимым этапом по направлению к идеальному устройству с четко определенными критериями. Но если под федерализмом мы понимаем исключительно комплекс механизмов, используемых для урегулирования конфликтной ситуации, будь то предоставление автономии этнической группе или сдерживание процессов дезинтеграции, должно ли его действие оцениваться с таких 27 же позиций? И если в итоге разногласия удается преодолеть, но в силу обстоятельств использование федерализма в дальнейшем оказывается невозможным, вправе ли мы говорить о достижении положительного результата? Сегодня все большее число исследователей принимают выдвинутый десятилетиями ранее Уильямом Райкером тезис о том, что федерализм представляет собой изначально нестабильную систему. Соответственно, по мере развития любой федерации вполне естественны и допустимы изменения не только ее внутренней структуры, но и самой системы как комплекса институтов – от преобразования в более централизованную до полного распада. Почему же в таком случае большинством исследователей процесс трансформации и исчезновения ряда федераций воспринимается столь болезненно и подчас неожиданно? Михаил Филиппов, в частности, пишет: «Вторая половина XX столетия стала периодом, по-видимому, бесконечных примеров несостоятельности федераций. Многие федеративные режимы либо рухнули, либо стали сверхцентрализованными, оставаясь федеративными только номинально… Не так давно федеративные реформы были предложены для ряда стран, таких как Афганистан, Кипр, Грузия, Индонезия, Молдова и, конечно, Ирак. Однако полный отчет о проекте формирования федерации вряд ли может ободрить – за несколькими известными исключениями попытки создать федерации не увенчались успехом» (Филиппов, 2007, 32). Вполне естественно, что наиболее желаемым результатом развития любой политической системы является ее устойчивость и долговечность. Однако в реальности достигнуть этого крайне трудно. И если мы говорим о федерализме как инструменте, демонстрируя тем самым абсолютный прагматизм своей позиции, почему не быть в этом прагматизме последовательными и признать, что даже решение отдельной задачи посредством использования федеративных механизмов вполне можно считать успехом? Таким образом, крайне важным представляется рассмотрение теоретических оснований, позволяющих говорить о федерализме как инструменте, имеющем временные границы своего действия, иными словами, о федерализме как временном явлении. В первую очередь, стоит вновь обратиться к теории Райкера. Как уже было замечено, для него федерализм является результатом сделки, участники которой признают выгодным установление соответствующего комплекса федеративных институтов. Общий характер принимаемых правил и очертание федерации целиком и полностью зависят от интересов игроков и, согласно ученому, претерпевают изменения тогда, когда перестают этим интересам удовлетворять. Но точно такая же ло28 гика действует и в отношении самой федерации. Если в конкретных обстоятельствах использование федерализма является выгодным для политической элиты, в результате чего и совершается сделка, то нет никакой гарантии, что такая ситуация сохранится и впоследствии, и он не станет противоречить их изменившимся интересам. В этом случае ничего не помешает акторам отказаться от установленных институтов в пользу другого типа государственного устройства. Намек на возможность такого исхода можно увидеть и в словах Филиппова: «Политические деятели Райкера не будут создавать и поддерживать федерацию до тех пор, пока не убедятся, что политические выгоды для них превышают политические издержки» (Filippov, 2004). Таким образом, существование федерализма как временно действующего инструмента допускается самой методологией ученого. Федерация поддерживается до тех пор, пока признается выгодной. И возможный отказ от нее не может означать неудачного опыта федерализма просто потому, что сам он имеет подчиненное, инструментальное значение, будучи полностью зависим от целей и мотиваций политиков. Кроме того, федерализм, согласно представлениям Райкера, – это изменчивый процесс. Федеративная система нестабильна сама по себе, баланс внутри нее постоянно меняется, определяясь на каждом этапе интересами элиты. В таких условиях «маятник» отношений между Центром и регионами может качнуться в любую сторону, и преобладание одной из тенденций может оказаться настолько сильным, что свои федеративные характеристики система может сохранить лишь формально, по сути став крайне централизованной. При этом для самих участников «торга» вопрос о качественных отличиях между формами государственного устройства вряд ли вообще будет поставлен. Значение приобретет исключительно способность комплекса институтов функционировать максимально эффективно. Характер изначальной нестабильности приписывался федеративной системе целым рядом авторов. О федерации как «незавершенной сделке» говорил, в частности, Иво Дукачек (Duchacek, 1970, 193). И эта «незавершенность» играет для федерализма двоякую роль. Она, с одной стороны, подчеркивает его гибкость и внутреннюю динамику; с другой – делает вполне реальным свойство системы принимать состояния, порой весьма далекие от условий изначальной сделки. Примеры трансформации федеративных систем в достаточно жесткие централизованные государства можно было наблюдать в реальной политической практике не раз. Вопрос существования федерализма как временного явления заключается, конечно, не в том, насколько часто встречаются такие случаи. 29 Исчезновение федераций по тем или иным причинам приходится действительно наблюдать нередко. Вопрос в том, как оценивать подобный опыт. Каждый случай использования федеративных механизмов уникален, и в разных случаях они призваны выполнять совершенно разные роли. По мнению Бѐрджесса, о каком-либо «устойчивом комплексе критериев» (Burgess, 2006, 269) здесь говорить нельзя. И уже исходя из этого, очевидным становится то, что опыт временного существования федерализма нельзя оценивать однозначно. Одними из классических примеров неудачного опыта федераций принято считать Вест-Индскую Федерацию (1956–1962), Федерацию Родезии и Ньясаленда (1953–1963) и Малайзию (1963–1965 – до момента выхода Сингапура). Томас Фрэнк в своей книге «Почему федерации терпят неудачу» (Franck, 1968, 167– 199) доказывает, что каждая из них, несмотря на крайне короткий срок существования, сумела обеспечить достижение целого ряда успехов в социально-экономическом и культурном плане, важных для постколониальных условий. По-прежнему дискуссионным среди учѐных остаѐтся вопрос использования институтов федерализма в авторитарных системах. Интересна, в этом смысле, приводимая Элазаром точка зрения ряда специалистов о том, что «воздействие федерализма, даже если тот был задуман в качестве ширмы, придает определенного рода институционально-конституционную силу местным этническо-территориальным интересам, позволяя им сохраняться хотя бы в ограниченном виде» (Элейзер, 1995, 108). Подобный взгляд не позволяет делать однозначных выводов в отношении жестких иерархичных систем, давая возможность и в них разглядеть положительный эффект применения инструментов федерализма. Принципиальным вопрос оценки «неудачного» опыта федерализма остается и в отношении действующих федераций. По мнению целого ряда специалистов, федеративная система Бельгии является одной из наиболее нестабильных и имеющих очевидные тенденции к распаду (см., напр.: Дейк, 1997). После парламентских выборов 2007 г. эти тенденции лишь обострились. Однако правомерно ли будет в случае реализации этого сценария говорить о негативном опыте федерализма, если именно федеративные механизмы позволяли сдерживать конфликтное противостояние между валлонами и фламандцами на протяжении десятилетий? Во многом схожая ситуация складывается и в Канаде, где попрежнему актуальным остается выбор между «непрочной, но сохраняющейся сегодня структурой» и «отделением суверенного Квебека» (Watts, е. а., 1999, XI). Система, обеспечивавшая и продолжающая поддерживать сосуществование двух крупных этнолингвистических общ30 ностей до сих пор в рамках единого государства, не может быть признана неудачной, какая бы траектория ее развития ни преобладала в дальнейшем. Использование инструменталистской модели федерализма для анализа российской политической действительности имеет под собой гораздо больше оснований, чем может показаться на первый взгляд. Ведь задача применения любой методологической схемы в изучении реальной практики – это, в первую очередь, попытка взглянуть на привычные явления с иного ракурса, и потому это скорее поиск новых противоречий, нежели уверенное объяснение происходящего. В этом смысле, использование инструменталистского подхода при изучении отечественных реалий совершенно не требует однозначного ответа, выступил ли федерализм в России средством разрешения противоречий и конфликтов или нет. Оно ориентировано на то, чтобы заострить внимание на ряде аспектов развития, которые нередко остаются в тени исследовательского интереса, но вместе с тем способны многое объяснить в характере и особенностях российского федерализма. Основным возражением против рассмотрения федерализма в России в качестве инструмента разрешения политических разногласий, как правило, служит утверждение о том, что выбор в пользу федеративных отношений был обусловлен объективными факторами и одновременно выступал вынужденной мерой. Это утверждение является, по меньшей мере, спорным. Во-первых, сам вопрос предрасположенности того или иного государства к федеративной форме правления имеет довольно неоднозначный характер и может оцениваться исходя из самых различных критериев. Во-вторых, наличие условий и предпосылок к федерализму совершенно не означает то, что его механизмы будут функционировать в реальной политической практике. Наконец, в-третьих, даже вынужденное, т. е. не зависящее от воли конкретных политических акторов, использование федеративных принципов не отменяет возможности их применения на конкретном этапе в качестве инструмента разрешения политических конфликтов. Кроме того, сам факт присутствия в публичном дискурсе устойчивого выражения «выбор в пользу федерализма» свидетельствует о стремлении подчеркнуть осознанность шага, сделанного в этом направлении. Стоит заметить, что выбор был далеко не безальтернативным. Проекты унитаризации России всегда имели под собой достаточно серьезные основания. Число их сторонников традиционно велико. Большинство из них является приверженцами централизованных форм власти, рассматривающими любые проявления федерализма как опасность «обрушения страны» (Кольев, 2005, 294). При этом 31 культурно-историческая обусловленность унитаризма в России получила не меньше концептуальных обоснований в отечественной науке, чем «объективный» характер федерализма (см., напр.: Зубов, 2000). Наиболее очевидным инструменталистский характер российского федерализма становится при рассмотрении стратегий его основных акторов. Стоит заметить, что в контексте политической ситуации начала 90-х годов само понятие стратегии является в известной мере условным. Крайне сложно говорить о выверенных схемах политических действий в ситуации неопределенности и постоянной конфликтности. В этом случае речь может идти лишь об определенном наборе политических шагов основных акторов, ставящих перед собой краткосрочные цели исходя из имеющихся в их распоряжении ресурсов. В самом общем виде стратегические установки обеих сторон на этом этапе выражает СтонерВейс, отмечая, что федеральный Центр был заинтересован в «продвижении идеи крайне централизованной федеративной системы», а регионы – в сохранении ее «договорного характера» (Stoner-Weiss, 2004, 307). Иными словами, Центр стремился обеспечить и сохранить целостность государства, а регионы – получить как можно больший объѐм ресурсов. Компромиссом, который в той или иной степени устраивал обе стороны, стало использование принципов федерализма. Неважно, осознавались ли при этом его ценностное наполнение и структурная сложность или нет. Федерализм выступал инструментом достижения конкретных политических целей. Продолжение процесса «торга» Центра и регионов вылилось в принятие Конституции 1993 г., ставшей тем самым компромиссом, к которому сумели прийти обе стороны, и заложившей институциональные основы российской федеративной системы. В 90-е годы катализатором этого процесса стало заключение двусторонних договоров между Центром и регионами. Но теперь «торг» шел уже не по поводу установки «правил игры», а в рамках самих этих правил. Наличие несоответствий федерального законодательства законодательству субъекта становилось своеобразным поводом к заключению двустороннего соглашения, в рамках которого власти региона могли, с одной стороны, «поправить» ситуацию, с другой – «выторговать» себе дополнительные полномочия. Примечательно, что осуществляемый Центром в виде заключения двусторонних соглашений «торг» носил индивидуальный характер. Иными словами, каждому региону предлагались свои правила игры, что практически исключало существование каких-либо стандартов или универсалий в действиях Центра по отношению к региональным элитам. Эта особенность позволила предположить Панову, что таким образом 32 «в отношениях между Центром и субъектами Федерации оформилась и институционализировалась ―система персонифицированных обменов‖» (Панов, 2006, 154). Согласно ученому, она представляет собой ключевую черту развития федеративной системы России, подчеркивая партикулярный характер процесса взаимодействия Центра и регионов и, как следствие, преобладание в нем неформальных практик. Данное предположение в полной мере находит свое подтверждение в особенностях проводимой Центром бюджетной политики. Так, после подписания двусторонних соглашений с федеральными властями существенные экономические преференции были получены тремя республиками – Татарстаном, Башкирией и Якутией. По замечанию Кузнецовой, «в бюджеты трех названных республик перечислялись большие доли собираемых на их территориях федеральных налогов, нежели в остальных субъектах Федерации» (Кузнецова, 2005, 73). Институт двусторонних соглашений стал важнейшим регулятором взаимодействия Центра и регионов в 90-е годы. В сущности, на данном этапе его функционирование определяло собой характер развития всей федеративной системы в целом. Со сменой власти в 2000 г. практика заключения соглашений такого рода была прекращена. Однако примечательно, что, оценивая развитие федеративных отношений в России, новый Президент признал их легитимность (Пляйс, 2004). Об этой мере говорилось как об оправданной и необходимой, но только на определенном этапе. Таким образом, двусторонние договоры, а вместе с ними и вся система федеративных отношений, сложившаяся в 90-е годы, выступили средством разрешения многочисленных политических, социально-экономических, этнических и культурных противоречий. На конкретном историческом отрезке эта практика сыграла свою роль. Но условия изменились, и необходимость в ее дальнейшем использовании исчезла. Очевидны цели, очевидны оценки и очевидны результаты – пожалуй, сложно найти лучшую иллюстрацию рассмотрения федерализма с позиций рационального выбора. Этот пример отчетливо демонстрирует и действие второго обозначенного нами принципа инструменталистского понимания федерализма – его временных границ. Федерализм как «проект» и как временное явление совершенно не требуют полного или даже частичного исчезновения его принципов из системы государственного устройства. Последнее является самым крайним, радикальным вариантом. В большинстве случаев имеет место изменение расклада сил внутри политической элиты, а вместе с ним изменение федеративной модели, что может найти проявление как в существенных структурных преобразованиях, так и в незначительных корректировках законодательства. В России эти изменения 33 произошли в начале 2000-х, а окончательное оформление новые правила игры получили в 2004 г. со сменой порядка рекрутирования губернаторов. Масштаб преобразований федеративной системы в сравнении с 90-ми преувеличивать не стоит – все основные предпосылки нынешних реформ необходимо искать именно в том периоде. Однако вполне естественно, что сегодня федеративные механизмы развиваются в новых условиях и приводятся в действие новыми акторами, а значит служат решению новых задач. Литература Дейк Р. Регионализм, федерализм и права меньшинств в Бельгии // Этнические и региональные конфликты в Евразии: В 3 кн.: Кн. 3 Международный опыт разрешения этнических конфликтов. М., 1997. Зубов А. Б. Унитаризм или федерализм: К вопросу о будущей организации государственного пространства России // Полис. 2000. № 5. Кольев А. Н. Нация и государство. Теория консервативной реконструкции. М., 2005. Кузнецова О. В. Региональная политика в России в постсоветское время: история развития // Общественные науки и современность. 2005. № 2. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1997. Панов П. Новые правила формирования региональных органов власти в контексте трансформации отношений «Центр – регионы» // Федерализм и российские регионы: Сборник статей. М., 2006. Пляйс Я. От жесткой позиции к компромиссу // Поиски нового содержания федерализма в России, 2004 // http://www.rau.su/observer/N12_03/1-2_01.htm Филиппов М. Отстаивание федеральных интересов и гарантии выполнения обязательств // Казанский федералист. № 1–2 (21–22), зима, весна. Казань, 2007. Элейзер Д. Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. №5. Bermeo N. The Import of Institutions // Journal of Democracy. 2002. Vol. 13. N 2. Burgess M. Comparative Federalism: Theory and practice. Routledge. 2006. Duchacek I. Comparative Federalism: The Territorial Dimension of Politics. Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1970. Elazar D. J. Exploring Federalism. Tuscaloosa. 1987. Federalism and Territorial Cleavages. Ed. by U. M. Amoretti and N. Bermeo Baltimore; London: The Johns Hopkins University Press, 2004. 34 Filippov M. Revisiting Riker‘s Theory of Federalism. Prepared for the Conference on Empirical and Formal Models of Politics 16–18 January 2004, Center in Political Economy Washington University // http://artsci.wustl.edu/~polecon/conferences/filippov.pdf. P. 6. Последнее посещение 15.10.2008. Franck T. M. Why Federations Fail / T. M. Franck (Ed.), Why Federations Fail. London: London University Press. 1968. Gurr T. R. Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Washington. D.C.: U.S. Institute of Peace Press, 1993. Riker W. H. Six Books in Search of a Subject or Does Federalism Exist and Does it Matter?// Comparative Politics. N 2 (1). October 1969. Riker W. H. Federalism: Origin, Operation, Significance. – Boston: Little, Brown & Company, 1964. Saideman S. M., Lanoue D. J., Campenni M., Stanton S. Democratization, Political Institutions, and Ethnic Conflict // Comparative Political Studies. Vol. 35. N 1, February 2002. Stoner-Weiss K. Russia: Managing Territotial Cleavages under Dual Transitions// Federalism and Territorial Cleavages. Ed/ by U. M. Amoretti and N. Bermeo. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2004. P. 301–326. Watts, Ronald L. Comparing federal systems. 2nd ed. Published for the School of Policy Studies, Queen‘s University by McGill-Queen‘s University Press. 1999. 35 А. Торре (Барии, Италия) ПОХОЖА ЛИ ДЕВОЛЮЦИЯ НА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЮ? РАЗМЫШЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО КОМПАРАТИВИСТА Деволюция в правовой публицистической лексике Английский термин деволюция (devolution) в настоящее время все чаще появляется в лексике публичного права больших европейских государств, в которых распространены процессы регионализации. В общих чертах он выражает концепцию трансформацию существующего юридического порядка; в политике децентрализации данный термин используется для определения такого обширного процесса, как территориальное перераспределение конституционных прав, которое было в свое время объектом серьезных националистических притязаний и которое к концу XX века нашло конкретизацию в Соединенном Королевстве в череде важнейших законодательных инициатив, примененных в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, где были созданы системы самоуправления, дающие широкую возможность для сравнения (Burrows, 2000; Deacon, 2000; Bogdanor, 2001; Pilington, 2002) и на огромной территории Лондона. Британская деволюция – это образцовый для Европы процесс серьезной децентрализации, свойственный любой реформе, которая связана с передачей полномочий, и поэтому сравнительное исследование таких реформ должно включать в себя непосредственное знакомство с ним (Torre, 2000) . Одно из определений говорит, что выражение деволюция «должно обозначать регионализм, то есть децентрализацию некоторых законодательных и исполнительных полномочий центральных органов различных регионов Великобритании (De Franchis, 1984, 642). Из этого можно сделать вывод, что данное выражение характерно исключительно для британской системы, которой принадлежит историческое лидерство его реализации в оперативных формах, и демонстрирует прямую связь деволюция-регионализация. Другие страны начали повышать автономизацию больших регионов и осуществлять передачу полномочий под влиянием реформ, проведенных в Соединенном Королевстве с 1998 и позже – реформ, чей конституционный эффект породил многочисленные и 36 связанные друг с другом действия по реорганизации публичной сферы и активизации новых парламентских практик и новых форм политики (Caravale, 2000, 659). Все это характеризуется некоторыми исследователями как применение деволюции к процессам федерализации или реорганизации региональных автономий (Gambino, 2003), тогда как другие включают ее в схему «многоуровневого правления» (“multi-level governance”) (Bulmer, 2002). В соответствии со своим первоначальным применением термин деволюция является многозначным и имеет частноправовые истоки. В него входят различные формы передачи прав по причине смерти (mortis causa). В частности, в семантике обычного права деволюция может иметь еще более отчетливое применение в связи с различными формами делегирования (delegation) или депутации (deputation), которые влекут за собой различные способы передачи прав или полномочий между частными лицами в рамках наследственного права, права о банкротстве и трастового права. Если это понятие переместить в область правовой публицистики, то традиционная версия деволюции связывается здесь с развитием парламентского правительства Вестминстера, и в частности с развитием нормативной деятельности исполнительной власти, которые резюмируются в понятиях делегированного или субординированного законодательства; в таком случае речь могла бы идти о передаче полномочий от законодательной власти Премьер-министру и его Кабинету, обладателям мажоритарного доверия, или же об элементах системы сдержек и противовесов (checks and balances), которые регулируют равновесие форм правления Соединенного Королевства и вообще каждой системы правления на парламентской основе. Как при законодательной деволюции в пользу исполнительной власти, так и при передаче полномочий в децентрализованных государствах в пользу территорий реализуются формы передачи прав, которые состоят в децентрализации или переходе части нормативной власти от субъекта - обладателя прав (национальный парламент), принимающего законы, к другим субъектам. Такой абсолютный переход, кроме всего прочего, присутствует во всех конституционных системах, в которых действуют формы правления на парламентской основе, требующие прямого сотрудничества между законодательной и исполнительной властью и проводящие значительную политику по территориальной децентрализации, которая не ограничивается только передачей административных функций (Silvestri, 2005, 145). Можно также сказать (если понимать этот термин буквально), что формы внутренней деволюции являются обычными для большинства демократий на парламентской основе. 37 Исторические фазы британской деволюции Споры о британской деволюции проходят как минимум три основные фазы, которые связаны с длительной конституционной историей и политикой Соединенного Королевства (Bianchi, 2005). Предвестником современного понятия деволюция является home rule, т. е. территориальная автономия или «домашнее правление», вопрос, который в конце XIX века был объектом притязаний националистических движений, зародившихся в Ирландии, Шотландии, в некоторых периферийных областях Великобритании и впоследствии, в первой половине следующего века, в Уэльсе. В культурологическом смысле требования «домашнего правления» были самыми политически авангардными: в Ирландии они были связаны с древней традицией сепаратизма, в Шотландии и Уэльсе - с возрождением народной романтической сути. Вне культурных факторов этот процесс обязан пробуждением так же чувства национальности на так называемых " кельтских " территориях, на него накладывал свой отпечаток также крайне сложный облик Соединенного Королевства, где унитарное и административно централизированное государство сосуществовало с густой сетью организаций местного управления, а в Шотландии и Ирландии - с плюрализмом общественных и юридических порядков, которые не изменились несмотря на исторические периоды национального объединения (Англошотландский Союз 1706-07 и Ирландско - британский Союз 1800-01 годов). Поэтому деволюция – это новейшая версия того конституционного самоуправления, который активно был предъявлен в поздневикторианский период либералам, находящимся в исполнительной власти; последние выражали благоприятное отношение к такой форме автономизации вплоть до продвижения в Вестминстере законопроектов о «домашнем правлении» (home rule bills), обреченных на провал вследствие ирландских и шотландских националистических идей, в которых признание дифференцированного конституционного статуса считалось первой стадией движения за независимость. В обоих случаях данные законопроекты не могли бы быть использованы сепаратистскими группами: Ирландия осуществила бы конституционное отделение, только пройдя по повстанческому пути, а Шотландия все равно осталась бы неотъемлемой частью Соединенного Королевства, получив политические основы для формирования специального Управления Шотландией (Scottish Office - многофункциональное правительство, предназначенное для данной территории). Мягче были действия националистов в Уэльсе, 38 единственной области, не имеющей ярко выраженного институционального движения за независимость, а требования ограничивались здесь этнокультурными и лингвистическими вопросами. В то время как другие субгосударственные территории могли гордиться конституционной независимой традицией, которая была изменена частично политическими союзами, то единственным предметом гордости Англии, начиная с эпохи Тюдора, стало лишь присвоение Уэльса. Учитывая такие противоречивые исторические процессы, реализация идеи британской нации оказалась в значительной мере фиктивной (Robbins, 1998, 206). Во второй половине XX века, особенно после 1970, идея деволюции была вновь предложена националистами как естественная эволюция концепции всеобъемлющего самоуправления (home-rule-all-round) XIX века. В первой половине семидесятых годов проявляется вторая фаза британского деволюционизма. В отношении Северной Ирландии она затянулась на период с 1921 по 1972 и реализовалась в парламентской деволюции на заседании Собрания Северной Ирландии в Стормонте на востоке Белфаста (Stormont Belfast) (Oliver, 1978). Далее, подъем шотландского национализма при помощи Шотландской национальной партии (Scottish National Party) и политический успех сильной националистической партии (Plaid Cymru) в Уэльсе (Taylor, 1999, 206), а также развитие региональных движений в Великобритании (в частности в Большом Лондоне, в индустриальных городских массивах и в северных областях) способствовали приданию проблеме деволюции первостепенного значения, что реализовалось лейбористским правительством в 1974–1979. В этот период значительных конституционных преобразований, совпавший с окончательным вхождением Соединенного Королевства в Европейский союз, деволюционные реформы стали осуществляться, но два законопроекта, одобренные в Вестминстере в 1979 (Scotland Bill and Wales Bill) были провалены двумя референдумами, проходившими одновременно в Шотландии и Уэльсе. С наступлением жесткого периода консерватизма Тэтчер любое предположение о деволюции незамедлительно отклонялось во имя восстановления единcndf государства и защиты его политических и конституционных традиций; к этому добавилось радикальное ухудшение межуправленческих отношений, или отношений между центральным исполнительным аппаратом и территориальными администрациями. Третья и заключительная фаза исторического развития британской деволюции была открыта политикой лейбористов, связанной с их огромной победой на выборах в мае 1997. Она предложила конкретные формы перспективам Шотландской конституционной конвенции (Scottisch Constitutional Convention) – активного движения, которое подняло 39 вопрос деволюции как конституционного решения вместо реструктуризации местных властей, начатой посттэтчеровскими консерватороми в начале девяностых. Она также включала в себя конкретизацию проектов конституционной децентрализации, оформленных в электоральный лейбористский манифест 1997 «Наилучшим образом быть достойным Британии» (Britian Deserves Better), который трансформировался в ряд нормативных актов, одобренных Парламентом в 1998: Закон о Шотландии (Scotland Act), Закон о правительстве в Уэльсе (Government of Wales Act), Закон о Северной Ирландии (Northern Ireland Act) и Закон о полномочиях Большого Лондона (Greater London Authority Act). Все они были ратифицированы референдумами, проведенными на соответствующих территориях (запуск процесса деволюции и его непосредственное соединение с работающей демократией является другим элементом реформизма, который высвечивает связь «самоуправление – самоопределение»). С 1998 деволюция достигла определенных успехов, связанных с автономизацией Шотландии и Уэльса, с преодолением тяжелого политического застоя в шести северо-ирландских графствах, с повышением уровня управления на территории Большого Лондона и предотвращением банкротства английских регионов, в которых оказались тщетными попытки сочетать плановую регионализацию при помощи «креативного местного самоуправления» (“creative local government”) девяностых (Atkinson, Wilskheeg, 2000)и где исполнительная власть лейбористов попыталась распространить формулы деволюции (Torre, 2003, 121). Прагматизм реформаторства и асимметрии деволюции Современная деволюционная децентрализация, происходящая в Соединенном Королевстве, основывается не на одной заранее созданной модели. Британская деволюция имеет ассиметричный характер (Hogwood, 2005, 409); в каждой из трех субгосударственных областей, где были введены государственные автономные системы, выделяются различные формулы продвинутого регионализма (McCrone, 1993, 507; Bradbury, 1997, 1). В Большом Лондоне деволюционное устройство соответствует особым требованиям, присущим большим и многонаселенным территориям мегаполисов (Pimlott, 2002, 5; Martino, 2002, 1457); и здесь оно отличается от территорий, в которых существует основополагающая связь между самоуправлением и народом, что является основным параметром определения деволюции в том виде, в котором она была изначально задумана. На территории Англии связь деволюция40 регионализация была сформулирована в реформистской программе лейбористов (Leicester, 1999, 251; Hazell, 2006, 158) , однако она не имела такого успеха, как в других областях Соединенного Королевства. С другой стороны, деволюция – это формула, которая представляется открытой для определения дифференциации, применяемой во всех государствах континентальной Европы, таких как регионализированная Италия и автономная Испания (Fanio Loras, 1988; Vandelli, 1980; Aja, 1999; Ruiz-Rico Ruiz, 1998, 159), которые представляют собой системы, основанные на децентрализации, и она является гарантированной по конституции (чего нет в Великобритании) (Leyland, 2002, 241). Иной пример - Франция, где признается необходимость больших региональных территорий (Favoreau, 1982, 1270; Luchaire, 1982, 1550; Vandelli, 1990; Calamo Specchia, 2004), но где сильны центристские традиции. В вертикальном разрезе разноообразие форм децентрализации связана с отношениями между деволюционными территориями и центральными институтами, а в горизонтальном – с множеством деволюционных формул, которые могут реализовываться на территориях с существующими условиями самоуправления. Сравнительный опыт децентрализации, установленной в двух странах, Франции и Испании (D,Arcy, 1986), в которых усматриваются радикально разные конституционные устройства, выявляет множественность институциональных формул, имеющих, однако, общий элемент. Подробное рассмотрение противоположных конституций самоуправления в Испании, в особых условиях автономных коммун Каталонии, Басков, Галиции и Канар, как и во Франция - на Корсике и в заморских территориях, помогает понять, что любая форма деволюции может быть реализована только в силу прямого соответствия территориальным законам, особенно если они политически усилены региональными или националистическими движениями. В Соединенном Королевстве противоречие, обусловленное исторически, является ярко выраженным: к полностью укомплектованной системе шотландского самоуправления (парламент, принимающий законы; исполнительная власть; юрисдикционная автономная система и аппарат учреждений местного управления с собственными административными традициями), присоединяются другие рамки деволюции, в которых представительским собраниям, даже если они наделяют исполнительные должностные лица административными полномочиями, не предписываются полномочия первичного нормирования (Уэльс), или же они осуществляют ограниченную часть таковых (Северная Ирландия), или же, наконец, они реализуют формы управления sui generis, основанные на прямых выборах мэра (Лондон). 41 Данное многообразие решений уменьшается также по политическим и государственным причинам. Если взять пример Шотландии и Уэльса, стран с высокой национальной составляющей, их можно сравнить с Каталонией и Басками Испании и Корсикой Франции: при восстановлении ценностей гражданского сосуществования и соблюдении социальных и политических прав выбирается особая форма деволюции, осуществляемая в шести графствах Ольстера. Полудеволюция лондонской столицы больше соответствует другим частям Европы, имеющим статус больших мегаполисов. Можно сказать, что данное противоречие является индикатором процесса деволюции. В некоторых случаях, являющихся передовыми в реформах деволюции, передача прав выступает в качестве исторической институциональной ратификации традиций автономии, не утихавших внутри объединенных государств, которым знакомы периоды сильного централизма (Шотландия, Каталония). В других случаях деволюция является ответом на требования этнокультурного характера (Уэльс, Корсика), которые постоянно развиваются по макроэкономическим и налоговым причинам и могут порождать центростремительные (французские регионы) или центробежные стремления (итальянский регионализм предыдущего поколения). В крайних случаях, постоянно выявляющих некоторые патологии демократических систем, деволюционная реформа является попыткой конституционного решения драматических социально-политических расколов (cleavages) (Северная Ирландия) или радикального автономного противостояния (Баски): в данном случае речь идет о формах миротворческой децентрализации, которая не всегда эффективна в других конкретных ситуациях. Остаются отдельные формы деволюции, которые осуществляются в большинстве мегаполисов, где децентрализация пытается удовлетворить требования стратегического администрирования (некоторые европейские столицы разделяют такую форму функциональной децентрализации). Как демонстрирует десятилетний британский активный опыт деволюции, в возникшей децентрализованной системе пытается воспроизводиться и развивается разнообразие; так каждая формула деволюционной передачи полномочий запускает активные механизмы, обуславливающие развитие в широких направлениях, ориентирующихся вниз (в направлении местных второстепенных администраций), а также вверх (в направлении центральных органов). Принятие недавнего Закона о правительстве Уэльса (Government of Wales Act) 2006 года открыло дорогу местным законодательным полномочиям, которые первоначально были ограничены для Уэльской Ассамблеи. В 1998 она как полноправный обладатель административной деволюции, не имея широких законодательных полномочий, свойственных Шотландскому парламенту или 42 региональным итальянским или иберским советам, демонстрировала там, где она не была парализована, патологический политический застой. Деволюция прав уже не исчерпывается простым реформаторским моментом, а проявляет себя и в судебной системе. Концепция эффективно синтезируется в теперь уже известном определении деволюции – «процесс, а не событие» (a process, not an event), которое появляется в названии памфлета (Davies, 1999) и становится почвой для научных размышлений, особое внимание где обращается на феномен конституционного преобразования и на переход от государственности к раздельным или составным формам объединений. Деволюция, регионализация, федерализм: каковы связи? Если деволюцию перенести в другие смысловые контексты, в особенности в контекст британского развития, то речь идет о воздействии крупных реформ на процесс, именуемый территориальное устройство управления (Rose, 1982; Torre, 1991), то она стоит рядом с федерализацией и может считаться ее предполагаемым или функциональным элементом (Kendle, 1997; Groppi, 2004), особенно в свете дебатов по реформам, которые в Италии связывается с V Республиканской Конституцией (Falcon, 2001, 1141; Olivetti, 2003, 275; Chieffi, 2004, 175; Cartei, 2004, 33) и последующими предложениями по продвижению системы в направлении деволюции. Другие представляют деволюцию и федерализацию как отдельные конституционные направления и явные антитезы (Fazal, 1997). Некоторые британские наблюдатели намеревались остановиться на связи «регионализация – федерализация», включив в нее элементы деволюционизма (Banks, 1971, 115; Burrows, 1980, 40), например, поставив акцент на понятии «федеральная деволюция» (―federal devolution‖), которое необязательно предполагает создание смешанной государственной организации, подразумевающей существование разделения суверенитета между государством и его составляющими, а скорее, сводится к простому органу с «деволюционной» сущностью на всей государственной территории, (Horgan, 1999; Olowofoyeku, 1999, 57; Henig, 2002, 125; Gamper, 2005, 1103). Соотношение государства, реализующего в себе деволюционные формы, и государства, представляющего собой федеративную организацию, в которой признается государственность территориальных единиц, позволяет рассматривать деволюцию как не имеющую четких теоретических координат, что иногда можно видеть в действиях итальянского реформаторства и его неразре43 шимых теоретических проблемах (Reposo, 2001, 297; Ciufoletti, 2001, 1201). Между тем, деволюция может быть понята как первая стадия реконфигурации унитарного государства, что может также сопровождаться представлениями о распаде первоначальной государственности, которые преобладали среди самых ярых британских сторонников централизованного государства и которые часто подпитывались апокалиптическими настроениями в первой (Dalyell, 1977; Arthur, 1978, 220; Kramnick, 1979; Nairn, 1981) и во второй фазе деволюционистских споров (Marr, 2000; Taylor, 2000). Хотя в деволюции имеется достаточно элементов, которые являются типичными факторами федерализации, она все же рассматривается как территориальная децентрализация, более радикальная с конституционной точки зрения в отношении регионализации, но она не подразумевает пересмотра структуры государства. Поэтому можно сказать, что деволюционизм в своей наиболее полной версии (как это можно наблюдать в Шотландии), представленной в предисловии Закона о Шотландии 1998 г. (Himsworth, 1999), останавливается на пороге национального суверенитета и никак не переступает его, избегая угрозы целостности государства или придания ему определенной формы федеративной организации. Когда речь идет о деволюции как о научном термине, то пересечение различных трактовок может создать некоторую неразбериху, о чем британская доктрина предупреждала очевидно (Smith, 1977, 14) и это было выявлено критикой в связи с недавними итальянскими дебатами (Vandelli, 2002; Ruggeri, Romboli, 2002; Cammelli, 2003; Chiapetti, 2004). В любом случае понятие деволюции находится в центре различных интеллектуальных попыток объяснения, которые показывают, что нужно остановить внимание на юридической основе процесса территориального распределения конституционных полномочий (Osmond, 1999). В своем семантическом ядре деволюция содержит смысловой оттенок «текучести», выражая передачу прав, полномочий или функций; и в этом смысле она отличается от настоящих деволюционных процессов, происходящих в некоторых унитарных государствах, где полномочия направляются от высших к нижним уровням управления. В феодальном праве деволюция дисциплинировала возврат феодального владения сеньору со стороны вассала и не приводила к передаче власти от центра к периферии. Эхо этого древнего устройства - в территориальной деволюции, реализованной в направлении нисхождения, которая должна быть уравновешена соответствующим переходом прав «вверх», - так кратко излагается деволюционная доктрина британского «Третьего пути» (Giddens, 2000). 44 То же самое понимание можно применить к более широкому процессу автономизации местных корпораций, который был реализован Английской короной в Средние века посредством передачи консульской грамоты, учреждавшей с юридической точки зрения английские муниципальные власти (таким же образом формировались шотландские города с самоуправлением): тщательный процесс деволюционного характера, оринтированный сверху вниз, положил начало территориальным автономиям, а в общем – целой сети англо-британского местного управления (Bulpitt, 1983). Хотя структуры местных учреждений, регионов, деволюционных или автономных институтов порождают концептуально различные вопросы, совпадения содержания между ними были многочисленными и неизбежными. Единым элементом во всех картинах осуществляемой деволюции или действующей автономизации является в частности реализация новых форм централизма, которые осуществляются не столько на национальном уровне правления, сколько используются для создания новых децентрированных органов, которым будет доверен контроль над организациями и функциями нижних территориальных учреждений. Данная система контроля положит начало системе ―регионального централизма‖ (Jeffery, 2006, 57). Даже в этом случае британская система является символичной (Jones, 2005, 393): она делает очевидными проблемы правления на различных территориальных уровнях во всех странах, независимо от местных традиций, в которых уже адаптированы или еще только будут адаптированы схемы деволюционного содержания. Определив, какая часть наиболее сложного вопроса распределения полномочий в государственных системах в результате кризиса государства благосостояния наиболее очевидно подвергается региональному давлению, понятие деволюция монополизирует внимание современных специалистов по конституционному праву, и особенно британских создателей деволюционистских идей, в которых, продолжив традиции ирландского и шотландского «домашнего правления» последнего двадцатилетия XIX века, они выделяют децентрализацию в качестве характерного элемента законодательной власти, вводящего регионализацию в систему и имеющего подлинно конституционный характер (Coupland, 1954, 1; Mackintosh, 1968, 70; Mercer, 1978, 32). Воспользовавшись подсказками другого значения и другой природы, данный вопрос создал в Соединенном Королевстве, играющем роль первооткрывателя, основу для споров, которые под напором сепаратистских движений «кельтских» областей (сделавших из деволюционизма один из основных пунктов своих требований) (Hanham, 1968, 84; Osmond, 1977; Drucker, Brown, 1980), в 1968-73 были представлены специальной Королевской 45 комиссии по конституции (Royal Commission on the Constitution), чье окончательное заключение, помимо выдвижения деволюционных решений для всей британской территории, зафиксировало конституционную, а не чисто административную или планируемую природу новых форм регионализации, предлагаемых в стране (Royal Comission On The Constitution, 1973). Скрытые парламентские аспекты деволюционной децентрализации и многоуровневое правление Принимая во внимание вышеизложенные конституционные прочтения, деволюция означает переход части законодательных прав и начало децентрализации, которая в определенной мере имеет характер нововведения или даже исключения, как это можно наблюдать в случае с шотландским парламентаризмом относительно традиционной догматики парламентского суверенитета. Для юриста она предстает в качестве двоичного образования, в котором то, что приобретает значение, не более чем элемент передачи прав (результатом которой является замещение нового субъекта, владельца прав и обязанностей), а возможно и депутации (согласно которой оба субъекта сосуществуют в единой системе). Действительно, положив начало деволюционным институтам или процессам, британский парламент, переживая последствия зарождения альтернативных парламентских институтов (Decaro, 2005), остается первым и последним владельцем права принимать законы и распоряжаться судьбой территорий с децентрализованным правительством. Он не только определяет или одобряет прекращение собственного существования как политической фигуры, но и определяет формы соучастия законодательной власти и правительства в деятельности других субъектов, а также при этом обеспечивает центральное положение власти в тех функциональных секторах, которые традиционно принадлежали к исключительной компетенции государства и не могли быть передоверены (конституционные организации, защита прав, внешнее представительство, налогообложение, монетизация, гражданство и т. д.). Два основных деволюционных закона, которые в 1998 определили переход власти в Соединенном Королевстве – Закон о Шотландии и Закон о правительстве Уэльса, подчеркнули аналогии и различия, из которых произошли основные деволюционные формулы (Himsworth, O'Neill, 2003). Шотландский парламент наделяется первичной законодательной властью в так называемых переданных ему вопросах и впоследствии 46 правом самоуправления в отношении шотландской исполнительной власти, отвечающей за политику в отличие от территориальной законодательной власти. Второй закон устанавливает преимущественно административной деволюцию и доверяет Собранию Уэльса нормативную власть, осуществляемую только по доверенности учреждений Вестминстера (новый закон 2006 г. запустил в Уэльсе вторую фазу законодательной деволюции). Являясь противоположными, две деволюционные системы базируются на основных элементах: технике распределения компетенций между центральными и деволюционными органами и принципе, по которому местонахождение суверенитета без обсуждений остается в Парламенте Вестминстера. Сфера действия деволюционного процесса остается парламентским вопросом, являющимся основополагающим для страны, в конституционном опыте которой суверенитет принадлежит законодательной власти. Но не меньшее значение она имеет в тех государствах, в которых есть писаная конституция и в которых суверенитет предписывается не парламенту, а скорее народу или нации. Помимо всего прочего, во втором определении территориальной деволюции, в котором выражения деволюция и делегирование синонимичны, подчеркивается, что «деволюция могла бы быть определена как делегирование центральной властью полномочий подчиненным единицам; эти полномочия исполняются с некоторой степенью автономии, хотя и при том, что окончательная власть остается за центральными органами» (Norton, 1982, 174). Опираясь на синонимию деволюция-делегирование, данное определение подчеркивает некоторые исключительные пункты, которые могут послужить подсказкой. С точки зрения законодательных активов, деволюционные права являются производными правами, и территориальные объединения, пользующиеся передачей функций, не имеют особых черт государственности, присущими органам, составляющим федеральное государство. Деволюция, другими словами, обеспечивает равновесие власти в едином государстве, стремится сохранить ортодоксальность, которая регулирует отношения суверенитета в такой государственной структуре: даже передача децентрализованным территориям прав законодательной власти по значительному количеству предметов не является исключением, если существует достаточно условий для создания справедливых отношений между центральными учреждениями правительства и деволюционными учреждениями. Данный принцип утверждается в федеративном государстве (Lombardi, 1986), в котором исключается то положение, при котором признанный статус федеративных единиц ставит их в положе47 ние абсолютного равенства с федеральными властями (De Vergottini, 1990, 831); и тем более это относится к территориальным объединениям, которые с конституционной точки зрения далеки от государственных масштабов. При присуждении деволюционным территориям статуса субординированных единиц и последующего присвоения им полных прав, которые были бы способны противостоять нежелательным федеративным ошибкам или сепаратистскому влиянию Шотландской национальной партии в Соединенном Королевстве, Син Фейн в Северной Ирландии, басков в Испании или корсиканцев во Франции, или Северной Лиги в Италии, приоритет центральных институтов остается открытым. Остается также открытым вопрос о парламентском представительстве, когда не во всей стране реализуются формы деволюции: в Соединенном Королевстве, находящемся еще далеко от получения удовлетворительного решения, это - случай Англии, в которой деволюционный процесс был приостановлен и в которой единственной парламентской ареной является законодательная власть Вестминстера, где заседают, имея полноту статуса, шотландские, уэльские и североирландские депутаты (отсюда делается вывод, что там, где начинаются радикальные реформы деволюционного характера, рекомендуется их осуществление на всей национальной территории (Hazell, 2001, 268; Lodge, Russell, Gay, 2004, 193; Hadfield, 2005, 286). Возможности осуществления деволюции многочисленны и разнообразны, поэтому было бы более корректным вести речь о существовании множества комплексных систем деволюции или, говоря проще, деволюций. Возникший плюрализм деволюционных формул включает в себя различные исторические, институциональные и геополитические измерения и оценивается в отношении целей, которые реформаторы намереваются продолжать. Деволюция проникает в процесс внедрения европейского «многоуровневого правления», который, по мнению некоторых, дойдет до установления в Европейском Союзе общей формы «обусловленной деволюции» через региональную политику (Thielemann, 2003). Различными, но неумолимыми способами деволюционные территории будут реализовываться во всех системах: объединенных централизованных, объединенных региональных, объединенных автономных или просто федеративных (De Marco, 1998, 46; Baldi, 2003), в которые входят принципы децентрализации (Flogaitis, 2003; Hopkins, 2002), ведущие к широкому процессу преодоления концепций, на которых базируется государство-нация (Loughlin, 2001), или к постепенному разрежению традиционных догматизмов государственного суверенитета (MacCormick, 2001), обусловленных во всем Европейском Союзе разви48 тием форм мезоправительства, которые соединяют между собой процессы реструктуризации малых автономий, расширения прав регионов и соответствующей передачи прав от центра государства к его периферии (Sharpe, 1993; Delcamp, Loughlin, 2002) с последующей трансформацией в особую министерскую центральную структуру (Torre, 2004, 106; Del Conte, 2005, 933). Многочисленные осуществления деволюции находят благоприятную почву также в странах, в которых идентификация государство-нация, кажется, еще сопротивляется современным ревизионистским давлениям. Такое можно встретить в особенности в подражательной Италии, где используется английский термин, чаще всего предпочтение отдается нашему ―devoluzione‖ (Cento Bull, 2002, 213) и во Франции, где используются термин ―devolution‖ (Bell, 2002, 139; Campanile, 2003, 813). Тем не менее, для любой европейской части, на которой реализуются обширные феномены децентрализации, способные произвести воздействие на сами устои государства, деволюционный процесс обозначает дальнейшее развитие, можно даже сказать «второе поколение» важнейших реформ регионалистического типа, которые находят свое воплощение в странах, традиционно характеризуемых объединенными формами организации государства. В Италии, стране, в которой новая конституционная децентрализация приобрела федеративные символы (Mangiameli, 2002; Bifulco, 2004), деволюция, чрезмерно обусловленная обыкновенным регионализмом, появляется в первой инстанции; она изначально была одобрена Конституцией, однако в реальности была конкретизирована значительно позже, о чем свидетельствует тот факт, что становление форм самоуправления проходило более двадцати лет с момента республиканского поворота. Тенденция к появлению форм регионального правления в Италии, найдя поддержку не только в античной конституционной автономии, но и в новой конституционной автономии (D'Atena, 2000, 614), в дальнейшем была сформулирована в статье, согласно которой «каждый регион имеет статус, в соответствии с которым в гармонии с Конституцией он определяет форму правления и основные принципы организации и функционирования», а также в других законодательных актах (Poggi, 2003, 63). Она разрешила противоречие однообразияразнообразия в пользу первого термина (Angiolini, 1983). Вместе с тем, тенденция подобного рода, имеющая эффект гравитационной силы, порождает парадоксальный результат – децентрализованные объединения стремятся к центру системы, что встречается почти во всех государствах с федеративной, автономной или региональной 49 структурами (Barbera, 2001), где установленная договоренность между федеральными и территориальными властями оказывается динамичной (Brosio, 1994). Эта ситуация отличается от тех процессов, которые в настоящее время характеризуют системы, организованные по формуле деволюции. Действительно верно, что в итальянских регионах, реформированных в последнее время, деволюционная формула, находящаяся под эгидой изменений в ст. 117 Конституции не влияет, с точки зрения асимметрии, на формы правления в регионах (Palermo, 1997, 291, 2003, 55). Если рассматривать это с точки зрения форм правления, то не смотря на провозглашение одной из самых ярких идей конституционных автономий, итальянская деволюционная децентрализация характеризуется низким уровнем асимметрии; конституционная возможность асимметрии соответствующих организаций самоуправления является конструктивным элементом государственности, тем более, что некоторые ее основания повлияли частично на компоненты итальянского реформизма (Antonini, 2000). С другой стороны, в сравнительном описании достаточно много понятий автономии, в котором объединяются все формы децентрализации, с различных точек зрения характеризующих нецентрализованные государства (теперь их все больше), существующие в европейской панораме (Carrillo, 1997, 27). Таким образом, автономия, являясь одной из характерных черт децентрализованных государств, представляет собой саму их сущность (Reposo, 2005). Непохожая ситуация наблюдается во Франции, в которой с 1982 начались более отчетливые процессы регионализации (Ciriello, 1984; Ammannati, Amirante, 1986; Delcamp, 1992, 149; Loughlin, Mazey, 1995; Mazza, 2004). Эти интересные открытия в отношении дифференцированной организации политической власти, осуществленные при введении автономных порядков в областях – в основном на Корсике и на Заморских территориях – (Calamo Specchia, 1998, 1009; 1999, 1363; Crettiez, 1999; Richards, 2004, 481), привели к тому, что данные формы были после длительного сопротивления со стороны центрального правительства в конце концов признаны более широко в отношении самоуправления и прав по критериям «деволюционных» институтов (Hintjens, Loughlin, Olivesi, 1995, 125). С этой точки зрения стоит обратиться к конституционному пересмотру от 28 марта 2003, являющимся новаторским этапом процесса, запущенного еще в восьмидесятые годы ХХ века (Ohnet, 1996). В соответствии с ним французские регионы получили официальное политическое признание в качестве территориальных институтов государства и первичной нормативной власти, которая стимулировала роль местного коллективизма в системе, монополизиро50 ванной национальным единством (Moreau, 1995; Bacoyannis, 1999; Verpeaux, 2002). На волне этих многообещающих европейских трансформаций в области территориального самоуправления, которые, кроме Соединенного Королевства, находят благоприятную почву в государствах, чьи конституционные доктрины никогда не проявляли симпатий к требованиям о децентрализации, а также в некоторых государствах, вошедших в Европейский Союз недавно, чьи демократические порядки появились при конституционном переходе Восточной Европы, привлекательность регионализма и последующих деволюционных гипотез становится все более очевидной, если подразумевает демократическое развитие и элемент выгоды от европейской интеграции (Buczkowsky, 1998; Horvath, 2000; Wolczuk, 2003, 41). Таков пример Польши и правового публицистического внимания к регионализации здесь, выражающегося в интересе к шотландской деволюции (dewolucja) (Kubas, 2004) и тех фильтрованных форм «деволюсьон» (dévolution), которые реализуются во французском опыте (Choražy, 1998). Деволюционное государство как новая форма государства Новаторская роль, сыгранная Соединенным Королевством в реализации системы деволюции, является прямым следствием не только исторической смешанной природы государственности, сформированной при помощи объединения четырех национальностей (Rose, 1977) (это не является эксклюзивной чертой Соединенного Королевства, т.к. каждое европейское Государство достаточных размеров представляет собой многогранную культурную и политическую структуру, которой могут соответствовать различные формы самоуправления), и прагматизма, который направил конституционную эволюцию, но и отсутствия существования «лица» самого государства, которое не определено ни с точки зрения юридической, ни с точки зрения доктрины (Dyson, 1980, 186). Поэтому британская система объясняется как система с центром, но без «государства» (Giannini, 1986, 84). Важный знаменатель деволюции любого порядка и степени определяет конституционные рамки проводимых трансформаций. В таком виде правовые сравнительные размышления подсказывают, что деволюция может считаться в качестве вида более широкого типа основополагающих гарантий, которые социальные демократии, возникшие после второй мировой войны, подготовили для защиты конституционной конфигурации территориальных обществ (Groppi, 1998, 627). Говоря о про51 цессе, который связан унитарными и централизованными предпосылками, деволюция трансформирует распределение функций в рамках государства и при помощи данного процесса придает особый конституционный вес регионам, который, по крайней мере, в своей проекции делает неузнаваемым традиционное устройство публичной власти. В этом случае деволюция рассматривается с многочисленных точек зрения, среди которых основными являются следующие процессы: модернизация в самом конституционном устройстве, в свое время централизованном; создание широких институционных платформ для продвижения новых политик макроэкономического развития; формирование способности продвигать рационализацию сети местных администраций; политическоий ответ трансформационным давлениям, происходящим от «Европы Регионов» и от сепаратизма региональной или националистической формы. Деволюция предлагается как обширная и доступная в плане понимания формула, объясняющая изменения, которые она определяет в унитарном государстве (Leyland, 2000, 341). Размышления о механизмах трансформации государства позволяют включать деволюцию в состав доктрины конституционных переходов, и к такому истолкованию склоняются те британские авторы, которые уделяли внимание метаморфозам Соединенного Королевства (Norton, 1998; Hazell, 1999; Kellas, 2000, 89; Gamble, 2006, 19), и чьи линии рассмотрения противоположны по сравнению с рассмотрением аналогичных деволюционным процессов, происходящих в государствах с писаной конституцией (Ongaro, 2006, 737). В последнем случае процесс идет по нисходящему направлению (регионалистская или федеральная децентрализация начинается сверху или с пересмотра основополагающих норм, содержащихся в конституции, и влияет на территориальное устройство страны, придавая регионализму форму второго или третьего поколения) (Keating, 1998). Однако в Соединенном Королевстве деволюция изменила устройство власти в конституционных перифериях и оказала существенное влияние на конституцию как политическую систему, и в таком ракурсе может рассматриваться как элемент бесконечной конституционной британской гибкости (Trench, 2005, 36). Принимая во внимание все вышеизложенное, основными инновациями, которые деволюция привила корням британской конституционной системы (некоторые из них очень предположительно могли бы найти для себя пространство во всех тех унитарных государствах, которые проводят собственные реформы по типу деволюции), можно назвать следующие: 52 Полицентрическая структура государственной организации и внутри нее базовое условие асимметрии деволюционных учреждений ; Рождение неизвестных и децентрализованных форм парламентской демократии и развитие новых форм участия; Совместное существование региональных партий и больших национальных партий в партийных и электоральных системах; Потенциальное разнообразие в территориальном государстве основополагающих прав и режимов, обеспечивающих социальные, экономические и культурные права; Передача многочисленных политических возможностей в исключительной власть центрального исполнительного органа и создание новых методик переговоров между различными уровнями управления; Создание новых форм объединения, подготовки и принятия решений между центральными органами и территориальными органами власти; Появление и развитие новых форм юрисдикции для осуществления поручений по разрешению территориальных конфликтов; Трансформация центрального министерского аппарата и создание новых министерств для политического управления связями с деволюционными органами (или функциональное и структурное изменение существующих «территориальных» министерств); Разработка новых форм переговоров регионов государства с организациями Европейского союза, запуск новых механизмов по международной кооперации; Введение организационных и распределительных форм власти, типичных для федерализации, Формирование конституционных субсистем, альтернативных классическому устройству национальной конституции, и соответствующих конституционных доктрин. И все это вводится, не смотря на опасности разрушения единой структуры государства (Poggeschi, 2005, 1319), на опасности перехода к федеративной структуре, отрицающей превосходство центральной власти и ставящей на обсуждение юридическую доктрину единого национального гражданства, что является одним из самых проблемных элементов британского случая (Himsworth, 2001, 145; Adams, Robinson, 2002). К этому могут быть присовокуплены и аналогичные итальянские тенденции, где находящиеся вне контроля деволюции процессы могут повлиять на стандарты жизни и на социальный статус граждан, прожи53 вающих в разных областях, и подпортить юридический статус национального сообщества (Jeffery, Wincott, 2006, 3). Под влиянием динамичного процесса трансформации было бы законным предположить, основываясь на тщательных размышлениях, существующих уже в итальянской доктрине, и на новейших выводах (Lucatello, 1955), что в истории западных демократий с «деволюционным государством» (Deacon, Griffiths, Lynch, 2000) после либерального государства, социального государства и кризиса, оставшегося без имени, приближается форма государства нового типа. Нормативные источники Si rinvia alle fonti citate nel testo. Литература Adams J., Robinson P. (a cura di), Devolution in Practice. Public Policy Differences within the UK, London, 2002. Aja E. El Estado autonomico. Federalismo y hechos diferenciales, Madrid, 1999. Ammannati L., Amirante D. L'amministrazione locale in Francia. Documenti e testi sulla riforma, Padova, 1986. Angiolini V. Gli organi di governo della Regione, Milano, 1983. Antonini L. Il regionalismo differenziato, Milano, 2000. Arthur P. The Break-Up of Britain?, in Parliamentary Affairs, 1978, 220 ss. Atkinson H., Wilks-Heeg S. Local Government from Thatcher to Blair. The Politics of Creative Autonomy, London, 2000. Bacoyannis C. Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités, Aix-en-Provence, 1999. Baldi B. Stato e territorio. Federalismo e decentramento nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, 2003. Banks J.C. Federal Britain? The Case for Regionalism, London, 1971. Barbera A. La forma di governo negli statuti regionali, in Aa.Vv., La potestà statutaria regionale nella riforma della Costituzione. Temi rilevanti e profili comparati, Milano, 2001, 1 ss. Bell J. Devolution: French Style, in European Public Law, 2220, 139 ss. Bianchi D.G. Storia della devoluzione britannica. Dalla secessione americana ai giorni nostri, Milano, 2005. Bifulco R. Le Regioni. La via italiana al federalismo, Bologna, 2004. 54 Bogdanor V. Devolution, London, 2001. Bradbury J., Mawson J. (a cura di), British Regionalism and Devolution. The Challenges of State Reform and European Integration, London-Bristol (Penn.), 1997. Brosio G. Equilibri instabili. Politica ed economia nell'evoluzione dei sistemi federali, Torino, 1994. Bulmer S., Burch M., Carter C., Hogwood P., Scott A. British Devolution and European Policy-Making. Transforming Britain into Multi-Level Governance, Basingstoke, 2002. Bulpitt J. Territory and Power in the United Kingdom. An Interpretation, Manchester, 1983. Burrows B., Denton G. Devolution or Federalism? Options for a United Kingdom, London, 1980. Burrows N. Devolution, London, 2000. Buczkowsky J. Jaka Europa? Regionalizacja a Integracja, Poznan, 1998. Calamo Specchia M. La riforma dello statuto della Corsica: itinerari di una décentralisation imparfaite, in Gambino, S. (a cura di), Stati nazionali e poteri locali. La distribuzione territoriale delle competenze, Rimini, 1998, 1009 ss. Calamo Specchia M. I TOM alla resa dei conti: la questione della Nouvelle Calédonie, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, 1363 ss. Calamo Specchia M. Un nuovo "regionalismo" in Europa? Il decentramento territoriale della repubblica francese, Milano, 2004. Cammelli M. Un grande caos chiamato devolution, Bologna, 2003. Campanile G. Dévolution e devolution: una comparazione francobritannica, in Torre, A. - Volpe, L. (a cura di), La Costituzione Britannica / The British Constitution, Torino, 2003, vol.1, 813 ss. Caravale G. Devolution scozzese e nuovi assetti costituzionali in Gran Bretagna, in Rass. parl., 2000, 659 ss. Carrillo E. Local Government and Strategies for Decentralization in the 'State of the Autonomies', in Publius. The Journal of Federalism, 1997, 27 ss. Cartei G.F. Devolution and the Constitution: the Italian Perspective, in European Public Law, 2004, 33 ss. Cento Bull A. Verso uno stato federale? Proposte alternative per la revisione costituzionale, in Bellucci, P. - Bull, M. (a cura di), Politica in Italia Edizione 2002, Bologna, 2002, 213 ss. Chiappetti A. Il rebus del "federalismo all'italiana", Torino, 2004. Chieffi L., Clemente di San Luca G. (a cura di), Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione fra attuazione ed ipotesi di ulteriore revisione, Torino, 2004. Choražy K. Zagadenia ustroju lokalnego Francji, Lublin, 1998. 55 Ciriello P. Governo locale e sistema costituzionale francese, Napoli, 1984. Ciuffoletti, Z. Il nodo del federalismo, in Le Regioni, 2001, 1201 ss. Coupland R. Welsh and Scottish Nationalism, London, 1954. Crettiez X. La question Corse, Brussels, 1999. d'Arcy F., del Alcazar B. Décentralisation en France et en Espagne, Paris, 1986. Dalyell T. Devolution: The End of Britain?, London, 1977. D'Atena A. in Rass. parl., 2000, 614 ss. Davies R. Devolution. A Process Not an Event, Cardiff, 1999. Deacon R., Griffiths D., Lynch P. Devolved Britain: The New Governance of England, Scotland and Wales, Sheffield, 2000. Decaro C. (a cura di) Parlamenti e Devolution in Gran Bretagna, Roma, 2005. de Franchis F. Devolution, in Dizionario Giuridico - Law Dictionary, Milano, 1984, p.642. De Marco E. Il federalismo nella prospettiva delle riforme istituzionali e dell'integrazione europea, in Studi Guarino, II, Padova, 1998. Delcamp A. La décentralization française et l'Europe, in Pouvoirs, 1992, 149 ss. Delcamp A., Loughlin J. (a cura di) La décentralisation dans les États de l'Union européenne, Paris, 2002. Del Conte F. L'impatto della devolution sui ministeri del territorial government, in A. Torre - L. Volpe (a cura di) La Costituzione Britannica / The British Constitution, Torino, 2005, vol. 2, 933 ss. de Vergottini G. Stato federale, in Enciclopedia del diritto, vol. XLIII, 1990, 831 ss. Drucker H.M., Brown, G. The Politics of Nationalism and Devolution, London, 1980. Dudley Edwards O. Who Invented Devolution?, in L. Paterson, D.McCrone (cur.), The Scottish Government Yearbook 1992, Edinburgh, 1992, 36 ss. Dyson K (a cura di) The State Tradition in Western Europe, Oxford, 1980. Falcon G. Il big bang del regionalismo italiano, in Le Regioni, 2001, 1141 ss. Fanio Loras A. Fundamentos constitucionales de la autonomía local, Madrid, 1988. Favoreau L. Décentralisation et Constitution, in Rev. Dr. publ,, 1982, 1270 ss. 56 Fazal M.A. A Federal Constitution for the United Kingdom. An Alternative to Devolution, Aldershot, 1997. Flogaitis S. La notion de décentralisation en France, en Allemagne et en Italie, Paris, 1979. Gambino S. (a cura di) Regionalismo, federalismo, devolution. Competenze e diritti - Confronti europei (Spagna, Germania e Regno Unito), Milano, 2003. Gamble A. The Constitutional Revolution in the United Kingdom, in Publius. The Journal of Federalism, 2006, 19 ss. Gamper A. Devolution in the United Kingdom: A New Model of European Federalism?, in A. Torre - L. Volpe (a cura di), La Costituzione Britannica / The British Constitution, Torino, 2005, vol. 2, 1103 ss. Giannini M.S. Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Bologna, 1986. Giddens A. The Third Way, London, 2000. Goldsworthy J. The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy, 2. ed. Oxford, 2001. Groppi T. La difesa dell'autonomia costituzionale delle collettività territoriali nella prospettiva comparata, in Gambino, S. (a cura di), Stati nazionali e poteri locali. La distribuzione territoriale delle competenze - Esperienze straniere e tendenze attuali in Italia, Rimini, 1998, 627 ss.; Groppi T. Il Federalismo, Roma-Bari, 2004. Hadfield B. Devolution, Westminster and the English Question, in Public Law, 2005, 286 ss. Hanham H. J. Scottish Nationalism, London, 1968. Hazell R. Reinventing the Constitution: Can the State Survive?, in Public Law, 1999, 84 ss. Hazell R. (a cura di), Constitutional Futures. A History of the Next Ten Years, London, 1999. Hazell R. The English Question: Can Westminster Be a Proxy for an English Parliament?, in Public Law, 2001, 268 ss. Hazell R. (a cura di). The English Question, Manchester, 2006. Henig S. (a cura di). Modernising Britain. Central, Devolved, Federal?, London, 2002. Hintjens H., Loughlin J., Olivesi C. The Status of Maritime and Insular France: the DOM, TOM and Corsica, in Loughlin, J. - Mazey, S. (a cura di), The End of the French Unitary State: Ten Years of Regionalization in France, 1982-1992, London, 1995, 125 ss. Himsworth C.M.G., Munro C.R. The Scotland Act 1998, Edinburgh, 1999. 57 Himsworth C.M.G. Rights versus Devolution, in T. Campbell - K.D. Ewing - A. Tomkins (a cura di), Sceptical Essays on Human Rights, Oxford, 2001, 145 ss. Himsworth C.M.G., O' Neill C.M. Scotland's Constitution: Law and Practice, London, 2003. Hogwood P. The Asymmetric Institutions and Politics of Devolution, in A. Torre - L. Volpe (a cura di), La Costituzione Britannica / The British Constitution, Torino, 2005, vol. 1, 409 ss. Hopkins J. Devolution in Context: Regional, Federal and Devolved Government in the European Union, London, 2002. Horgan G. The United Kingdom as a Quasi-Federal State?, Belfast, 1999. Horvath T.M. (a cura di). Decentralization: Experiments and Reforms, Budapest, 2000. Jeffery C. Devolution and Local Government, in Publius. The Journal of Federalism, 2006, 57 ss. Jeffery C., Wincott D. Devolution in the United Kingdom: Statehood and Citizenship in Transition, in Publius. The Journal of Federalism, 2006, 3 ss. Jones G.W. The Multi-Dimensional Constitution in the United Kingdom: Centralisation and Decentralisation, in A. Torre, L. Volpe (a cura di), La Costituzione Britannica / The British Constitution, Torino, 2005, vol.1, 393 ss. Keating M. The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change, Cheltenham, 1998. Keating M. The Government of Scotland. Public Policy Making after Devolution, Edinburgh, 2005. Kellas J.G. Some Constitutional Aspects of Devolution, in A. Wright (a cura di), Scotland: the Challenge of Devolution, Aldershot, 2000, 89 ss. Kendle J. Federal Britain: A History, London, 1997. Kramnick I. Is Britain Dying? Perspectives on the Current Crisis, Ithaca (NY), 1979. Kubas S. Parlament Szkocki. Dewolucja - Wyzwanie dla Zjednoczonego Królestwa, Warszawa, 2004. Leicester G. Scottish and Welsh Devolution, in R. Blackburn - R. Plant (a cura di), Constitutional Reform: The Labour Government's Constitutional Reform Agenda, London, 1999, p. 251 ss. Leyland P. L'esperimento della devolution nel Regno Unito: un sconvolgimento dell'assetto costituzionale?, in Le Regioni, 2000, 341 ss. Leyland P., Frosini J.O., Bologna C. Regional Government Reform in Italy: Assessing the Prospects for Devolution, in Public Law, 2002, 242 ss. Lodge G., Russell M., Gay O. The Impact of Devolution on Westminster, in A. Trench (a cura di), Has Devolution Made a Difference ? The State of the Nations 2004, London, 2004, 193 ss. 58 Lombardi G. Lo Stato federale. Profili di diritto comparato, Torino, 1986. Loughlin J. (a cura di). Subnational Democracy in the European Union. Challenges and Opportunities, Oxford, 2001. Loughlin J., Mazey S., (a cura di). The End of the French Unitary State: Ten Years of Regionalization in France, 1982-1992, London, 1995. Lucatello G. Lo Stato regionale quale nuova forma di Stato, Padova, 1955. Luchaire F. Les fondements constitutionnels de la décentralisation, in Rev. Dr. publ,, 1982, 1550 ss. MacCormick Sir N.L. Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation in the European Commonwealth, Oxford, 2001. Mackintosh J.P. The Devolution of Power. Local Democracy, Regionalism ad Nationalism, Harmondsworth, 1968. Mangiameli S. La riforma del regionalismo italiano, Torino, 2002. Marr A. The Day Britain Died, London, 2000. Martino P. Greater London Authority v. Downing Street. Relazioni tra livelli governativi nel quadro dell‘imperfetta devolution metropolitana londinese, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2002, 1457 ss. Mazza M. Decentramento e riforma delle autonomie territoriali in Francia, Torino, 2004. McCrone, D. Regionalism and Constitutional Change in Scotland, in Regional Studies, 1993, 507 ss. Mercer J. Scotland. The Devolution of Power, London, 1978. Moreau J. Administration régionale, départmentale et municipale, 12. ed., Paris, 1995. Moreau J., Verpeaux M. (a cura di). Le systeme administratif français et les principes révolutionnaires de 1789. Paris, 1992. Nairn T. The Break-Up of Britain. Crisis and Neo-Nationalism, London, 1981, 2ª ed. Norton, P. "Devolution. A Threat to the UK? Or a Reinforcement?", in idem (a cura di), The Constitution in Flux, Oxford, 1982, 174 ss. Norton P. (a cura di). The Consequences of Devolution, London, 1998. Ohnet J.-M-. Histoire de la décentralisation française , Paris, 1996. Oliver J.A. Working at Stormont, Dublin, 1978. Olivetti M. Talking about devolution, in Groppi, T. - Olivetti, M., (a cura di), Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2003, 275 ss. Olowofoyeku A. Decentralising the UK: the Federal Argument, in Edinburgh Law Review, 1999, 57 ss. 59 Ongaro E. The Dynamics of Devolution Processes in Legalistic Countries: Organizational Change in the Italian Public Sector, in Public Administration, 2006, 737 ss. Osmond J. Creative Conflict: The Politics of Welsh Devolution, London, 1977. Osmond J. Devolution: A Dynamic, Settled Process?¸Cardiff, 1999. Palermo F. Federalismo asimmetrico e riforma della costituzione italiana, in Le Regioni, 1997, 291 ss. Palermo F. Il regionalismo differenziato, in Groppi, T., - Olivetti, M. (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, 2. ed., Torino, 2003, 55 ss. Pilkington C. Devolution in Britain Today, Manchester, 2002. Pimlott B., Rao N. Governing London, Oxford, 2002. Poggeschi G. Francia e Regno Unito: il decentramento necessario per mantenere l'unità statale, in A. Torre - L. Volpe (a cura di), La Costituzione Britannica / The British Constitution, Torino, 2005, vol. 2, 1319 ss. Poggi A.M. L'autonomia statutaria delle regioni, in Groppi, T., - Olivetti, M. (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2003, 2ª ed., 63 ss. Reposo A. Recenti sviluppi del federalismo e il caso italiano, in Diritto e società, 2001, 297 ss. Reposo A. Profili dello Stato autonomico. Federalismo e regionalismo, 2. ed., Torino, 2005. Richards C. Devolution in France: the Corsican Problem, in European Public Law, 2004, 481 ss. Robbins K. Great Britain. Identities, Institutions and the Idea of Britishness, London, 1998. Rose R. The Constitution: Are We Studying Devolution or Breakup?, Stirling, 1976. Rose R. The United Kingdom as a Multi-National State, CSPP paper n.6, Glasgow, 1977. Rose R. Understanding the United Kingdom. The Territorial Dimension in Government, London, 1982. Royal Commission on the Constitution, Report, Cmnd. 5460, London, 1973. Ruggeri, A., Romboli R. Devolution e drafting (a oscuro testo non fare chiara glossa…), in Forum di Quaderni costituzionali, www.mulino.it, 9 febbraio 2002. Ruiz-Rico Ruiz G., Salvador Crespo, M. L'autonomia locale in Spagna: alcune considerazioni sul regime costituzionale e legislativo, in Gambino, S. (a cura di), Stati nazionali e poteri locali. La distribuzione territoriale delle 60 competenze - Esperienze straniere e tendenze attuali in Italia, Rimini, 1998, 159 ss. Sharpe L.J. (a cura di). The Rise of Meso Government in Europe, London, 1993. Silvestri P. Percorsi per la coperazione istituzionale in Gran Bretagna: dalla devolution all'e-government, in A. Torre - L. Volpe (a cura di), La Costituzione Britannica / The British Constitution, Torino, 2005, vol. 2, 1455 ss. Smith B.C. Confusions on Regionalism, in Political Quarterly, 1977, 14 ss. Taylor A. (a cura di). What a State! Is Devolution for Scotland the End of Britain?, London, 2000. Taylor B., Thomson, K. (a cura di). Scotland and Wales: Nations Again?, Cardiff, 1999. Thielemann E.R. Il prezzo dell'europeizzazione. La politica regionale europea, in Queste istituzioni, 2003, 54 ss. Torre A. Il "territorial government" in Gran Bretagna, Bari, 1991. Torre A. Interpretare la Costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto, Torino, 1997. Torre A. "On devolution". Evoluzione e attuali sviluppi delle forme di autogoverno nell'ordinamento costituzionale britannico, in Le Regioni, 2-2000, 203 ss. Torre A. Dalla devolution classica alla regionalizzazione dell'Inghilterra. I profili costituzionali in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, 121 ss. Torre A. Il nuovo Department for Constitutional Affairs: una‖'bomba a grappolo‖ nell'ordinamento britannico, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2004, 106 ss. Trench A. (a cura di). Devolution and Power in the United Kingdom, Manchester, 2005. Vandelli L. L'ordinamento regionale spagnolo, Milano, 1980. Vandelli L. Poteri locali. Le origini nella Francia rivoluzionaria, le prospettive nell'Europa delle regioni, Bologna, 1990. Vandelli L. Devolution e altre storie. Paradossi, ambiguità e rischi di un progetto politico, Bologna, 2002. Verpeaux M. Les collectivités territoriales en France, Paris, 2002. Wolczuk K. Identità, Regioni ed Europa, in Queste istituzioni, 2003, 41 ss. 61 Ю. В. Ирхин (Москва) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ (ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ОПЫТЕ КАНАДЫ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ) В современных условиях весьма актуально сравнительное изучение региональной политики в странах с федеративным устройством, с целью выяснения общего и особенного в их развитии (см.: Сморгунов, 2002; Сулакшин и др., 2007). В частности, научный интерес представляет компаративистское изучение генезиса региональной политики в Канаде и России. Выделение общего и особенного в богатом канадском опыте федеративного развития при сравнительном подходе может быть полезным как для лучшего понимания и оптимизации российских региональных политик, так и для лучшего осознания их исторических, текущих и завтрашних проблем. У России и Канады есть ряд общих черт. Среди них: федеративное устройство, огромные размеры территории (соответственно, 1-е и 2-е места в мире), сходство климата, размеры совокупного общественного богатства (6-е и 10-е места в мире по стоимостному объему ВВП) и др. К основным отличиям, важным при изучении федерализма и региональной политики в Канаде и России, можно отнести: – Канада уже находится на постиндустриальной стадии развития; Россия только начинает постиндустриальный генезис; – Канада имеет более высокий уровень социально-экономического развития и конкурентноспособности общества (средние доходы на душу населения выше российских в 2–3 раза); – для Канады характерен длительный, сложный, но успешный переход от исторически сложившейся централизованной к децентрализованной модели федерализма; – Россия традиционно использует централизованную модель федерализма; – население в Канаде (32 млн человек) меньше, чем в России в 4–5 раз (142 млн человек); – в Канаде значительно меньше, чем в России, число «субъектов» Федерации – почти в 7 раз (соответственно, 13 и 85), – В Канаде нет развитой системы национально-государственных образований (на этот уровень претендует лишь Квебек), в отличие от Рос62 сии, где есть двадцать республик, автономная область, автономные округа; – в Канаде более «простая» система взаимоотношений между ее субъектами, в отличие от России, где, с одной стороны, существуют и развиваются отношения по линии: центр–края–области–города и т. д., а с другой – в них включены национально-государственные образования; – различается политическая культура (в Канаде преимущественно активистская, в России – переходная от авторитарной к демократической) и др.; – различается характер стадий развития: Канада довольно давно развивает и совершенствует свою федеративную модель отношений; Россия, восстановив «вертикаль власти» и добивших устойчивого политического генезиса, относительно недавно перешла к оптимизации региональных политик. Канада представляет собой многосоставное, полиэтнические общество, в котором, взаимодействуя и конкурируя друг с другом, сосуществуют представители разных этносов – носителей различных культурных и политических ценностей. Так, среди канадских граждан 40% – лица британского происхождения, 27% – французского, 33% – иной этнической принадлежности. Коренное население – индейцы (400 тыс.) и эскимосы (30 тыс.). Украинская община – 1 млн. человек. Это многообразие нашло государственное отражение в политической системе Канадской Федерации. Канадское федеративное государство и сообщество представляют собой своеобразный союз десяти провинций, обладающих весьма широкими правами, а также территорий, находящихся под управлением центрального правительства. Территориально-государственное устройство С исторической и цивилизационной точки зрения Канада представляет собой страну преимущественно французских и английских переселенцев, а также остатков коренного населения. Заселение Канады начиналось французами. В 1535 г. мореплаватель Жак Картье открыл стратегический порт на высоком берегу реки Святой Лаврентий, который стал городом-крепостью Квебек. Затем, поднявшись по течению, основал г. Монреаль. Провинция Квебек, включающая города Квебек и Монреаль, – духовно-культурный центр франкоканадцев. В результате Семилетней войны (1756–1763 гг.) Канада отошла к Великобритании. В 1867 г. четыре британские провинции в Северной Америке (Онтарио, Квебек, Новая Шотландия и Новый Брансуик) объединились, создав федеративную Канаду. В соответствии с 63 Актом о Британской Северной Америке (1867 г.), принятом английским парламентом, Канаде был предоставлен статус доминиона. Создание канадского централизованного государства завершилось с образованием провинций Манитоба, Британская Колумбия (1871 г.), Остров принца Эдуарда (1873 г.), Альберта. В 1931 г. Великобритания признала за Канадой самостоятельность во внутренней и внешней политике. В 1949 г. к Канаде отошли Ньюфаундленд и Лабрадор. Дипломатические отношения между Канадой и СССР были установлены в 1942 г. Свою независимость Канада получила после принятия английским парламентом (по просьбе канадского парламента) и опубликования 17 апреля 1982 г. Конституционного Акта о Канаде. Этот документ был оглашен королевой Великобритании Елизаветой II в столице Канады – г. Оттаве, с Парламентского Холма. (C архитектурной точки зрения Канадский парламент повторяет парламент Великобритании, отличаясь лишь Башней мира.) В Конституционном Акте говорится, что «Конституция Канады (т. е. совокупность конституционных актов 1867–1982 гг.) является высшим законом страны, и любой закон, ей не соответствующий, не действует и не имеет юридической силы» (Конституционные акты Канады, 1996, 459). Поправка к «Конституции Канады» от 1987 г. признавала Квебек «отдельным обществом» в рамках Канады, декларировала выборность Сената, однако она не была ратифицирована в силу негативной позиции по этому вопросу англоязычных провинций. Главой государства Канада номинально является королева Великобритании, представленная генерал-губернатором, который назначается королевой по рекомендации премьер-министра Канады. Законодательная власть осуществляется парламентом, состоящим из выборной (на пятилетний срок) Палаты общин (295 депутатских мест) и назначаемого на региональной основе Сената (105 мест) законодательными собраниями провинций и территорий (The Parliament of Canada, 2001, 14). Исполнительная власть принадлежит правительству во главе с премьерминистром. Лидер партии, получившей на федеральных выборах большинство мест в Палате общин, становится премьер-министром и формирует правительство страны (Constitution of the World, 1988, 346). Выборы в Палату общин, культура формирования и деятельности парламента, политического и электорального процесса имеют для Канады первостепенное значение. Федеральные министры выбираются премьер-министром из числа депутатов от его партии или коалиции. Формально назначение, снятие и перемещение министров осуществляет генерал-губернатор по предложению премьер-министра. Решения кабинета обычно принимаются кон64 сенсусом и лишь в редких случаях – большинством голосов. При этом все члены кабинета обязаны подчиняться принятому решению и поддерживать его или уйти в отставку. Правительственные ведомства возглавляют заместители министра. Они назначаются по ходатайству премьер-министра, однако назначение и повышение всех государственных служащих осуществляется не по политической принадлежности, а на основе их деловых качеств, поэтому смена правительства не означает отставки заместителей министра. За назначением и перемещением государственных служащих следит Независимая комиссия по вопросам государственной службы, состоящая из трех членов, которые назначаются на 10-летний срок. Контроль за финансовой деятельностью министерств и ведомств осуществляет Казначейство, включающее ряд министров правительства. Оно также представляет правительство на переговорах с профсоюзами государственных служащих. Решение многих вопросов согласования и регулирования, например в области транспорта, возложено на независимые комиссии. Функции государственных органов выполняются также государственными корпорациями, которые действуют самостоятельно, но в целом подчинены парламенту, а члены их правлений назначаются правительством. Конституция Канады регулирует не все вопросы, традиционно относящиеся к конституционному праву. Среди них гражданство, часть избирательного права и др. В Конституционный Акт 1982 г. была включена Канадская Хартия прав и свобод, заменившая ранее действовавший Билль о правах 1960 г., не имевший силы конституционного закона. Она придала закрепленным в ней правам и свободам высшую юридическую силу. К числу демократических прав граждан отнесены право голосовать и быть избранным на выборах Палаты общин и законодательных собраний провинций. Выделены права на свободу передвижения и места жительства, на свободу проживания и право зарабатывать средства к существованию. Каждый имеет право на жизнь, свободу и безопасность своей личности; и этих прав нельзя лишить иначе как в соответствии с основными принципами отправления правосудия. Каждый канадец имеет право на защиту от произвольного лишения свободы или заключения в тюрьму, а также право в случае ареста или задержания быть информированным о мотивах своего ареста или задержания. Он может безотлагательно обращаться к помощи адвоката и быть информированным об этом праве, иметь возможность проверить законность своего задержания посредством процедуры habeas corpus и быть освобожденным в случае незаконного задержания (п. 3, 6–10). 65 Все граждане Канады, независимо от расы, национального или этнического происхождения, цвета кожи, религии, пола, возраста, умственных и физических недостатков, равны перед законом и на основании закона. Английский и французский языки являются официальными языками Канады (с 1969 г.); они имеют одинаковый статус, равные права и привилегии в том, что касается их использования в парламентских и правительственных органах Канады (п. 16). На практике английский язык шире распространен в центральных правительственных учреждениях, центре и западе страны, а французский – преимущественно в провинции Квебек. Определяющую роль в стране играют два этнических компонента: англо-канадская и франко-канадская общины, которые на протяжении всей канадской истории стремились сохранить свою культуру, язык, исторические традиции, менталитет. В силу этого дуализма квебекский фактор является ключевым элементом, оказывающим существенное влияние на судьбу Федерации. Сложносоставной характер Канадской Федерации, необходимость поддержки конкурентоспособных отраслей производства и сферы услуг, реализации активной внешней политики и другие факторы требуют активной роли государственного регулирования ключевых направлений экономического, социального, политического и культурного развития страны. Определенное вмешательство правительства в различные сферы общественной жизни, имеет длительную историю и позитивно воспринимается многими слоями населения. Только государство могло обеспечить расширение границ Федерации, финансировать и осуществлять сложные программы строительства на бесконечных по протяженности северных территориях, защищать средний и мелкий бизнес от конкуренции со стороны США, реализовывать сильные социальные программы и т. д. (Donald, 1999, 330). Ряд важных программ реализуемых федеральным центром совместно с провинциями, часто носит общенациональный характер. Другой вопрос, что финансирование ряда программ общенационального масштаба начинает во все большей степени обеспечиваться из бюджета провинций. Канада является федерацией 10 провинций и федеральных территорий. Административные органы провинций построены по тому же принципу, что и федеральные. Функции, аналогичные главе государства, возложены на губернаторов, назначаемых федеральным правительством. Провинциальные парламенты являются однопалатными. Про66 винциальные правительства формируются партиями или коалициями, получившими большинство на провинциальных выборах (таблица). Установлена совместная юрисдикция провинций и федерального правительства в вопросах пенсионного обеспечения и пособий на иждивенцев (страхование по безработице осталось в ведении Федерации). Федеральное правительство устанавливает единые стандарты и порядок разделения затрат на оплату таких услуг, как медицинское обслуживание, выплата пенсий, социальное обеспечение и строительство федеральных автомобильных дорог. Многие важные решения принимаются на совещаниях представителей федерального и провинциального правительств. Вопросы налогообложения, выплаты пенсий, медицинского обслуживания, а также конституционные проблемы часто обсуждаются главами федерального и провинциальных правительств. Внесение поправок в конституцию может осуществляться по совместному решению федерального правительства и семи провинций, в которых проживают не менее 50% населения. Премьер-министры провинций обладают такой властью, что нередко предпочитают этот пост назначению на должность федерального министра. Работа местных органов самоуправления осуществляется правительствами провинций в соответствии с провинциальным законодательством. В городах имеются мэры и городские советы, избранные прямыми выборами. Крупные города разбиты на муниципальные округа, обладающие определенной самостоятельностью. Представители отдельных муниципальных округов входят в центральные городские советы, которые ответственны за городское планирование, содержание городской полиции. Некоторые мелкие муниципальные округа управляются непосредственно представителем городской администрации. Провинции управляются федеральными органами и службами, но имеют некоторые элементы самоуправления. Федеральное правительство назначает уполномоченных, несущих перед ним ответственность. Территории имеют территориальные собрания и избираемые ими исполнительные органы. Канадское государство образовалось на основе учета многообразия этнических и культурных групп, чьи интересы в той или иной мере отражает и/или выражает федеративное устройство страны. Как и в большинстве других федераций, в канадской – между ее субъектами – налицо существенные различия. 67 Территориально-государственное устройство Канады Провинции Канады % населения Ньюфаундленд и Лабра1,7 дор Острова принца Эдуарда 0,45 Новая Шотландия 3 Новый Брансуик 2,4 Квебек 24,1 Онтарио 28 Манитоба 3,7 Саскачеван 3,3 Альберта 9,9 Британская Колумбия 13 Федеральные территории Юкон 0,1 Северно-Западные терри0,12 тории Нунавут 0,09 % территории 4,1 % ВВП 1,27 0,1 0,6 0,7 15,4 10,8 6,5 6,5 6,6 9,5 0,31 2,3 1,8 21,1 42,1 3,3 3 12,1 12,3 4,8 13,5 0,11 0,27 21 0,09 В двух из десяти провинций – Онтарио и Квебек – проживает более 3/5 всего населения Канады. Здесь же производится более 3/5 ВВП. Вместе с тем в четырех атлантических провинциях насчитывается лишь 7,7% населения Канады, а производственный ВВП равняется 5,7% от общего в стране. Площадь трех северных федеральных территорий составляет 2/5 площади федерации, проживает на ней 0,3% граждан. ВВП равняется 0,5% (Канадский ежегодник, 2005, 104). Более 60% всех иностранных инвестиций в экономику Канады направляют США. Причем, необходимо отметить их высокую степень поляризации. В целом 94% общего объема этих инвестиций направляется лишь в четыре провинции – Онтарио (57,5%), Квебек (14%), Британскую Колумбию (11,5%) и Альберту (11,4%). Соответственно, именно эти регионы в первую очередь ориентируются на «прямое» взаимодействие с американским капиталом. Одной из основных проблем, решенных Оттавой в 50-е – 80-е годы XX в. было осуществление социального развития провинций, финансируемого путем дополнительного налогообложения граждан богатых регионов и перераспределения полученных средств в виде усредняющих грантов и целевых субсидий. 68 Провинция и территория различаются по степени их автономии. Провинциям полномочия переданы Конституционным Актом 1867, поэтому их корректировка федеральным правительством возможна лишь путем изменения Конституции. Что касается территорий, то они суть результат простого закона Федерального парламента и поэтому находятся в его власти. Все провинции и территории имеют собственные эмблемы. Провинции отвечают за большинство таких социальных программ Канады внутри их границ, как здравоохранение, образование и «за все, что касается природы исключительно местного значения или находящейся в их собственности». Все провинции, вместе взятые, получают больше прибыли, чем федеральное правительство – уникальная структура среди федераций во всем мире. Хотя только провинция может «издавать законы, касающиеся предметов из сферы их интересов», федеральное правительство может начать проводить государственную политику в области компетенции провинций (например, Канадский закон о здоровье). Однако каждая провинция имеет право отказаться от этой программы или не принимать ее. Федеральным правительством предоставляются «выравнивающие» платежи с целью обеспечить приемлемые стандарты общественных и налоговых служб, единые как для богатых, так и для бедных провинций. Все провинции имеют выборные и однопалатные законодательные собрания, подотчетные премьер-министру, выбираемому тем же образом, как премьер-министр Канады. Каждая провинция имеет своего лейтенант-губернатора. Он назначается по совету премьер-министра Канады, но после активных консультаций с провинциальными правительствами. Роль канадских провинций неуклонно возрастает, продолжается и структурирование самой Федерации. Так, в 1999 г. произошел раздел на две части Северо-западных территорий и была создана новая территория Нунавут («Наша земля»). На ней, составляющей 1/5 всей территории Канады, проживает всего 30 тыс. человек. Ее создание обусловлено стремлением федерального центра пойти навстречу требованиям местных жителей и обеспечить определенную долю самоуправления инуитам (эскимосам), образующим большинство. В соответствии с Соглашением о Нунавуте инуитам был выделен 1 млрд долл., передано в собственность 1/6 территории Нунавута и предоставлено право добычи полезных ископаемых на площади в 35 тыс. кв. км. В свое время аналогичные дарения были осуществлены на Юконе и Северо-Западных территориях. Как и на других северных федеральных территориях, делами Нунавута ведает избираемый Совет, 69 обладающий определенной независимостью от Оттавы, но Федеральное правительство контролирует использование ресурсов. В Канаде достаточно широко используется термин «глокализм», в котором делается акцент на растущую важность локальности (этнической и др.), как следствие глобализации (Glocalization, 1995, 2). Совершенствуется механизм консультаций, позволяющих канадским региональным правительствам участвовать в работе международных органов. В последние годы положительно заявили о себе регулярные встречи премьеров из Восточной Канады и губернаторов Новой Англии (США). Для Канады, как и для других федеративных государств, актуальна система консультаций с региональными правительствами до заключения международных соглашений, затрагивающих их интересы. Такие консультации могли бы придать большую легитимность соответствующим решениям. Законодательную власть в провинциях Канады (формально возглавляемых лейтенант-губернаторами), осуществляют законодательные ассамблеи, исполнительную – кабинеты министров во главе с премьером. Основы устройства провинций, численность и порядок предоставления им мест в Сенате и Палате общин Канады регулируются актами о присоединении провинций к Канаде. Обычная процедура внесения поправок в Конституцию Канады требует издания генерал-губернатором Прокламации с приложением большой печати Канады, уполномоченного на это: а) резолюциями Сената и Палаты общин; и б) резолюциями законодательных собраний, по меньшей мере, 2/3 провинций, население которых, согласно последней всеобщей переписи, составляет в совокупности не менее 50% населения всех провинций. Если сравнить индийскую, российскую, германскую, американскую и канадскую федерации, то мы обнаружим в них весьма существенные различия. Так, если Российская Федерация построена на сочетании территориально-административных и национально-государственных принципов, то американской и германской федеративным системам чужд национально-государственный принцип. Что касается канадского федерализма, то он занимает промежуточное положение между этими типами. Проблемы канадского федерализма Конституционная реформа 1982 г. содействовала укреплению независимости. В то же время многочисленные поправки к действующим конституционным актам, конституционные конференции и референду70 мы свидетельствуют об известных проблемах конституционного правопорядка. Острейшей проблемой и испытанием канадского федерализма являлся вопрос о статусе Квебека – провинции, в которой проживает 90% канадцев, родным языком которых является французский, хотя в целом франкоязычные канадцы составляют 30% населения страны. Жители Квебека – это 25,3% граждан Канады (6,9 млн человек); но его собственно географический ареал сравнительно меньше и равен 15,5% территории страны (1540,7 тыс. кв. км). Политическая культура Квебека, будучи франкоориентированной, отличается сильным традиционализмом, консерватизмом, авторитаризмом, патронажем, рядом черт, свойственных для сельских (провинциальных) культур, существенным влиянием римской католической церкви, особо бережным отношением к культурно-историческим традициям и другими качествами (Lipset, 1990, 91). В соответствии с мичлейкским (от Мич Лейк, озера Мич – озеро по англ. lake) конституционным соглашением 1987 г. за Квебеком признавался «особый статус» (Le Statut, 1999, 13). Мичлейкские соглашения представляли собой проект конституционной реформы, согласно которой должен был сохраниться сильный центр, но при этом Квебек получал статус «особого общества» в рамках федерации. Предполагалось, что статус «особого общества» конституционно закрепит право Национальной ассамблеи Квебека самостоятельно принимать законы и решения в политической, экономической, финансовой, налоговой и социальной сферах, в области иммиграции и гражданства (в частности, распоряжаться налогами, собираемыми в Квебеке), обеспечит право вето в отношении решений федеральных законодательных органов, затрагивающих интересы Квебека. Мичлейкские соглашения вызвали недовольство англоязычных провинций, заявивших, что все провинции равны и ни одна из них не может пользоваться особыми правами или занимать привилегированное положение. Оппозиция со стороны отдельных провинций и значительной части англоязычного населения привела к срыву ратификации этого документа. Все это создало конституционный кризис в июне 1990 г., обострило межнациональные отношения в стране. В 1992 г. после сложных переговоров удалось согласовать пакет договоренностей (Шарлоттаунских), предусматривавших внесение значительных поправок в конституцию Канады. В соответствии с ними Федерация становилась более децентрализованной. Значительно расширялись властные функции провинций, при сохранении за центральным правительством широкого круга полномочий, включая ведущую роль в 71 вопросах внешней политики, обороны, регулирования макроэкономических процессов, признавалось право коренного населения Канады на самоуправление и др. В договоренностях оговаривался «особый статус» франкоязычного Квебека. Появилось новое понятие – «остальная Канада» (вне Квебека и не только с англоязычным населением, но и с проблемами прав аборигенов, этнических меньшинств и др.). 26 октября 1992 г. состоялся общенациональный референдум по вопросу о реформе Канадской Федерации. Против пакета договоренностей высказались 53% участвовавших в референдуме по всей Канаде и население 6 провинций. Торможение конституционной реформы привело к дальнейшему росту националистических настроений в провинции Квебек и предопределило референдум 1995 г. о месте этой франкоязычной провинции в составе Канадской Федерации. Референдум 30 октября 1995 г. о независимости Квебека с минимальным перевесом голосов избирателей сохранил единство Канадской Федерации, но остроту проблемы не снял. В целом 49,42% (2. 308. 360) избирателей высказалось «за» отделение Квебека и благодаря минимальному перевесу в 1,16% голосов избирателей («против» проголосовали 50,58% – 2. 362. 648 участников референдума), удалось сохранить Федерацию в ее сложившихся границах. На фоне таких, весьма неоднозначных итогов референдума «феномен Квебека» оказывал негативное воздействие на канадскую политику. Многие квебекцы полагают, что федеральный центр должен предоставить Квебеку особые полномочия, которых нет у остальных провинций; с другой стороны, 2/3 жителей остальной Канады возражают против этого. В то же время даже в Квебеке, где крайние националисты говорят о необходимости независимого государства, большинство населения выступает, в первую очередь, за признание этнокультурной самобытности провинции, либо за особый статус Квебека в рамках канадского государства. Лишь 22% избирателей вне Квебека считают свое государство «пактом двух народов-основателей», тогда как 2/3 рассматривают его как «договор равных провинций» (Jackson, Jackson, 1997, 146). Особенность ситуации в Квебеке состоит в том, что в самом общем смысле к группе квебекских националистов можно отнести лишь часть населения провинции. Многие умеренные квебекцы, переживают конфликт между большой (Канада) и малой (Квебек) родиной. Они вообще не рассматривают для себя возможность отделения как желательный вариант. 72 Само франкоязычное общество Квебека также является многоэтничным. Помимо квебекцев французского происхождения здесь проживают и потомки давно поселившихся британцев (4,2%), иммигрантов из Италии (2,6%), Греции, Португалии, Латинской Америки, арабских стран, Индокитая и т. д., у которых есть свое особое, в основном отрицательное, отношение к вопросу отделения Квебека от Канады. Дополняет общую картину преобладание в северной части Квебека коренных народов – эскимосов и индейцев. Аборигены ясно дают понять, что в случае отделения от Канады потребуют выделения компактно заселенных ими территорий из состава Квебека. Квебеком не исчерпывается так называемый французский фактор в Канаде. Франкоязычные квебекцы – все же лишь одна, хоть и очень большая (80% проживающих в Квебеке), из этнотерриториальных групп франкоканадцев. За его пределами в англоязычных провинциях проживают более 1 млн канадцев «чисто французского» и еще около 2 млн «частично французского» происхождения. Отделение Квебека оставило бы за пределами провинцию, которая выступает в качестве центра франко-канадской культуры, около 1/6 всех франкофонов страны. Поэтому отношение франкоканадцев, находящихся за пределами Квебека, к возможности его отделения отрицательное. Большинство канадцев в целом положительно оценивает сильную исполнительную власть – как выразителя единого государства, гаранта процветания страны и благополучия граждан. С точки зрения внешних наблюдателей, в частности американских политологов и социологов, высокий уровень жизни канадцев, достигнутый в рамках современной федерации, умение канадских властей вырабатывать компромиссы и сохранять социальный мир являются теми факторами, которые препятствуют политическому распаду Канады, несмотря на ее двуэтническую основу и возрастающий этнический плюрализм (см.: Ирхин, 2006, 207– 221). В 1998 г. было принято постановление Верховного суда Канады, в котором сказано, что Квебек не может отделиться, если он не получит твердого большинства в референдуме по четко сформулированному вопросу. После выборов 2000 г. Квебек, по сути, вернулся к прежней и эффективной модели – сильного представительства в центральном парламенте единой Федерации. Под оптимальным федеративным принципом многие реалистически мыслящие канадские политологи понимают способ разделения властей таким образом, чтобы центральное и региональные правительства в определенной сфере были независимы, но действовали скоординировано. 73 Фискальный федерализм В Канаде широко используется термин «фискальный федерализм», который представляет собой комплекс взаимоотношений между центром и регионами по поводу аккумулирования государством финансовых ресурсов, их перераспределения и использования (в российской печати чаще встречается понятие «бюджетный федерализм». Канадский фискальный федерализм охватывает всю сферу взаимоотношений между центром и регионами по социально-экономическим вопросам. Фундамент для этих отношений составляют как законодательные акты и многочисленные долгосрочные соглашения, так и система регулярно проводимых консультаций и переговоров между полномочными представителями обоих уровней власти. Комплекс механизмов функционирования фискального федерализма в Канаде включает такие общие для многих федераций составляющие, как многоступенчатая система налогообложения, опирающаяся на свод соглашений между центром и провинциями по поводу раздела полномочий в сфере сбора налогов. Уже более 30 лет в Канаде осуществляются целевые федеральные трансферты провинциям на развитие социальной сферы – образования, здравоохранения, социального обеспечения. Действует также и имеющая аналоги в некоторых других федерациях система так называемых выравнивающих платежей. После Второй мировой войны начала складываться и с тех пор постоянно трансформируется сложная система взаимоотношений между федеральным правительством и провинциями по поводу раздела полномочий в сфере финансирования и осуществления различных социальноэкономических программ. В них важную роль играют органы местного самоуправления, активистская деятельность канадцев на местах. Для канадского образа жизни характерна гражданская активность. К ее основным формам относят: благотворительность (среднее ежегодное пожертвование составляет 259 кан. долл.); добровольчество (в добровольческих организациях состоит до 27% канадцев, труд которых используется в самых различных сферах: от социальной поддержки до охранных мер, что экономит миллиарды долл.); участие в различных зарегистрированных некоммерческих организациях различного профиля (180 тыс.) и сотнях тысяч неформальных групп. Помимо гармонизированной налоговой системы механизм фискального федерализма в Канаде включает трансфертные платежи двух типов («выравнивающих платежей» и целевых трансфертов). 74 Начиная с 1967 г. действует система так называемых «выравнивающих платежей», принципы осуществления которых, закреплены в Конституционном Акте 1982 г. С их помощью федеральное правительство целенаправленно перераспределяет общегосударственные средства между «богатыми» и «бедными» (отстающими по показателям экономического развития от среднего уровня) регионами. Непосредственная цель перераспределения – увеличить финансовые ресурсы менее развитых провинций. На рубеже XXI в. общая сумма «выравнивающих платежей» достигла 10 млрд долл. Это составляет 9–10% общей суммы федеральных расходов за вычетом средств, используемых для покрытия федеральной задолженности. Такие платежи направлялись в семь из десяти провинций Канады. (Наиболее высокую «доплату» в расчете на душу населения – более 1 тыс. долл. на человека – получают жители Ньюфаундленда. Средние доходы семьи из двух и более человек составляют здесь менее 48 тыс. долл. в год, тогда как в среднем по стране – почти 62 тыс. (до вычета налогов и обязательных взносов). В остальных трех провинциях – «донорах» – Онтарио, Британской Колумбии и Альберте – проживает более половины всего населения страны. Конкретные цели использования средств, поступающих в форме «выравнивающих платежей», не оговариваются. Регионы вправе расходовать их по собственному усмотрению на различные социальноэкономические и инфраструктурные программы. Передача средств осуществляется согласно довольно сложной формуле, учитывающей разницу в подушевых доходах населения и финансовых возможностях властей различных провинций и территорий. Второй тип трансфертов имеет целевое назначение: с их помощью федеральное правительство оказывает финансовую поддержку провинциальным системам здравоохранения, образования и социального обеспечения. Задача целевых трансфертов – создать стимулы для того, чтобы соответствующие услуги обеспечивались в различных провинциях с учетом определенных общенациональных стандартов. Целевые социальные трансферты получают все провинции, хотя выплаты в расчете на душу населения и различаются по величине (от 720 до 1 тыс. долл. на человека). В целом вклад трансфертных платежей обоих типов в формирование финансовых ресурсов регионов заметно отличается от провинции к провинции. У лидеров по уровню экономического развития – Онтарио, Альберты, Британской Колумбии – доля федеральных трансфертов в общих доходах составляет 10–20%. В относительно экономически отсталых регионах (Атлантические провинции) этот показатель равен примерно 40% их бюджета (Немова, 2000, 43). 75 Посол Канады в России К. Вестдал обращал внимание на то, что в канадском обществе не наблюдалось значительного «неприятия системы трансфертов, так как канадцы согласны, что должны быть жизненные стандарты, общие для всех. Поэтому нам необходимо постоянно следить за тем, чтобы соблюдался баланс между местной самоидентичностью и общегосударственными обязательствами». Близкой точки зрения придерживается и профессор Карлтонского университета (г. Оттава) Г. Уильямс. Он отмечает, что федерализм в Канаде эффективно работает именно тогда, когда соблюдается справедливое и рациональное распределение властных полномочий между центром и регионами, когда осуществляется политика разумной терпимости к разнообразию, уважению идентичности этнических меньшинств (Уильямс, 2003, 40). Выводы 1. Федеративная система Канады характеризуется равновесием между централизацией и децентрализацией, притом, что на начальных этапах своего исторического развития она имела высокую степень централизации. В дальнейшем Канада постепенно трансформировалась в федерацию с широкими полномочиями субъектов, которые интегрируются в систему мирохозяйственных связей, определяемых экономически развитыми странами. Опыт Канады, США и Евросоюза на рубеже XXI в. показывает, что значение центральных исполнительных органов власти сводится не только к роли управляющего центра, но и координатора в мультицентрализованной системе исполнительной власти. Однако федеральные системы этих стран не идут по пути безоглядной децентрализации и построения конфедеративных ассоциаций. 2. Характер государственного и межгосударственного управления претерпевает постепенный переход к повышению значения подотчетности и ответственности участников ассоциации, их конкурентоспособности, к открытости и динамизму экономических отношений в рамках федераций. 3. Процессы глобализации оказывают противоречивое воздействие на канадскую политическую систему. Канада все больше втягивается во всемирные информационно-коммуникативные, финансово-экономические потоки, в какой-то степени ослабляя свою идентичность. Вместе с тем она сохраняет свои национальные политико-культурные приоритеты, ценности и традиции; совершенствует систему федеративных отношений. 76 4. Применительно к условиям России актуален опыт канадской государственной региональной политики: ее сильные государственнические начала, фискальный федерализм, гармонизирующиеся отношения субъектов федерации, их конкурентоспособность в глобализационных процессах, демократическая культура федеральных отношений. 5. Для реализации региональной политики канадскими органами власти широко используются современные информационнокоммуникативные средства в рамках стратегии деятельности «электронного правительства». В Российской Федерации портал «Электронная Россия» пока не связывает в единую систему исполнительные органы всех субъектов Российской Федерации. Кроме того, ряд из них не функционирует пока в режиме «обратной связи», предоставляя пользователям лишь наглядную справочную информацию. 6. Основными целями выстраивания взаимоотношений центральных и региональных органов власти, и в Канаде и России, считаются: наиболее полное использование потенциала развития как страны в целом, так и еѐ регионов, достижение экономической эффективности и политической стабильности. 7. В Российской Федерации актуализируется новая концепция межбюджетных отношений: от управления расходами бюджетных ресурсов к управлению, ориентированному на результаты, возрастает значение соответствующих государственных политик. В. В. Путин, выступая на расширенном заседании Государственного совета Российской Федерации отметил: «Уже в ближайшие годы мы должны перейти к новому этапу региональной политики, направленному на обеспечение не формального, а фактического равноправия субъектов Российской Федерации – равноправия, позволяющего каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и диверсификации экономики территорий» (Россия 2020; Путин, 2008, 23). Литература Ирхин Ю. В. Социология культуры (глава 8. Политическая культура Канады). М., 2006. Канадский ежегодник. Труды Российского общества изучения Канады. Вып. 9. М., 2005. Конституционные акты Канады // Конституции зарубежных государств /Сост. В. В. Маклаков. М., 1996. Немова Л. А. Канада: фискальный федерализм и социальная политика // США & Канада. Экономика. Политика. Культура. 2000. № 1. 77 Сморгунов Л. В. Современная сравнительная политология. М., 2000. Сулакшин С. С., Лексин В. Н., Малчинов А. С. и др. Региональное измерение государственной экономической политики России / Под общ. ред. А. С. Малчинова. М., 2007. Россия 2020. Главные задачи развития страны. М., 2008. Уильямс Г. Соотношение властных функций центрального и регионального правительств / Полития. № 4. 2003. Constitution of the World. Canada / Ed. by A.P. Blaustein and G.H. Flanz. N.Y., 1988. Donald J. Savoie. Governing from the Centre: The Concentration of Power in Canadian Politics. Toronto: University of Toronto Press, 1999. Glocalization: the Regional // Canadien Journal of Regional Science. N 18. 1995. Jackson R., Jackson D. Comparative Government. Scarborough, Ontario, 1997. Lipset M. S. Continental Divide: The Values and Institutions of the United States and Canada. N.Y. and London: Routledge, 1990. The Parliament of Canada – Democracy in Action. Canada, 2001. Le Statut politiqiue et constitutionnel du Quebec. Historique et evolution /Joseph Facal. Quebec, 1999. 78 О. А. Кузнецова (Тольятти) ФЕДЕРАЛИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ. ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ФЕДЕРАЛИЗМА ДЛЯ УКРАИНЫ На постсоветском пространстве среди бывших союзных республик принципу федерализма нашлось место только в Российской Федерации. В начале 90-х годов условия сложной этно-национальной поселенческой структуры, идеи сепаратизма национально-территориальных образований и, как утверждают многие авторы, стремление Президента найти опору и поддержку в регионах в противостоянии с Верховным Советом, послужили причинами перехода к национально-территориальной форме федерации. Необходимо отметить, что элементы федерализма все же присутствуют в некоторых странах бывшего СССР. Являясь унитарными государствами , с жесткими структурами вертикали власти, они прописывают в Конституциях некоторую долю автономии территориальным или национальным образованиям: Азербайджан – Нахичеванской Автономной Республике, Узбекистан – Республике Каракалпакстан, Таджикистан – Горно-Бадахшанской автономной области. Но дальше деклараций развитие федерализма не пошло. На первый взгляд переход к федеративным отношениям имеет все основания, многим бывшим советским республикам досталась неоднородная этно-национальная и поселенческая структура, народы их населяющие говорят на разных языках. Чем обусловлена приверженность унитарным принципам, даже в тех странах, где представители политических элит и наиболее политически активных граждан заявляют о необходимости перехода к федерализму? Например, в современной Украине, несмотря на различную идеологическую ориентацию, и западные, и восточные политики не раз высказывались за отказ от унитарного построения государства. Еще в конце 80-х начале 90-х годов основатель Народного Руха Украины В. Черновол говорил о необходимости создания суверенного украинского государства на основе федерализма. По мнению Дэниел Элазар, одного из разработчиков теории федеральных систем, унитарные государства, содержащие в себе элементы конституционализированного регионального самоуправления, можно отнести к федеральным политическим системам. В качества примера можно привести Португалию, где в Конституции закреплен принцип унитарности, и в то же время за архипелагами Азорский и Мадейра признано право автономного управления. 79 Требования федерализации звучали в Одессе, Донбассе, Закарпатье. Так, например, 78 % населения Закарпатья еще в декабре 1991 года во время референдума проголосовали за автономию, но данный статус достался только Крыму. Сегодня идеи перехода к новой форме территориального устройства государства очень популярны и в Львове, название открывшегося сайта «Федеративная Республика Западная Украина» говорит само за себя. Причина популярности данной идеи скрыта в историческом прошлом. Многие территории являющиеся составными частями современной Украины долгое время входили в разные политические образования, и, что особенно важно, испытывали влиянии разных социокультурных систем. С 1654 г. восточная часть находилась в составе Московского Царства, Российской Империи. Остальные территории – в польском, литовском, австрийском государствах и испытывали влияние католичества и униатства . Поэтому, на каждой территории складывалась самобытная культура и собственная идентичность. На первый взгляд, в современном украинском обществе просматривается деление по принципу правый – левый берег Днепра, восточная и западная часть страны. Достаточно познакомиться с результатами переписей населения, проведенных в 1989 и в 2001 гг. На востоке проживает довольно значительная часть русскоязычного населения, на западе в основном – украиноязычное. Опросы общественного мнения показывают, что западная часть населения поддерживает курс страны на интеграцию в европейское сообщество, восточное – на сохранение экономических и социокультурных связей с Россией. Противоположные оценки так же даются знаковым для украинской государственности историческим событиям и личностям. Так, распад СССР западные земли оценивают положительно, восточные земли – отрицательно (Толпыго, 1997, 155–158). Если этот принцип будет положен в основу федерализации, образующаяся биполярная система, в которой, как говорит А. Дугин «одним на Запад, другим на Восток», приведет к дестабилизации и эскалации конфликта. Тем более что некоторый исторический опыт уже существует, например, Чехословакия, распавшаяся на два государства. Земли западнее Днепра до 1793–1795 гг. входили в состав Речи Посполитой, причем господствующие позиции польское дворянство на данной территории сохраняло до 1830 г., а оказывало социально-политическое и культурное влияние вплоть до революции 1917 г. Современные западные территории Львова, Тернополя, Ивано-Франковска с 14 в. были частью Польши, затем в 1772 г. вошли в состав Австрии, кратковременный период 1918–1919 гг. независимости Западно-Украинской народной республики закончился вхождением в состав новой Польши (до 1944 г.). В Галичине и Волыне польские землевладельцы занимали доминирующее положение до 1939 г. Регион Закарпатья находился в составе Венгрии от средних веков до 1919 г., а так же с 1939 по 1944 гг. 80 В связи с чем, аналитики предлагают на основе результатов голосования, с точки зрения идеологических предпочтений, выявленных нюансов в рамках опросов общественного мнения, с точки зрения ценностных ориентаций выделить несколько больше регионов, тем самым, создав более стабильную государственную систему . Естественно в федерализме заложен некоторый потенциал внутренних рисков, применительно к Украине он связан со слабо развитой структурой экономических связей между регионами в условиях жесткой централизации финансовых потоков, а так же неравномерным экономическим развитием и распределением природных ресурсов. Так, юговосток более индустриально развит и является своего рода донором для других частей Украины. Среди противников федерализации главным доводом становится опасение по поводу того, что нет сдерживающих экономических связей, а так же то, что переход к новой форме государственного устройства может разрушить установленную систему финансового выравнивания. В 1993 г. был принят закон, устанавливающий различную величину налога на добавленную стоимость, которую могли оставлять в регионах (см. таб. 1.), и уже совсем парадоксально выглядит то, что в 1994 г. «на одного жителя Восточной Украины было отпущено в три раза меньше, чем для граждан западных областей» (Войцеховский, Ткаченко, 2008, 374). Наиболее распространенным является выделение следующих регионов: Западный, Центральный, Юго-Восточный, Южный, Донецкий, Закарпатье, Буковина, Крым. (см.: Шкляр, 1999, 392). Еще один вариант деления на регионы предлагает Даниил Коптив: Волынская Земля (Ровенская, Житомирская, Волынская области; столица - Ровно), Галицкая Земля (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая области; столица - Львов), Донецкая Земля (Донецкая, Луганская области; столица - Донецк), Закарпатская Земля (Закарпатская область; столица - Ужгород), Запорожская Земля (Запорожская, Днепропетровская; столица - Днепропетровск), Киевская Земля (Киевская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская области, столица - Чернигов), Крымская Земля (АР Крым включая Севастополь; столица - Симферополь), Подольская Земля (Винницкая, Хмельницкая, Черкасская области; столица - Винница), Приднестровская Земля (бывшая Молдавская АССР: столица - Тирасполь), Слободская Земля (Сумская, Харьковская области; столица - Харьков), Черноморская Земля (Одесская, Николаевская, Херсонская области; столица - Николаев) и два города федерального значения Киев и Одессу (см.: Коптив, 2006). 81 Таблица 1. Величина налога на добавленную стоимость оставляемого в регионах Восточные области Донецкая о бласть Днепропетровская область Луганская область Полтавская область Харьковская область Величина оставляемого налога 22,1 % 24,3 % 35,1 % 35,61 % Западные области Волынская область Ровенская область Тернопольская область Львовская область Величина оставляемого налога 100 % 100 % 90,7 % 38,6 % 27,1 % В условиях, когда наиболее экономически развитые области не имеют возможности влиять на социальную политику в стране, и основная масса населения региона испытывает языковую и социокультурную дискриминацию, вряд ли можно говорить о сохранении стабильности даже в рамках унитарной системы. С первых дней независимости, сориентировавшись на принцип «каждая нация имеет право на самоопределение» политическая элита Украины взяла курс на построение этно-национального государства и формирование у населения единой национальной идентичности. Причем настроилась на кратчайшие сроки исполнения задуманного. Процесс «украинизации» был начат с вполне безобидных и необходимых с точки зрения построения государственности шагов - паспортизации и установлении украинского гражданства. Следующие действия украинской политической элиты уже были рассчитаны на перспективу, и осуществлялись в довольно жесткой форме. Началось не только вытеснение русского языка из делопроизводства и образования, но и гонения на русскоязычное вещание и издания, которые стали рассматриваться как угроза национальной безопасности. По закону принятой Верховной Радой в августе 2000 г. издания на русском языке приравнивались к рекламным и эротическим, что привело к дополнительным налоговым сборам. Стали распространять наукообразные мифологемы об особой значимости украинского языка для мировой культуры. Реализация стратегии по вытеснению русского языка из социокультурного пространства 82 Украины, до сих пор осуществляется планомерно, не сдавая позиций. В начале ноября 2008 г. Национальный совет по телерадиовещанию Украины обвинил ряд российских телеканалов в нарушении законодательства страны, отмечая, что речь идет не только о несоблюдении норм украинского языка в эфире, но и противоречии законам о рекламе, авторских и смежных прав. После чего последовало распоряжение о прекращении вещания. Однако если в западных и центральных регионах прислушались к указаниям, то на юго-востоке страны в Крыму, Одессе, Харькове по-прежнему транслируются российские передачи. Помимо единого языка, важнейшим признаком этноса или нации является общность истории. Поэтому еще одной важной задачей стало «пересмотреть» историю, причем была избрана стратегия «самоутверждение через противопоставление». Сегодня в учебниках допущенных или рекомендованных Министерством образования и науки Украины, как для средней, так и высшей школы можно встретить совершенно новое толкование истории. Так, в учебнике истории для 7-го класса сказано, что «история украинского народа насчитывает 140 тысяч лет» (Лях, 2005, 6). В учебнике для 9-го класса достаточно взглянуть на заголовки параграфов, чтобы понять явно антироссийскую направленность всего содержания: «Украина под властью Российской и Австрийской империй», «Колонизаторская политика царского царизма в Украине», «Громадная оппозиция российскому царизму в Украине» и т.д. (Сарбей, 1996, 3–5). В целом, нахождение украинской народности в составе Российской империи рассматривается как зло, которое способствовало «денационализации» элит, русификации, эксплуатации природных и людских ресурсов. Политика «украинизации» поставила задачу переоценки ценностей и смену духовных ориентиров. Их реализация началась с репрессий канонической Украинской православной церкви, захвата православных храмов, экспансии Римско-католической церкви и ее передового отряда - униатства (Бердник, 2008, 356–367). Затем, предателя Мазепу назвали национальным героем и возвели ему памятник, «реабилитировали бандеровщину, приравняв оуновских вояк – приспешников Гитлера – к участникам Великой Отечественной войны» (Войцеховский, Ткаченко, 2008, 372). Осуществлялось все это не на уровне националистических группировок, которых на постсоветском пространстве, к сожалению не мало, а на уровне государства. Указом Президента Украины В. Ющенко № 87/2006 от 14 октября 2006 предписано обеспечить: «Всестороннее и объективное освещение в учебно-воспитательном процессе вопросов, которые касаются участия украинцев во Второй Мировой войне, иных вооруженных конфликтах ХХ столетия, деятельности украинского ос83 вободительного движения, в частности деятельности Украинской повстанческой армии, Организации украинских националистов, Украинской головной освободительной рады» (Шелюг, 2008, 400). Такая социокультурная политика является более серьезным дестабилизирующим фактором, чем экономические проблемы. Политическая элита, переписывая историю, навязывая неприемлемые для многих культурные символы, в своем стремлении создать единое этнокультурное целое, в ущерб интересам не титульным народам способствует разжиганию межнациональной розни, усиливает центробежные тенденции. Нарушение баланса взаимного приятия культуры восточной и западной части Украины, баланса между православием и католицизмом худо-бедно установленного в советский период, представляет серьезную угрозу единству украинского народа. Не только ограничения, наложенные на возможность сохранения самобытной культуры и ценностей, но и сложности, возникающие при реализации своих способностей в социальном пространстве, из-за отсутствия знаний государственного языка, содержат в себе конфликтный потенциал. Инициаторы «украинизации» явно игнорируют то, что половина страны говорит не на украинском языке. По данным украинского исследовательского Фонда «Общественное мнение» в целом по стране, русский язык языком бытового общения назвали 47 % опрошенных респондентов, и 46 % – украинский язык. В восточном и южном регионах страны русский язык в принципе является основным языком бытового общения (См. табл. 2). Таблица 2. Распределение ответов по регионам о языке бытового общения Регион Украины Западный Центральный Южный Восточный Украинский язык в% 98 64 23 5 Русский язык в% 2 28 69 87 Смесь украинского и русского языка в % 0 8 8 8 Проблемы сохранения территориальной целостности, возникающие в современной Украине, обусловлены не только недальновидной политикой «украинизации», но и сложившейся институциональной структурой. В условиях деления на языковые, религиозные общности, прописанный принцип демократического большинства ущемляет интересы социокультурного меньшинства, что естественно не обеспечивает пол84 ную легитимность государственной власти. В таких условиях необходимо отказаться от унитарного построения государства и выбрать такую систему, которая бы гарантировала сохранение культурного своеобразия регионов, предоставляла социокульурным общностям на коллективной основе суверенные права соучредителя федерации. В рамках федерации предоставление субъектами дополнительного официального статуса другим языкам, и введение более мягкого механизма перераспределения, при котором значительная часть налоговых поступлений остается в регионах, будет способствовать снятию существующего напряжения. Можно и дальше называть причины, по которым Украинской Республике показан переход к федеративному устройству, но есть сдерживающий фактор. Если в Российской Федерации уже на первых этапах становления государственности сложилась довольно сильная региональная политическая элита, имеющая возможность формировать собственную правовую и экономическую базу и отстаивать собственные интересы на национальном уровне, то в Украине нет. Украина, как и остальные постсоветские республики, унаследовала от СССР жестко централизованную систему власти, что способствовало становлению унитарной формы государственного устройства. Естественно национальная политическая элита, чьи бы интересы она не выражала, не желала делиться властными полномочиями с регионами. Тем более что пример РФ, которая долгое время стояла на грани распада как раз из-за процесса регионализации, никак не вдохновлял. В России регионы, которые обладали хотя бы какими-то ресурсами (полезными ископаемыми, развитой промышленностью или даже выгодным геополитическим положением) в своем региональном законодательстве закрепляли за собой право быть субъектами международных отношений (республика Дагестан, Татарстан, Башкортостан, Коми, Свердловская, Новгородская область, Краснодарский край и др.), провозглашали суверенитет и неприкосновенность своих территорий (Тува) и т.д., что никак не способствовало сохранению целостности страны. Но каковы бы небыли латентные последствия ельцинского лозунга «Берите столько суверенитета, сколько сможете…», все же региональные элиты защитили свою идентичность и получили институциональные механизмы отстаивания своих интересов. В Украине при отсутствии таких механизмов политикоэкономические группы регионов вынуждены были обращаться к центральной власти – либо разрабатывать механизм влияния (в том числе и с помощью «подковерных», коррупционных технологий), либо – вхождения во власть. Причем последний вариант, как правило, оказывался 85 более действенным. Приход к власти обеспечивал реализацию региональных интересов, хотя и в ущерб интересам других регионов и на уровне страны, и на международном уровне. Полный доступ к власти снимал с повестки дня вопрос о переходе к федеральной системе. Тому примером может служить Партия регионов, которую в свое время называли партией губернаторов. До прихода к власти она предлагала программу федерализации страны. Оказавшись у власти и получив рычаги влияния на процесс принятия политического решения, партия сняла с повестки дня лозунги регионализма за ненадобностью. Среди региональных элитных групп постоянно борющихся за власть во всей стране необходимо выделить днепропетровскую, харьковскую, донецкую и львовскую, причем последняя является своего рода «центром производства идеологем «украинизации». Каждая из этих групп имеет серьезный ресурсный потенциал и с целью приобретения статуса правящей, в своей борьбе опирается на близлежащие территории. На всю Западную Украину претендуют львовская элитная группа, в сфере интересов харьковской группы Сумская и Полтавская области, днепропетровской - Запорожье и Криворожье, донецкой - Луганская область и Крым. Если еще в период правления Л. Кучмы существовал шаткий баланс реализации интересов всех групп, хотя днепропетровская группа и занимала господствующие позиции, то после прихода к власти в результате «оранжевой революции» В. Ющенко ситуация кардинально изменилась. Статус кво был нарушен. После достижения высокого статуса у Президента возник соблазн, основываясь на поддержке региональных элитных групп западных и центральных областей подстроить под себя всю вертикаль власти, произвести кадровые чистки в не лояльных регионах, назначить «своих» в областные администрации, и поставить вопрос о пересмотре результатов приватизации, естественно в свою пользу. Как результат, на руководящие посты приходят сторонние люди, вступающие в конфликт с местными элитными группами, которые в ответ вырабатывают различные стратегии защиты: либо «борьба за центр», либо «борьба с центром». Все конфликты между ветвями власти, парламентские кризисы, которые мы наблюдаем в Украине на протяжении нескольких лет, в большей степени обусловлены столкновением региональных интересов. Поскольку в самой Верховной Раде, Правительстве, администрации Президента находятся те, кто тем или иным способом связан с региональными политико-экономическими группами. Даже политические партии, хотя и заявляют о выражении общенациональных интересов, на самом деле ориентируется на конкретный регион. 86 Таким образом, с целью отстаивания территориальной идентичности и своих интересов региональные политические деятели вынуждены претендовать на власть во всей стране. В случае доминирования во власти на уровне государства представителей какого-либо региона происходит ущемление интересов других регионов. Поэтому, любой местный конфликт, возникший в связи с реальным или мнимым ущемлением прав местного населения, переходит на общегосударственный уровень и оборачивается кризисом общенационального масштаба. В связи, с чем Украине уже в ближайшей перспективе необходимо с учетом влияния противоборствующих групп интересов, решить вопрос о степени свободы, который должен обладать регион с точки зрения демократической практики, но при сохранении механизма воспроизводства украинской идентичности и целостности страны. Все это возможно в рамках федеральной системы. Литература Бердник М. Крестовый поход против православия на Украине // Бандеризация Украины – главная угроза для России / Автор составитель Ю. К. Козлов. М. 2008. Войцеховский А. А., Ткаченко Г. С. «Оранжевые» – носители неофашизма.// Бандеризация Украины – главная угроза для России / Автор составитель Ю.К. Козлов. М. 2008. Коптив Д. Федеративная Республика Украина, 2006 – www.regnum.ru/news/576702.html Лях Р. Д. Темiрова Н. Р. Iсторiя Украiни: Пiдруч. Для 7-го Кл. загальноосв. навч. закл. К. 2005. Сарбей В. Г. Iсторя Украiни (XIX - початок ХХ ст.): Пiдруч. Для 9 класу середньоi школи К. 1996. Толпыго А. Украинский путь // Украина и Россия: общества и государства. М. 1997. Шелюг М. Правда всегда одолеет ложь // Бандеризация Украины – главная угроза для России/ Автор составитель Ю. К. Козлов. М. 2008. Шкляр Л. Моделi соборностi (iсторичний досвiд и сучаснi аспекти) // Українська соборність. Ідея, досвід, проблеми (До 80-річча Акту Злуки 22 січня 1919 р.). К., 1999. 87 Я. С. Яскевич (Минск, Беларусь) СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИИ И БЕЛАРУСИ: ФЕДЕРАЦИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯ ИЛИ ОСОБОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО? Формирование союзного государства предполагает разработку механизмов интеграции Беларуси и России по всему спектру политических и экономических проблем, в частности, создание равных условий функционирования субъектов хозяйствования, увеличение товарооборота между странами, привлечение инвестиций, установление взаимовыгодных таможенных тарифов, формирование эффективного оборонного пространства в условиях продвижения НАТО на Восток, увеличение эффективности работы Союзных органов управления и др. При этом разрешение данных проблем и усиление интеграционных процессов предполагает учет национальных интересов как России, так и Беларуси. Следует иметь в виду, что национальные интересы союзных государств отличаются не только по масштабам, но содержательно, что обусловлено их ролью и статусом в мире. Тем не менее исторический опыт показывает, что даже государства, достигавшие высоких вершин экономического, политического и культурного развития, в качестве союзников предпочитали иметь страны, имеющие общие с ними исторические, социокультурные и цивилизационные корни, которые в концентрированной форме выражены в идентичных духовных ценностях и идеях. Такого рода идеи и ценности значимы и понятны каждому человеку, вследствие чего они способны выступить в качестве мировоззренческого мобилизующего начала для ускорения интеграционных процессов. В связи с этим представляется, что выявление социокультурных, исторических и геополитических оснований формирования союзного государства России–Беларуси, становления государственности в России и Беларуси будет способствовать выработке эффективных механизмов согласования национальных интересов данных государств в процессе интеграции (Яскевич, 2005, 365). Предполагается с этой целью разрабатывать и далее научно-теоретические и практические основы и рекомендации по повышению эффективности интеграционных процессов между Россией и Беларусью, адресованные органам государственной власти для принятия решений и разработки практических мер, направленных на модернизацию и совершенствование основ Союзного государства. Такого рода концептуальные положе88 ния и идеи могут быть использованы специалистами в области государственного управления и государственной службы, гармонизации образовательных систем и формирования единого социально-политического и духовного пространства Союзного государства. Сегодня необходим комплексный многоаспектный (философский, культурологический, исторический, политический, организационный) анализ проблем, связанных с повышением эффективности решаемых Союзным государством социально-политических и экономических задач, укреплением интеграционных процессов. Несомненно, и в кругу специалистов – политиков, юристов, политологов, социологов, экономистов и т.д., и на уровне обыденного сознания возникают дискуссии о статусе, форме и предназначении Союзного государства России и Беларуси. Является ли это государство федерацией, конфедерацией или иным политическим институтом? Напомним, что к федерации относят государства, территориальные части которых в той или иной мере обладают суверенитетом, имеют признаки государственности, а полномочия между федерацией и входящими в нее государственными образованиями определяются единой Конституцией. Конфедеративные государства, как мы знаем, это союзы суверенных государств, образуемые для совместного решения определенных задач экономического, военного, социального и иного характера. В таких союзах отсутствуют единые органы государственной власти и управления, а создаются специальные учреждения только для координации действий участников союза по реализации намеченных задач. Учитывая, что конфедерации являются весьма непрочными межгосударственными образованиями и что они либо распадаются либо преобразуются в федеративные союзы, а основным законом, ядром правовой системы и высшей юридической силой Союзного (как и любого) государства является Конституция, которой пока нет, весьма актуально сегодня звучит вопрос о статусе и дальнейшей судьбе Союзного государства России и Беларуси. Ясно одно, что такое социально-политическое образование уже существует, оно дает свои плоды в различных сферах деятельности, а значит, возникает необходимость по совершенствованию этого феномена, который имеет единые исторические истоки, общие духовные ценности и приоритеты. История каждой страны сопряжена с различными формами существования, взаимодействия и сотрудничества с другими странами. Это аксиома. Англичане по этому поводу в отношении себя утверждают следующее: «У Англии нет ни постоянных врагов, ни постоянных друзей, у Англии есть постоянные английские интересы». 89 По-разному можно относиться к этапам нашей истории, однако очевидным является тот факт, что среди любых союзников все же есть традиционные, «проверенные» и союзники «по случаю». К последним относятся страны и народы, с которыми могут совпадать отдельные интересы и тактические цели развития. Они значимы для развития любого народа. Однако каждая нация стремится к сохранению и поддержанию на самом высоком уровне отношений с традиционными союзниками. Для независимой Беларуси в роли такого союзника выступает Россия. В поисках механизмов становления и развития Союзного государства важную роль играют духовные ценности белорусского и российского народов. Именно общие духовные ценности белорусов и россиян в значительной степени облегчают наши отношения с россиянами и помогают, несмотря на все усиливающуюся рационализацию выбора партнеров и союзников не только сохранять, но и углублять интеграционные процессы между Беларусью и Россией. Исторический опыт показывает, что государства, достигавшие высоких вершин экономического, политического и культурного развития на определенных исторических этапах, всегда обращались к объединяющим мировоззренческим идеям, выражающим в концентрированном виде цели, к которым стремится общество. Такого рода идеи впитывают в себя духовные ценности, значимые и понятные каждому человеку, вследствие чего они способны выступить в качестве мировоззренческого мобилизующего начала. Так, в свое время немецкая философия, разрабатывая категории абсолютного духа, единства мирового разума, рационального начала в развитии общества и др., выработала систему общенациональных ценностей, которые были реализованы политической практикой создания сильного германского государства из мелких княжеств. Становлению государственности в США также способствовало провозглашение идеологемы «американская мечта», дополненной в период Великой депрессии рузвельтовским «новым курсом», а позже идеей «нового общества» вместе с системой долгосрочных программ борьбы с бедностью, расизмом, неграмотностью. Фундаментальная идея «мирового порядка», которая со стороны других государств воспринимается как «мировое государство», характерна для современного американского общества. Наиболее привлекательными идеями постсоветского существования России и Беларуси стали идеи демократического государства с гарантированными нормами прав и свобод, разделением властей, установлением рыночных отношений в экономике, повышением роли политической активности граждан, устранением распределительных отношений, формированием подлинно гражданского патриотизма. В этих условиях не90 сомненно обостряется историческая память людей, актуализируется проблема обоснования обновленной системы ценностей, происходит «переоткрытие времени», возникает особый интерес к духовным традициям прошлого, к глубинным истокам своей собственной истории, ибо, «если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Какую же роль в этом процессе поиска системы ценностей Союзного государства могут сыграть славянские традиции духовной культуры, сформированные в глубине веков богатой и порою трагической истории? Духовные традиции любого народа имеют чрезвычайно важное значение, обнажая истоки, корни соответствующей цивилизации, ее наследие. В истории же цивилизации, как и в человеческой жизни, детство, как отмечает Ле Гофф (Ле Гофф, 1992, 106), имеет решающее значение. Оно во многом, если не во всем, «предопределяет будущее». Акцентируя внимание на проблеме преемственности духовных традиций, исследователь американской цивилизации М. Лернер также подчеркивал: «…те вопросы, которые я задаю американцам, можно было бы задавать представителям любой великой нации. Каковы ваши традиции? Как уживаетесь с глубинными извечными проблемами? Как вы работаете, веселитесь, воплощаете свой творческий дух? Каковы связующие и организующие принципы, удерживающие вашу цивилизацию от распада? Каким богам вы поклоняетесь, какие верования вас держат в узде или дают вам силу? Какие мечты, какие мифы вас вдохновляют и какие страхи лишают вас сил? Что дает вам мужество для борьбы? Какие неурядицы грозят вам разладом и какие чувства общности спаивают вас воедино?» (Лернер, 1992, 8). Духовные традиции, аккумулируя опыт прошлого, являются культурогенетическим кодом народа, запечатлевая его «черты вечности», существуя вопреки переменчивому времени и всему исторически преходящему. В иерархии духовных традиций и ценностей славянства можно выделить: общеславянские ценности; ценности восточного славянства (наряду с другими типами регионального славянства – западного и южного); духовные ценности национального славянства (русские, белорусы, украинцы и т.д.). Проблеме общеславянских духовных ценностей уделял внимание В. Соловьев, пытаясь проникнуть в дух народа, выразить глубинные антиномии и напряжения славянского этноса. В славянской духовности, в отличие от западного образа мышления с его аналитической, холодной рациональностью, он видел сплав язычества (мифологизм), христи91 анства (мудрость) и европейского мышления (рационализм) (Соловьев, 1989, 481). С точки зрения Н. Данилевского, менталитет славян в большей степени соотнесен с христианским идеалом. Славянству, по его мнению, свойствен дух свободы, хотя это стремление к свободе обусловлено умением и привычкой славянских народов повиноваться, наличием у них уважения и доверия к власти, и в основном отсутствием властолюбия (Данилевский, 1991, 481). Сравнивая общеславянские духовные ценности с менталитетом западного человека, исследователи называют такие традиционные качества славян, как святость и добродетель, коллективизм и соборность, веру в идеал, служение обществу, в противоположность таким ценностям, как агрессивность, уверенность в себе, умение владеть собой, прагматизм, характерным для западного общества. При исследовании различных черт общеславянских духовных ценностей в литературе часто подчеркивается некоторая их сопоставимость с западноевропейскими и американскими типами ментальности. Это позволяет выделить такие альтернативы, как христианская мудрость и рационализм, свобода и рабство, добродеяние и агрессивность и т. п. Не раз отмечалось, что формированию некоторых духовных ценностей общеславянства способствовала соответствующая природная среда, географическое положение, маятниковое положение между Востоком и Западом. В очерке «О власти пространств над русской душой» Н. Бердяев отмечал это обстоятельство применительно к России, поскольку главные звенья становления духовного мира восточного славянства были заложены здесь. Географическое положение России, писал он, было таково, что русский народ принужден был к образованию огромного государства, размеры которого ставили народу почти невыполнимые задачи. Вся деятельность уходила на служение государству. Это наложило безрадостную печать на жизнь русского человека. Душа русского ушиблена ширью, она не видит границ, и эта безграничность не освобождает, а, наоборот, порабощает ее. Из географической необъятности России Бердяев делает вывод о национальном характере русского человека, таких его чертах, как смирение, самосохранение, недостаток инициативы, слабо развитое чувство ответственности. Антиномичность русской души заставляет стремиться ее к безграничной свободе духа, скитанию и искательству, быть мятежной и жуткой в своей стихийности, в своем народном дионисизме, не желающем знать формы. Несомненно, российский менталитет закладывал важные звенья духовного мира восточного славянства, представленного русскими, укра92 инцами и белорусами, хотя и нельзя все духовные ценности белорусов и украинцев сводить к российским. В эволюции духовных ценностей восточного славянства решающую роль сыграли такие исторические вехи, как формирование Киевской Руси, Московского княжества и Великого княжества Литовского, единого Российского и советского государства (имея в виду некоторое отклонение существования западных белорусов в составе Польши), а также современная суверенность трех восточнославянских народов. Формирование духовных ценностей восточного славянства связано с влиянием православно-византийского духовного наследия. «Между гражданами Византийской империи, – писал К. Леонтьев, – были люди, которыми могли бы гордиться все эпохи, всякое общество» (Леонтьев, 1992. 34). Обладая глубокими знаниями, богатой культурой, высокими идеалами, такие люди трансплантировали византизм на почву восточного славянства. Благодаря салунским братьям Кириллу и Мефодию были переданы не только вся сумма знаний, накопленная Византией и полученная ею в наследство от античной цивилизации, но и произошла передача ее исторического опыта, юридических и этнических норм, духовных ценностей. Образ жизни восточной ветви славянства, пережившего ордынское подневолье, тяжкий путь освобождения от него, жесткий режим московских правителей на фоне общеславянства все же отличался. Неустранимость подобного наследия формировала такие черты ментальности восточного славянства, как стойкость к жизненным испытаниям и невзгодам, твердость душевной организации, готовность нести свой тяжкий крест перед лицом судьбы, особая преданность в сохранении христианских заветов. Наиболее показательным примером такого характера является Сергей Радонежский. Наряду с общеславянскими духовными ценностями, ценностями восточного славянства, в этой иерархии особую роль играют ценности национального славянства – русских, белорусских, украинцев, поляков, германцев и т.д. О ментальности русских, как самой значительной части восточного, да и всего славянства, мы уже частично говорили. Здесь важно иметь в виду, что генезис русской этнокультурной общности объединил в себе такие компоненты, как исходный славянский, византийско-православный и ордынский (татаро-монгольский), что создавало особый характер русского человека. Противоречивость русской души, ее амбивалентность во многом объясняются антиномиями исторического пути Руси, которые ей пришлось испытать, ее промежуточным, неустойчивым положением между двумя цивилизациями. Трудолюбие и лень, деспотизм и доброта, бунт и смирение, коллективизм и персонализм, мужское и женское, христиан93 ство и язычество, аскетически-монашеское и безбожное, трудолюбие и праздность и т.д. – таковы противоположные начала русского характера. Комплекс раболепия (сервилизма), транслированный от Востока, причудливо сочетался здесь с бунтарским духом, вечным стремлением к свободе. Духовные ценности белорусов несомненно формировались в контексте восточнославянского менталитета, традиционно испытывая трудности существования между Востоком и Западом и осуществляя поиск собственного пути развития. Белоруская ментальность впитала в себя и униатскую склонность к компромиссам, и героику католицизма, и строгую воздержанность вместе с индивидуализмом протестантизма. Многие исследователи отмечают, что белорусы миролюбивы, для них нехарактерно чувство национального превосходства над другими национальностями. Говоря о толерантности белорусской нации, обычно выделяют такие черты, как рассудительность и поиск справедливости без насилия, стремление к разумному компромиссу, терпимость, чуткость, уважение людей с иным мировосприятием и стилем мышления. Отмечается неоднородность белорусской ментальности в зависимости от местонахождения: так для Гродненщины и других районов Западной Беларуси, развивающихся под влиянием католической Польши, Литвы и протестанской этики Западной Европы, характерна индивидуализация жизни; в Полесье же преобладает культ сельской общины, в белорусском Поозерье, граничащим с Россией, проявляется православная соборность. В последнее время все чаще слышен призыв к единению славян, который зародился в глубине веков. Объединительная программа всех славян, т. е. восточных, южных и западных (европейских), католиков, православных и др., именуется панславизмом. Еще во времена Московской Руси, в царствование Алексея Михайловича, появились идеи и попытки такого объединения. Панславянские идеи поддерживал известный русский дипломат XVII столетия Афанасий Ордын-Нащекин, подчеркивая необходимость тесного союза с Польшей, призывая к объединению двух мощных государств и двух конфессий – католиков и православных. Позже, рассматривая различия исторических путей других славянских народов (болгар, сербов, чехов и др.), К. Леонтьев дополнил понятие «славизм» понятием «славянства», под которым понимал племенную совокупность славян. Сравнивая же исторический процесс в России и на Западе, он, как и Н. Данилевский, был убежден, что славянской России необходимы внутренняя сила, крепость организации и дисциплины, чтобы защитить свою независимость от европейского натиска. Дистанцируясь от Запада (испытывая «тяготение на почтительном 94 расстоянии»), Россия в то же время должна в себя вобрать и некоторые западные тенденции («национальную гармонию», «дух охранения в высших слоях общества»). О необходимости единения славян говорили и представители меньших славянских народов. Сторонниками единения славянства были, например, примыкавшие к протестантизму мыслители Великого княжества Литовского С. Будный, Л. Зизаний, М. Смотрицкий, католики из этого же княжества Я. Веслицкий, Н. Гусовский, Я. Длугаш и др. Ближе к нашему времени начинает укрепляться более целостное, не ограниченное конфессиональными рамками представление о путях единения славян. Влиятельными центрами утверждения единства славянства были в разные времена такие города, как Охрид, Тырново, Киев, Новогрудок, Белград, Минск. Но наибольшее влияние достигла Прага, которую называли «Славянскими Афинами». В ней и состоялся в 1848 г. первый Славянский конгресс, сформировалась сильная школа ученыхславистов. Здесь, в Праге, проводились такие ответственные форумы, как Всеславянский съезд прогрессивных студентов (1908), I Международный съезд славянистов (1929) и, наконец, в 1998 г. Всеславянский съезд. На рубеже XXI столетия одновременно с интеграцией западноевропейских стран происходит процесс дезинтеграции славянского мира, сопровождающийся разрушением СССР, разделением СФРЮ, Чехословакии. Славянские духовные ценности, как проявление особой человеческой цивилизации и ментальности, исторически уникальны и во многом самодостаточны. В наши дни разъединения славян и славянской трагедии на Балканах особенно актуально звучит призыв Н. Данилевского к мужеству, единодушию, твердой вере в величие славянских народов. Ни для кого не является секретом, что процесс формирования единой глобальной цивилизации в современных синергетических версиях модернизации видится как обустройство всего человечества по западной модели. В свете теории модернизации ведущее место в динамике человечества к универсалистским ценностям отводится Западу, как локомотиву цивилизованного поворота, остальные же элементы синергетической планетной системы, в том числе и славянский мир, должны рационализировать свои традиционные ценности и жизнеустройство по западным стандартам, поворачивая свои вагоны-цивилизации вслед за локомотивом прогресса. Резкая поляризация между индустриальным ядром и периферией, автоматическое превращение отставших в резервуар для сбыта товаров и услуг, производимых в техногенном ядре, вызывают тревогу не у представителей западной модели глобальной мо95 дернизации человечества, а лишь у тех лидеров, которые осознают последствия ориентации на западные ценности. Перенос таких ценностей, по которым развивался западный социум, как индивидуализм, конкуренция, право на выживание сильного, культ накопления в традиционные общества дает печальные результаты. Восточноправославному миру западными идеологами отводится важное место в стратегии противодействия самобытным цивилизациям. Свое отношение к иным типам цивилизации профессор американского университета Джона Гопкинса З. Бжезинский четко определил одним понятием – гегемония. «Гегемония стара, как мир, – пишет он, – однако современная гегемония Америки отличается стремительностью своего утверждения, своим глобальным характером, а также средствами своей реализации. В течение одного столетия Америка трансформировалась – не без динамики международного развития – из страны, изолированной в западном полушарии, в державу, беспрецедентную по своему влиянию и масштабам» (Brzezinski, 1997, 3). Если такие политики, как Г. Трумэн, Дж. Буш, Р. Рейган, гегемонию США выводили из ее военного и экономического могущества («России следует показать железный кулак», – заявлял в самом начале холодной войны против СССР Г. Трумэн), то З. Бжезинский дополняет этот перечень таким компонентом, как культурная гегемония, выделяя при этом ее привлекательность среди молодежи. Развивая по сути дела известную концепцию С. Хантингтона (Хантингтон, 1994) о столкновении цивилизаций, он учит, что в возможном конфликте двух основных цивилизаций XXI в. – западной (атлантической) и конфуцианско-буддистской восточноправославный регион необходимо использовать как противовес усиления исламского фактора и для недопущения «конфуцианско-мусульманской» связи. Вместе с тем Бжезинский видит и трудности формирования из восточноправославной цивилизации противовеса конфуцианству и исламскому миру в том случае, если восточное славянство, восстановив свою мощь, может оторваться от Запада и установить тесные связи со странами, способными играть роль цивилизационных или региональных центров: Турцией, Ираном, Китаем. По мнению западных стратегов, это может содействовать России в формировании оппозиции американской гегемонии не только в Евразии, но и в мире, учитывая фундаментальный потенциал восточного славянства в географической, политической, интеллектуальной и военной сферах. Восстановление «имперской мощи» восточного славянства не вписывается в антураж стратегии атлантизма, для чего и прорабатывается тактика расчленения восточного славянства на самостоятельные анклавы, а союз России и Беларуси с этих позиций рассматривается, по крайней мере, как нежелательный экспе96 римент. Как ответит на этот вызов времени восточнославянский мир, как сохранить и умножить славянские духовные ценности и единство славян на рубеже веков? Вот почему важнейшей составляющей государственной политики Республики Беларусь является развитие и укрепление белорусскороссийских отношений. Курс на сотрудничество во всех сферах общественной жизни с Россией является неизменным на протяжении последних 10–12 лет. Однако не все было однозначно в этой сфере. Более того, Президенту нашей страны даже потребовалось в 1995 г. вынести на народное голосование вопрос об экономической интеграции с Россией. Вместе с тем белорусско-российские отношения после образования Содружества Независимых Государств, хотя и прошли несколько этапов, однако всегда оставались исключительно братскими и дружественными. Это обусловлено общей историей, близостью менталитета, языка, включая и государственность русского языка в Беларуси, развитием тесных экономических связей, давними традициями взаимного уважения русских и белорусов, переплетением судеб личных и семейных и др. Одним из первых юридических шагов по «формализации» (в лучшем смысле этого слова) отношений между двумя братскими странами было заключение 2 апреля 1996 г. Договора о создании Сообщества Беларуси и России (ратифицирован постановлением Верховного Совета 4 мая 1996 г.). Основой для его заключения явились итоги белорусского референдума от 14 мая 1995 г. (о поддержке действий Президента Республики Беларусь, направленных на экономическую интеграцию с Российской Федерацией) и решения палат Федерального Собрания России, принятые в октябре 1995 г. по более тесному сотрудничеству с Беларусью. 2 апреля 1997 г. в Москве был заключен Договор о Союзе Беларуси и России, а также подписан Устав Союза Беларуси и России. В соответствии с договором два государства решили на добровольной основе образовать глубоко интегрированное политически и экономически Сообщество Беларуси и России в целях объединения материального и интеллектуального потенциалов своих государств для подъема экономики, создания равных условий повышения уровня жизни народов и духовного развития личности. В качестве целей Союза определено: укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами-участниками Союза в политической, экономической, социальной, военной, научной, культурной и других областях; 97 повышение уровня жизни народов и создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного развития личности; закреплены задачи в политической, экономической, социальной, правовой сферах, в сфере обеспечения безопасности. 25 декабря 1998 г. в г. Москве был заключен Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан. Согласно Договору (ратифицирован законом от 17 февраля 1999 г.) граждане Беларуси и России обладают равными правами избирать и быть избранными в выборные органы Союза. Граждане Беларуси и России имеют равные права на участие в хозяйственной деятельности на территориях Договаривающихся Сторон, пользуются равными гражданскими правами и свободами, как это предусмотрено законодательствами Договаривающихся Сторон. Создание Союзного государства знаменует новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство. Договором определены цели Союзного государства. Ими являются: обеспечение мирного и демократического развития братских народов государств-участников, укрепление дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни; создание единого экономического пространства для обеспечения социально-экономического развития на основе объединения материального и интеллектуального потенциалов государств-участников и использования рыночных механизмов функционирования экономики; неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права; проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны; формирование единой правовой системы демократического государства; проведение согласованной социальной политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью; укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества в Европе и во всем мире, развитие Содружества Независимых Государств. Достижение целей Союзного государства осуществляется поэтапно с учетом приоритета решения экономических и социальных задач каждого государства. Однако неизменным остается стремление к укреплению 98 и сохранению союзных отношений, единению народов Беларуси и России. Литература Данилевский Н. Россия и Европа. М., 1991. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневековья Запада. М., 1992. Леонтьев К. Записки отшельника. М., 1992. Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. Т. 1. М., 1992. Хантингтон С. Грядущее столкновение цивилизаций? США–ЭПИ. 1994. Яскевич Я. Социальная философия: антиномии человеческого бытия. Минск, 2005. Brzezinski Z. The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic Imperatives. 1997. N 9. 99 Н. С. Арефьева (Таллинн, Эстония) ИНТЕГРАЦИЯ РУССКОГО МЕНЬШИНСТВА В ЭСТОНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛИСТСКИХ ПРАКТИК Эстония в течение длительного времени позиционировалась в качестве страны, успешно прошедшей демократический переход, эффективно поддерживающей политическую стабильность и межэтнический мир, невзирая на глубокое разделение общества по лингвоэтническому принципу на две крупные, зачастую имеющие противоположные интересы общины (см., напр.: Pettai, 2000; Ruutsoo, 2002; Vetik, 2002). Однако всплеск межэтнической напряженности в 2006–2007 г., спровоцированный конфликтом вокруг монумента Советскому ВоинуОсвободителю, заставил пересмотреть отмеченные выше устоявшиеся суждения и начать поиск новых стратегий интеграции эстонского общества. В конце апреля 2007 г. около памятника Советскому ВоинуОсвободителю начались раскопки братской могилы. Монумент был затянут полотном и взят полицейскими в оцепление. По официальной версии властей, памятнику не следовало находится у автобусной остановки в центре города. Было принято решение о его переносе на Таллиннское военное кладбище. Данное событие вызвало острую реакцию русской общины, считавшей памятник одной из своих святынь. В Таллинне начались массовые беспорядки, полиция пыталась усмирить протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов, несколько сотен человек были задержаны, многие получили ранения. В результате в ночь, последовавшую за началом погромов, в оперативном порядке была дана команда о немедленном сносе монумента… Демонтаж памятника Советскому Воину-Освободителю обнажил серьезнейшие социально-политические противоречия в эстонском обществе и полный провал осуществляемой до настоящего времени официальной политики интеграции. Всплеск межэтнической напряженности отчетливо показал, что положение русскоязычной общины является одной из центральных проблем в политическом процессе современной Эстонии, неразрешенность которой ставит под сомнение возможность эффективного функционирования демократической системы правления, да и само будущее эстонской государственности. 100 Сущность вопроса состоит в том, что Эстония представляет собой жесткое унитарное, моноэтническое государство, в то время как эстонское общество включает в себя значительную русскую (русскоязычную) общину (на 2007 г. русские в Эстонии составляли 25%, украинцы – 2,1% белорусы – 1,2% (см., Eesti…)), интересы которой на политическом уровне практически никак не представлены. С момента провозглашения независимости в Эстонии идет процесс формирования национальной идентичности, в рамках которой русским отводится роль «иных», сводящаяся к оказанию влияния своим «угрожающим присутствием» (Ширяев, 2007). Утверждение эстонского государства означало начало периода дискриминации русского населения. Данный процесс имел место как на официальном уровне: отказ от предоставления гражданства, неравный доступ на государственную службу (например, несмотря на то, что из 1 370 100 жителей Эстонии 351 200 русских, доля русскоязычного населения, занятого на госслужбе, составляет 5% (Комплексный мониторинг, 2006, 286); с 1992 г. ни один русский не назначался министром, канцлером министерства или главой департамента (Hallik, 2005, 60–78)) и мн. др.; так и на уровне повседневных контактов: например степень бытового раздражения среди эстонцев из-за незнания русскими эстонского языка составляет 80%, из-за отличных от эстонцев манер и стиля жизни – 60% (Ширяев, 2007) (см., подробнее: Русские в Эстонии, 2000; Семенов, Барабанер, 1994; Программа, 2001). При этом официальные программы интеграции были ориентированы не на реальный учет интересов меньшинств, но на ассимиляцию русскоязычного населения через приобретение знания государственного языка. Без сомнений обучение эстонскому языку является важной интеграционной задачей. Однако сама по себе данная мера не способна обеспечить уважение и защиту прав русскоговорящего населения Эстонии, а при определенных обстоятельствах служит прикрытием для реального ограничения прав меньшинств (например, то, что жесткие языковые нормы работы в частном секторе намного снижают возможности русскоговорящих на рынке труда, должно побудить неэстонцев выучить эстонский язык). В целом большинство проблем русской общины Эстонии до сих пор остаются не решенными: – проблема владения эстонским языком; – дискриминация; – сохранение русскоязычного образования в стране; – проблема гражданства (правда, уже в меньшей степени, чем раньше); 101 – проблема разобщенности русской общины. Именно в этом контексте следует воспринимать события вокруг переноса памятника Советскому Воину-Освободителю. Массовая протестная активность представителей русской общины явилась закономерным следствием игнорирования фундаментальных проблем межэтнического сосуществования в условиях негомогенного общества. Важно подчеркнуть, что «апрельские беспорядки» в центре Таллинна негативным образом повлияли на интеграционный процесс. В сделанном сразу после «бронзовой ночи» по заказу правительства опросе «Вызовы интеграционной политике и межнациональным отношениям» приведены следующие данные: а) 52% процента неэстонцев ответили, что имеют личный опыт дискриминации по этническому признаку; б) 27% эстонцев и 41% неэстонцев полагают, что кризис углубил разделение общин, хотя 51% эстонцев и 33% неэстонцев все же полагают, что кризис выявил среди эстонцев и русскоговорящих определенную общность людей, у которых сохраняется взаимопонимание; в) только 28% эстонцев (против 82% неэстонцев) полагают, что большее участие неэстонцев в политической и экономической жизни страны было бы для нее полезным, а 34% эстонцев признает это вредным; также меньше тех (33%), кто считает, что эстонским политикам надо больше считаться с мнением неэстонцев, и больше тех (37%), кто полагают, что это было бы уступкой давлению России (Hallik, 2005, 60–78). В любом случае история с переносом памятника не прошла для эстонской элиты даром. Москва стала невольным участником данного конфликта. В России раздавались призывы разорвать дипломатические отношения с Эстонией (по данным опроса аналитического центра Ю. Левады, данную меру поддерживали 53% респондентов (ЛевадаЦентр, 2007)), бойкотировать импортируемые из Эстонии товары и т. д. По странному «совпадению», после демонтажа Бронзового солдата РЖД начала ремонт полотна на участке, который вел в Эстонию. По другому странному «совпадению», после весенних событий 2007 г. Россия пересмотрела тарифы на экспорт древесины, которая до сих пор приносила основную прибыль эстонской железной дороге и объем перевозок которой летом 2007 г. сократился на 35% по сравнению с летом 2006 г. (Пескова, 2008). Также сократился транзит российской нефти и угля через территорию прибалтийской республики. Из-за подобных мер остановилась работа открытого незадолго до апрельских событий угольного терминала в Таллиннском порту. Общий ущерб экономики Эстонии от истории с переносом Бронзового солдата составил, по подсчетам эстонских экономистов, сумму в 102 320 млн евро. По другим данным, размер убытков достиг 440 млн евро (см.: Русские Эстонии…). Какие выводы можно сделать из всего случившегося? Прежде всего заключение о том, что политика интеграции в Эстонии провалилась. Причиной данного провала стало то, что указанная политика формировалась «под эстонцев», без учета интересов и особенностей русскоязычного меньшинства. Причем стихийный и внеправовой характер выступлений также явился одним из следствий интеграционной политики. В течение долгого времени эстонские власти с помощью манипуляционных технологий препятствовали формированию действенных организаций, которые бы представляли интересы русскоязычного меньшинства. Данное положение касалось как политических партий, так и сильных общественных организаций. По сравнению с другими национальными общинами Эстонии (татарской, еврейской) русская община не имеет централизованного представительства, она наименее структурирована, в ней преобладают «кружки по интересам». При этом общее количество общественных организаций, позиционирующих себя в качестве русских, позволяет говорить о том, что на каждые две с половиной – три тысячи членов общины приходится одна общественная организация. Примерно треть из них существует только номинально. Имеется и несколько небольших политических партий (Объединенная народная партия Эстонии, Русская партия Эстонии и др.), провозглашающих в качестве своей цели защиту интересов русских. Однако их деятельность в значительной степени носит декларативный характер. При этом и партии, и общественные организации русских не воспринимаются представителями власти в качестве достойных партнеров для переговоров. В результате единственным вариантом отстаивания своих прав для членной русской общины оказалось участие в стихийных акциях гражданского неповиновения. Примечательно, что именно премьер-министр Андрус Ансип смог благодаря неконструктивным действиям с переносом памятника добиться сплочения и массовых коллективных действий русской общины в Эстонии. Спустя год после «Бронзовой ночи» перед памятником Неизвестному солдату на Военном кладбище была стена цветов, несмотря на то, что в течение всего дня цветы убирали от памятника и разносили по кладбищу. Именно Ансипу удалось осуществить, такую консолидацию неэстонской части населения. И следует отметить – не только неэстонской. Ему также удалось объединить тех людей, для которых правда о Второй мировой войне неоспорима. Оскорбление, нанесенное им в апреле 2007 г., способствовало проявлению тех чувств, которые вылились в столь массовое посещение памятника. Следует понимать, что 103 возложение цветов в данном случае – далеко не только дань уважения и памяти, но протест против политической позиции и действий правящей эстонской элиты. И при этом на фоне вышеобозначенных событий в Эстонии началась школьная реформа, целью которой является постепенный перевод преподавания большей части предметов в русских школах на эстонский язык обучения с последующей ликвидацией русского гимназического образования. И это мероприятие, по мнению эстонских властей, должно способствовать дальнейшей «интеграции» русской общины в эстонское общество. В свете очевидного провала официальной политики интеграции особую актуальность приобретает поиск новых форм межэтнического взаимодействия в эстонском обществе. Можно указать три модели подобного рода (см. подробнее: Фишкина, 2000, 178–182): ассимиляция – слияние русскоязычных с эстонским народом с утратой первыми своего языка, культуры, национального самосознания (различают естественную ассимиляцию, возникающую при контакте этнически разнородных групп населения, смешанных браках и т. п., и насильственную ассимиляцию, характерную для стран, где национальности неравноправны); сегрегация – принудительное отделение и автономное развитие русской общины в Эстонии и ее культуры; интеграция – сближение и связь между русской и эстонской общинами. Путь ассимиляции предлагается эстонскими национал-радикалами. Некоторые политики говорят об этом, маскируя ассимиляцию другими понятиями, иногда и термином «интеграция», хотя последняя имеет мало общего с ассимиляцией. Составной частью ассимиляции на «эстонский» манер является вытеснение значительной (если не большей) части русских из Эстонии и языковая и культурная «эстонизация» оставшихся. Процесс ассимиляции реально имеет место в маленьких городах и деревнях центральной Эстонии и будет продолжаться. Но совершенно очевидно, что он неприемлем и в масштабах всей республики нереален: русскоязычных в Эстонии 30%, ассимилировать такую массу трудно, практически невозможно, а уезжать из Эстонии абсолютное большинство русских не собирается. Более того, есть основания говорить о серьезной укорененности русской общины в Эстонии, определяемой как привязанность группы к территории своего проживания, проявляющейся в том, что представители этой группы не желают покидать родные места даже при наличии мощных побудительных мотивов или внешнего дав104 ления (Пронин, 2002, 18). Русские селились на данных землях с середины IX в. (см.: Маттисен, 1995, 12) и постепенно расширяли свое представительство. Согласно первой всеобщей переписи населения России 1897 г., на территории современной Эстонии проживало 46 026 русских и 884 553 эстонца. В последующие годы количество эстонцев почти не изменилось, а количество русских быстро росло, достигнув к 1917 г. приблизительно 100 000 (Граф, 2007, 13). Данная тенденция продолжилась и в советский период: в 1989 г. эстонцы составляли 61,5% , а русские – 30,3% населения (см., Eesti…). Второй путь – это путь сегрегации, т. е. путь изолированного, автономного развития русской общины в Эстонии и ее культуры, на практике с полной ориентацией на Россию во всех сферах жизни. Известны разные формы сегрегации. Наиболее радикальные ее разновидности – резервации индейцев в Северной Америке и австралийских аборигенов. Но это случаи крайние, для эстонской обстановки более подходит другой пример – Брайтон-Бич в Нью-Йорке, населенный русскими и евреями–выходцами из России. Этот тип сегрегации характеризует сохранение тесных связей с метрополией, сохранение своей культуры, обычаев, традиций и отсутствие культурных и языковых контактов с коренным населением страны. Этот путь, без сомнения, имеет немало сторонников, особенно на северо-востоке страны, среди тех, кто не имеет эстонского гражданства и не рассчитывает его получить. В сущности, к этому же ведет их требование так называемой полной русской культурной автономии. В вопросе о том, что же понимать под интеграцией, до сих пор нет ясности. По крайней мере речь идет не об интеграции культур. Исходя из Программы интеграции эстонского общества 2000–2007 гг., это означает интеграцию русских в эстонское общество, овладение эстонским языком, близкое знакомство с эстонской культурой, с эстонским менталитетом при сохранении в качестве доминанты своего родного языка и своей принадлежности к миру русской культуры. Таким образом, в данной трактовке интеграция здесь пересекается с понятием «аккультурации», и в этом смысле это и должно стать главной целью, к которой будет стремиться эстонское общество, то есть русская община не будет чувствовать себя чужеродным элементом в Эстонской Республике, людьми второго сорта и вместе с тем останется русской по духу. Хотелось бы отметить, что реально существующий и функционирующий аналог такой модели в мире уже есть – это, прежде всего, шведы и шведоязычная культура в Финляндии. Финляндские шведы прекрасно интегрированы в финское общество, они, как правило, владеют финским языком, занимают любые посты – 105 вплоть до министров – в государственном аппарате, но вместе с тем остаются шведами, людьми шведской (а точнее шведско-финляндской) культуры. У них есть не только свои шведские школы и гимназии, но и свой шведский университет в Турку, своя Высшая коммерческая школа в Хельсинки, у них есть свои театры и культурные институты. Шведский язык является вторым государственным языком Финской Республики. В местах, где шведы составляют большинство, языком работы местных самоуправлений принят шведский. Более того, на Аландских островах вообще только шведский язык имеет статус официального – и финнов это не беспокоит. В финских школах преподается и шведский язык, знание его обязательно для всех государственных служащих; это все при том, что шведы составляют всего 6 % населения Финляндии. Вместе с тем, сколь бы не была привлекательна обозначенная модель интеграции, ключевую роль в успешном межэтническом диалоге будут играть реальные действия правительства по включению представителей русской общины в процессы формирования политического курса. Лишение русской общины организационных ресурсов, политических структур, программ и лидеров, лишило также и само эстонское общество партнера по межобщинному диалогу, потребность в котором остро проявилась накануне и после событий апреля 2007 г. Есть все основания полагать, что сложившееся отторжение русской общины от эстонского государства, обусловленное дискриминацией и отсутствием адекватного учета интересов русского меньшинства (проблема гражданства, русскоязычного образования, доступа к государственной службе и многое другое) ставит под сомнение будущее не только демократии в Эстонии, но и самого эстонского государства. Приоритетное внимание в этой связи следует уделить поиску новых форм взаимодействия русской общины и эстонского государства, включения русскоязычного меньшинства в общественно-политическую жизнь Эстонии. Правительство Эстонии должно взаимодействовать с русской общиной для выработки более сложных механизмов ее участия в общественно-политической жизни, что позволит вовлечь настолько широкий спектр групп, представляющих интересы меньшинства, насколько это возможно и осуществимо. Условием эффективного взаимодействия русской общины с эстонским государством будет являться выполнение принципа пропорционального участия в осуществлении власти не только политических и религиозных, но и этнических групп. Только тогда власти Эстонии смогут эффективно урегулировать возникающие в обществе конфликты. Неоценимую помощь в решении отмеченных задач может дать опыт федеративных государств. Естественно, что прямое установление феде106 ралистского типа государственного устройства представляется неэффективным для такой маленькой страны, как Эстония. Однако использование многих присущих странам со сложно разделенными обществами федералистских практик может быть крайне актуальным в условиях современной Эстонии. Прежде всего, следует сказать о муниципальном федерализме, т. е. наделении местных территориальных образований (уездов, городов, сельских поселений) реальной автономией и полномочиями, включая экономическую самостоятельность, установление второго официального языка, независимость общественной и культурной жизни. Далее речь может идти об установлении в Эстонии сообщественной модели демократии, подразумевающей коалиционное осуществление власти лидерами всех значимых сегментов общества, наличие взаимного вето, пропорциональность политического представительства и назначения на должности, высокую степень автономности каждого сегмента в управлении своими внутренними делами (Лейпхарт, 1997, 60). Введение указанных федералистских практик может послужить эффективной основой для консолидации общества, укрепления государства и развития демократии в Эстонии. Литература Граф М. Эстония и Россия 1917–1991: анатомия расставания. Таллинн, 2007. Комплексный мониторинг: динамика политического поведения русских диаспор в государствах Евросоюза (на примере Германии, Латвии, Румынии, Эстонии). М., 2006. Левада-Центр. Конфликт с Эстонией: осмысление. 21.05.2007 // Сайт Левада-Центра – http://www.levada.ru/press/2007052100.html. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. М., 1997. Маттисен Э. Эстония–Россия: история границы и ее проблемы. Таллинн, 1995. С. 12. Пескова А. Больше не топчутся. 2008 // http://www.lenta.ru/articles/ 2008/04/28/soldier/ Программа мониторинга расширения ЕС: Охрана прав меньшинств в Эстонии 2001. Таллинн. 2001. Пронин А. А. Российские соотечественники в странах нового и старого зарубежья. Екатеринбург. 2002. Русские в Эстонии на пороге XXI века: прошлое, настоящее, будущее. Таллинн. 2000. 107 Русские Эстонии — опасность или возможность: Эстония за неделю. Информационный портал Соотечественник// http://compatriot.su/estonia/ news/85780.html. Семенов А., Барабанер Х. Эстонская Республика и ее «не граждане» // Российский бюллетень по правам человека. Москва, 1994. Вып. 4. http://www.hrights.ru/text/b4/chapter6.htm. Фишкина Е. Есть ли будущее у русской культуры в Эстонии?// Русские в Эстонии на пороге XXI века: прошлое, настоящее, будущее. Таллинн. 2000. С. 178–182. Ширяев А. В. Этнический контроль в Эстонской республике // Политекс. 2007. № 2. Eesti statistikaamet – http://www.stat.ee/?lang=en Hallik K. Kodakondsus ja poliitiline kaasatus. Uuringu integratsiooni monitooring. Aruanne. Tallinn. 2005. Pettai V. Developing Preventive Diplomacy and Ethnic Conflict Resolution: The OSCE Mission to Estonia. New York: Carnegie Endowment for International Peace. 2000. http://www.ceip.org/programs/democr/NGOs/ index.html. Ruutsoo R. Discursive Conflict and Estonian Post-Communist Nation Building // The Challenge of the Russian Minority. Emerging Multicultural Democracy in Estonia / By ed. M. Heidmets, M. Lauristin. Tartu: Tartu University Press. 2002. P. 31–54 Vetik R. A Strategy for Ethnic Conflict Accommodation // Raivo Vetik. Inter-Ethnic Relations in Estonia 1988–1998. Acta Universitas Tamperensis, 655. Tampere: Tampere University Press. 2002. 108 Раздел II ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА В. И. Коваленко (Москва) СИСТЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ «ЦЕНТР – РЕГИОНЫ»: УРОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ Мировая история сегодня – это подлинно общецивилизационный поток, в который включены все народы, страны и регионы нашей планеты, объединенные и озабоченные в конечном счете общей судьбой. В данный поток, однако, они входят со своей уникальной культурой, традициями, мирочувствованием, неповторимым историческим опытом. Это противоречивое единство и составляет на деле целостность мира, выражает его богатство, определяет его жизнеспособность как сложной динамической системы. Не случайно одной из самых главных задач современной политической науки и даже обществознания в целом выступает осмысление принципов и механизмов взаимодействия непреложной логики общеисторических императивов и требований отечественной традиции. Это касается задач осмысления и самых оснований российской государственности и системы отношений «Центр – регионы» в политическом времени страны. Российское государство в своем историческом движении, несомненно, подчинено тем закономерностям и принципам государственного развития, которые проявили себя повсюду в мире. Вместе с тем вспоминаются слова Л. А. Тихомирова: «…нельзя стройно и прочно устроить жизнь нации в противность качеству материала, из которого мы строим, – подобно тому, как в постройке архитектурной материал предопределяет все: и способы достижения прочности, и доставление удобства помещений, и формы красоты стиля. Из камня строим иначе, чем из дерева, из железа иначе, чем из камня. Таким материалом в политике и социологии является дух нации, сложившийся в процессе образования ее, под влиянием расы, истории, способов существования и т. д.» (Тихомиров, 1912, 1–2). Не хочу вторгаться в дискуссию о значении ментальности, архетипов и др.; хочу лишь подчеркнуть, что без учета корневых оснований жизненного уклада нашего (и любого другого) народа всякие 109 реформы, в том числе и реформы по совершенствованию государственного устройства, федеральной и региональной политики, не смогут достигнуть необходимого оптимума, будут неизбежно вызывать мощные встречные тенденции. Оценивая в такой связи характер современной отечественной модернизации, авторы книги под примечательным названием «Сопротивление материала» отмечают: ―Российский феномен‖, сколь бы ―неправильным‖ он ни казался с точки зрения нормативного западного опыта, вновь удручающе и грозно продемонстрировал свою невместимость в имеющиеся стандарты политического управления, восприятия и ожиданий. Конечно, нет никаких оснований полагать, что за... (годы – В. К.) реформ в нашей стране ничего не изменилось. Изменениям и сдвигам нет числа, в том числе и в такой априорно устойчивой к новациям сфере, как национальная психология и модели мышления и поведения граждан. Тем не менее размышлять о проблеме сопротивления реформам, которое исходит не просто от отдельных ―реакционных‖ социальных, политических и иных групп, а от ―исходного российского материала‖, в целом уместно и необходимо. Это важно, прежде всего, в методологическом отношении – в той мере, как точно выверенный учет этого сопротивления предстает совершенно необходимым условием проведения рациональной (а не романтически оторванной от жизни) реформистской политики в России. И напротив, продолжение попыток ―продавливать‖ либеральный курс при игнорировании устойчивых ―конструктивных‖ особенностей российских реалий в сфере политической психологии, экономико-социальных и иных отношений обрекает инновационные импульсы на фронтальное противостояние с действительностью, расчеты на одномоментное перерождение которой являются лишь немногим менее опасной утопией, чем учиненный в 1917 г. над нашей страной большевистский эксперимент» («Сопротивление материала», 1999, 7). Ни в одной стране демократическая государственность, принципы федерализма, региональной политики не утверждались в отрыве от национально-государственных традиций. Оценивая с этих позиций установки, в рамках которых реанимируется взгляд на Россию как на «национальную пустыню», бессодержательное географическое пространство, которое может быть заполнено любой государственной, экономической, ментальной формой, можно вполне определенно заявить об их научной и практической несостоятельности. Реформы, осуществлявшиеся многократно в истории российского общества, включая и современный период, убеждают в том, что их принципы и цели должны быть соотнесены с состоянием социальной сферы, с менталитетом и просто с 110 ожиданиями людей. Лишь в этом случае реформы могут обрести достоинство легитимности, перейти из разряда утопий и прожектерства на почву социальной оправданности и действительной социальной значимости. Как бы то ни было, в российской истории мы можем выделить целый ряд постоянно действующих факторов, обусловивших значительную специфику отечественной государственности. В их числе – характерная для России пространственная и геополитическая ситуация, особая роль государства в регулировании социальных отношений и организации территориального пространства. Огромная протяженность страны, отсутствие естественных географических границ формировали определенные, достаточно стойкие стереотипы политико-экономического и социально-психологического порядка. Не случайно многие отечественные ученые при объяснении специфики русской истории, форм государственного устройства рассматривали географический фактор в качестве доминантного в историческом процессе. Так, несомненной заслугой С. М. Соловьева является комплексное рассмотрение им роли природно-географических, демографическо-этнических и политических факторов в развитии российской державы. О влиянии природы на человека, их взаимоотношении много писал В. О. Ключевский. Вот только несколько подзаголовков к начальным главам его «Курса русской истории»: «Схема отношения человека к природе», «Значение почвенных и ботанических полос и речной сети русской равнины», «Значение окско-волжского междуречья как узла колонизационного, народно-хозяйственного и политического», «Лес, степь и реки: значение их в русской истории и отношение к ним русского человека» и др. Н. А. Бердяев в работе «Истоки и смысл русского коммунизма» связывал и психологические свойства русского народа, и самый характер государственности с необходимостью оформления огромной, необъятной русской равнины. В. Н. Татищев формы государственности на Руси (и в мире) также увязывал с пространственногеографическими факторами. Применительно же к характеристике пружин российской политической истории нам важно выделить следующие обстоятельства. «Великорусское племя, – писал В. О. Ключевский, – не только известный этнографический состав, но и своеобразный экономический строй, и даже особый национальный характер, и природа страны много поработала и над этим строем и над этим характером» (Ключевский, 1987, 310). Равнинный характер местности, сочетание леса и степи, отсутствие перенаселенности в течение многих веков, земельной тесноты – все это существенным образом влияло на расселение населения, на складывающиеся 111 стратегические ситуации, на возможность колонизации новых земель, формы управления ими. В стране укоренялись экстенсивные методы хозяйствования, противостоящие модернизационным импульсам любого рода, и инициативу в осуществлении инновационных проектов неизменно и всегда было вынуждено брать на себя правительство. Существенную роль в политическом развитии страны сыграли речные бассейны и характер водных путей в целом. Можно вспомнить хотя бы великое значение исторического пути «из варяг в греки», обозначившего новые векторы в мировой политике после перехвата традиционных торговых путей восточными завоевателями. Этот путь обозначил и огромные возможности для складывающегося государства, могущего через короткое историческое время играть в Восточной Европе ту роль, которую в Западной сыграла империя Карла Великого. Эти возможности, впрочем, необходимо было еще воплотить в ходе нелегкого исторического движения. Удаленность населенных пунктов друг от друга, пружины колонизации, особенности традиционного общества, для которого рынок не играл сколько-нибудь существенной роли, – все это определяло внутреннюю слабость «сцепления» между территориями и вместе с тем делало чрезвычайно актуальным необходимость их сопряжения из единого центра. Развитие государственности на Руси поэтому, как не раз отмечали отечественные историки, прорастало не «снизу», а «сверху». Громадное значение при этом имели геополитические обстоятельства. Россия в течение всей своей многовековой истории жила в режиме сверхвысокого давления извне, давления, которое в Европе (за исключением, может быть, Испании) прослеживается в значительно меньшей степени и которого Америка, к примеру, практически вообще не ощущала. Занимая срединное положение между Западом и Востоком, она находилась в состоянии постоянной угрозы, что со временем выводило этот фактор на уровень не просто конкретно-исторического, но и цивилизационного порядка. По подсчетам русского историка В. О. Ключевского, великорусская народность в период своего формирования за 234 года (1228– 1462 гг.) вынесла 160 внешних войн. И позднее, в ХVI в., Московия, ни на год не прерывая борьбы против татарских орд на южных, юговосточных и восточных границах, воюет на севере и северо-западе против Речи Посполитой, Ливонского ордена и Швеции 43 года, в ХVII в. она воюет 48 лет, в ХVIII – 56 лет (Ключевский, 1988, 45) Следует отметить, что в отличие от войн Западной Европы, причинами которых, как правило, выступала борьба за верховенство власти, за феодальные права на отдельные земли и т.п., битвы, в кото112 рые была вынуждена вступать Русь, были битвами если не за физическое, то, во всяком случае, за историческое выживание народа. Так или иначе в течение многих веков Россия клинком доказывала свое право на жизнь и развитие. Уступая по своему военно-экономическому потенциалу соседям, Москва, постепенно объединявшая русские земли, искала ответ на внешние и внутренние вызовы, и она нашла его, энергично утверждая принципы централизации, концентрации власти. Была создана особая служилая система, при которой каждый слой общества (сословие) имел право на существование лишь постольку, поскольку нес определенный круг повинностей, или, по терминологии того времени, «службы» или «тягла». Специфическими характеристиками утверждающейся российской государственности стали, прежде всего, мобилизационный тип развития, высочайшая политическая дисциплина , необычайный уровень политической централизации. Процессы консолидации сословий, развитие самоуправленческих начал в стране протекали достаточно противоречиво. Борьба земледельческого населения с набегами кочевников и, прежде всего, с татаромонгольским игом, обусловливавшая в значительной мере характер и направления колонизации новых земель, вызывала определенные деформации социального развития, его смещенность по сравнению с западноевропейскими государствами. Если на Западе отсутствие свободных пространств и высокая плотность населения, обостряя социальные противоречия, своим следствием имели укрепление сословий и ускорение законодательного закрепления их сословных и личных прав, развитие форм местного управления и самоуправления, что в конечном счете, способствовало кристаллизации начал гражданского общества, то в России в период складывания централизованного государства острота социальной конфронтации, напротив, длительное время снималась за счет оттока населения на окраины. Развитие социальных отношений на больших пространствах и систематический отток населения к окраинам до известной степени замедляли рост социальной напряженности, видо- Воспользуемся только одним примером. На Западе продолжительность военной службы вассала была определена достаточно четко. Так, в Англии XIII в. ее срок составлял от 21 до 40 дней в году, более того, в некоторых районах существовал обычай, по которому рыцарь брал с собою в поход свиной окорок, с последним куском которого истекал срок и его службы. Ополчение Московской Руси служило бессрочно. Конечно, и оно находилось в зависимости от взятого провианта, запаса вооружения и т.д., но в любом случае вопрос о том, когда и сколько сидеть в седле, решался только в Кремле. Ослушники, даже на несколько дней самовольно покидавшие ряды войска, беспощадно карались. 113 изменяли формы ее проявления и в конечном счете консолидацию сословий. В то же время исторические обстоятельства, связанные прежде всего с задачами воссоздания государственности, требовали более жесткой увязки социальных связей. Создание многочисленного и боеспособного войска, способного противостоять Орде и другим внешним врагам, в качестве своих экономических предпосылок не могло не иметь накопление в достаточном объеме прибавочного продукта, изымаемого у зависимого крестьянства, а также наличие развитого ремесленного производства, поставляющего в соответствующем количестве наступательное и оборонительное оружие. По средневековым нормам требовался труд целой деревни (30 дворов) на содержание одного воина-феодала. Проблема, однако, обострялась еще и тем, что на Руси после набегов практически не оставалось ни неразоренных деревень, ни достаточного ремесленного населения. Кроме того, сам весьма скудный прибавочный продукт в значительной своей части перетекал в Орду в виде дани и других поборов, т. е. шел на усиление противостоящей силы. Обратим внимание на точку отсчета возвышения Москвы. На Руси – это эпоха полной феодальной раздробленности, поддерживаемой извне Золотой Ордой, которая постоянно натравливала русских князей друг на друга, стремясь не допустить усиления любого из них. Естественно, что политика Москвы осуществлялась в прямо противоположном направлении, имея целью сосредоточение максимума возможной в конкретных условиях политической централизации. Ф. Энгельс совершенно правильно отмечал, что в России покорение удельных князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига. Централизация соответствовала историческим потребностям страны, и неудивительно, что в целом она встречала поддержку всех социальных слоев русского народа – от истерзанных междоусобными распрями и набегами иноземцев крестьян до феодального боярства, уходившего от удельных князей на службу московскому государю. Безусловно, этот процесс проходил совсем не просто: были и бунты, и дворцовые интриги и заговоры, но амплитуда центробежных колебаний в стране была все же неизмеримо короче, чем где бы то ни было. Высшие интересы государства заставляли русское общество соблюдать лояльность по отношению к Москве. Первой внутренней политической задачей, осознаваемой московским правительством, стала поэтому ломка удельной системы. Не случайно в исторической науке существует авторитетная точка зрения, согласно которой опричнина Ивана Грозного была нацелена не столько на подавление боярского своеволия, сколько на окончательное искоренение удельных структур. Даже новгородский погром, хотя и осуществ114 ленный в крайне жестких, варварских даже, формах, в такой логике вполне укладывается в политику, объективно направленную против пережитков удельного времени . Выражая исторические потребности борьбы народа за свое существование, за национальную независимость, за решение насущных задач экономического развития, эта политика не могла не сопровождаться крайне существенными издержками. «Необходимость централизации, – писал А.И. Герцен, – была очевидна, без нее не удалось бы ни свергнуть монгольское иго, ни спасти единство государства… События сложились в пользу самодержавия, Россия была спасена; она стала сильной, великой – но какой ценою?… Москва спасла Россию, задушив все, что было свободного в русской жизни» (Герцен, 1956, 403–404). Оставим в стороне вопрос о том, что, конечно же, политическая централизация не означала полной унификации даже на сугубо русских территориях, что Московская Русь, позже – империя, сохраняла многочисленные следы прежней автономии отдельных земель, имела отличия в системе местного управления и самоуправления, что это тем более проявляло себя в характеристиках национально-государственного устройства, особенностях имперского пути развития России. В любом случае доминирующая (временами – подавляющая) роль Центра оставалась ведущей тенденцией российской государственности. Выступая, по выражению С. М. Соловьева, «хирургической повязкой на больном члене», централизация вместе с тем в ее сложившейся исторической форме не могла не гасить вечевых традиций, препятствовала реализации возможности политического развития по пути городовреспублик, наподобие Новгорода или Пскова. Вольница казачьего круга или движение раскола тем более не могли не восприниматься как явления, в принципе антигосударственные. И хотя тенденция к тотальному огосударствлению так никогда и не смогла снизить до предела роли местных учреждений, начал самоуправления на Руси и в России (что так или иначе осознавалось центральным правительством – реформы Екатерины II, федералистские проекты Александра I), оптимального решения проблемы взаимоотношения центра и регионов в стране так и не было найдено. Можно назвать традицию, согласно которой наместниками в Новгород назначали людей только с княжескими титулами (как бы новгородских князей), что эти наместники имели к тому же право самостоятельных сношений с некоторыми иностранными государствами. Особым было и положение новгородского архиепископа. Он, например, единственный из архиепископов и епископов носил белый, а не черный клобук. Белый же клобук был знаком митрополичьего достоинства (Кобрин, 1989, 115). 115 Более того, в России со времен Николая I начинает все более последовательно проводиться линия не просто на унификацию политикоадминистративных структур, но и на вытеснение в государственной политике значимых региональных (тем более национальных) социокультурных компонентов. Объективные процессы экспансии индустриально-капиталистических форм организации экономики, ведущие к разрушению традиционных устоев жизни, бюрократическая верхушка использовала для более органичной для нее нивелировки процесса управления; на окраинах империи все более четко стало проявляться тяготение администрации к переходу к прямым методам управления, игнорированию местной специфики и традиций, существующих социально-политических институтов. Такого положения не исправили и две крупные реформы (земская и городская), осуществленные правительством Александра II. Так, несмотря на довольно обширные полученные полномочия, возможности земских учреждений остались достаточно ограниченными. Они не обладали, в частности, принудительной властью, т. е., их решения и указы для приведения их в исполнение должны были подкрепляться решениями администрации и полиции. Об участии в политической власти речь вообще не шла, как практически не ставился и вопрос о преобразовании земства в инструмент утверждения федеративных отношений в стране. Реформы 60 – 70-х годов, несомненно, шли в общем русле либерализации, но в условиях самодержавия не решали и не могли решить все более сложные задачи оптимизации государственного управления. Более того, в 80 – 90-е годы правительство перешло к политике заметного сужения возможностей созданных в ходе реформ органов. Так, был упразднен съезд представителей сельских общин для выборов гласных в уездное земское собрание: они стали назначаться губернатором из списка кандидатов, составленного на волостных сходах. Да и политика русификации при Александре III получила свое развернутое и полное воплощение. Эта и подобные меры свидетельствовали не просто о нарастании консервативно-охранительных настроений в правящем классе, но и отражали его имманентные качества – всегдашнюю тягу к усилению политической и административной централизации. И хотя в период думской монархии правительство попыталось осуществить очередные реформистские мероприятия, в обществе становилось все более ясным, что режим утратил способность к исторической динамике и страна стоит на пороге масштабных политических перемен. 116 К 1917 г. не только не были созданы основания для демократизации власти и управления, но и не был выработан четкий курс в отношении параметров дальнейшего государственного строительства. «Слишком велик, – как отмечал М. Хильдермайер, – был разрыв между центром и периферией. Процессы, протекавшие в провинции, не находили продолжения в центре империи и, когда ―крыша‖ рассыпалась вслед за крушением монархии в феврале 1917 г., страну охватили хаос и гражданская война. В России не существовало федералистской традиции, которая бы обеспечивала механизм равновесия между различными регионами» (Хильдермайер, 2002, 93). С этими больными вопросами Россия и вошла в новую – революционную – эпоху. Не были эти вопросы решены и в советский период российской истории. Официальная идеология декларировала, что в Советском Союзе осуществлено соединение принципов «демократического централизма» с принципами социалистического федерализма, а это позволило-де полностью решить национальный вопрос, обеспечить суверенные права всех наций и одновременно согласованность и единство действий всех звеньев государственного механизма на всей территории страны. Фактически бюрократическая сверхцентрализация принятия решений в СССР привела к тому, что коллективные права на суверенитет и самоуправление в Советском Союзе не были обеспечены, местная специфика Центром зачастую игнорировалась. Аутентичные федеративные связи и отношения так и не были сформированы, и единство государства в первую очередь определялось характером КПСС, которая со временем все больше демонстрировала свои атрибуты не политической партии в классическом понимании, но «партиигосударства». Понятно поэтому, что ослабление правящей партии объективно разрушало и скрепы советской государственности. Не случайно, отмена 6-й статьи Конституции, где закреплялась руководящая и направляющая роль КПСС в политической системе общества в значительной степени стимулировала и центробежные тенденции в стране в период «перестройки». После развала СССР Россия в течение долгого времени сохраняла инерцию распада. Напомню, что в политическом классе имели хождение идеи о целесообразности разделения страны на 35 – 40 образований. Начала государственности попросту оплевывались, что, кстати, с моей точки зрения, стало одной из важнейших причин краха радикальной либеральной парадигмы. Подъем государствообразующих ценностей явился, поэтому, не просто закономерным поворотом в политике и в общественных экспектациях, но и был столь же плодотворным для на117 шей страны, как и в период ломки удельной системы или преодоления Смуты. Свое первое Послание Федеральному Собранию В. В. Путин начал, как известно, буквально с гимна идее сильной государственности. Последующие действия по выстраивания «вертикали власти» шли именно в русле данного посыла. И это спасло единство страны и государства, и уже не в первый раз, как показывает историческая практика. Не случайной была и та беспрецедентная для новейшего времени поддержка этого курса со стороны подавляющих масс населения. В современной политологии есть, однако, понятия, которые на сегодня обладают своим мощным эвристическим звучанием. Это, в частности, такие понятия, как политическое пространство и политическое время. И если категория политического пространства в контексте отечественной политической традиции свидетельствует о жизнетворности централизующего начала, то категория политического времени – и о необходимости постоянной оптимизации всей системы отношений между центральными властями и потребностями и возможностями регионов и вообще местных уровней власти. Так, если на ранних этапах российской государственности мотив «силы и грозы князя» воспринимался как лозунг прекращения междоусобиц (этот мотив явственно звучит, к примеру, в знаменитом «Слове» Даниила Заточника – напомню, вторая редакция «Слова» обозначается как «Моление»), если даже само слово «самодержавие» первоначально означало не что иное, как «сам держу», «Я, страна, уже не данники татарского кагана», то уже со времен Петра I, явственно обозначились не только возможности, но и пределы «регулярного государства», и преодоление абсолютизма стало одной из двух (второе – крепостное право) важнейших задач политической жизни России. Обозначим еще раз свою позицию. Концепт сильного государства должен и сегодня сохранять свое безусловное значение. Признавая позитивность такого процесса, как, к примеру, регионализация, не могу не высказать тревоги в отношении проскальзываемых подчас ноток о целесообразности включения регионов в число субъектов международного права, «выламывания» их из общенациональной системы государственной политики. В то же время нужно очень хорошо понимать, что в условиях резкой динамики политического процесса у нас нет солидного временного резерва для корректировки политического курса по принципу «маятника». Сильное государство должно восприниматься в его современных выражениях. Его основания сегодня – не только в укреплении позиций Центра, государственных структур вообще, но и в одновременном эшело118 нировании себя в сильной социальной политике, развитии гражданского общества, нарастающей поддержке инициатив, идущих с мест. Уроки отечественной традиции свидетельствуют, в частности, и о том, что нарушение баланса между Центром и регионами неизменно и всегда оборачивалось ростом дестабилизирующих, взрывных начал. Проблемы оптимизации территориальной организации, распределения властных и экономических ресурсов не могут поэтому не выступать одной из самых важнейших задач российской политической науки. Литература Герцен А. И. Сочинения. Т. 3. М., 1956. Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т. 2. М.,1988. Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. Т.1. М., 1987. Кобрин В. Иван Грозный. М., 1989. «Сопротивление материала». Международные нормативы на российской почве. М., 1999. Тихомиров Л. А. К реформе обновлений России (статьи 1909, 1910, 1911 г.). М., 1912. Хильдермайер М. Российский «долгий ХIХ век»: «особый путь» европейской модернизации? // Ab Imperio. 2002. N 1. 119 Л. Б. Четырова (Самара) ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РОССИЙСКОГО ЭТНОФЕДЕРАЛИЗМА: ОПЫТ КАЛМЫЦКОГО ХАНСТВА Истоки современного российского этнофедерализма следует искать не только в опыте национально-государственного строительства советской эпохи, но и в более отдаленном по времени опыте становления Российской империи. Российский этнофедерализм укоренен в политическом пространстве, где происходило взаимодействие русского государства с народами, вовлекаемыми в орбиту величественной Империи, которой была Россия на протяжении нескольких столетий. В докладе на примере Калмыцкого ханства – одной из первых автономий, существовавших в имперской России, анализируется технология строительства империи, ставшей основой современного этнофедерализма. Поскольку появление феномена этнофедерализма связывается с имперским прошлым России, постольку нам необходимо сформулировать наше понимание империи и имперских исследований. Сюжет империи стал в последнее время популярным не только в публичном, но и в академическом дискурсе, осмысляющим постсоветский опыт (С. А. Панарин, Н. П. Космарская, Новикова), или опыт Российской империи (В. К. Кантор). Если обратиться к западным исследованиям, то Терри Мартин, например, уже в названии своей работы обозначает Советский Союз как высшую форму империализма (Мартин, 2001). Концепт империи как аналитической категории активно разрабатывается в рамках направления, получившего название «империология». Основными направлениями «империологии» является изучение ментальной географии, фронтира, влияния внешних факторов на имперское управление (Мацузато, 2005). Актуализация имперских исследований в современной социальной и политической науке была вызвана такими важными причинами, как распад Советского Союза и объединение Европы, а также проявившиеся на этом фоне имперские амбиции США. При этом современный отечественный дискурс характеризуется активным заимствованием как стаДоклад подготовлен при поддержке РГНФ МинОКН Монголии. грант 07-03-92-203 а/G 120 рых, ставших классическими концептов, наподобие киплинговской метафоры «бремени белого человека» (Воробьев, 2005), так и новых концептов. Причина таких заимствований кроется в отсутствии адекватного языка описания империи, что и заставляет прибегать к западным концептам. Исследователи, описывая Россию, часто используют аналогию с Британской империей. Однако при этом они забывают или не видят типологическое различие между морской Британской империей, с ее заокеанскими колониями и континентальной Российской империей, прираставшей своими инородческими окраинами. Отсутствие адекватного объекту языка описания чревато созданием концептов, трансформирующих его, а это ведет к различным практически-политическим следствиям. Размышляя о роли языка в современных имперских дебатах, известный исследователь империй М. Бейссингер пишет, что язык саморепрезентации империй прошлого оказывает самое непосредственное влияние на то, как выстраивают свой образ и свою политику государства позднейшего периода (Beissinger, 2005). Обращение к концепту империи обусловлено необходимостью осмысления феномена этнофедерализма, потребностью изучения новых национальных и этнических идентичностей, появившихся после распада Советского Союза. Адекватное исследование этнического федерализма как условия сохранения и адаптации наций и этнических меньшинств должно осуществляться в рамках имперского дискурса. Речь идет не просто об анализе опыта взаимодействия и взаимовлияния различных наций и этнических групп, что само по себе, безусловно, может дать много любопытного материала. В данном случае осмысление опыта империи есть не что иное, как осмысление процессов создания социалистических наций и того многонационального государственного образования, которое обозначается понятием этнофедерализм. На основании сказанного можно заключить, что важность современных «имперских» исследований заключается в том, что проблемы, обсуждаемые и анализируемые здесь, помогают по-новому поставить и решить вопросы, связанные с формированием этнофедерализма. Если вспомнить советский период социальных и политических исследований, то имперская тематика разрабатывалась ученымимарксистами применительно к теме деколонизации, пик которой пал на 60-е годы прошлого века. Они исследовали такие вопросы, как «колониальная зависимость», «неоимпериализм», постимперское наследие исчезнувшего к тому времени европейского империализма. Ключевым в данном случае являлся концепт империи как политического образования, претендующего на геополитический контроль или реализующего его. Методологическую основу такого концепта составляли идеи и тео121 ретические положения, разработанные В. И. Лениным в работе «Империализм, как высшая стадия развития капитализма» (Ленин, 1962). Согласно данной парадигме, империя трактуется как синоним империализма, т. е. описывается как экспансия и предполагает контроль над колониями. Термин «империя», используясь в течение длительного времени в контексте колонизации, приобрел, конечно же, отрицательные коннотации. И в отечественном, и в западном дискурсе термин «империя» традиционно употреблялся в отрицательном значении. Один из известных исследователей империи А. Скед отмечает, что и сегодня термин «империя», так же как термин «фашизм», используется как бранное слово в политических дебатах (Sked, 2005, 67). Термин «империя» сегодня, безусловно, изменил свое значение. Такая изменчивость используется исследователями как аргумент в пользу необходимости использования постконструктивистской парадигмы в имперских исследованиях. Так, М. Бейссингер предлагает использовать те методологические средства, которые разработал известный исследователь в области этнических и национальных исследований Р. Брубейкер. Привлекательность позиции Брубейкера заключается в том, что он, преодолевая ограниченность как субстанциализма, так и конструктивизма, предлагает исследовать этническую группу как «институционализированную форму, практическую категорию и случайное событие» (Brubaker, 1996, 15–22). Возможность применения такой методологии к исследованию империи допускается потому, что проблема империи тесно связана с проблемой этничности, нации и национализма. Использование в имперских исследованиях методологии, развиваемой Брубейкером, позволяет рассмотреть данные проблемы во взаимосвязи и единстве. Этнизация социальных процессов, социальных конфликтов привела, соотвественно, к этнизации современных социальных и гуманитарных исследований. В современных российских этнических исследованиях нации и этнические группы часто представляются жертвами советской национальной политики, жертвами политики репрессий. Однако при этом не учитывается, что этнические группы царской России трансформировались в нации благодаря форматирующему влиянию советского государства. Применение методов пересмотренного Брубейкером конструктивизма, позволяет описать современную империю как концептуальную переменную, которая, подобно таким понятиям, как нация или класс, возникает в политических и социальных исследованиях. В этом случае само присутствие или, наоборот, видимое отсутствие в политическом дискурсе концепта империи должно быть объяснено. Исследователи должны исследовать, кто, зачем и почему вводит в дискурс концепт им122 перии или, наоборот, исключает высказывания об империи из дискурса (Бейссингер, 2005). В этом случае мы можем исследовать, как происходила трансформация понятия империи в теоретическом дискурсе и объяснить различие существовавших концептов империи. Британский исследователь Э.Томпсон показывает, как происходило изменение толкования понятия «империя» в теоретическом и публичном дискурсе Британии под влиянием политических и военных событий, борьбы политических партий. В британском имперском дискурсе борьба за власть разворачивалась между консервативным, либеральным и социальным империализмом. Каждый из них стремился завладеть языком империализма (Томпсон, 2005, 35). Томпсон показывает, что политическая реальность оказывается обусловленной конкурирующими дискурсами, в которых происходит постепенная смена объекта описания – империи, изменение доминирующей политической проекции, что в конечном итоге приводит к реальному изменению характера той или иной империи. Итак, в современных социальных и политических исследованиях империя используется не в значении «трансисторической» формы государственного устройства, а в значении дискурсивной единицы, существующей в политическом и теоретическом дискурсе. При исследовании империи нужно учитывать то обстоятельство, что трансформация классического концепта империи произошла благодаря так называемому парадоксу деколонизации. Суть данного парадокса заключается в том, что освободившиеся от колониальной зависимости народы и государства начинают искать способы легитимации своего свободного существования в современной европейской цивилизации колонизаторов (Sked, 2005, 67). Ставшие независимыми бывшие колонии столкнулись с проблемой определения своего статуса и выстраивания отношений с бывшей метрополией в политическом пространстве. Они оказались вынужденными признать себя частью бывшей метрополии. Другая методологическая проблема, связанная с имперскими исследованиями, состоит, по мнению исследователей центра по изучению национализма и империи, в использовании прежних концептов к исследованию современности. Они полагают, что концепт империи должен перейти из категории исторического термина, эмпирически фиксирующего ускользнувшую от внимания модерного знания реальность прошлого (многонациональные династические империи), в статус современной аналитической модели, позволяющей осмыслить исторический опыт в эпоху кризиса категорий анализа и категорий политики, сформулированных в эпоху модерна (Ab Imperio, 2005, 11–22). 123 Такой подход к концепту империи позволяет реализовать проект «археологии» знания об империи, в рамках которого можно исследовать процессы, происходящие в постсоветском пространстве. Археология знания об империи позволяет восстановить тот контекст, в котором осуществляется процесс реконструирования национального прошлого современными историками, национальными и политическими лидерами. При этом мы должны учесть два момента: во-первых, концепт империи, существовавший в дискурсе советской эпохи, отличается от современного и никогда не применялся к характеристике СССР. В советском дискурсе существовал запрет на использование понятия «империя» при исследовании вопросов многонационального советского государства (Сергеев, 2004, 5). Во-вторых, исследователь должен учитывать, что наследие советской эпохи еще долго будет имплицитно присутствовать в современных межэтнических и этнических дискурсах. Необходимость исследования современного этнофедерализма побуждает нас обратиться к истокам отечественного имперского дискурса, к анализу существовавших концептов империи и их смыслов. Истоки российского имперского дискурса, с нашей точки зрения, лежат в концепции «Москва – Третий Рим», созданной Филофеем в XVI столетии. Аргументом в пользу этого может служить тесная взаимосвязь концепта религии и концепта империи в средневековом христианском дискурсе, о чем свидетельствуют работы многих теоретиков империологии. Так, по мнению Э. Пагдена, Римская империя была дискурсивным порождением христианства. С другой стороны, христианская церковь как институт являлась имперским феноменом на Западе (Pagden, 2005, 122–123). В истории христианства, равно как в истории других конфессиий, важен момент копирования, поэтому становится понятным копирование Филофеем архетипического образа Римской империи как великой цивилизирующей силы. Данный образ был переосмыслен им в контексте конкуренции православного и католического дискурса в целях обоснования позиции русского православия. В результате в дискурсе появился концепт Москвы – Третьего Рима. Данный концепт снимал в себе не только архетипический образ Рима как христианской империи, но и концепт богоизбранности еврейского народа. Таким образом, в концепте Москвы – третьего Рима мы находим копирование по крайней мере двух концептов – Римской империи и богоизбранности еврейского народа. Конструирование концепта Москва – империя Филофей осуществлял, создавая свою политическую теорию, которая характеризовала основания политического устройства России. Обращаясь к анализу паде124 ния Византийской империи, он полагает, что его причиной является «уклонение от истинной веры». Неудавшаяся попытка объединения в унию византийского православия и католической церкви, осуществлявшаяся византийцами после падения Константинополя и захвата его турками, была интерпретирована русской православной церковью как измена православию. Мессианский проект Филофея был реакцией на унию. Согласно его теории, Русское государство является хранителем, выразителем и носителем истинного православия, всемирным политическим и церковным центром, а русские государи – прямыми наследниками римских императоров. Данный концепт, появившийся в первой половине XVI столетия в период роста национального самосознания русских после падения монгольского ига, сыграл важную роль в оформлении официальной идеологии Русского централизованного государства. Обосновывая идею славянского единства и выполняя тем самым имперскую задачу быть центром объединения, данная концепция вместе с тем развивала идею о богоизбранности русского народа и его национальной исключительности. Как отмечает известный исследователь российской истории Дж. Хоскинг, в концепции Филофея тесно переплелись национализм и интернационализм (Хоскинг, 2001, 500). При кажущемся противоречии обе идеи вполне согласуются в имперском дискурсе, точно так же как в британском имперском дискурсе конца XIX и начала XX в. вполне согласовывались между собой концепт избранности британцев, выраженный Киплингом в метафоре «бремени белого человека», и идея общности империи. В дальнейшем, много позже в имперском дискурсе появляется другой концепт империи, как «собирания» народов и племен. Данный концепт выражал существо реальной политики государства в отношении инородцев. Дело в том, что концепт Москвы – Третьего Рима не мог использоваться в реальной политике государства в отношении к нерусским народам. Так, в отношении к населению покоренного Сибирского ханства воеводам в XVII в. предписывалось иноземцев не ожесточать, например, принудительно не крестить. Власть еще была недостаточно сильна на местах, чтобы осуществлять политику принудительной христианизации. Только в XVIII в. Петр Первый меняет политику христианизации, проводя принудительную христианизацию сибирских народов – хантов, манси, например. В то же время в отношении народов юга и юго-востока европейской части, например, калмыков правительство проводит по-прежнему осторожную и гибкую политику, склоняя народы в православие путем предоставления им за это льгот и наград (Орло125 ва, 2006, 34–36). Иначе говоря, филофеевский концепт использовался только для выражения идентичности русских. Концепт же «собирания народов» объяснял истоки и основания существования Российской империи и сыграл свою роль в формировании общей политической идентичности у народов полиэтнической России. Вопрос об идентичности России волновал русских философов издавна, и был артикулирован в публичном дискурсе славянофилов и западников еще в XIX в. История знаменитого спора и анализ современных концептов развития России в книге «Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и нового Средневековья» (Блехер, Любарский, 2003). Отождествление России с Европой или, напротив, противопоставление с нею осуществлялись на разных основаниях и в разных аспектах, будь то политический или культурный. Для славянофилов и западников таким основанием были петровские реформы, трансформировавшие традиционный культурный уклад России. Подробный анализ имперских идей русских писателей и философов XIX и XX вв. дает D/ R/ Кантор в своей последней книге. Главная идея, которую автор обосновывает, обращаясь к трудам русских классиков литературы и философии, заключается в следующем: «Империя — это политико-общественное структурное образование, предназначенное историей для введения в подзаконное и цивилизационное пространство разноплеменных и разноконфессиональных народов» (Кантор, 2008). Нам бы хотелось сосредоточиться лишь на некоторых характерных имперских концептах, появившихся в начале XX в. в России. Империя понималась как политическое образование, в котором многонациональное единство обеспечивается государством. Имперский дискурс развивал идеи и концепты национализма, в соответствии с которыми империя как объект высказывания конструировалась как империя–государство. Русские националисты всех направлений так или иначе были империалистами, ибо выступали за существование империи–государства. Но приоритет в разработке темы все же, как отмечает С. М. Сергеев, принадлежал национал-либералам, к числу которых принадлежал П. Б. Струве (Сергеев, 2004, 16). Струве принадлежит концепт империи–государства, опирающегося на нацию. При этом русский народ определялся им как ядро, сплачивающее другие народы многонациональной империи (Струве, 2004, 223–226). Другой либерал, публицист, брат знаменитого реформатора Петра Столыпина, А. А. Столыпин, называет империей «водительство многих народов к высшим целям, сознанным господствующим народом, под руководством этого господствующего народа» (Меньшиков, 2004, 126 61). Империя, согласно Струве, выражает идею гегемонии русского народа в российской государственности. Противоположную позицию в российском имперском дискурсе занимали социал-дарвинисты и сменовеховцы. М. О. Меньшиков, представлявший социал-дарвинизм, разрабатывает концепт империи, основываясь на представлении об обществе как биологическом организме. Высказывания Н. В. Устрялова, выражавшего идеи русского империализма и являвшегося главным идеологом сменовеховцев, создают образ империи как государства–земли (Устрялов, 2004, 253). Произошедшее уже после Октябрьской революции усиление СССР, усиление авторитета советского государства на мировой арене было использовано Устряловым для обоснования исторической миссии русского народа. Хотя большевики вряд ли бы согласились с интерпретацией Советского Союза как империи, миссию которой должен выполнить русский народ. Неожиданным и даже вызывающим было появление в поле имперского дискурса евразийской концепции российской государственности, евразийского варианта объяснения генеалогии российской империи и перспектив будущего развития России. Здесь актуализировался вопрос о влиянии империи Чингис-хана и в целом тюрко-монгольской культуры на развитие России, а вместе с ним вопрос об идентичности России в ее отношениях с Западом и Востоком. Евразийский концепт «Исход к Востоку» формировал интенцию прочь от Запада, которая отличалась от традиционного славянофильского отрицания Запада (Савицкий, 2004). Евразийцы изменили ракурс, согласно которому происходила интерпретация российской истории. Они конструировали ее с позиций Востока, а не Запада, с позиций наследия монгольской империи, а не с позиций наследников варягов и рюриковичей. Евразийство, по словам идеолога движения Н. С. Трубецкого выражало «взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока». Дело не только и не столько в географической локализации России, сколько в ее позиции в культурном пространстве, образованном славянским и туранским элементами. Концепт государства–империи получил развитие в евразийском дискурсе благодаря введению в поле дискурса конструктов Востока и монгольской империи. П. Н. Савицкий формулирует наиболее важные категории, описывающие данный объект и в полном согласии с законами русского имперского дискурса связывает империю с нацией (Там же, 261–263). Формулируемые им концепты империи как «осуществленного многонационального единства» (Там же, 263), империализма как политики нации, «расширяющей или расширившей свое национальное хозяйство, национальную культуру или границы своего национального государства за пределы своей национальности, своей национальной 127 территории» (Там же, 262), вполне типичны для высказываний рассматриваемого нами дискурсивного поля. Высказывая идею о триединстве истоков российской государственности – древней Руси, Византии, Великой Степи, евразийцы ввели в имперский дискурс концепт Великой Степи. Концепт империи как объединяющей силы, как централизованного государства евразийцы обосновывали, ссылаясь на опыт монгольской империи. Согласно данному концепту, русские, освободившись от татаро-монгольского ига, по существу, переняли принципы государственного имперского устройства (Савицкий, 1938). Так, благодаря евразийцам произошла легитимация монгольского наследия и вместе с этим введение в имперский дискурс нового объекта имперских высказываний – монгольский элемент русской культуры. Концепт империи–государства формировал определенное отношение к инородческим окраинам. В либеральном типе дискурса отношение к окраинам империи выражалось в идее собирания, а не дробления государства, а это имплицитно предполагало включение инородческих окраин в состав государства. Согласно такому представлению, основой процветания империи являются гармоничные отношения ядра империи – русского народа с окраинами (Струве, 2004). Напротив, социалдарвинистское крыло российского имперского дискурса предлагало освободиться от инородческих окраин, в особенности от тех, которые не подверглись русификации (Меньшиков, 2004). Отказ от окраины обосновывался социал-дарвинистами тем, что инородцы, проживающие на окраинах империи, трудно поддаются ассимиляции. По существу, позиция Меньшикова означала отказ от самой идеи империи и тем самым способствовала трансформации самого объекта имперских высказываний. Господствующим в российском имперском дискурсе был, как уже говорилось, концепт русского национального государства, успешно ассимилировавшего инородческие окраины Российской империи. Показательно, что сами творцы имперского дискурса понимали зависимость объекта высказываний от типа высказываний. Так, идеологи либерального дискурса видят причину трансформации империи как объекта высказываний в особенностях русского национализма социалдарвинистского толка. Струве характеризовал данный тип национализма как принудительный и в силу этого противоречивый в себе. Принудительный национализм, по его словам, выращивает силы сопротивления самому себе и как следствие начинает сомневаться в собственных возможностях и силе. Струве называет этот тип национализмом отчаяния и относит к числу его адептов Меньшикова: «Этот национализм, – писал он, – хочет непроходимой стеной отделиться от всего нерусского 128 и проводит взгляд на нерусские элементы как на нечто чужеродное, от чего необходимо отмежеваться, с чем страшно соприкасаться» (Струве, 2004, 225). Таким образом, в имперском дискурсе начала прошлого века в России доминировали высказывания, относящиеся к империи–государству, развивавшие идеи русского национализма в различных его вариантах. В зависимости от отношения к инородческим окраинам менялся сам объект высказывания – империя. Теперь нам предстоит обратиться к рассмотрению того, как создавалась империя, как дискурс влиял на практическую политику и, наоборот, как практическая политика влияла на генерирование дискурсивных единиц. Благодаря чему государство становится империей? Благодаря его выдвинутости за свои собственные пределы. Посмотрите, как определяется фронтир историками – это создание цепи или отдельных относительно быстро сооружаемых и легковооруженных военных пунктов (остроги, слободы, форпосты, пасы, погосты, укрепленные деревни и заимки), которые всегда выдвинуты в пограничные земли и отдалены от основных административно-хозяйственных центров (городов) относительно большим расстоянием (Резун, 2000). Границы фронтира не совпадают с официальными границами государства. Так, например, в Сибири, в конце 1580-х годов фронтир начинался сразу же за городской чертой первых русских городов – Тюмени и Тары. С каждым последующим десятилетием его рубежи стремительно сдвигались на восток и в глубь Азии (Там же). Государство становилось империей благодаря своей выдвинутости в ту область, где оно (государство) еще не существовало. Не следует думать, что это ничто есть географическое пространство или поле брани, на котором сражаются русские и, например, сибирские инородцы. Фронтир – феномен не только территориальный или военногеографический, культурный, но феномен, указывающий на акт трансцендирования – выхода государства за свои собственные пределы в пространстве символическом. Именно в этом символическом пространстве империя и могла стать Империей. Если территориальный, географический фронтир держался воинами-казаками, казаками, как правило, то символический фронтир держался теми, кто создавал идеологию Империи – а это государевы люди, историки, православные миссионеры и другие участники дискурса. Во всех этих фронтирах происходило взаимодействие и борьба русского государства и народов, вовлекаемых в Империю. Вхождение того или иного народа в Империю было результатом, прежде всего, консен129 суса, который достигало русское правительство и этническая элита. При этом каждая из сторон реализовывала свой политический проект. Империя начинается с формирования структуры государства, в котором есть колонизаторский центр и колонизуемая периферия. Предпосылками этого стали азиатские завоевания Московского государства – присоединение Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, что положило начало Азиатской России (Миненко, 2000). Неоднозначность оценок способов создания Азиатской России в российской историографии, их изменчивость в разные исторические периоды, объясняется борьбой между силами, генерирующими дискурсивные высказывания: то это завоевание, то колонизация и освоение, то добровольное присоединение. Сибирский историк Резун утверждает, что первым, кто сформулировал тезис о завоевании Сибири, был знаменитый путешественник и ученый XVIII в. Г. Ф. Миллер. Позднее, в XIX в., историки В. О. Ключевский, П. Н. Буцинский и П. М. Головачев выдвинули теорию колонизации, соединявшую в себе и моменты завоевания, и моменты освоения. Эта теория была отвергнута советской наукой 20–30-х годов, вернувшейся к завоевательной оценке (Резун, 2000). Советским ученым необходимо было дискредитировать национальную политику Российской империи. Еще позднее, в эпоху «развитого социализма» ученые создали концепт добровольного присоединения народов к России. Резун высказывает здесь важную идею о том, что, говоря об «имперской политике», нельзя ограничиваться только амбициями России, но нужно иметь в виду амбиции тех народов, которые входили в состав России. Он задается вполне правомерным вопросом, разве калмыки, киргизы, джунгары не хотели создать Великие государства «от моря до моря»? (Резун, 2000). К слову сказать, согласно одной старой версии, объясняющей движение западных монголов (они же ойраты, они же калмыки) на запад, в сторону Волги, было их желание восстановить былое величие Империи Чингисхана (Бичурин, 1991). Реалии же прошлого таковы, что в XVII в., когда русское государство устремилось на Восток и в Среднюю Азию, навстречу им уже двигался другой поток – ойраты (калмыки). Нужно помнить, что к началу XVII в., когда ойраты стали двигаться на запад, в Центральной Азии уже существовали два ойратских государства – Хошеутовское и весьма воинственное Джунгарское ханство. У наследников империи Чингизхана были свои собственные проекты влияния в Центральной Азии. Все существовавшие в истории империи величественны, кровавы и трагичны одновременно. Однако способы их создания, технологии колонизации отличаются друг от друга. Российская колонизация принад130 лежит к типу мягкой колонизации. Причина крылась в нехватке военных ресурсов, с одной стороны, с другой – свою роль здесь сыграло то обстоятельство, что Россия лишь столетие с небольшим, как освободилась от монголо-татарской вассальной зависимости. Русь, которая в недалеком прошлом сама пребывала в качестве периферии Монгольской империи, становилась центром для территорий, когда-то принадлежавших империи Чингиз-хана. Ойраты (калмыки), будучи западномонгольским этносом, разумеется, были прекрасно осведомлены о былом величии монголов и их бывших вассальных территориях. С другой стороны, и русские также помнили о своих связях с завоевателями. И не только помнили, но и использовали их. Нелишне вспомнить, что московские правители часто указывали на преемственность своей власти по отношению к Золотой Орде. Иван Грозный, например, был Чингизидом по своей матери Глинской (Ланда, 1995, 71). Иначе говоря, легитимность царской власти обеспечивалась принадлежностью к монгольской династии, завоевавшей когда-то русское государство. Надо заметить, что русское государство уже имело опыт создания вассального государственного образования, каким было Касимовское ханство, существовавшее с 1452 по 1681 гг. на территории нынешней Рязанской области. Помимо того, что ханство играло определенную Москвой роль в политических играх с Казанским ханством, оно выполняло важную символическую функцию. В дальнейшем такую же роль исполняли потомки хана Кучума, разбитого русскими. Исследуя титулатуру Московских государей, введение в нее наряду с Казанской землей Сибирской земли при Иване Грозном, Пчелов показывает символическое значение этого наименования. Присутствие касимовских, а впоследствии и сибирских царевичей при дворе придавало особое значение власти московских государей. Они репрезентировала себя как носителей власти очень высокого ранга – власти царя над царями. Тем самым происходила демонстрация «величия Московского царства, покорившего другие царства и через это в какой-то мере получившего свою легитимацию» (Пчелов, 2007, 61–62). Особая значимость при дворе придавалась тому, что сибирские царевичи принадлежали к Шейбанидам, одной из ветвей Чингизовых колен. Русская знать охотно вступала в брачные отношения с потомками крещеных царевичей. В XVIII в. восточная политика русского государства изменилась, его интересы были направлены уже на другие этнические группы – калмыков, башкир и народы вновь присоединяемых территорий – Средней Азии и Кавказа (Там же, 70). Калмыки попали в поле зрения русского государства в начале XVII в., когда колониальное движение русских столкнулось в полосе 131 фронтира с интересами влиятельного тогда Джунгарского ханства. Джунгары, собственно те же ойраты, установили свое влияние на территории Сибири вплоть до Тары, Тобольска и Томска – старинных русских крепостей. Как можно судить на основании копийных книг, сделанных Миллером во время второй Камчатской экспедиции (1733– 1743), калмыки (калмацких люди) выступают частыми фигурантами в делах сибирских архивов того времени. Миллер делал копии наиболее важных архивных документов и руководствовался теми интересами, которые были актуальны для государства. На этом основании можно заключить, что русско-калмыцкие отношения были важны для Российского государства. Архивные дела подразделяются на три типа: первый тип дел – описывающие набеги и разорения, чинимые калмыками, второй – посольства калмыков, третий – отношения с калмыцкими тайшами (Актовые источники, 1993). Калмацкие тайши, как они идентифицируются в описях Миллера, устанавливали свое влияние на территории Сибири, требуя ясак с коренных народов. В отличие от покоренных русскими Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, Калмыцкое ханство было создано благодаря усилиям, прежде всего, самих калмыков. Первый калмыцкий хан Аюка получил свой титул от далай ламы. И в дальнейшем это правило строго соблюдалось всеми ханами. Калмыцкое ханство отличалось также от Касимовского, в котором татары составляли незначительную часть населения. Кроме того, будучи вассалами, калмыцкие ханы тем не менее получали значительную финансовую поддержку со стороны московского правительства. Самое главное, они были довольно независимы в своих внутри- и внешнеполитических действиях. Уникальность калмыцкого опыта строительства государственности заключается в том, что кочевники – наследники Монгольской империи – вновь вернулись на бывшую свою вассальную территорию – Россию и получили здесь свою государственность. Калмыцкое ханство получило статус автономии при хане Аюке во время правления Петра Первого. Условием, при котором она создавалась, было исполнение ими пограничных функций. Калмыки защищали границы нарождающейся империи от других кочевников – киргиз-кайсаков, ногайцев, каракалпаков, а также от вторжений других государств. Аюка-хан добивался признания законности и правомочности Калмыцкого ханства в составе России. Даже после смерти Аюки-хана, наступившей в 1724 г., калмыки воспринимали царскую власть через призму своей собственной политической системы. Русский император в их глазах был только военным лидером и защитником, но не имел права вмешиваться в их административные и экономические дела. Калмыки 132 полагали, что им будет позволено быть независимыми, хотя рассчитывали вместе с тем на финансовую и военную поддержку Москвы (Khodarkovsky, 1992, 239). Строительство империи было опытом ассимиляции культур множества этносов. Россия заплатила за свои имперские амбиции тем имиджем, который активно формировался в западном дискурсе о России в тот период. Европа, конструируя свою коллективную идентичность, использовала Россию как «Другого» – варвара с Востока, дикого и необузданного. «В любом случае именование русских ―скифами‖, ―татарами‖, ―калмыками‖ и т. п. выступает как элемент европейских представлений об ―азиатской‖ или ―варварской‖ России в этот ранний период», – пишет Нойманн (Нойманн, 2004, 103). В западном дискурсе начала XIX в. в репрезентации образа России активно использовался образ калмыка. Так, в 1832 в манчестерской газете «Гардиан» журналист, отмечая важность выхода к морю России, пишет, что если заблокировать выход России к морю, то император станет тогда «калмыком, окруженным несколькими варварсками племенами, дикарем, у которого нет власти на море» (Нойманн, 2004, 130). Почему именно калмык? Присутствие в публичном дискурсе фигуры варвара-калмыка говорит само за себя, ибо военно-политическая активность калмыков в тот период была очень высока. Итак, в начале XVII в. калмыки пришли на Волгу, и с этого момента разворачивается 400-летняя история совместной жизни калмыков и русских, формируется диалог двух народов в географическом, политическом, культурном пространстве, которое стало обозначаться как Российская империя. Калмыки, по-видимому, были единственным народом, который пришел в Европу и получил свою государственность. Признание калмыцкой автономии, а иначе как автономией Калмыцкое ханство нельзя было назвать, было частью стратегии и тактики создания Империи. Свою роль в определении способа вступления калмыков в имперское пространство сыграл культурный фактор. Участие в политическом дискурсе, во всех его составляющих тем плодотворнее для участника, тем большим средствами выражения он располагает. Немаловажно при этом наличие у того, кто претендует на значимость его высказываний в дискурсе, собственной письменности, позволяющей ему выразить себя в достаточной степени адекватно. Калмыки, в отличие от большинства других малых и немалых народов, с разной степенью добровольности вращавшихся в орбите будущей Империи, имели свою письменность – тодо бичиг. Тодо бичиг – старокалмыцкое письмо – было создано кал133 мыцким просветителем Зая Пандитой в XVII веке на основе уйгурской письменности. Перипетии русско-калмыцких отношений как в зеркале отражаются в переписке русской администрации и калмыцких ханов. В письмах ханы формулируют свои интересы, намерения, свое отношение к событиям, оценку людей и дел. Письма показывают стремление ханов защитить от посягательств русской администрации как статус ханства, так и собственный статус хана. Ревниво они берегут свое достоинство, следя за тем, чтобы местные чиновники обращались к ним соответственно их статусу. Сохранилось, переведено и издано рукописное наследие Аюкихана, включающее в себя помимо прочего его письма к Петру Первому, губернаторам и другим высшим правительственным чиновникам (Сусеева, 2003, 185–194). Далее, свою роль в создании Калмыцкого ханства, несомненно, сыграл религиозный фактор. Калмыки, в отличие от всех народов, кочевавших и населявших территорию от Самары до предгорий Кавказа, были народом, исповедовавшим буддизм. Данный факт был, несомненно, очень важен с политической точки зрения, так как сильно отличал калмыков от других народов, большая часть которых была мусульманами. В этом отношении калмыки были удобными союзниками Москвы на этом важном направлении геополитических интересов нарождающейся Российской империи. Буддизм оформил культуру калмыков, оказал огромное влияние на политическую структуру общества, сыграл важную роль в формировании психологии калмыков. Однако именно это и предопределило возникновение коренного противоречия калмыцкой культуры. Буддизм, являющийся одной из самых миролюбивых религий, за всю свою историю ни разу не послужил причиной ни одной религиозной войны. Калмыки, принявшие буддизм, были при этом весьма воинственным народом, участвовавшим во множестве войн, начиная с завоеваний Чингисхана. Можно сказать, война, а затем оборона границ были профессией калмыков. Вместе с тем, как уже говорилось, Российская корона стремилась увенчать собою народы не языческие, а христианские. Христианизация иноверцев была частью имперской политики в отношении иноверцев. Показателен в этом случае опыт крещеных калмыков в Самарском крае. Принимая православие, калмыки, точнее говоря, калмыцкая элита, так же как и русская, преследовали чисто политические цели – калмыцкая знать использовала этот ресурс для личного возвышения. Что касается простолюдинов, то их переход в православие происходил двояко – 134 либо вместе с нойоном становились православными его зависимые люди, либо беглые калмыки спасались тем самым от нойонов. Обратившись в православие, калмыки получили право на поселение в Самарском крае. Крепость Ставрополь на Волге была заложена как поселение для крещеных калмыков в 1737 г. Современные российские историки настаивают на том, что основателем города является знаменитый русский государственный деятель и историк Татищев. В действительности же главная роль в основании крепости принадлежит внуку Аюки-хана Баксадаю Доржи, пожелавшему получить ханский титул. После смерти Аюки-хана между его сыновьями и внуками разыгралась жестокая борьба за обладание титулом. Желая получить дополнительный ресурс в борьбе за престолонаследие, Баксадай Доржи решает принять православие. 15 ноября 1724 г. при большом стечении духовных иерархов и знати состоялась церемония его крещения. Важность самого акта крещения показывает тот факт, что восприемником новообращенного Петра Тайшина стал сам император Петр Первый. Жена калмыцкого крещеного князя приняла христианство спустя десять лет, и ее восприемницей стала императрица Анна Иоанновна (Смирнов, 1997, 78– 80). Однако опыт христианизации в данном случае был неудачным, так как калмыки были двоеверцами, тайно практикующими буддизм. Через 170 лет они обратились к властям с просьбой вернуть их в веру отцов и дедов. В начале XVIII в. завершалась колонизация Поволжья, и Волга была символической границей доимперского русского государства. В тот период земли за Волгой, включая Сибирь, были территорией, на которой проживали коренные народы и куда приходили кочевники Центральной Азии. Фронтир и географически, и культурно, собственно говоря, и был началом империи. Здесь, в этой пограничной зоне между московскими землями и Заволжьем рождалась империя. Установление фронтира происходило путем строительства русских крепостей, гарнизоны которых олицетворяли власть России. Для крещеных калмыков была заложена крепость Ставрополь-на-Волге. Государство приобретало в лице калмыков воинов, несущих пограничную службу и участвующих в составе русской армии в военных походах России. Кроме того, через посредство калмыков Россия осуществляла отношения с Центральной Азией и Китаем. Калмыцкое ханство посылало посольства в Тибет, которые должны были проходить через Пекин. Калмыки поддерживали тесные связи с Джунгарским ханством, которое играло важную политическую роль в центрально-азиатском регионе. Благодаря калмыкам Центральная Азия, ее политика, ее интересы во135 шли в пространство не только азиатской России, но и европейской России. Таким образом, феномен этнофедерализма может быть рассмотрен как институциализированная форма – российская государственность, как практическая категория, определяющая восприятие нерусскими самих себя и своих отношений с российским государством и как случайное событие – способы покорения окраинных народов, например поход Ермака. В этом контексте становится более понятным феномен добровольного присоединения народов к России. В советском политическом дискурсе данное понятие обозначало различные способы, средства, техники, используемые царской Россией для установления власти над окраинными народами. Оценочный момент, а именно добровольность, появился в данном концепте в результате стараний советских идеологов обосновать другой значимый для советской идеологии и политики концепт советского народа. Советские теоретики осуществили переинтерпретацию имперской политики, в которой участвовали русское государство и колонизуемые народы. Негативно оценивая имперскую политику России, они одновременно оправдывали ее результат – собственно тело империи, состоящее из множества народов, живших на одной шестой части мира. Литература Актовые источники по истории России и Сибири XVI–XVIII вв. в фондах Г. Ф. Миллера. Описи копийных книг. В. 2-х т. Т. 1 . Новосибирск, 1993. Бакунин В. М. Описание калмыцких народов, а особливо из них торгоутского, и поступки их ханов и владельцев. Элиста, 1995. Бейссингер М. Переосмысление империи после распада Советского Союза [Электронный ресурс] // Ab Imperio. 2005. N 3. – http://www.abimperio.ru. Бичурин Н. Я. (Иакинф) Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до настоящего времени. 2-е изд., Элиста, 1991. Блехер Л. Т., Любарский Г. Ю. Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и нового Средневековья. М., 2003. Воробьев В. А. Новая «колониальная» литература России [Электронный ресурс]: кафедра ИСПУ философ. ф-та МГУ, 2005 – http:// www.ispu.philos.msu.ru Кантор В. К. Санкт-Петербург. Российская империя против российского хаоса. К проблеме имперского сознания в России. М., 2008. 136 Космарская Н. П. «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии: адаптивные практики и ментальные сдвиги (русские в Киргизии, 1992–2002). М., 2006. Ланда Р. Г. Ислам в истории России. М., 1995. Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия развития капитаилизма // Полн. собр. соч. Т. 27. М., 1962. Мацузато К. Российская «империология» и региональные исследования (впечатления от Берлинского конгресса ICCEES) // Ab imperio. 2005. N 3. Меньшиков М. О. Нация и империя в русской мысли начала века. М., 2004. Миненко Н. Хождение за «Камень» // Родина. 2000. № 5. – http:// www.istrodina.com/find.php Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004. Орлова К. В. Христианизация калмыков. Середина XVII – начало XX в. М., 2006. Панарин С. А. Этническая миграция в постсоветском протсранстве // В движении добровольном и вынужденном. Постсоветские миграции в Евразии. М., 1999. Пчелов Е. В. Образы России в символике власти дореволюционной России // Сибирские чтения в РГГУ: Альманах Общеуниверситетского учебно-научного центра изучения культуры народов Сибири. Вып. 2. М., 2007. Резун Д. Быть тут острогу и слободе // Родина. 2000. № 5. – http:// www.istrodina.com/find.php Савицкий П. Н. Борьба за империю // Нация и империя в русской мысли начала века. М., 2004. Савицкий П. Н. Русские среди народов Евразии. 1938–1939 – http:// gumilevica.kulichki.net/SPN/spn11.htm Сергеев С. М. Русский национализм и империализм начала XX века // Нация и империя в русской мысли начала века. М., 2004. Смирнов Ю. Н. Оренбургская экспедиция (комиссия) и присоединение Заволжья к России в 30–40-е гг. XVIII века. Самара, 1997. Струве П. Б. Нация и империя в русской мысли начала века. М., 2004. Сусеева Д. А. Письма хана Аюки и его современников (1714–1724 гг.): опыт лингвосоциологического исследования. Элиста, 2003. Томпсон Э. С. Язык империализма и различный смысл понятия «Империя»: имперский дискурс в политической жизни Великобритании 1895–1914 гг. // Ab Imperio. 2005. N 2. 137 Устрялов Н. В. К вопросу о русском империализме // Нация и империя в русской мысли начала века. М., 2004. Хоскинг Д. Россия: народ и империя (1552–1917). М., 2001. Языки самоописания империи и нации как исследовательская проблема и политическая дилемма // Ab Imperio. 2005. N 5. Beissinger Mark R. Rethinking Empire in the Wake of Soviet Collapse // Zoltan Barany and Robert G. Moser (Eds.). Ethnic Politics and PostCommunism: Theories and Practice. Ithaca; N.Y.: Cornell University Press, 2005. Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge, UK, 1996. Khodarkovsky M. Where Two Worlds Met. The Russian State and the Kalmyk Nomads, 1600-1771. Ithaca; London: Cornell University Press, 1992. Martin T. An affirmative Action Empire: The Soviet Union as the Highest Form of Imperialism // State of Nations. Oxford University Press, 2001. Pagden A. There is a real Problem with semantic Field of Empire // Ab Imperio. 2005. N 1. Sked A. Empire: a few Thoughts // Ab Imperio. 2005. N 1. 138 Я. А. Пляйс (Москва) ПРИРОДА, ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА I Из всех существующих форм государственного устройства федеративная наиболее сложная. Это объясняется тем, что именно в федерации приходится согласовывать и приводить к общему знаменателю разновекторные и нередко противоречивые интересы различных народов и их элит, конфессий, социальных и культурных традиций, территорий, обладающих своеобразными природными, климатическими и иными особенностями. Особенно трудно приводить все к общему знаменателю в национально-территориальной федерации, к числу которых, как известно, относится и Российская Федерация. Интересы народов в такой федерации (особенно если они стоят на различных ступенях социальноэкономического развития и относятся к различным конфессиям) согласовывать весьма сложно, а подчинить единой воле центральной власти еще сложнее. Поэтому в таких федерациях всегда сильны центробежные тенденции, нередко приводящие к глубоким кризисам и даже распаду. Как только ухудшается социально-экономическая ситуация или центральные власти допускают ошибки в национальной или социальной политике, центробежные тенденции незамедлительно крепнут и начинают проявляться в самых различных формах. Образно говоря, национально-территориальная федерация представляет собой хрупкий стеклянный дом, жить в котором надо очень осмотрительно и аккуратно, чтобы не разбить его или не повредить какую-то его часть. Центробежные тенденции различных масштабов и остроты не один раз проявлялись в истории России. Очередной кризис государственного устройства мы начали переживать в конце 1980-х годов, т. е. еще в советское время, и он один из самых глубоких, сложных и тяжелых. Современная ситуация усугубляется, во-первых, тем, что исторического опыта подлинно федеративных отношений и тем более их регулирования в нашей стране никогда не было: ни до 1917 г., ни после. Советский опыт государственного строительства больше связан с унитаризмом, чем федерализмом, хотя СССР и считали федеративным образованием. Во-вторых, тем, что различные политические силы предла139 гают свои рецепты и стремятся реализовать свои программы реформ, свои идеи национально-государственного строительства. Это неизбежно должно было привести и привело не только к жесткой борьбе вокруг стратегии и тактики реформ, но и непоследовательности, зигзагам, отступлениям и т. п. Какие бы рецепты реформ не предлагались, сторонам, участвующим в спорах, неизбежно приходится отвечать на следующие принципиальные вопросы: – какой тип федерации более всего адекватен сегодняшней России: конституционный или конституционно-договорной, симметричный или асимметричный? – к какому типу государственного устройства движется Россия и к какому типу ее может привести та практическая политика, которую проводят в области государственного строительства нынешние федеральные власти: к федерации, конфедерации или распаду? В принципе суть проблемы нового российского федерализма и новых взаимоотношений между Центром и российскими регионами сводится к простым в теории и сложным на практике вопросам – распределению прав на разного рода ресурсы: природные, материальные, финансовые, людские, информационные и проч. Простого решения этой проблемы нигде и никогда не было и не будет, поскольку и один вариант ее решения, и другой, т. е. и строительство «снизу», и строительство «сверху», имеют и свои плюсы, и свои минусы. Но какой бы вариант решения проблемы в конце концов ни был выбран, без учета исторического опыта функционирования нашего государства обойтись нельзя. II С течением времени российская государственность приобрела ряд уникальных черт. К важнейшим из них исследователи относят обычно следующие: 1. Государство формировалось и зиждилось на сословной и феодальной основе. Капитализм с его атрибутами в экономической и социально-политической жизни так и не успел победить в России полностью и окончательно. 2. Политическая власть во все времена имела самодержавный, авторитарный характер. В течение тысячелетней истории России авторитарность несколько раз качественно менялась и усиливалась. Принятие христианства, создание единого централизованного государства, победа над монголо-татарским игом, превращение в империю, захват власти 140 большевиками и создание советского государства, отказ от социалистической модели развития и переход к либерально-демократической все это были такие вехи в российской истории, которые не прошли бесследно для государства и общества. Каждая из этих вех (за исключением последней) приводила к усилению государства, его возвышению над обществом. 3. Господство авторитарной власти сопровождалось слабостью представительной власти. Ни зачатки прямой демократии в виде вече, ни земские соборы, ни земства, возникшие в годы реформ Александра II, ни государственные думы начала ХХ в. не привели к утверждению устойчивых демократических начал в российской государственной и общественной жизни. В результате в начале 1990-х годов Россия обладала крайне скудным опытом демократии и плюралистичной политической культуры. 4. В отличие от многих государств Европы, формировавшихся как государства-нации, российское государство издавна, особенно начиная со второй половины XVI в., строилось как полиэтничное. Для сохранения межнационального мира центральным российским властям волейневолей приходилось прибегать не столько к применению силы, сколько к разделу властных полномочий с местными и этническими элитами тех народов, которые населяли державу. 5. Русская колонизация вновь присоединяемых территорий относится к особому типу. Она не сопровождалась, как это было в случае с другими мировыми империями, насилием над культурой и религией присоединенных народов. Но терпимость к культуре и религии других народов не распространялась на политическую сферу, где господствовала метрополия, опиравшаяся, правда как уже было сказано, на местные национальные и региональные элиты. Общим результатом 1000-летнего генезиса Российского государства было то, что к началу ХХ в. в нем образовалась сложная комбинация из губерний, военных и горных округов, казачьих войск, протекторатов и т.д. По существу сложилась достаточно гибкая, компромиссная государственная структура со значительными различиями в отношениях между центральной властью и различными по своему характеру регионами, прежде всего различными в этноконфессиональном отношении. Эта структура обладала не только сложной системой управления и взаимосвязей, но и целым рядом уникальных характерных черт, отличавших ее от тех, которые принято считать классическими. Во-первых, она представляла собой территориальный монолит с весьма прочными и достаточно устойчивыми связями между метрополией и окраинами. 141 Во-вторых, в отличие от других империй, в Российской никогда не велось ни межнациональных, ни религиозных войн. Более того, под крылом русской нации многие из народов, вошедшие в ее состав, постепенно дозревали до собственной государственности и превращались в нации со всеми присущими им атрибутами. В-третьих, подчиняя и присоединяя земли и народы или принимая их в состав государства по их доброй воле и на договорной основе, центральные российские власти не преследовали цель эксплуатации их природного и человеческого потенциала. Иными словами, политическое доминирование российской метрополии, которое было различным в различных частях империи, отличалось от экономического и идеологического. Особенно отличались отношения между столицей Петербургом и западными частями империи, в частности Финляндией и Польшей. В связи с идеологическим доминированием следует особо отметить то, что Центр терпеливо относился к идеологическим своеобразиям окраин, особенно в религиозной сфере. Доминирование одной конфессии – православной – над другими, в общем и целом, не тормозило развитие остальных религий. Еще одна уникальная особенность Российской империи состояла в том, что разноуровневый характер отношений между Центром и национальными субъектами издавна закреплялся в соглашениях и договорах между ними, а также в международных документах, и такой характер всегда был нормой. Эта черта стоит того, чтобы обратить на нее особое внимание. Как это ни удивительно, основные различия, сложившиеся в предыдущие исторические эпохи, сохранились в общем виде и в государственном устройстве СССР. И это при том, что Советский Союз представлял собой, как уже отмечалось выше, больше унитарное устройство, чем федеративное. Это говорит о том, что сложившиеся ранее черты государственности не посмели нарушить даже революционеры. III Из всех этапов российской государственности (за исключением, пожалуй, раннего советского) современный этап наиболее сложный. Это объясняется главным образом тем, что трансформация этой государственности происходит после распада ранее существовавшей страны, а также тем, что поиск новой формулы взаимоотношений между Центром и регионами, т. е. новой формулы федерализма, идет в неблагоприятных внутренних и внешних условиях. 142 Начало современным преобразованиям российской государственности было положено принятием Верховным Советом РСФСР 12 июня 1990 г. Декларации о суверенитете. Однако наиболее важные события в этой области последовали вскоре после распада СССР, когда перед новой суверенной Россией возникла реальная угроза полной дезинтеграции, висевшая над страной все 90-е годы ХХ столетия. В основе этой угрозы лежало несколько причин преимущественно субъективного характера, хотя и спровоцированном глубоким экономическим кризисом. Кроме роста национального самосознания, политической культуры и др., к числу этих причин относились и следующие. Важнейшей причиной является беспокойство (если не сказать – страх) народов за свою самобытность, язык, культуру, исторические традиции, религию и т. д. Для такого беспокойства есть серьезные основания. Крупномасштабные, глубинные процессы интеграции, развивающиеся на нашей планете уже не одно десятилетие и имеющие в целом объективный характер, несут в себе серьезную угрозу сохранению самобытности многих народов, особенно малочисленных (Итоги, 23.05.2000; Российская газета, 5.01.2005) . Чтобы в этой ситуации остаться самими собой, у этносов, не имеющих своей государственности или имеющих ее в ограниченном виде, порой нет другого выхода, кроме как добиваться полной государственной независимости или, как минимум, культурно-национальной автономии. Кроме стремления к самосохранению, нельзя не видеть и другие причины борьбы народов за государственный суверенитет. В частности, субъективные. Одна из них заключена в действиях этнических элит, чьи цели и интересы нередко лишь частично совпадают с целями и интересами борьбы тех народов, частью которых они являются. Используя объективно обоснованные процессы, этнические элиты зачастую преследуют своекорыстные интересы, в частности, экономические и властные. Не подвергая сомнению важность процессов, происходящих в сфере национально-государственного строительства ни в одном из регионов мира, нельзя не видеть все же, что процессы, происходящие в республиках бывшего СССР и в нынешней России в особенности, имеют для нашей планеты исключительное значение. Не только потому, что на территории России проживает сейчас 176 этносов различной численности, но и потому, что современная Россия – одна из самых больших обладательниц ядерного и другого оружия массового уничтожения. Кризис государственного устройства, нестабильность, неясность взаимоотношений между Центром и субъектами негативно отражается на всех 143 сферах общественной жизни, и нельзя исключать, что это может отразиться также на военной сфере. Из сказанного вытекает крайне важный принципиальный вопрос: какой путь преобразования государственности наиболее логичен и целесообразен для России? Путь сохранения доминирующей, главенствующей роли Центра в жизни страны или путь перераспределения прав и полномочий между Центром и регионами таким образом, чтобы дать последним право самим решать свои проблемы, не считаясь (или мало считаясь) с волей и интересами государства в целом? Чтобы основательно разобраться в поставленных вопросах и найти на них адекватные ответы, необходимо обратиться к недавней истории. IV Начало современным преобразованиям российской государственности было положено принятием Верховным Советом РСФСР 12 июня 1990 г. Декларации о суверенитете. Однако наиболее важные события в этой области последовали вскоре после распада СССР, когда перед новой суверенной Россией возникла реальная угроза полной дезинтеграции, висевшая над страной все 90-е годы ХХ столетия. В основе этой угрозы лежало несколько причин преимущественно субъективного характера, хотя и спровоцированных главным образом глубоким экономическим кризисом. Первая из них связана с бурно развивавшейся практикой подписания соглашений между Центром и национальными образованиями. Начиная с 15 февраля 1994 г., когда был подписан первый договор между Центром и Республикой Татарстан, и до 1998 г. было заключено 42 договора о разграничении компетенции, в которых участвовало 46 субъектов РФ. В авангарде этого процесса по выше указанным причинам шли национальные республики, края и автономные области. Вслед за ними в борьбу за независимость включились и ординарные административные образования. Это выходило за всякие федеративные рамки, и было похоже на демонстрацию амбиций (а чем мы хуже!) и реально грозило распадом России. Вторая причина связана с подписанием соглашений между Центром и субъектами, не представлявшими собой национальные образования. Начало им было положено подписанием в декабре 1995 г. пакета соглашений между федеральными властями и властями Свердловской области. Вслед за этим состоялось подписание 12 января 1996 г. большого Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 144 Свердловской области (Российская газета, 1.02.1996). В течение последующих месяцев 1996 г. процесс развивался достаточно быстро (если не сказать – бурно). Непосредственно перед выборами президента России в 1996 г. был подписан Договор с Нижегородской областью (8 июня) и Ростовской (11 июня). Во время визита Б. Ельцина в Санкт-Петербург 13 июня 1996 г. был подписан Договор и с этим городом федерального значения. В результате по состоянию на начало сентября 1998 г. насчитывалось уже 46 таких документов. 46-м и последним по счету был подписанный 16 июня 1998 г. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти города федерального значения Москвы. Договор подписали Президент РФ Б. Ельцин и мэр Москвы Ю. Лужков (Российская газета, 23.06.1998). К третьей причине, также побуждающей вникнуть в проблему реформирования российской государственности более основательно, необходимо отнести быстро разраставшуюся законотворческую практику регионов, сопровождавшуюся созданием местных нормативных актов, противоречивших федеральной Конституции и федеральным законам. Наглядной иллюстрацией к этой крепнущей тенденции служила, во-первых, ситуация с конституциями российских республик (по мнению тогдашнего министра юстиции В. Ковалева, Конституции 19 из 21 российских республик не соответствовали Основному закону РФ) и, вовторых, ситуация в региональном нормотворчестве. Положение в этой сфере наглядно представил тогдашний министр юстиции РФ С. Степашин, ставший затем министром внутренних дел, а потом и председателем Счетной палаты. По его данным, из 16 тысяч правовых актов, принятых в субъектах Федерации и поступавших начиная с июля 1995 г. в Министерство юстиции, 7 тысяч, или почти 50%, нельзя было считать нормативными. Наглядной иллюстрацией к сказанному служила также ситуация в региональном избирательном законодательстве. Обобщенная в Постановлении Центральной избирательной комиссии РФ от 23 октября 1996 г. «О выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации», эта ситуация убедительно подтверждает факт массовых правонарушений в области регионального избирательного законодательства. В Постановлении ЦИК говорится и о том, какие конкретные нарушения содержатся в региональном законодательстве. Тут и требование постоянного проживания гражданина на определенной территории для приобретения активного избирательного права, и нарушение избира145 тельных прав военнослужащих, и неправомерные нормы образования избирательных округов, и многое другое. В общем ситуация быстро развивалась по самому драматичному сценарию и грозила перерасти в очередную трагедию – распад России. Осознавая эту опасность и стремясь ввести процесс развития взаимоотношений между Центром и регионами в некое законодательное русло, Президент Б. Ельцин своим Указом от 12 марта 1996 г. утвердил «Положение о порядке работы по разграничению предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ и о взаимной передаче осуществления части своих полномочий федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации». В соответствии с этим документом, «принципы разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации устанавливаются федеральными законами» (ст.4). В Положении также указывается, что «не подлежат передаче полномочия федеральных органов исполнительной власти по обеспечению гарантий сохранения основ конституционного строя Российской Федерации, равноправия субъектов Российской Федерации, равенства прав и свобод человека и гражданина на всей территории Российской Федерации, а также иные полномочия, если их передача ведет к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей территории Российской Федерации» (Российская газета, 14.03.1996). Четвертая причина, также связанная с актуализацией проблемы реформирования российской государственности, заключалась в опасности распада единого экономического и в частности финансового пространства, создания в регионах собственных, не подконтрольных центру денежных систем, в виде зачетных рублей, векселей, чеков и других платежных средств. Дело в этой области дошло до того, что к эмиссии суррогатных денег прибегали не только хозяйственные, но и административные субъекты в лице всех органов власти. Справедливости ради следует заметить, что действия регионов нередко вызывались важными причинами, связанными с политикой федеральных властей. Появление финансовых суррогатов, например, было вызвано нехваткой денежной наличности. А создание собственных золотовалютных резервов региональные власти объясняли не только стремлением сформировать надежную основу для местной банковской системы, но и необходимостью иметь страховочные и залоговые фонды 146 под иностранные займы и кредиты. Стремление регионов к финансовой автономии дополнялось их массовым уклонением от налогов в федеральную казну. Так, в сентябре 1996 г. полностью выполнили свои фискальные обязательства лишь четыре региона из 89. В последующие годы ситуация была едва ли лучше. В сложившейся ситуации регионы начали диктовать свои условия Центру и в такой сфере, как трансферты. Территории-доноры, которых было всего 10, больше не желали финансировать дотационные субъекты Федерации, требуя от федерального правительства компенсаций и других льгот. Например, оставлять помогающим 60–65% их доходов и сборов, заморозить долги ТЭКу и т. д. Более того, чтобы избавиться от роли донора, ряд территорий предприняли активные действия, чтобы перейти в разряд нуждающихся. В результате соотношение между регионами-донорами и дотационными, выглядевшее в 1994 г. как 25:64, стало в 1997–1998 гг. 10:79. В дополнение к сказанному можно упомянуть и о том, что проблема межбюджетных отношений существует во всех федерациях. И везде она решается по-разному. Единой модели решения этой проблемы в мире не существует. Бюджетный федерализм в США, например, предусматривает, что штаты и федеральные власти имеют равные права в налоговой сфере. Однако на практике система межбюджетных отношений отдает предпочтение федеральным властям, которые предоставляют штатам в виде целевых перечислений средства на финансирование социальных программ, строительства, создание инфраструктуры и проч. В Германии федеральные власти комбинируют как целевые выплаты, так и предоставление бюджетных средств нецелевого характера. В Индии центральные власти предоставляют финансовую помощь территориям на основе единых подходов. При этом активно применяется разовая поддержка регионов. Субсидии и трансферты дополняют бюджеты тех индийских регионов, которые дефицитны. В Канаде федеральный бюджет предоставляет помощь тем территориям, которые имеют низкий по сравнению с другими уровень доходов. Разрабатывая свои собственные принципы межбюджетных отношений, правительство РФ учитывало, с одной стороны, опыт других федераций, а с другой стороны, российскую специфику, связанную, в частности, с многонациональным характером страны и особенностями национально-территориального устройства государства. Пятой причиной обострения проблемы российской государственности являлось то, что в 1990-е годы субъекты РФ активно развивали разносторонние связи как со странами ближнего, так и дальнего зарубежья, далеко не всегда согласуя свои действия с Центром. 147 В результате действия указанных выше причин к концу 1990-х годов опасность распада России стала настолько очевидной, что без решительных мер противодействия такому развитию событий обойтись было уже нельзя. Одной из таких мер стало прекращение заключения договоров. В итоге в период с 1998 г. и до лета 2007 г. между органами госвласти и органами госвласти субъектов РФ не было подписано ни одного договора. Большинство договоров, заключенных в 1994–1998 гг., утратило силу посредством заключения договоров о прекращении их действия. Остальные договоры (в том числе с органами госвласти Татарстана и Москвы) утратили силу в июле 2005 г. в соответствии со ст. 5 федерального закона от 4 июля 2003 г. № 95 – ФЗ «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон ―Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации‖». На основании этого же закона не было заключено ни одного договора. Указанные меры, предпринимавшиеся в ситуации некоторого улучшения экономического положения, начавшегося в 1998 г., сгладили остроту проблемы взаимоотношений между Центром и регионами, но не сняли этот вопрос с повестки дня в принципе. По этой причине поиск адекватного ответа на него шел все последующие годы, связанные в первую очередь с именем президента В. В. Путина. Поэтому есть достаточно оснований считать, что с его приходом к власти в сфере «Центр– регионы» и государственном строительстве России обозначился качественно новый этап. V Новый этап в реформировании государственного устройства России наступил с приходом к президентской власти В.В. Путина. Об этом можно судить по следующим обстоятельствам. Во-первых, по тому, что принципиально изменился вектор действия центральных властей и, прежде всего, президента страны. В то время как направление действий первого президента России Б. Н. Ельцина фактически складывалось из действий регионов и определялось ими, направление движения при В. В. Путине определялось, как мы сможем убедиться ниже, Кремлем, а именно президентом и его администрацией. Во-вторых, по тому, что качественно изменилась стратегия и тактика действий центральных властей. Взяв инициативу в свои руки, Кремль стал определять не только, какую федерацию следует строить (конституционную, а не конституционно-договорную с элементами конфедерации, как при Б. Ельцине), но и как ее следует формировать. 148 Деятельность комиссии Дмитрия Козака, о которой подробно говорится ниже, наглядное тому подтверждение. Но начало этому процессу было положено не этой комиссией, а Центром стратегических разработок Германа Грефа. При разработке национальной доктрины для нового этапа реформ специалисты этого центра исходили из нескольких факторов. Во-первых, из того, что советская модель национальных отношений себя полностью исчерпала. Во-вторых, из того, что западная этнополитическая доктрина, рассчитанная на то, что под влиянием урбанизации и глобализации этническое самосознание будет затухать, в России оказалась несостоятельной. Напротив, в период с 1989 по 1994 г. в России возникло 45 новых этнических общностей (всего их стало 172), стремящихся сохранить свою самобытность. В-третьих, в условиях быстрого роста таких реальных угроз государству и обществу, как экстремизм и сепаратизм, центральная власть оказалась не готовой предъявить национальную доктрину, которая устраивала бы как национальные образования, так и административные единицы, и государство в целом. Вместо того, чтобы определились ясные и согласованные принципы и нормы федеративных отношений, Кремль, как правило, потакал сепаратистским настроениям, делая вид, что не замечает действий национальных элит, намеренно этнизировавших экономические взаимоотношения с Центром, преследуя свои корыстные интересы в борьбе за бюджетные доходы. «Ничегонеделание» Центра привело в конечном счете к значительному усложнению проблем в сфере федеративных отношений. Этих проблем, по мнению известного специалиста в области этнологии Эмиля Паина, множество, но пять из них основные, и все они требуют незамедлительного разрешения в рамках единой общегосударственной программы. Первая из этих проблем этнический сепаратизм, наиболее ярко проявившийся в Чечне. Вторая межэтническая напряженность в республиках Северного Кавказа, нет-нет, да и перерастающая в межреспубликанские противоречия (как в случае с осетино-ингушским конфликтом). Третья проблема это русская проблема. По мнению Паина, она «до сих пор вызывает у управленцев неоправданную стыдливость и опасения, что любые проявления интереса к ней могут стать поводом для обвинения в шовинизме». Четвертая проблема это проблема коренных малочисленных народов. Автономный статус национальных округов нередко используется только для того, чтобы бесконтрольно эксплуатировать природные ресурсы региона. И, наконец, пятая пробле149 ма нерегулируемые этнические миграции (Независимая газета, 8.04.2000). В отличие от «Концепции государственной национальной политики», утвержденной указом Б. Ельцина в 1996 г. (о ней уже шла речь выше), которая, по мнению специалистов, была фрагментарной и направленной на погашение конфликтов, вырванных из общеполитического контекста, новый подход основан на иной национальной доктрине государства. Суть этой доктрины в том, что национальная политика до 2010 г. должна быть превентивной, т. е. нацеленной на предотвращение наиболее опасных этнополитических тенденций и в то же время целостной, или, иначе говоря, быть составной частью общей поэтапной стратегии развития России. В связи с новой доктриной специалисты рассматривают три основных сценария развития национальной политики в России. Первый «унифицированный» – предполагает строительство государства на основе этнического федерализма со стержнем в виде «русской республики», или «республики русских». Второй сценарий «адаптационный» рассчитан на полное исключение этнического фактора из федеративных отношений в связи с переходом к тотальной «губернизации» России. В основу третьего сценария положена концепция этнополитической интеграции как необходимого фундамента развития гражданского общества в России. Смысл этой концепции состоит в том, что все народы, населяющую страну, признаются государствообразующими, и ни одна этническая группа не может и не должна обладать преимущественным правом на контроль над территорией, институтами власти и природными ресурсами. Равенство прав и обязанностей обусловливает необходимость принятия скоординированных решений с учетом интересов различных национальных групп и при соблюдении демократических прав и свобод человека на всей территории страны. В третьем сценарии признается, что центральным вопросом национальной политики государства, от верного решения которого зависит устойчивость системы федеративных отношений, является «русская проблема», или «проблема русской нации». Ради межнационального мира и общегосударственных интересов русские, по убеждению разработчиков третьего сценария, должны отказаться от своего приоритета. По мнению экспертов, ни первый, ни второй сценарий для эффективного реформирования нашей государственности не годятся. Первый, считают они, не только неприемлем, но и крайне опасен, потому что может породить этнические чистки и вытеснение русских и нацменьшинств из «чужих» республик. 150 Вторая модель, как полагают специалисты, тоже не годится, так как против нее, скорее всего, выступят национальные элиты, используя свои возможности по мобилизации населения республик на открытую борьбу против федерального центра. Как наиболее оптимальный сценарий этнологи рассматривают третий (Независимая газета, 8.04.2000). Именно он, считают они, должен лечь в основу федеративной политики нового президента России. Соглашаясь в целом с аргументацией, подкрепляющей концепцию этнополитической интеграции, т. е. отдавая предпочтение третьему сценарию, заметим все же, что эта концепция не отвечает на очень важный вопрос, как конкретно будет решаться та самая «русская проблема», которая признается ее разработчиками как центральная. Как вообще ее можно решить, если «русские должны отказаться от своего приоритета в пользу общероссийских интересов?» И три рассмотренных сценария, и практическая деятельность российских властей свидетельствовали о том, что быстро крепнущие центробежные тенденции они стремились переломить как с помощью новых звеньев властной вертикали, т. е. федеральных округов, в которых были введены не только полномочные представители президента РФ, но и представители всех основных силовых и некоторых других федеральных структур, так и посредством ужесточения федерального законодательства по отношению к его нарушителям в регионах. Прерогативы полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе были утверждены Указом Владимира Путина № 849 от 13 мая 2000 г. В этом указе говорится, что институт полномочного представителя, вводимый в результате преобразования института полномочных представителей Президента РФ в регионах России, создан «в целях обеспечения реализации Президентом Российской Федерации своих конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти и совершенствования системы контроля за исполнением их решений» (Российская газета, 16.05.2000). Основные задачи полномочного представителя, его функции и права, сформулированные в Положении, весьма обширны и сводятся главным образом к координационным, организаторским, аналитическим и контрольным действиям. В дополнение к упомянутой «Концепции...» был разработан и принят закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», который впоследствии был дополнен конкретными программами и решениями по этой проблеме. Речь идет, в частности, о федеральной целевой программе «Экономическое и социальное разви151 тие коренных малочисленных народов Севера до 2001 года» и «Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации». При обсуждении проектов этих документов на заседании Правительства РФ 23 марта 2000 г. учитывалось, что районы проживания аборигенов давно признаны депрессивными. По данным Госкомсевера, большинство семей северных народностей проживает за чертой бедности, что является основной причиной повышенной заболеваемости и невысокой продолжительности их жизни. По оценке Сибирского отделения РАМН, «резерв исторического здоровья аборигенов Севера при сложившихся условиях может быть исчерпан через 2 3 поколения» и о их существовании можно будет узнать тогда лишь из книг. Для кардинального решения проблемы, т. е. для фактического спасения малочисленных коренных народов и поддержания традиционных форм хозяйствования на Крайнем Севере, как это делается в США или Канаде, речь идет об организации системы торговли и товарообмена в факториях, об адресной социальной помощи наиболее бедным северянам, усовершенствовании системы здравоохранения на Севере и т. д. (Российская газета, 24.03.2000) По итогам обсуждения вопроса на заседании правительства был утвержден «Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации». В этом перечне упомянуты 45 народов от абазинов, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике, до юкагиров Республики Саха (Якутии) и Магаданской области. Кроме них немало таких народов проживает в Дагестане. Правительству этой республики было дано поручение подготовить и представить в Государственный Совет Республики Дагестан предложения о проживающих на территории Республики коренных малочисленных народах для последующего включения их в «Единый перечень» (Российская газета, 5.04.2000). VI Несмотря на важность тех новаций в сфере реформирования российской государственности, о которых речь шла выше, наиболее важные и принципиальные положения федеративной политики В. В. Путина содержатся в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию. Именно в них, а не, например, в «Открытом письме к российским избирателям», с которым Владимир Путин выступил на президентских выборах в 2000 году. В перечне насущных проблем, которые были сформулированы в этом письме, тема реформирования государственности фактически ни152 как не прозвучала. В нем говорилось лишь, что «власть все больше теряет лицо», что «государственная машина разболтана, ее мотор исполнительная власть хрипит и чихает, как только пытаешься сдвинуть ее с места», что «пора четко сказать, кто и чем в России владеет», что «нужна большая инвентаризация страны» (Известия, 25.02.2000). Ситуация принципиальным образом переменилась уже в июле того же 2000 г., когда в первом Послании Владимира Путина Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, выпущенном под названием «Какую Россию мы строим», как и в Посланиях двух последующих лет, изданных по названиями «Не будет ни революций, ни контрреволюций» и «России надо быть сильной и конкурентоспособной», тема реформирования государственности прозвучала во весь голос. Анализ идей, относящихся к теме федеративного строительства в России, содержащихся в упомянутых посланиях, позволяет сделать вывод, что федеративная политика В. В. Путина действительно заметно (если не сказать значительно или радикально) отличается от политики в этой же сфере первого президента России Б. Н. Ельцина. Чтобы не быть голословным, приведем основные идеи, относящиеся к теме федеративных отношений и государственного строительства всех трех посланий. «Нужно признать, констатировалось в Послании 8 июля 2000 г., в России федеративные отношения недостроены и неразвиты. Региональная самостоятельность часто трактуется как санкция на дезинтеграцию государства. Мы все время говорим о федерации и ее укреплении, годами об этом же говорим. Однако надо признать: у нас еще нет полноценного федеративного государства. Хочу это подчеркнуть: у нас есть, у нас создано децентрализованное государство. При принятии Конституции России в 1993 г. федеративная государственность рассматривалась как достойная цель, на которую придется много и кропотливо работать. В начале 90-х центр многое отдал на откуп регионам. Это была сознательная, хотя отчасти и вынужденная политика. Но она помогла руководству России добиться тогда главного и, думаю, была обоснована, она помогла удержать Федерацию в ее границах. Надо это признать, легче всего критиковать то, что было до нас. Однако уже скоро власти некоторых субъектов Федерации начали испытывать прочность центральной власти. И ответная реакция не заставила себя ждать. Но хочу обратить ваше внимание. Ответная реакция пришла не из центра, не из Москвы, а из городов и поселков. Органы местного самоуправления также стали перетягивать на себя полномочия, в основном полномочия субъектов Федерации на этот раз. Теперь 153 все уровни власти поражены этой болезнью. Разорвать этот порочный круг наша общая святая обязанность. Крайним примером нерешенных федеративных проблем является Чечня. Ситуация в республике осложнилась до такой степени, что ее территория стала плацдармом для экспансии в Россию международного терроризма. Исходной причиной здесь также было отсутствие государственного единства. И Чечня 99-го напомнила о ранее совершенных ошибках» (Российская газета, 11.07.2000). Дополняя эту картину некоторыми важными штрихами, Путин далее отметил: «Мы создали «острова» и отдельные «островки» власти, но не возвели между ними надежных мостов. У нас до сих пор не выстроено эффективное взаимодействие между разными уровнями власти… Центр и территории, региональные и местные власти все еще соревнуются между собой, соревнуются за полномочия» (там же). Далее в Послании говорится о том, что конкретно было сделано центральной властью, и что еще предполагается осуществить, чтобы возвести между «островами» и «островками» надежные мосты. Это, во-первых, создание федеральных округов и назначение в них представителей Президента России. «Суть этого решения, подчеркнул Путин, не в укрупнении регионов, как это иногда воспринимается или преподносится, а в укрупнении структур президентской вертикали в территориях. Не в перестройке административно-территориальных границ, а в повышении эффективности власти. Не в ослаблении региональной власти, а в создании условий для упрочения федерализма» (там же). Второй шаг Центра определил возможность федерального вмешательства в ситуации, когда органами власти на местах нарушаются Конституция страны и федеральные законы, единые права и свободы граждан. Но речь шла и идет не только о правах и возможностях Центра по отношению к региональной власти, но и полномочиях последней по отношению к местным властям. «И руководители регионов, отмечается в Послании, должны иметь право влиять на местные органы власти, если они принимают неконституционные решения, попирают свободы граждан. Нам ни в коем случае нельзя ослабить властные полномочия региональной власти. Это то звено, на которое не может не опираться власть федеральная» (там же). Следующий шаг Центра был связан с реформой Совета Федерации, изменением принципов его формирования, образованием Государственного совета при Президенте России. Одновременно с реформой механизма формирования верхней палаты был изменен и дополнен Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Эти 154 изменения и дополнения дали право президенту страны, как и руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ досрочно отрешать от должности (или письменно предупреждать о возможности принятия соответствующих мер) глав муниципальных образований. Основанием для таких действий должны быть решения судов. Как реформа Совета Федерации, так и изменения в системе местного самоуправления, дополненные введением семи федеральных округов во главе с назначаемыми полномочными представителями президента, направлены на повышение уровня и эффективности управления страной, воссоздание в стране единого правового поля. Чтобы не отстранять губернаторов и других руководителей исполнительных органов страны от решения общегосударственных задач, Указом Президента РФ от 1 сентября 2000 г. был образован Государственный совет РФ, являющийся, как говорится в ст. 1 Положения о нем, «совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». Председателем Госсовета является президент страны, а членами по должности высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ. Для решения оперативных вопросов формируется президиум Госсовета в составе семи его членов. Персональный состав президиума определяется Президентом РФ и подлежит ротации один раз в полгода. Задачи, состав и организация, а также порядок работы Госсовета определяется Положением об этом органе, утвержденном Указом Президента РФ также 1 сентября 2000 г. (Российская газета, 5.09.2000). Шаги, предпринятые центральной властью в 2000 г., позволили В. В. Путину констатировать в своем Послании Федеральному Собранию 2001 года, что «период расползания государственности позади» и что «дезинтеграция государства о которой говорилось в предыдущем Послании остановлена» (Российская газета, 4.04.2000). Обосновывая свой вывод, президент еще раз напомнил о сделанном. «Разработали, отметил он, и приняли федеральный пакет пакет федеральных законов. Провели реформу Совета Федерации. Первые результаты дала работа полпредов в федеральных округах. Создан и активно действует Государственный совет. У России, наконец, появились утвержденные Законом государственные символы» (Российская газета, 4.04.2000). Создание федеральных округов расценено в Послании 2001 г. как одно из наиболее важных решений 2000 г. По мнению президента, дея155 тельность полпредов «заметно приблизила федеральную власть к регионам». Ключевая роль полпредов и окружных структур Генеральной прокуратуры выразилась в том, что 4/5 из более 3,5 тысяч нормативных актов, принятых в субъектах Федерации приведены в соответствие с Конституцией РФ и федеральными законами. Понимая, что обязательным условием успеха стратегических преобразований является наведение порядка в отношениях между федеральным и региональным уровнями власти, что отсутствие четкого разграничения полномочий между ними, равно как работоспособного механизма их взаимодействия, приводит к большим экономическим и социальным потерям, В. В. Путин сформулировал три приоритетные политические задачи, решение которых должно привести к исправлению ситуации. Первая задача определение конкретных, четких полномочий центра и субъектов Федерации в рамках их совместной компетенции. Вторая задача наведение порядка в системе территориальных структур федеральных органов исполнительной власти. Третья задача упорядочение межбюджетных отношений. К теме федеральных округов В. В. Путин обратился и в Послании 2002 г. Отметив, что в предыдущем году «в целом завершилось организационное становление федеральных округов» и повторив еще раз вывод Послания 2001 г. о том, что «федеральная власть реально стала ближе к регионам», президент определил очередные задачи в этой сфере. «Полагаю, отметил он, настало время перенести на окружной уровень исполнение некоторых федеральных функций, приблизить их к территориям. Прежде всего в части контрольной и кадровой работы. А именно в сферах финансового контроля и согласования кандидатур на должности в региональных подразделениях федеральных ведомств, о количестве которых тоже надо подумать» (Российская газета, 19.04.2002). Ключевой задачей, отмечал Путин, «остается работа по разграничению сфер ведения между федеральным, региональным и местным уровнями власти». Предложения органов власти субъектов Федерации и местного самоуправления были собраны, обобщены и проанализированы специально созданной для этой цели комиссией. Оценивая практику заключения договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между Центром и субъектами Федерации, В. В. Путин отметил, во-первых, их легитимность и, во-вторых, то, что «в известный момент нашей истории они были востребованы» и необходимы. «Однако на практике, продолжал президент, само существование таких договоров часто приводит к фактическому неравенству в 156 отношениях между субъектами Российской Федерации. А в конечном счете, значит и между гражданами, которые проживают в разных территориях России» (Там же). Практика, по мнению президента, показала, что в большинстве случаев разграничение полномочий осталось «на бумаге». Недаром из 42 субъектов, имевших такие договоры, 28 их уже расторгли. Однако необходимость в договорах с отдельными регионами в такой стране, как Россия, может, безусловно, возникать. Но заключать такие документы втайне от других субъектов Федерации, без предварительного обсуждения и достижения консенсуса, по мнению В. В. Путина, неправильно. Поэтому «все договоры о разграничении полномочий должны проходить обязательную процедуру утверждения федеральным законом… Чтобы все знали, кто какие преференции имеет и почему. Федеральное Собрание должно ―на ясном глазу‖ принимать это решение» (Там же). По мере того как острота проблемы реформирования государственного устройства несколько ослабевала и на передний план выходили другие актуальные вопросы, основное внимание в ежегодных посланиях президента уделялось уже не им. Например, центральная тема Послания 2002 г. – тема глобальной конкурентоспособности России, а Послание 2003 г. – самое «экономическое» и самое «международное» из всех Посланий. Основная тема Послания 2004 г. – новые масштабные социальные проекты российской власти, превратившиеся впоследствии в «приоритетные национальные проекты». Послание 2005 г. посвящено политической идеологии государства, теме политических ценностей. Главная тема седьмого Послания (2006 г.) – демографическая политика, а центральной темой восьмого, последнего Послания (2007 г.) стал план развития России на ближайшие десятилетия, известный как План Путина (Павловский, 2007). VII Анализируя содержание президентских посланий, обращаешь внимание на то, что Владимир Путин не касается темы, какой тип федерации в России сложился на практике и какой тип нам действительно необходим, этот вопрос стоит того, чтобы о в нем попробовать разобраться. Он особенно актуален потому, что заключение двусторонних договоров между Центром и субъектами привело в действительности к образованию асимметричной федерации, что фактически противоречит действующей российской Конституции, по которой все субъекты равноправны. 157 Указывая на это несоответствие, Дмитрий Козак, заместитель главы президентской администрации, председатель Комиссии по федеративной реформе отметил в одном из своих интервью: «В цивилизованном правовом государстве это недопустимо. Комиссией было предложено 42 субъектам эту асимметрию исправить. 30 договоров уже расторгнуты. Даже те субъекты, которые очень дорожат своими договорами, согласны, что их надо менять. Мы уже имеем предложения от Татарстана, Башкортостана, Якутии» (Известия, 3.06.2002). Ориентируясь на позицию новой власти, за расторжение двусторонних договоров с Центром некоторые регионы выступили еще в 2000 г., т. е. вскоре после президентских выборов; Администрация Президента склонялась к тому, чтобы удовлетворить их просьбы еще до конца 2001 г. Однако жесткая позиция других регионов и прежде всего национальных образований, сохраняющаяся до сих пор, вынудила федеральный Центр искать компромисс. Именно отсюда, как представляется, берет свое начало компромиссная позиция В. В. Путина, отраженная в Послании 2002 г. и изложенная выше. *** Важным дополнением к содержанию президентских посланий Федеральному Собранию являются выводы и предложения комиссии по федеративной реформе, во главе которой стоял Дмитрий Козак, тогдашний заместитель главы Администрации Президента. Эта комиссия состояла из 30 специалистов, работавших в 8 группах. Свою работу комиссия основывала, во-первых, на том, что Россия дозрела до мировой тенденции децентрализации полномочий. Исходя из этого, «комиссия предлагала значительную часть полномочий и ответственности государства децентрализовать». Во-вторых, на том, что «полномочия надо передавать, одновременно законодательно закрепляя ответственность за их выполнение». У каждого уровня власти должен быть свой уровень компетенции и адекватные ему политические и юридические механизмы исполнения. «Полномочия политического характера, которые обеспечивают территориальную целостность страны, единые стандарты прав и свобод граждан, единство экономического пространства, наконец, сохранение конституционного строя должны быть на федеральном уровне» (Известия, 3.06.2002). В-третьих, на том, что идеал, основные принципы заложены в Конституции РФ 1993 г. Тем не менее учитывался опыт других федераций. «Мы с ним знакомились, говорил Дмитрий Козак, все, что при158 менимо в рамках нашей Конституции, пытались использовать. Нам близок германский опыт. Если говорить об американском, то там полная децентрализация и законодательное регулирование, и исполнение решений. В Германии законодательное регулирование на федеральном уровне, исполнение законов на региональном. Но скопировать модель федерализма какой-то конкретной страны в России невозможно» (Там же). В концепции федеративной реформы, согласованной Комиссией и переданной Владимиру Путину, принципы реформы изложены следующим образом: « неизменность положений Конституции; сочетание самостоятельности с политической и юридической ответственностью… органов государственной власти при реализации полномочий; недопустимость произвольного и необоснованного возложения на нижестоящий уровень власти обязанностей без передачи соответствующих финансовых ресурсов». Концепция делит предметы ведения на 4 уровня: федеральный, совместного ведения с субъектами, региональный и местный. В отдельных случаях осуществление части исполнительно-распорядительных полномочий может быть возложено на органы исполнительной власти субъектов, но это должно осуществляться через конкретный федеральный закон и в форме соглашения с регионом. Такой «договорной способ» разграничения полномочий, по мнению комиссии, должен применяться в исключительных случаях. Поскольку, однако, исключительность может быть связана с «географическими, социальноэкономическими, и другими особенностями региона, требующими «индивидуального подхода», постольку не трудно себе представить, что «договорной способ» будет и далее обычной российской практикой. Ведь если не одними, то другими особенностями обладает фактически каждый российский регион. Одна из важнейших задач комиссии, по словам Козака, состоит в том, чтобы «финансы и другие материальные ресурсы жестко привязать к полномочиям… Надо рассчитать полномочия и просчитать доходные источники, которые необходимы для осуществления этих полномочий. Сложная задача, но другого выхода у нас нет» («Известия», 18.09.2001). При разграничении функций различных уровней власти необходимо, как считает Козак, исходить из соблюдения равных прав и свобод граждан во всех субъектах и, кроме того, из необходимости учесть особенности регионов, если это не нарушает единства экономического и правового пространства страны. 159 Первый этап реформы власти, смысл которого состоял в установлении единого законодательного пространства на всей территории России, был завершен, по оценке Козака, к осени 2001 г. На втором этапе предстоит вплотную заняться разграничением полномочий между различными уровнями власти. Реализуя эту сложную задачу, комиссия подготовила и в начале 2002 г. представила Президенту России свои рекомендации по решению этой проблемы. В процессе работы комиссия рассмотрела 211 законов и по 135 из них выдвинула предложения по серьезному их изменению. Весь объем собственных полномочий субъекта Федерации, местного самоуправления, по мнению Козака, «должен быть обеспечен собственными источниками дохода», т. е. твердой налоговой базой (Независимая газета, 30.05.2002). Изучив наработанный в 90-е годы ХХ в. огромный пласт федеральных законов на предмет их соответствия Конституции России, комиссия Козака проанализировала функции органов власти в различных сферах, выявив при этом одновременно несоответствия по 210 законам. Главные их недостатки, по мнению правоведов, работающих в комиссии, состоят, во-первых, в том, что прописанные в них полномочия не были подкреплены финансовой базой и, во-вторых, в нечетком определении совместной компетенции Центра и регионов. Кроме того, во многих законах не было заложено конкретных механизмов их реалиизации. В ходе работы комиссию поражала «степень неопределенности в обязанностях публичной власти, взаимоисключающие полномочия». «Зачастую, говорил Козак в одном из своих интервью, ужас охватывает от того, как мы ―законодательствовали‖…» (Известия, 3.06.2002). И основная заслуга комиссии Дмитрия Козака, по оценке специалистов, состоит в том, что она разработала проекты механизмов для многих законов сферы совместного ведения. VIII Предпринятые центральным правительством в первые годы нового века меры позволили заметно улучшить ситуацию в стране. Как на макро-, так и на микроуровне. Тем не менее нет достаточных оснований утверждать, что проблема создания нового федерализма в современной России окончательно решена. Старые недуги по-прежнему дают о себе знать. Более того, можно говорить даже о том, что в истории российского федерализма начался новый этап, содержание и направленность которого не совсем еще ясны. 160 На начало этого этапа указывают несколько обстоятельств. Вопервых, то, что 26 июня 2007 г. в Москве президентом РФ В. В. Путиным и президентом Республики Татарстан М. Шаймиевым был подписан новый договор между Центром и этой республикой. 24 июля 2007 г. он был введен в действие специальным федеральным законом. Договор, заключенный «со второй попытки» (в первый раз договор был одобрен…), по оценке некоторых специалистов, почти не отличается от варианта 2005–2006 гг. и может считаться очередным примером «дублирующего» нормотворчества. По их мнению, новый договор является весьма слабым «ограничителем» действия федеральных законов. Ни по объему, ни по своему содержанию, говорят специалисты, он не идет ни в какое сравнение с договором от 15 февраля 1994 г. Тем не менее для Татарстана он имеет существенное политическое значение, отчасти удовлетворяя его претензии на особые в сравнении с другими регионами отношения с федеральными органами государственной власти. На начало нового этапа во взаимоотношениях между Центром и регионами указывает, во-вторых, то, что в конце января 2008 г. получили огласку новые, достаточно радикальные идеи по поводу совершенствования отношений между Центром и регионами. Эти идеи были обнародованы главой Минрегионразвития Дмитрием Козаком на форуме «Россия». Именно здесь была представлена концепция развития регионов, предусматривающая деление российской территории на 7–10 экономических зон. К концу 2008 г. предполагается разработать проект объединения экономик субъектов Федерации «в результате сравнения территорий по общим преимуществам». Речь идет о намерении поделить страну на 7–10 суперсубъектов (макрорегионов), «которые имеют общие экономические признаки и в которых можно выстраивать свою специфическую политику, имея в виду прогнозы по долгосрочному развитию этих регионов». Следующая идея была озвучена в это же время тогдашним первым вице-премьером Дмитрием Медведевым, избранным 2 марта 2008 г. Президентом России. Выступая на Всероссийском форуме промышленников и предпринимателей в Краснодаре, он заявил, что вопросы, связанные с разделением полномочий между различными уровнями власти, необходимо довести до «окончательного разрешения». Из сказанного вытекает, что поиск новой парадигмы российского федерализма продолжается. 161 Литература Известия, 25.02.2000. Известия, 18.09.2001. Известия, 3.06.2002. Итоги, 23.05.2000. Независимая газета, 8.04.2000. Независимая газета, 30.05.2002. Российская газета, 1.02.1996. Российская газета, 14.03.1996. Российская газета, 23.06.1998. Российская газета, 24.03.2000. Российская газета, 4.04.2000. Российская газета, 5.04.2000. Российская газета, 16.05.2000. Российская газета, 23.05.2000. Российская газета, 11.07.2000. Российская газета, 5.09.2000. Российская газета, 19.04.2002. Российская газета, 5.01.2005. 162 В. Н. Колесников (Санкт-Петербург) ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И СТАБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА Современный федерализм выступает как политико-правовое оформление взаимосвязи общегосударственных и региональных интересов. В отечественном варианте он многократно осложняется этническим компонентом и ассиметричным характером его институциональной среды. Этнокультурная неоднородность и парадокс «большого пространства», маятниковообразный характер эволюции федеральных отношений также заметным образом обостряют противоречивость современных федеральных отношений в России. В реальном политическом пространстве России в настоящее время представлены одновременно модель этнического федерализма, модель парламентского федерализма и модель централизованного государства, при абсолютном доминировании последней. Отсюда вытекает стратегическая нестабильность российского федерализма, и задачей политической теории является поиск и обоснование вариантов минимизации этой нестабильности. В этом смысле важно обратить особое внимание на значимость феноменов политического представительства и политической стабильности общества применительно к российской федеративной практике, анализ которых составляет предмет настоящей статьи. Исследования отечественных политологов, посвященные анализу современного политического процесса, с разных позиций оценивают проблему общественной стабильности. В одних вариантах современный этап политического развития страны характеризуется как социально-экономической, так и соответственно политической горизонтальной и вертикальной фрагментированностью, неустойчивостью и постоянной изменчивостью (Вилков, 2006, 56–57).В других случаях речь идет о том, что «российская политическая система закономерно стабилизировалась в процессе построения вертикали» (Бадовский, 2007). В принципе это свидетельствует о том, что в системе и процессах функционирования власти одновременно присутствуют носители противоположных общественных тенденций – модернизации и реставрации, и олицетворяющие их технологии социального управления − авторитарная (олигархическая) и демократическая (гражданская). Всѐ большее значение приобретает необходимость достижения компро163 мисса между ведущими социально-политическими силами и группами, что предполагает, в свою очередь, наличие механизма согласования их интересов и позиций. Постсоветский период в развитии российского общества обнажил ряд ранее скрытых противоречий, влияющих на социальнополитическую стабильность. Во-первых, это противоречие между динамизмом политических процессов и необходимостью сохранения стабильности политической системы. Во-вторых, это противоречие между созданием демократической правовой системы и преодолением антидемократического правового наследия административно-командной системы. В-третьих, это противоречие между новыми демократическими институтами, широкими политическими правами и свободами граждан и формами их реализации. В-четвертых, это противоречия и конфликты, связанные с проведением экономической реформы. Наиболее существенным для политической стабильности противоречием в этой сфере является увеличивающийся разрыв в уровне доходов между наименее обеспеченными и наиболее обеспеченными слоями населения страны. Эта тенденция была зафиксирована в работах отечественных исследователей еще на самом старте экономических реформ. Уже в 1991 г. были обнародованы следующего рода прогнозы: «Каждый шаг в направлении рыночной экономики будет углублять дифференциацию общества. В условиях господства в общественном сознании уравнительной психологии на этом пути государственная власть встретит ожесточенное сопротивление различных социальных групп и слоев» (Прозоров, 1991, 6). Наконец, проблема политической стабильности в России тесно связана с нестабильностью межнациональных отношений. Политическая практика последних лет убедительно подтверждает, что национальный вопрос в нашем обществе сейчас один из острейших. С определенной вероятностью можно сделать прогноз о сохранении и в будущем серии противоречий, которые будут то ослабевать, то усиливаться, порождая конфликтные ситуации. Такая ситуация требует глубокого научного обоснования политико-административных методов, обеспечивающих стабильность политической системы и эффективное функционирование демократического политического режима. Вместе с тем политические реалии начала XXI в. дает всѐ больше оснований для вывода о том, что продолжающаяся эволюция избирательного процесса в России вступает в противоречие с конституционными демократическими принципами, ставится под сомнение институ164 циональная стабильность выборов. Действительно, как иначе расценивать наиболее важные из новейших изменений в избирательном законодательстве? Запрет на образование предвыборных блоков, исключение общественных объединений из числа субъектов избирательного процесса, введение обязательности избрания не менее половины депутатов региональных парламентов по пропорциональной избирательной системе, изменение порядка формирования Совета Федерации, сопровождавшееся исключением из него губернаторов и председателей региональных законодательных собраний, запрещение региональных политических партий, повышение заградительного барьера для партийных списков, отмена выборности глав исполнительной власти регионов населением и графы «против всех» в бюллетенях для голосования, отмена порога явки избирателей на всех уровнях выборов; так называемый «запрет на критику» соперника в агитационных роликах и индивидуальных выступлениях, распространяемых в телеэфире; отмена регистрации кандидата, списка кандидатов за неоднократное нарушение этого запрета; возможность принятия кассационной судебной инстанцией нового решения по существу – об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов не позднее, чем за два дня до дня голосования (ранее срок составлял пять дней) – все эти новации электорального законодательства по существу переформатируют выборные основы структур власти и, следовательно, так или иначе влияют на стабильность в обществе. Это же обстоятельство можно трактовать и как отложенное противоречие, т. е. как потенциальную угрозу социально-политической стабильности в России в ближайшей перспективе. В России, где модернизационные импульсы в значительной степени идут от политической элиты, стремление власть имущих управлять всеми общественными процессами, в том числе и процессом народного волеизъявления, является достаточно опасным для дальнейшего устойчивого развития государства. Тактические преимущества в усилении вертикали власти могут обернуться стратегическим проигрышем, так как даже прогрессивные преобразования, проводимые сверху, но не подкрепленные сознательным участием населения, не могут создать прочного фундамента для стабильного политического и социально-экономического развития, для укрепления основ гражданского общества А. И. Соловьев подчеркивает в этой связи, что устойчивая нерепрезентативность парламента стала инструментом разрушения и системы представительства гражданских интересов. Сверхпредставительство административных и корпоративных кланов сочетается в нем с недо165 представительстиом структур гражданских (в парламенте, как известно, не представлено более четверти населения) (Соловьев, 2005, 56). «Исключение значительной части субъектов политического управления из процесса принятия политических решений и сетей политических коммуникаций, – постулирует С. А. Морозов, – может в итоге привести к доминированию социально-статусных групп, находящихся в меньшинстве, что противоречит принципам демократии» (Морозов, 2005, 114). В исследовательской литературе уже давно констатируется значительный методологический плюрализм относительно самого содержания понятия «стабильность». Одним из следствий транзитологического наследия применительно к нашей теме явилось значительное многообразие методологических подходов к анализу стабильности. (Иванов, 1994; Анохин, 1996; Макарычев, 1998). Достаточно распространенным на этот счет суждением является понимание стабильности как отсутствие в обществе реальной угрозы нелегитимного насилия или наличие у государства возможностей, позволяющих – в кризисной ситуации – справиться с ним. Иначе говоря, речь идет о способности политической системы к самосохранению в условиях, угрожающих ее существованию (Bealey, 1987, 687; Dowding, Kimber, 1983). В других случаях демократическая стабильность рассматривается как функция демократии, включающей в себя в том числе и участие граждан в управлении государством посредством институтов гражданского общества (Jaworsky, 1995, 3–4). Э. Циммерман определяет правительственную стабильность именно как способность политических администраторов управлять все более эффективно по мере увеличения их срока нахождения у власти (Zimmerman, 1987). В литературе фиксируются и определения стабильности по формуле «порядок плюс преемственность» (Макарычев, 1998). Однако наиболее полным и адекватным представляется определение стабильности как следствия легитимности власти. Именно в этом случае тесная связь стабильности с выборами выглядит наиболее обоснованной. Другое дело, что природа легитимности власти должна быть исследована в каждом конкретном историческом случае в соответствии со спецификой социума. В различных политических системам отдельные социальные группы могут трактовать источники легитимности неодинаково, природа этих расхождений лежит в области политической культуры, исторических традиций, особенностей социального статуса, политических ориентаций, имущественных интересов и отношений собственности, этико-религиозных воззрений и т. п. 166 Классические и современные зарубежные трактовки легитимности (читай «стабильности») власти сводятся к следующим положениям: – чем выше уровень политического участия, тем сильнее поддержка обществом политических «правил игры» в нем; – основными социальными силами, подкрепляющими наличные политические нормы и процедуры, являются (по возрастающей): общественное мнение в целом, общественные активисты, кандидаты на выборные должности, члены парламента; – существует прямая связь между поддержкой политических институтов и сохранением социально-экономического статус-кво. Понятно, что все эти положения связаны непосредственно с функционированием механизма выборов, и политическая стабильность общества предстает как результат институциональной эффективности выборов. Утверждение в российской системе государственной власти механизма федерального вмешательства в деятельность не только органов регионально исполнительной власти, что допустимо в контексте федеральной Конституции, но и в деятельность законодательных собраний субъектов Российской Федерации, а также местного самоуправления, существенным образом повлияло на электоральное поведение и не просто приостановило незавершенный процесс децентрализации власти, но фактически восстановило партийно-советские принципы государственного управления (Медведев, 2006, 196–197). С учетом деятельности полномочных представителей президента России в федеральных округах и началом строительства партийной системы с доминирующей партией стабильность российской политической системы в общественной среде с неразвитыми институтами гражданского общества становится весьма неустойчивой и зависящей во многом от харизмы политического лидера или, в лучшем случае, от узкой группы высшей политической элиты. Все это говорит о болезненном и противоречивом процессе трансформации политической системы Российской Федерации, где демократические принципы и ценности побеждены традиционализмом и нежеланием политической элиты находиться под общественным контролем. Это нежелание приводит к имитации как «институтов» гражданского общества, так и «институтов» общественного контроля в виде Общественной палаты. Но сложность политического процесса в России при принятии простых и эффективных, с государственной точки зрения, решений приводит к неучету множества групп интересов на региональном, муниципальном, этническом и других уровнях, так как реальные институты их представительства практически потеряли автономность и встроены в «вертикаль» власти, что серьезно влияет на политическую 167 стабильность федеративного государства в условиях полиэтничности современной России (Там же. 196–197). В ситуации качественного усложнения современного общества и воздействия на все стороны его жизни процесса глобализации на первый план выступает вопрос о представительстве интересов и участии в принятии общественно значимых решений тех слоев социума, которые, испытав на себе последствия происходящих социополитических и экономических сдвигов, не считают свои интересы представленными в традиционных политических и общественных институтах (Павлова 2006, 231). Поиск ответ на этот вопрос позволяет применительно к России говорить о двух типах общественной стабилизации. Первый тип логично будет обозначить как «бюрократическая стабилизация», а второй тип – «политическая стабилизация». В первом случае это выражено в установлении известной властной вертикали. Вполне осязаемый эффект вертикализации обязан двум, по крайней мере, обстоятельствам: во-первых, живучестью бюрократического алгоритма управления, никуда не исчезнувшего со времен командно-административной системы позднего советского периода; вовторых, технологической легкостью и ясностью для понимания как со стороны современной российской элиты, так и общества. Гораздо сложнее обстоит дело со стабилизацией демократического типа. Основная функция политических институтов заключается в обеспечении стабильности через сложный обмен политической деятельностью и ее результатами. Но здесь важно подчеркнуть: сама по себе стабильность отнюдь не означает, что институты функционируют эффективно. Будучи необходимым условием сложного взаимодействия между политическими акторами, она не тождественна эффективности. Последнюю, согласно неоинституциональному подходу, обеспечивают такие факторы, как конкуренция, децентрализация принятия решений, правила и нормы, устраивающие не только выигрывающие, но и проигрывающие в тот или иной момент политические субъекты (Елисеев, 2002) . Невозможно говорить об институциональной эффективности выборов и их стабилизирующем воздействии на общество в условиях перманентной трансформации избирательного процесса. Иначе получается, что условием общественной стабилизации является институциональная нестабильность выборов. Наиболее зримым результатом подобного рода процессов является массовое отторжение населения от участия в 168 выборах, которое в условиях России, по крайней мере на региональных уровне, достигает двух третей избирателей. В этих условиях воздействие института выборов на стабильность общественного развития может идти по одному из двух основных вариантов. В первом случае функционирование института выборов будет происходить с опорой на российский политический традиционализм по формально легитимной процедуре с минимальным общественным участием. В таком случае оно будет способствовать укреплению бюрократической стабильности персоналистского типа. Этот случай, по образному выражению Ю. С. Пивоварова, также можно рассматривать как своеобразный вариант «возвращения» России к себе самой исторической: «…то, что мы видим сегодня, есть не только и не просто "возвращение" к советским временам. Это возвращение вообще. Возвращение к тому, что было всегда, несмотря на множество реформ, поверхностный политический плюрализм и т. п.» (Пивоваров, 2005). Во втором случае потенциально возможен вариант развития демократического института выборов, результатом которого может явиться институциональная стабильность демократического типа, основанная на широком политическом участии. Но какой бы из этих подходов мы не использовали, фактом остается болезненный и противоречивый характер процесса трансформации политической системы Российской Федерации, где демократические принципы и ценности испытываются на прочность традиционализмом и нежеланием политической элиты находиться под общественным контролем. Эти атрибуты политического процесса в России при принятии простых и эффективных, с государственной точки зрения, решений приводят к неучету множества групп интересов на региональном, муниципальном, этническом и других уровнях. Региональные институты их представительства практически потеряли автономность и встроены в «вертикаль» власти, что серьезно влияет на политическую стабильность федеративного государства в условиях полиэтничности современной России. Основная функция политических институтов заключается в обеспечении стабильности через сложный обмен политической деятельностью и ее результатами (Елисеев, 2002). Но здесь важно подчеркнуть: сама по себе стабильность отнюдь не означает, что институты функционируют эффективно. Будучи необходимым условием сложного взаимодействия между политическими акторами, она не тождественна эффективности. Последнюю, согласно неоинституциональному подходу, обеспечивают такие факторы, как конкуренция, децентрализация принятия решений, 169 правила и нормы, устраивающие не только выигрывающие, но и проигрывающие в тот или иной момент политические субъекты. Всѐ это существенным образом влияет на характер политического представительства, являющегося фундаментальным основанием общественной стабильности. Единой теории представительства не существует, есть несколько теорий, и каждая из них основывается на определенных идеологических или политических предпосылках, тех или иных моделях. Так, например, Э. Хэйвуд считает, что представительство может осуществляться одним из следующих четырех способов: доверительство, делегирование, мандат и пропорциональное представительство. (Хейвуд, 2005, 280–286). Общие принципы и вышеизложенные формы представительства всегда находились и продолжают находиться в центре научных и политических дискуссий. Но все различные мнения на этот счет сходятся, по крайней мере, в одном – представительная демократия невозможна без выборов и голосования. Основная функция большинства известных в российской истории представительных органов сводилась по существу к «советному» началу (Шестов, 2006). В научной литературе до сих идут дискуссии относительно характера представительности верхних палат парламентов, и современная Россия не является здесь исключением (Авакьян, 2003; Автономов,1999; Гранкин, 2001; Куокли, 1997). С точки зрения эффективности федеративных начал положительная сторона представительства может быть обоснована с нескольких позиций. Во-первых, представительное участие вытекает из необходимости управления большим количеством участвующих граждан, рассеянных на территории национального государства. Во-вторых, представительство практически целесообразно с точки зрения эффективности и политической рациональности. В-третьих, положительное значение представительства связано с необходимостью применения обязательных для всей федерации решений. Последнее обстоятельство имеет с политической точки зрения решающее значение. Поэтому всѐ большее значение приобретает необходимость достижения компромисса между ведущими социальнополитическими силами и группами, что предполагает, в свою очередь, наличие механизма согласования их интересов и позиций. Отсюда вытекает основной в данном случае практическиполитический вывод: демократическая России нуждается в более пред170 ставительном, более легитимном институте, воплощающем в себе функции и проблемы федеративной политики, точнее, о придании этих свойств уже существующему конституционному институту. Дискутируемый в настоящее время вопрос об изменении порядка формирования верхней палаты должен получить институциональное разрешение, с нашей точки зрения очевидное: переход к выборной процедуре формирования Совета Федерации. Литература Bealey F. Stability and Crisis: Fears About Threats to Democracy // European Journal of Political Research. 1987. Vol. 15. N 6. Dowding K. M., Kimber R. The Meaning and Use of «Political Stability» // European Journal of Political Research. 1983. Vol. 11. N 3. Jaworsky J. Ukraine: Stability and Instability // McNair Paper 42. INNS. August 1995. Zimmerman E. Government Stability in Six European Countries During the World Economic Crisis of the 1930s: Some Preliminary Considerations // European Journal of Political Research. 1987. Vol. 15. N 1. Авакьян С. Совет Федерации: эволюция и перспективы // Федерализм. 2003. № 1. Автономов А. C. Правовая онтология политики (к построению системы категорий). М., 1999. Анохин М. Г. Политическая стабильность: динамика, адаптация // Политические системы. М., 1996. Бадовский Д. Вертикаль власти времен упадка стабильности // Независимая газета. 23 марта 2007 г. Вилков А. А. Эволюция избирательной и партийной систем и перспективы становления гражданского общества в современной России. Тезисы докладов. IV Всероссийский конгресс политологов. М., 2006. Гранкин И. В. Парламент России. М., 2001. Елисеев С. М. Выйти из «Бермудского треугольника»: о методологии исследования посткоммунистических трансформаций // Полис. 2002. N 6. Зубков С. А., Панов А. И. Политическое развитие и его движущие силы в современном обществе: Учебн. пособие. М., 2000. Куокли Дж. Двухпалатность и разделение властей в современных государствах // Полис. 1997. № 3. Макарычев А. С. Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и оценки // Полис. 1998. № 1. 171 Медведев Н. П. Региональный политический процесс и политическая стабильность. Тезисы докладов. IV Всероссийский конгресс политологов. М., 2006. Морозов С. А. О репрезентативности представительных институтов российского общества // Сравнительное изучение парламентов и опыт парламентаризма в России: выборы, голосование, репрезентативность. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 100летию принятия закона о выборах депутатов I Государственной думы. Санкт-Петербург 15–16 декабря 2005 г. СПб., 2005. Павлова Т. В. Современное гражданское участие: к изучению новых форм коллективного действия в условиях глобализации. Тезисы докладов. IV Всероссийский конгресс политологов. М., 2006. Пивоваров Ю. С. Русская власть и публичная политика // Полис. 2005. № 6. Попов Э. А. Институциализация российской демократии. (О процессах формирования социального порядка в России) // Социс. 2001. № 5. Прозоров В. Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в условиях рынка. М., 1991. Соловьев А. И. Российский парламент в новейшей политической истории: пути эволюции и проблемы развития // Сравнительное изучение парламентов и опыт парламентаризма в России: выборы, голосование, репрезентативность. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию принятия закона о выборах депутатов I Государственной думы. Санкт-Петербург 15–16 декабря 2005 г. СПб., 2005. Социальная и политическая стабильность. М., 1994. Хэйвуд Э. Политология. М., 2005. Шестов Н. И. Мифология «культуры совета» и современный парламентаризм // Парламентаризм в России и Германии. История и современность. М., 2006. 172 А. В. Курочкин (Санкт-Петербург) ФЕДЕРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ В РФ Проблема совершенствования федеративных отношений сегодня относится к ключевым проблемам политической повестки дня современной России. Эта проблема многосоставная, имеющая несколько связанных друг с другом источников. Первый – это, безусловно, наследие советского прошлого, т. е. той системы административно-территориального устройства и федеративных отношений, которая существовала в СССР и РСФСР. С одной стороны здесь прослеживается то явление, которое в западной политической и административной науках принято называть path dependency, т.е. зависимость от пути, траектории развития, заданной в точке зарождения системы, в результате чего современная Россия унаследовала многие проблемы, зародившиеся в советский период. С другой стороны, кардинально изменились политические условия и ключевые политические акторы как на федеральном, так и на региональном уровнях, что предопределило разрыв традиции командноадминистративного управления и необходимость формирования новых отношений между федеральным центром и регионами. С последним, непосредственно, связан второй источник проблем. В ситуации политического хаоса начала 90-х годов, когда центральная власть не имела ни политической воли, ни достаточных ресурсов для навязывания регионам универсальных правил игры и осуществления жесткого контроля их неукоснительного соблюдения сложилась практика индивидуального торга со стороны субъектов за определенные преференции в обмен на лояльность. Свидетелями тех тяжелых последствий для федерации, к которым она привела, мы являлись на протяжении последних пятнадцати лет. Третий источник проблем – это явное стремление федеральной власти к централизации и унификации региональных политикоадминистративных систем, наблюдаемое сегодня. Власть, безусловно, учла печальный опыт 90-х годов, но в качестве решения предложила самый простой вариант – усиление политико-административного влияния федерального центра. Однако лишенные возможности действовать Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ («Способность государства и системы оценки эффективности государственного управления: международный опыт и современная административная реформа в России»), проект № 07-03-00553а. 173 в рамках собственных полномочий самостоятельно, не оглядываясь на федеральный центр, власти субъектов могут просто потерять контроль за ситуацией в регионах , а возможность «ручного» управления восьмидесятью с лишним субъектами напрямую из федерального центра очевидный миф. Наконец, четвертый, источник проблем заключается в отсутствии на сегодняшний день ясной политической стратегии развития федеративных отношений на среднесрочный и долгосрочный период. Совершенно непонятна та модель федерации, к которой стремятся нынешние политические лидеры страны. До последнего времени содержание их решений подчинялось принципу максимальной централизации, допустимой в границах действующей конституции. Однако идущий сегодня процесс внесения поправок в Конституцию РФ, очевидно, изменит данную стратегию и развяжет им руки для дальнейших более решительных действий. Слабая предсказуемость решений центральной власть, непрозрачность политики – всегда плохой фундамент для выстраивания эффективных отношений с регионами. В такой ситуации поледним остается лишь ждать и ретранслировать решения федерального центра, опасаясь проявлять инициативу, которая может вступить в конфликт с политикой центра. В качестве иллюстрации такого положения дел можно вспомнить недавнюю дискуссию в СМИ, относительно возвращения института выборности глав субъектов РФ, когда позиция некоторых губернаторов (Ю. М. Лужков, М. Ш. Шаймиев, М. Рахимов) вступила в противоречие с мнением президента Д. А. Медведева и с его стороны незамедлительно последовала достаточно жесткая реакция. Конечно, серьезный анализ всего спектра проблем оптимизации федеративных отношений в рамках одной небольшой статьи невозможен, поэтому автор остановился на одном, но крайне важном, по его мнению, аспекте данной проблематики: трансформации региональных политических режимов. Исследование региональных политических режимов стало одной из ключевых тем политической регионалистики в середине – второй половине 90ых годов. Именно тогда появились известные работы В. Я. Гельмана, А. В. Лукина, Г. В. Голосова, В. Нечаева (см.: Гельман, 2001; Региональная власть, 1998; Lukin, 2001; Гельман, 2000; Голосов, 1998) и др. Причины такого интереса многие связывают с актуализацией проЗдесь в действие скорее всего вступит бюрократическая дисфункция региональной власти. Региональная власть, будучи де- факто встроена в иерархию государственной бюрократической системы станет ориентироваться в своих решениях и действиях на соблюдение формальных норм и правил, а не на конкретный результат деятельности. Тогда лояльность окончательно подменит эффективность. 174 блемы поиска эффективного баланса в отношениях федерального центра и регионов, характеризующихся в тот период крайней нестабильностью, правовым вакуумом, низким уровнем административнополитической способности государства: «процессы политической трансформации шли одновременно на федеральном и региональном уровнях, соответственно, новые правила игры создавались также на обоих уровнях, что явилось причиной отсутствия четких, одинаковых для всех формальных правил игры» (Соколова, 2006, с.3). Формальноправовой вакуум заполнялся относительно неустойчивыми неформальными правилами, что, в свою очередь, вело к весьма обширному многообразию складывающихся региональных режимов и обеспечивало тем самым значительную базу для проведения исследований. При этом в большинстве случаев оставалась недостаточно хорошо проработанной методология исследования региональных режимов, чаще всего сводимая: а) к сравнительному анализу формально-правовых институтов в регионах; б) к исследованию баланса отношений, сложившегося внутри систем законодательной/исполнительной власти, а также между законодательной и исполнительной властями (соответственно выделялись: «моноцентрические», «полицентрические» режимы, авторитарные; гибридные и плюралистические режимы и т.д.). Такой подход представляется не вполне адекватным, хотя и оправданным чересчур объемным материалом, который авторы вынуждены были бы анализировать при увеличении критериев оценки даже в пределах одного федерального округа, не говоря уже о масштабах страны в целом. Нам представляется возможным в качестве общего подхода для проведения исследований региональных режимов предложить новый институционализм, акцентирующий внимание на институтах, как ключевых инструментах прояснения условий игры в конкретном политическом пространстве (поле) и обеспечения согласования интересов различных игроков. Уже стало общим местом в исследованиях политических транзитов отмечать недостаточное внимание, которое уделяли реформаторы институциональным аспектам: «в процессе осмысления хода реформ выяснилось, что в их исходной программе были совершенно упущены вопросы, касающиеся институтов и институциональных изменений» (Административные реформы…, 2008, 10). Собственно потребность в актуализации институционального аспекта политических реформ и стала одной из ключевых причин административных реформ в постсоциалистических странах: «внедрение новых норм влечет за собой реформирование государственного аппарата: государственные служащие должны быть заинтересованы в применении новых норм и обладать 175 достаточной квалификацией для осуществления контроля за их исполнением» (Административные реформы…, 2008, 10). Принципиально важно, что в рамках нового институционального подхода принципиально меняется роль и функции институтов. Согласно ставшему уже классическим определению Д. Норта: «Институты – это созданные людьми рамки, структурирующие политические, экономические и социальные взаимодействия» (North, 1991, 97). Однако, новый институционализм актуализирует не столько ограничивающую и детерминирующую функции институтов, сколько функцию обеспечения социального взаимодействия, т.е. институты «обеспечивают предсказуемость результатов определенной совокупности действий (т.е. социальные реакции на эти действия) и таким образом привносят в деятельность людей устойчивость» (Кузьминов, 101) Собственно благодаря институтам становятся возможными многие социальные процессы, в том числе и интеграционные. Наиболее четко и последовательно методологическую общность неоинституциональных школ и течений резюмировал американский исследователь Нил Флигстин. Он также выделил три универсальные характеристики неоинституциональной методологии: «Во-первых, все новые институциональные теории исследуют то, как конструируются локальные социальные порядки [local social orders], которые могут быть названы «полями», «аренами» или «играми». Вовторых, новые институциональные течения основываются на теории социального конструктивизма в том смысле, что они рассматривают создание институтов как результат социального взаимодействия между акторами, сталкивающимися друг с другом на полях или аренах. Втретьих, предписанные им правила взаимодействия и распределения ресурсов действуют как источники власти, а в сочетании с моделью акторов выступают в качестве фундамента, на котором происходит конструирование и воспроизводство институтов. Наконец, появившись на свет, институты ограничивают действия акторов и одновременно открывают перед ними новые возможности. Акторы, занимающие привилегированное положение, могут использовать институты для воспроизводства своего положения. Все акторы могут использовать существующие институты для поиска новых арен. Акторы, не имеющие ресурсов, чаще других сталкиваются с институциональными ограничениями» (Флигстин, 2002, 122 ). Проанализируем региональные политические режимы в РФ с позиций нового институционального подхода. Наиболее простым и функциональным определением политического режима является его определение как способа осуществления власти, 176 особого «властного порядка». Нам представляется необходимым уточнить, что режим это - устойчивая система отношений, обеспечивающая тот или иной способ осуществления государственной власти. Соответственно региональный режим – это особая система отношений, складывающаяся на региональном уровне между основными акторами политического процесса и направленная на реализацию того или иного метода осуществления государственной власти в регионе. Вводя в определение регионального режима некоторые уточняющие системные характеристики, можно представить его в следующем виде: Региональный режим политического управления - это динамическая система, состоящая из четырех основных взаимосвязанных элементов: 1. политической стратегии, разрабатываемой и имплементируемой ключевыми акторами региона; 2. конфигурации акторов, имеющих существенное влияние на процесс принятия политических решений. Конфигурация – возможно наиболее изменчивый элемент режима. Обычно конфигурация складывается заново в процессе принятия каждого нового значимого решения, хотя ключевые акторы или «ядро» данной конфигурации, безусловно, весьма устойчиво; 3. институтов (правил игры), устанавливающих универсальные нормы регламентирующие порядок и формы участия акторов в процессе принятия решений, а также – шире, нормы, регламентирующие отношения между контрагентами в процессе выработки, имплементации и легитимации стратегий; 4. ресурсов и способностей, обеспечивающих разработку, имплементацию и легитимацию политических стратегий. Ресурсы и способности могут быть классифицированы по трем основным видам: ресурсы и способности, необходимые для разработки политической стратегии, ресурсы и способности, обеспечивающие внедрение стратегии и ресурсы и способности, необходимые для ее успешной легитимации. Рассмотрим каждый из элементов подробнее. В политической стратегии выделим два основных элемента: вектор ее направленности (он может быть проанализирован в спектре вариантов от консервации сложившейся системы политико-административных отношений в регионе, поддержания status quo до кардинальных и революционных изменений (слома) этих отношений) и темпоральность, т.е. заданность определенного темпа и ритма реализации решений. Важнейшее качество любой политической стратегии – ее соответствие имеющимся в распоряжении акторов ресурсам и способностям. Способность в данном 177 случае означает умение эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Стратегии могут быть согласованными, т.е. соответствующими ресурсам и способностям или рассогласованными, т.е. не соответствующими им. По сути, речь идет здесь о совпадении желаний политических акторов и их возможностей. Конфигурация акторов – это, пожалуй, самый разработанный и подробно проанализированный в работах различных исследователей, элемент региональных режимов (собственно, большинство отечественных авторов им и ограничивалось, исследуя и сравнивая по этому параметру различные режимы). Здесь можно, в частности, отметить типологию Р. Кайе, В. Кочева, выделивших три основные типа конфигурации поликратический, интегральный и монократический (Кайе, 2000 ). Правда авторы при этом ограничились лишь акторами, представляющими исполнительную власть. Более развернутую типологию конфигураций акторов предлагает отечественный автор С. И. Бразилов (Бразилов, 2000). Он выделил шесть типов конфигураций: смешанную, авторитарную, лоббистскую, популистскую, партийно-харизматическую и мобилизационную. Здесь, как и в предыдущем случае, ключевыми (в смысле сосредоточения на них фокуса анализа) участниками конфигурации выступают главы регионов и их администрации. Нам представляется не верным ограничивать акторов, участвующих в такой конфигурации органами государственной власти и тем более органами исполнительной власти регионов. Ее равноправными участниками в аспекте влияния на принимаемые решения могут быть представители бизнеса, партийных структур, общественных организаций и т. д. Представляется уместным рассматривать конфигурацию акторов регионального политического режима в рамках модели ядро-оболочка, позволяющей систематизировать акторов по двум основным параметрам: устойчивость их участия в данной конфигурации и степень влияния на процесс принятия политических решений. Ядро составляют наиболее влиятельные акторы, чье положение наиболее стабильно (губернатор, члены правительства, парламентские лидеры, руководители крупнейших компаний – основных доноров региональных бюджетов, наиболее популярные и влиятельные лидеры общественного мнения региона (ученые, писатели, актеры, спортсмены и пр.). Оболочку могут формировать представители различных организаций и групп, в зависимости от количества и особенностей институционализированных форм участия в процессе обсуждения, принятия и легитимации политических решений. 178 Важно отметить, что конфигурация акторов является ведущей характеристикой регионального режима в терминах авторитаризма/демократии. Здесь можно выдвинуть две гипотезы: – чем разнообразнее и сложнее структура конфигурации акторов, формирующих региональный режим, тем выше уровень демократичности такого режима. – чем выше уровень мобильности (сменяемости) акторов в конфигурации, тем выше уровень плюрализма регионального режима. Данные гипотезы подтверждаются множеством отечественных и зарубежных исследований политических режимов (в том числе региональных и муниципальных) (см. напр. Гельман, Рыженков, Бри, 2000). Институты – безусловно связаны со всеми тремя элементами режима. Однако ключевую роль институты играют в процессах формирования политической стратегии и конфигурации акторов и ее динамике. В качестве важнейших можно определить: – институционализированные формы участия различных акторов в региональной политике в целом; – институционализированные формы участия акторов в процессах выработки, имплементации и легитимации региональной политической стратегии; – институционализированный порядок выработки и принятия региональной политической стратегии; – институционализированная структура региональной административно-политической системы. Наконец, четвертый элемент – ресурсы и способности, объективно ограничивают возможности акторов по выбору и имплементации политической стратегии. Задача региональной власти – максимизировать собственные ресурсы и оптимизировать способности. Здесь многое зависит от кадрового состава государственной службы, наличия институционализированных каналов участия экспертного сообщества в анализе текущей политики региональных властей, наличие работоспособной системы оценки эффективности государственного управления на уровне региона и т. д. В качестве близкого к предложенной (хотя на наш взгляд и значительно более упрощенного) варианта институциональной методологии исследования региональных режимов можно рассмотреть коалиционную концепцию американского исследователя К. Стоуна, которая уже была апробирована в сфере исследования режимов на региональном уровне (точнее, городских политических режимов). В рамках данной концепции политический режим (в данном случае представляется не важным, политический режим какого уровня: регионального или город179 ского мы рассматриваем) определяется как «коалиция акторов, обладающих доступом к институциональным ресурсам и осуществляющих управление территориальной общностью» (Stone, 1989). Основным предметом исследования становится здесь «кооперация акторов и возможности, которые она им предоставляет, при этом речь идет не о любой кооперации, а только о той, которая возникает между акторами из различных общественных сфер и обеспечивает поддержку определенного набора политических решений» (цит. по: Ледяев, 2006, 2). Таким образом, центральной характеристикой региональных режимов признается способность властных акторов к кооперации и созданию прочных коалиций («коалиционная власть»), направленных на обеспечение постоянной поддержки региональной политической стратегии. Применяемое Стоуном понятие «коалиция» близко по смыслу к понятию «конфигурация» используемому нами. Единственное различие заключается в предопределенном общими интересами составе такой коалиции, в то время как конфигурация акторов предполагает более широкое участие различных акторов, не обязательно коаптированных политическими лидерами региона. Хотя коалиционный характер формируемой конфигурации – безусловно важная характеристика, определяющая успех имплементации и легитимации региональной политической стратегии. С другой стороны, важнейшей задачей, которую вынуждены решать все региональные властные элиты без исключения выступает обеспечение эффективного контроля над ключевыми материальными ресурсами региона. И здесь, опять же, формирование «коалиционной власти», а, следовательно, и оформление регионального политического режима неизбежно как минимум по причине конкуренции за эти ресурсы с федеральным центром, региональной политической оппозицией, другими регионами или, возможно, с органами местного самоуправления. В контексте текущей административной реформы региональные режимы политического управления представляются чрезвычайно важным объектом анализа, позволяющим как минимум определить факторы способствующие успеху или неудаче административной реформы на региональном уровне, а также оценить способность региональной администрации к реформированию. Последнее представляется чрезвычайно важным как с теоретической, так и прикладной точки зрения. В этом аспекте способность к созданию прочных коалиций является одной из важнейших административно-политических характеристик региональных политических. Она во многом предопределяет возможности региональных администраций реформировать и самореформироваться. Однако сам по себе коалиционный режим не является достаточным условием успешных реформ. Важнейшими условиями, опреде180 ляющими инновативную эффективность такой коалиции (ее можно определить как степень или уровень развития способности разрабатывать и успешно имплементировать административные инновации), являются ее структурные характеристики и отношение к изменениям. Определение инноваций, предлагаемое известным российским специалистом А. И. Пригожиным, трактует их как «такое целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения (организацию, население, общество и т.д.) новые, относительно стабильные элементы … выступают как форма управляемого развития» (Пригожин, 1989, 270). Таким образом, качественное реформирование, разработка внедрение и институционализация инноваций является управляемым развитием, т. е. осознанным вмешательством с целью проектирования и реализации проекта будущего состояния управляемой системы. Отношение социальных структур к изменениям весьма плодотворно было проанализировано в рамках социологии организаций. Поэтому используем в качестве аналитических моделей, иллюстрирующих возможные варианты соотношений структурных характеристик системы (в данном случае региональных политико-административных режимов) и состояния ее внешней среды следующие типы организаций: ре-активные, активные и проактивные. Соответственно, для целей нашего исследования будем выделять ре-активные, активные и про-активные типы региональных режимов политического управления. Ре-активные режимы в качестве отличительных признаков имеют: – негибкую, иерархическую систему принятия решений, обычно замкнутую на один центр; – ограниченную по числу участников и маломобильную конфигурацию акторов («ядро» явно превалирует над слабой и малочисленной «оболочкой»); – недостаточно чувствительную системы обратной связи, медленно или с искажениями доводящую до центра принятия решений импульсы внешней среды; – плохо развитую систему прогнозирования будущего состояния внешней среды; – стремятся «переделать» элементы внешней среды под себя; – нормой является настороженное отношение к инновациям и структурное торможение реформ. Очевидно, такие режимы будут комфортно ощущать себя в условиях стабильной внешней среды с устойчивым и предсказуемым трендом развития. Активные режимы в отличие от реактивных: 181 – имеют адекватную систему обратной связи, четко реагирующую на изменения внешней среды; – конфигурация акторов в активных режимах предполагает эффективный баланс «ядра» и «оболочки»; – стремятся подстроиться под меняющиеся условия среды; – имеют сблансированную в терминах централизации / децентрализации систему принятия решений. Про-активные режимы: – имеют высоко децентрализованную систему принятия решений, структура которой строится по сетевому принципу; – система обратной связи в таких режимах носит положительный характер, т.е. она стремится не только передать, но и увеличить силу внешнего импульса; – про-активные режимы ориентированы на опережающие решения в зависимости от прогнозного состояния внешней среды; – разработка и имплементация инноваций является неотъемлимой характеристикой таких режимов. Данная типология региональных режимов может быть применена для сравнительного анализа способности режимов к реформированию, а также оценки региональных стратегий административных реформ, реализуемых различными субъектами РФ. Еще одна серьезная теоретическая проблема исследования региональных политических режимов – разработка и анализ различных моделей развития режимов. И здесь также уместным представляется обращение к теории организаций. В качестве одного из возможных вариантов заимствования для моделирования развития региональных режимов можно предложить модель развития организации американского исследователя Лари Грейнера, описанную в его статье «Эволюция и революция в растущих организациях» (Harvard Business Review, 1972, № 32). 1 – первая фаза организационного развития – созидательная – начало организационного процесса, связанное с созданием формальной организационной структуры и формированием корпоративной культуры. Эта фаза характеризуется сильным личностным компонентом и высокой степенью беспорядка в работе. Обычной, например, является практика принятия на работу не по профессиональным критериям, а по родственным, дружеским и иным неформальным каналам. Долго пребывать в этой фазе организация не может, из-за опасности полного развала и потому в определенный момент происходит качественное переустройство структуры организации и становление новой организационной культуры. Эти изменения можно определить как фазовый переход, совершаемый скорее не линейно, а через разрыв или «революцию» (со182 гласно определению Л. Грейнера) в определенной точке организационного развития; 2 – вторая фаза – фаза прямого управления – по сути, это переход к внедрению регулярного менеджмента, через формализацию процессов и процедур управления и создание жесткой функциональной структуры. На этой фазе развития организация приближается к веберовскому идеальному типу бюрократической организации. Однако, постепенно жесткая иерархия перестает отвечать внешним условиям функционирования организации, сковывается инициатива и творческий потенциал персонала. И вновь в определенной точке организационного развития наступает «разрыв» или фазовый переход; 3 – третья фаза – фаза делегирования ответственности. На этой фазе в организации параллельно идут два ключевых процесса: повышение профессионализма управленцев и делегирование полномочий и ответственности с верхних эшелонов управления на нижние уровни. Повышение уровня профессионализма обеспечивает должный уровень решения управленческих задач на нижних уровнях организационной иерархии, которая в свою очередь постепенно превращается в гетероиерархию. Однако здесь в организации наступает момент разобщения или раскоординированности действий, ставящий под угрозу единство целей и продуцирующий многочисленные конфликты из-за высокой внутриорганизационной конкуренции. 4 – четвертая фаза – фаза координации. На ней перед управленцами встает задача при сохранении относительно высокой автономии отдельных элементов организации найти стимулы для усиления координации деятельности, по сути, заново сплотить коллектив на базе новой организационной культуры. В результате должна быть создана единая команда, в которой отношения сотрудничества доминируют над формальным иерархическим порядком. 5 – пятая фаза – фаза сотрудничества. Эта фаза представляет собой скорее перспективную цель. В общих чертах она представляет собой идеальное состояние взаимодополняющих друг друга организационных элементов, напряженность во взаимоотношениях между которыми сведена к минимуму. В качестве доминирующей институциональной формы координации взаимодействий в данном случае выступает солидарность. Собственно логика современных административных реформ неплохо укладывается в рамки данной схемы развития. Она определяется, таким образом, движением от раздробленного и хаотичного состояния административной системы начала 90-х годов к жесткому контролю иерархических структур, а затем к фазе автономизации и разнообразия 183 форм исполнительских структур при определении единого политического центра принятия решений. Сегодня многие отечественные политологи скептически относятся к самому факту существования самостоятельных региональных политических режимов. При этом они исходят в своих рассуждениях из достаточно очевидных фактов: чрезмерного политического усиления федерального центра, исключительной зависимости глав субъектов, назначаемых президентом, запрета региональных политических партий и общественно-политических объединений. Все это, безусловно, сокращает поле публичной политики в регионах, дисбалансирует федеративные отношения в пользу федерального центра, однако, это не свидетельствует об отсутствии региональных политических режимов. Да, безусловно, они имеют в силу указанных выше особенностей современного политического режима России ряд специфических характеристик: – направленность большинства политических стратегий на сохранение status quo, консервацию сложившейся сегодня системы отношений между основными политическими акторами региона; – сравнительно малочисленные и маломобильные конфигурации акторов, оказывающих существенное влияние на процесс принятия политических решений, преимущественно формируемые из представителей исполнительной власти региона; – малочисленные и слаборазвитые формы участия не государственных акторов в процессах выработки, имплементации и легитимации (возможно, де-легитимации) региональной политической стратегии; – слабые способности режимов к реформированию и самореформированию; – сравнительно небольшие ресурсы, перераспределенные в подавляющем большинстве регионов за последние десять лет в пользу федерального центра. Однако выделенные особенности вовсе не исключают дифференциации региональных политических режимов и возможности их сравнения. Каковы перспективы развития региональных режимов политического управления в России и какова их роль в реализации административной реформы? Несмотря на очевидные тенденции централизации и универсализации политической жизни регионов, нам все же представляется более справедливой точка зрения, согласно которой развитие региональных режимов в РФ не только возможно, но неизбежно и необходимо, причем в первую очередь для успешной реализации административной реформы. Можно согласиться с мнением В. Г. Ледяева (Ледяев, 2006), который выделил четыре основные фактора, обеспечивающих 184 такое развитие: 1) общие тенденции глобализации, ведущие к переформатированию национального уровня государственного управления и актуализации регионального и межрегионального управления, 2) неизбежное в процессе скрытого противостояния федеральных и региональных политических элит объединение последних, 3) наличие в регионах собственных бизнес-элит, заинтересованных в том или ином качестве политического режима региона; 4) сохранение во многих субъектах федерации неформализованных устойчивых практик, влияющих на структуру региональных политико-административных систем. Литература Административные реформы в контексте властных отношений: опыт постсоциалистических трансформаций в сравнительной перспективе / Под ред. А. Олейника и О. Гаман-Голутвиной. М., 2008. Барзилов С. И. Губернаторская власть как институт и субъект регионального политического пространства // Регион как субъект политики и общественных отношений. М., 2000. Гельман В. Я. Политические режимы переходного периода: российские регионы в сравнительной перспективе // Политический альманах Прикамья, Вып. 1. Пермь. 2001. Гельман В., Рыженков С., Бри М. Россия регионов: трансформация политических режимов, М. 2000. Голосов Г. В. Сравнительное изучение регионов России: проблемы методологии // Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. М.,1998. Кайе Р., Кочев В. Взаимоотношения законодательной и исполнительной власти // Россия и Британия в поисках достойного правления. Пермь, 2000. С.163–165. Кузьмин А. С., Мелвин Н. Дж., Нечаев В. Д. Региональные политические режимы в постсоветской России: опыт типологизации // Полис. 2002. № 3. С. 142–155. Кузьминов Я. И., Бендукидзе К. А., Юдкевич М .М. Курс институциональной экономики. М., 2006. Ледяев В. Г. Социология власти: теория городских политических режимов // Социологический журнал. 2006. № 3–4, Медведев Н. П. Консенсуальные аспекты современного российского федерализма // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2001. № 3. С. 66–79. 185 Полищук Л. И. Российская модель «переговорного федерализма»: политико-экономический анализ // Политика и экономика в региональном измерении. М., 2000. Полищук Л. И. Российская модель «переговорного федерализма»: политико-экономический анализ // Политика и экономика в региональном измерении. М., 2000. Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия, М., 1989. Региональная власть в современной России: институты, режимы и практики // Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. М. 1998. Соколова Т. Эндогенные и экзогенные политико-правовые факторы эволюции пермской региональной политии, 2006 // http://elis.pstu.ru/ sokolova.htm Соколова Т. Эндогенные и экзогенные политико-правовые факторы эволюции пермской региональной политии, 2006 // http://elis.pstu.ru/ sokolova.htm. Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых институциональных течений // Экономическая социология. Новые подходы к институциональному и сетевому анализу, М., 2002. Lukin A. Electoral democratization or electoral clanism? Rusion democratization and theories of transition // Contemporary Russian politics. A. Reader. Ed.: Brown A. Oxford University Press. 2001. North D. Institutions // Journal of Economic Perspectives. Vol.5, No. 1 (Winter 1991). Stone C. N. Regime politics: Governing Atlanta, 1946–1988. Lawrence: University Press of Kansas, 1989. 186 А. В. Павроз (Санкт-Петербург) ФЕДЕРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ НАЧАЛА XXI в. В РОССИИ: ХОД РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ К концу 90-х годов ельцинская модель федерализма, основывавшаяся на принципах административного торга и определявшаяся логикой обмена лояльности на широкую автономию, продемонстрировала свою полную несостоятельность. Пользуясь слабостью и разобщенностью центральной власти, региональные руководители игнорировали федеральное законодательство, устанавливали контроль над территориальными отделениями федеральных министерств и ведомств, подчиняли себе местные законодательные собрания, суды, муниципальные органы и средства массовой информации, требовали все больших привилегий для своих территорий и все большей независимости от Центра. Подобное положение, максимизировавшее власть и влияние региональных бюрократических кланов, вело к потере управляемости государством, подрывало единство общенационального экономического и правового пространства (стоит лишь отметить то, что почти 70% юридических норм, содержавшихся в конституциях, уставах, законах и подзаконных правовых актах субъектов федерации, противоречили в тот период Конституции и федеральным законам (см.: Смирнов, 2002, 13)), способствовало феодализации федеративных отношений, поощряло тенденции к локализации и суверенизации регионов, формированию многочисленных авторитарно-бюрократических, полукриминальных княжеств. Россия стремительно превращалась в «федерацию минигосударств, многие из которых являлись крошечными диктатурами», в «многогосударственное государство, с многочисленными протогосударственными формациями, претендовавшими на суверенитет от Москвы» (Саква, 2005, 255, 264). Осознание очевидной неадекватности данной модели государственного устройства с точки зрения достижения общественно значимых целей (в том числе и развития демократических институтов) сформировало острый социальный запрос на реформу федеративных отношений. Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ («Способность государства и системы оценки эффективности государственного управления: международный опыт и современная административная реформа в России»), проект № 07-03-00553а. 187 Исходя из этого тогда новый президент – В. В. Путин, пользуясь широкой общественной поддержкой и консолидированным ресурсом федеральной власти, смог практически беспрепятственно осуществить ревизию ельцинской модели федерализма, проведя целый ряд действенных мер, направленных на ослабление и подчинение региональных политико-бюрократических структур. Первым шагом в данном направлении стало выделение семи федеральных округов и учреждение должности полномочного представителя президента в федеральном округе (см.: Указ, 2000). Данная мера представляла собой реорганизацию системы президентского представительства в регионах: вместо представителя в каждом субъекте федерации вводилась должность полномочного представителя президента на целую группу регионов – специально сформированный для этой цели федеральный округ. Тем самым статус и политический потенциал представителей президента существенно повышался, они выводились из-под влияния и материальной зависимости от руководителей соответствующих регионов и, наделенные рядом значимых полномочий (координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в округе, согласование кандидатур для назначения на должности федеральных государственных служащих в округе, согласование проектов решений федеральных органов власти, затрагивающих интересы округа или отдельных его территорий, контрольно-ревизионные функции и т. д.), могли более эффективно проводить политику центральной власти в регионах. Отмеченные обстоятельства позволили новым представителям президента мобилизовать достаточный властный ресурс для того, чтобы сориентировать на себя часть региональных элит и противопоставить полпредства местным руководителям как действенный альтернативный центр власти. Причем показательно, что сами федеральные округа (а всего их было создано семь: Центральный, Северо-Западный, СевероКавказский (переименованный в Южный), Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный) в значительной степени представляли собой «искусственные образования» (Hyde, 2001, 726). Их границы не совпадали с традиционным географическим и экономическим районированием страны (в частности, Астраханская и Волгоградская области были отнесены к Южному, а не Приволжскому федеральному округу; Тюменская область включена не в Сибирский, а в Уральский федеральный округ, а Пермь, Оренбург и Башкортостан оказались в составе не Уральского, а Приволжского федерального округа (см.: Федосов, Валентей и др., 2002, 49)), но повторяли контуры военных округов, что, разрушая исторически сложившиеся схемы межрегионального взаимодействия, препятствовало созданию сверхобластей, которые смогли бы 188 на основе единства экономических интересов сформировать собственную идентичность и подчеркивало исключительно административное значение округов как средства управления и контроля над регионами со стороны федерального Центра. Вторым шагом по укреплению властной вертикали явилось принятие поправок к действующему законодательству, усиливающих механизмы федерального принуждения (см.: Федеральный закон, 2000a): президент получил право отрешать от должности высших должностных лиц субъектов РФ и добиваться посредством принятия специального закона роспуска законодательных органов субъектов РФ в случае подтвержденного судебными решениями нарушения ими федерального законодательства. Данная мера, «имевшая серьезный сдерживающий эффект, вынуждавшая региональные элиты подчинятся Центру» (Гельман, 2006, 98), была принята параллельно и в поддержку инициированной президентом широкомасштабной кампании по приведению в соответствие регионального законодательства нормам Конституции и федеральных законов. В ходе 2000–2001 гг. в данном аспекте было скорректировано около трех тысяч региональных нормативных актов, включая конституции и уставы субъектов федерации, договора о разграничении полномочий между Центром и регионами, обычные республиканские, краевые и областные законы, в том числе с точки зрения изменения норм, провозглашавших суверенитет регионов, договорный характер их нахождения в составе Российской Федерации, верховенство местного законодательства, право регионов на природные ресурсы, находящиеся на их территории и пр. Данная кампания в совокупности с более жесткой проработкой мер федерального принуждения усилила позиции Центра и сократила притязания наиболее амбициозных регионов, прежде всего республик в составе РФ. Третьим шагом, нацеленным на ослабление позиций региональных политико-административных групп, было изменение принципов формирования Совета Федерации (см.: Федеральный закон, 2000b). Главы исполнительных и законодательных органов власти субъектов федерации потеряли право по должности быть членами верхней палаты парламента. Новыми представителями регионов в Совете Федерации становились профессиональные сенаторы, избранные законодательными органами и назначенные высшими должностными лицами субъектов РФ. Данная реформа уменьшила властный потенциал региональных лидеров, так как лишила их прямого доступа к участию в общефедеральном законодательном процессе и тем самым сократила возможности влияния на центральную власть, «заставив сосредоточиться на управлении своими территориями, вместо того, чтобы отстаивать свои интересы в 189 Москве» (Nichols, 2002, 309). В качестве компенсации губернаторам, для обеспечения их диалога с главой государства был учрежден Государственный совет – совещательный орган при президенте, в который вошли руководители исполнительной власти областей, краев и национальных республик. Однако очевидно, что Госсовет, как новая форма коллективного представительства региональных элит, серьезно уступал прежнему Совету Федерации, так как был внеконституционным органом, работающим не на постоянной основе, решения которого при этом носили исключительно рекомендательный характер. Данная реформа укрепила политическую автономию Центральной власти и ослабила возможности влияния региональных групп на процессы выработки общегосударственной политики. Отмеченные мероприятия 2000–2001 гг. определили доминирующее положение Центра в отношении с регионами. Завершающим же шагом в ревизии ельцинской модели федерализма стал отказ от прямых выборов высших должностных лиц субъектов федерации и переход к практике их фактического назначения президентом станы (см.: Федеральный закон, 2004). В соответствии с новой схемой глава региона наделялся полномочиями по представлению президента местными парламентами. Региональные законодательные собрания могли одобрить или отвергнуть выдвинутого президентом кандидата. В случае двукратного отклонения предлагаемой кандидатуры президент получал право распустить местный парламент и назначить исполняющего обязанности главы региона. Данная мера, в сочетании с еще более усиленными механизмами федерального принуждения (в частности, президент теперь мог отрешить от должности глав регионов одним своим указом без предварительных предупреждений и решений судов в связи с утратой ими доверия или за ненадлежащее исполнение своих обязанностей), существенно сократила некогда весьма значительную автотомию региональных лидеров, поставив их под строгий контроль центральной власти. В целом, рассмотренные нами выше, инициированные В. В. Путиным реформы федеративных отношений (2000–2004 гг.) усилили политико-административный потенциал Центра, расширили возможности федеральной власти эффективно воздействовать на региональные социально-политические процессы, уменьшили экономический и правовой сепаратизм российских территорий, ослабили позиции региональных элит, сократили возможности их влияния на формирование федеральной политики и обеспечили встраивание региональных политикоадминистративных групп в президентскую властно-управленческую вертикаль. 190 Однако следует отметить проблематичный и непоследовательный характер имевших место преобразований. Реформа федеративных отношений, укрепив позиции центральной власти и ослабив положение региональных политико-бюрократических кланов, не смогла тем не менее устранить «клиентарно-феодальный характер российского федерализма» (Афанасьев, 2002, 93). Настойчиво декларируемая центром политика правовой унификации отношений с субъектами федерации никогда в полной мере не была реализована, в то время как большинство проблем решалось путем индивидуальных договоренностей на принципах административного торга. Можно привести множество примеров подобного рода непоследовательности при проведении реформы федеративных отношений. Ревизия системы межбюджетных отношений (2001 г.), установив общие принципы разделения налогов между федеральным и региональными бюджетами, не обеспечила, однако, ликвидации особого экономического статуса субъектов федерации; в частности, в 2001 г. в законе о федеральном бюджете появилась статья, в соответствии с которой Правительству РФ было разрешено «в целях урегулирования межбюджетных отношений» оказывать Татарстану и Башкортостану финансовую помощь, в результате чего зачисление в республиканские бюджеты дополнительных средств от собранных на территории республик федеральных налогов было заменено предоставлением республиканским бюджетам финансовой помощи, и если до 2001 г. зачисленные в республиканские бюджеты сверх установленных в федеральном законодательстве нормативов налоги составляли около четверти всех бюджетных доходов республик, при том, что данные республики почти не получали финансовой помощи, то после 2001 года доля финансовой помощи в доходах республиканских бюджетов составила около четверти (25% в Башкортостане и 23% в Татарстане) (см.: Кузнецова, 2005, 72– 73). Нормативное значение закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», установившего в том числе положение, согласно которому «высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) избирается на срок не более пяти лет и не может избираться на указанную должность более двух сроков подряд» (Федеральный закон, 1999, 9428), во многом было перечеркнуто постановлением Конституционного суда от 9 июля 2002 г. (см.: Постановление, 2002), в соответствии с которым отсчет первого срока полномочий следует вести с октября 1999 г., позволившим ряду «наибо191 лее авторитетных» региональных лидеров сохранить свою власть, что объяснялось нежеланием президента ссориться с обладавшими значительным властным и электоральным ресурсом губернаторами и президентами республик в составе РФ в преддверии электорального цикла 2003–2004 гг. Переход от прямых выборов высших должностных лиц субъектов федерации к практике их фактического назначения президентом станы (декабрь 2004 г.), обосновывавшийся необходимостью «очищения губернаторского корпуса от безответственных популистов, от криминала и коррупции», не привел тем не менее к серьезному количественному и качественному обновлению состава региональных руководителей (см.: Петров, 2006), так как, столкнувшись с масштабными протестными выступлениями в ответ на монетизацию льгот (начало 2005 г.), Кремль предпочел не менять сильных лидеров субъектов РФ, способных контролировать ситуацию в своих «вотчинах», свернув, в частности, ряд уголовных расследований, прямо или косвенно затрагивавших глав регионов (М. Г. Рахимова и др.) (см.: Липман, Петров, 2007, 171). И, наконец, принципиальная и небезуспешная борьба Центра с договорной природой российского федерализма (уже к апрелю 2002 г. было расторгнуто 28 из 42 договоров о разграничении предметов ведения и полномочий (см.: Путин, 2002)) – институциональным фундаментом системы административного торга в отношениях между центральной властью и регионами, – встретив упорное сопротивление наиболее сильных местнических политико-бюрократических кланов, не была доведена до конца и завершилась заключением 26 июня 2007 г. (в преддверии электорального цикла 2007–2008 гг.) нового договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, который, хотя и в существенно усеченном виде, сохранил ряд важных привилегий за данным субъектом Федерации: совместное решение вопросов, связанных с «использованием и охраной земли, недр, водных, лесных и других природных ресурсов на территории Республики Татарстан», осуществление международных и внешнеэкономических связей, установление второго государственного языка и требования к кандидатам на замещение должности высшего должностного лица по владению данным языком, выдача паспортов гражданам РФ с «вкладышем на государственном языке Республики Татарстан (татарском) и с изображением государственного герба Республики Татарстан», право оказывать «государственную поддержку и содействие соотечественникам в сохранении самобытности, развитии национальной культуры и языка» (Договор, 2007), в очередной раз ак192 туализировав проблему равноправия субъектов РФ и отсутствия единообразности в их отношениях с федеральным центром. Подвергая анализу в этой связи эволюцию отечественного федерализма, можно утверждать, что имевшее место в период правления В. В. Путина укрепление центральной власти не привело к преодолению патологий государственного устройства России, обусловленных редистрибутивной моделью отношений между Центром и регионами. Так, несмотря на всеобъемлющее умиротворение и подчинение территориальных элит, региональная политика Кремля до сих пор отличается серьезной дифференциацией: от постановки на ведущие посты в субъектах федерации своих прямых представителей до полной инкорпорации сформировавшихся в 90-е годы клановых авторитарных региональных режимов в президентскую властно-управленческую вертикаль (Татарстан, Башкортостан). В общем виде такая политика сводится к тому, что сильные региональные группировки (вне зависимости от их истории и реальных позиций по принципиальным для Кремля вопросам) остаются неприкосновенными и политически влиятельными, в то время как слабые – подвергаются разгрому и замещаются техническими руководителями из Москвы. Издержки подобного подхода к выстраиванию федеративных отношений очевидны: редистрибутивная модель постоянно воспроизводит ситуацию борьбы – торга между Центром и субъектами федерации, в рамках которой необходимость учета интересов сильных региональных кланов даже при удачном для Центра раскладе сил вынуждает принимать решения, которые нередко в корне противоречат главным векторам политики федеральной власти. Классическим примером такого рода является подписание договора о разграничении предметов ведения и полномочий с Татарстаном, несмотря на проводимую в течение многих лет политику по отказу от подобных договоров и утверждению конституционных оснований федерализма. Таким образом, особенности федеративной структуры государственного устройства стали основанием для воспроизводства редистрибутивной модели отношений Центра и регионов, с присущими ей и подробно описанными в настоящей работе противоречиями. И если в нынешних благоприятных условиях Кремль способен эффективно подавлять данные противоречия, виртуозно управляя региональными процессами и создавая видимость незыблемости государственного единства страны, то при сокращении ресурсной базы режима, ослаблении легитимности, уменьшении административного и силового потенциала центральной власти данные противоречия, вне всяких сомнений, выйдут наружу и станут важнейшим фактором дестабилизации политической обстановки в стране и одной из важнейших причин кризиса политического режима. 193 Литература Афанасьев М. Н. Проблемы российского федерализма и федеративная политика второго Президента. Промежуточные итоги // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 2002. № 1 (38). С. 91– 104. Гельман В. Я. Возвращение Левиафана? Политика рецентрализации в современной России // Полис. 2006. № 2. С. 90–109. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан. 26 июня 2007 г. // Официальный сервер Республики Татарстан – http://www.tatar.ru/ append20.html Кузнецова О. В. Региональная политика в России в постсоветское время: история развития // Общественные науки и современность. 2005. № 2. С. 67–77. Липман М., Петров Н. Взаимодействие власти и общества // Пути российского посткоммунизма: Очерки. М.: Изд-во Р. Элинина, 2007. С. 163–233. Петров Н. Назначения губернаторов: итоги первого года // Брифинг Московского Центра Карнеги. 2006. Т. 8. Вып. 3. // http://www. carnegie.ru/ru/pubs/briefings/Briefing-2006-03-web2.pdf Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2002 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности положений п. 5 ст. 18 и ст. 30.1 Федерального закона ―Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации‖, ст. 108 Конституции Республики Татарстан, ст. 67 Конституции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия) и части третьей ст. 3 Закона Республики Саха (Якутия) ―О выборах Президента Республики Саха (Якутия)‖» // Собрание Законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2909. С. 7315–7326. Путин В. В. Сделать Россию зажиточной и процветающей страной. Послание Президента России Федеральному Собранию. 18 апреля 2002 г. // Официальный сайт Президента России – http://www.kremlin.ru/ text/appears/2002/04/28876.shtml Саква Р. Путин: выбор России. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 480 с. Смирнов В. В. Сильное государство и/или демократия: предварительные итоги политических реформ в России // Россия–2001: новые тенденции политического, экономического и социального развития: Материалы конференции. М.: РОО «Содействие сотрудничеству Инсти194 тута им. Дж. Кеннана с учеными в области социальных и гуманитарных наук», 2002. С. 8–23. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» // Собрание Законодательства РФ. 2000. № 20. Ст. 2112. С. 4318–4324. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание Законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. С. 9417– 9437. Федеральный закон от 29 июля 2000 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон ―Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации‖» // Собрание Законодательства РФ. 2000a. № 31. Ст. 3205. С. 6075–6080. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание Законодательства РФ. 2000b. № 32. Ст. 3336. С. 6249–6251. Федеральный закон от 11 декабря 2004 г. № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон ―Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации‖ и в Федеральный закон ―Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской федерации‖» // Собрание Законодательства РФ. 2004. № 50. Ст. 4950. С. 11198–11207. Федосов П. А., Валентей С. Д., Соловей В. Д., Любовный В. Я. Перспективы российского федерализма: федеральные округа, региональные политические режимы, муниципалитеты // Полис. 2002. № 4. С. 159– 183. Hyde M. Putin‘s federal reforms and their implications for presidential power in Russia // Europe-studies. 2001. Vol. 53. N 5. P. 719–743. Nichols T. Putin's First Two Years: Democracy or Authoritarianism? // Current History. 2002. Vol. 101. N 657. October. P. 307–312. 195 Раздел III МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКОАДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ В РОССИИ Л. Н. Тимофеева (Москва) ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В РАКУРСЕ РОССИЙСКОГО ЭТНОФЕДЕРАЛИЗМА: ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ Опыт мирового развития свидетельствует, что принцип «один народ – одно государство» в моноэтническом варианте нереализуем. На земле проживает около 3 тысяч народов и существует примерно 180 государств. Только в границах Российского государства живут граждане более ста национальностей. Самой многочисленной является русская, составляющая более 80% из 147-миллионного населения. Русские живут на всей территории, численно преобладая в большинстве регионов и в крупных городах страны. К другим крупнейшим национальностям относятся татары, чуваши, башкиры, мордва, чеченцы, немцы, а также украинцы и белорусы. Почти повсеместно границы расселения не совпадают с границами внутрироссийских образований. Десятки миллионов граждан – это потомки смешанных браков. В большинстве российских республик и в автономиях титульная национальность не составляет большинства населения. Из изложенных фактов может родиться один вопрос: какая форма территориально-государственного устройства лучше всего подходит для России: федеративная или унитарная? Россия исторически складывалась как полиэтническое государство, где вначале унитаризм, а затем федерализм избирались способами решения этнических проблем и устройства государства. Но и сегодня вновь общественность страны волнует этот вопрос. В 2008 г. исполняется 15 лет со дня принятия Конституции РФ, закрепившей федеративную сущность Российского государства, и подписания Федеративного договора о разграничении полномочий Центра и субъектов Федерации. Это, безусловно, исторические документы, по-новому прочитавшие коренные положения сосуществования наций-этносов в составе России. 196 Прежде всего, необходимо сфокусировать свое внимание на таком положении, как национально-культурное самоопределение народов в пределах существующего государства, а не «вплоть до их отделения», как это было записано в Конституции СССР. Развитие федеративных отношений стало пониматься как обеспечение гармоничного сочетания самостоятельности субъектов Российской Федерации и целостности Российского государства. Экономическая асимметрия российского федерализма покрывалась договорными обязательствами между Центром и регионами. Между тем утвержденная затем в 1996 г. Президентом РФ Концепция государственной национальной политики Российской Федерации указывала на то, что асимметрии между субъектами РФ быть не должно. Среди основных принципов государственной национальной политики провозглашался принцип равноправия всех субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти, а также своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов. К сожалению, по прошествии этих 15 лет Россия не смогла уберечь себя от этнополитических конфликтов и даже двух военных кампаний на Северном Кавказе. Почему это произошло и что делать дальше? Попробуем поразмышлять. В той же мере, в какой политика способна проникать в различные сферы жизни общества, в той же степени и этническое пронизывает все поры социального, тем более в полиэтническом обществе. Вот почему этнополитические конфликты – не такая уж редкость в нашем государстве. Этнополитический конфликт (э. п. к.) можно охарактеризовать как этнический раскол через механизмы политической деятельности. Поскольку первый признак всякого государства – территория, то в условиях распада СССР именно территориальные притязания выступают основой примерно 2/3 всех современных этнических конфликтов на пространствах бывших республик Советского Союза и внутри России. Об этом свидетельствуют и события августа 2008 г., когда вялотекущий конфликт между Грузией и Южной Осетией вновь приобрел острую военную форму, а грузинские военные попытались градом огня вытеснить жителей республики с их территории. Известно, что этнополитические конфликты очень трудно поддаются регулированию из-за целого ряда причин: 1) все этнополитические конфликты носят комплексный, сложносоставной характер; 2) конфликты эти отличаются высоким накалом эмоций, страстей, проявлением иррациональных сторон человеческой природы; 3) большинство крупных этнополитических конфликтов имеют глубокие исторические корни; 4) этнополитические конфликты характеризуются высокой степенью мобилизации, потому что защищаемые в них сторонами этнические 197 особенности (язык, быт, вера) составляют повседневную жизнь каждого члена этноса, что и обеспечивает массовый характер движения в их защиту; 5) этнополитические конфликты носят хронический характер, ибо этнические отношения достаточно подвижны, и та степень свободы и самостоятельности, которой удовлетворялись прежние поколения этноса, может показаться недостаточной следующему. Безусловно, проблема урегулирования этнополитических конфликтов является одной из самых острых как в теоретическом, так и в практическом значении. Существуют три теоретические парадигмы при изучении этнических конфликтов, которые позволяют ответить на вопрос: является ли этничность источником конфликтов (примордиализм), или она лишь вовлекается, используется (инструментализм) или даже конструируется для других форм борьбы и достижения внеэтнических целей (конструктивизм). Все эти теории точно характеризуют сложившуюся практику. Для развертывания э. п. к. необходимы предпосылки, с которыми, хоть и трудно, но можно работать: 1) исторические (территориальные споры между этническими группами, конфликты, происходившие в прошлом); 2) социально-экономические (неравномерность экономического развития, неодинаковый объем прав и официальных или неофициальных привилегий для представителей различных этносов, этностатусные представления); 3) культурно-религиозные (языковые проблемы, межконфессиональные разногласия); 4) политические (деятельность политических организаций и лидеров, чьи действия могут отражать как объективные интересы этнических групп, так и их собственные политические интересы); 5) геополитические (воздействие на ход конфликта со стороны других государств и международных организаций); 6) факторы «окружающей среды» (общее состояние государства, в котором разворачивается этнополитический конфликт: экономическая ситуация, состояние системы государственного управления). В России в разное время использовались разные способы регулирования этнополитических конфликтов. Беспощадный способ, аукнувшийся в современной России, был применен Сталиным во время войны – это депортация целых народов-этносов вглубь страны, когда гитлеровцы подошли к Северному Кавказу. Самые мягкие из них: консоциация (инкорпорация этнических групп в политическую и административную структуру государства – это впервые наиболее наглядно случилось после первой войны на Кавказе и пленения Шамиля, когда представители элиты горских народов получили возможность учиться в университетах, носить дворянские титулы, находиться на государствственной службе); синкретизм (культурное представительство этнического 198 разнообразия при фактической деполитизации этничности – этот подход наиболее ярко представлен в последней Конституции РФ 1993 г. и реализуется на практике в РФ); федерализация (децентрализация, предполагающая передачу части властных функций региональным, а фактически очень часто этническим общностям –характерная политика для нынешней России. В Советском Союзе она была уравновешена установкой на интернационализм в воспитании населения и некоторую русификацию власти в республиках). Сегодня этнофедерализм, по мнению ряда политиков (В. В. Жириновский и др.), фактически угрожает целостности России. Кроме того, считается, что в процессе урегулирования э. п. к. не устраняются ни его участники, ни предмет, ни объект конфликта, ни само противоречие. Главные усилия конфликтующих групп направлены на достижение конструктивного взаимодействия сторон по изменению системы отношений вокруг объективированных проявлений противоречия, прежде всего объекта и предмета конфликта. Сам конфликт при этом не разрешается, так как не разрешается основное противоречие, его породившее, ибо предмет и объект конфликта чаще всего есть предмет и объект актуализированной фазы конфликта, конкретноисторическая манифестация противоречия. Просто конфликт переходит в латентную стадию. Естественно, кое-кто вновь поднимает вопрос об искоренении такого рода конфликтов (например, возникающих в крупных и малых российских городах, в связи с иммиграцией большого числа нерусского населения, не желающего культурно ассимилироваться), т. е. устранении одной из сторон конфликта, когда исчезает система взаимодействия этих групп и прекращается сам конфликт. Такие настроения можно понять, но нельзя допустить. Итак, для России вновь актуален вопрос о выборе формы национально-территориальной организации государства и, значит, о процедурах регулирования этнополитических конфликтов. Как считают некоторые этнополитологи (Р. Г. Абдулатипов и др.), власть боится решать национальные проблемы и по привычке действует в этой сфере по принципу «отложенного конфликта». Более решительны в своих позициях политические партии, сформулировавшие еще перед выборами в Государственную Думу 2004 г. свои позиции относительно унитаризма/федерализма. Почти все они поддерживали федеративный порядок территориально-государственного устройства, за исключением ЛДПР, которая выступала и продолжает выступать за унитарное государство. Предлагая унитарное устройство государства, ЛДПР считает, что этим она ослабит этнонациональную составляющую в нынешних государственно-правовых и статусно-ролевых конфликтах 199 между Центром и регионами и национальными республиками и российскими областями. ЛДПР видит перед собой задачу в создании унитарного (единого) государства, которое административно будет состоять из губерний и соответствующих административных подразделений. Партия, возглавляемая В. В. Жириновским, формулирует шесть тезисов: 1. Россия – унитарное (единое) государство, которое административно состоит из губерний и соответствующих административных подразделений. 2. Россия – президентская республика с однопалатным парламентом – Государственной Думой с 300 депутатами, каждый из которых избирается приблизительно от 300 тыс. избирателей. Органы представительной власти избираются также на губернском уровне – Губернские думы. Выборы Президента России и депутатов Государственной Думы проводятся одновременно один раз в пять лет. Губернские думы также избираются на пять лет, но с интервалом в два года от выборов в Государственную Думу. 3. Первым министром (Председателем Правительства России, которому поручается его формирование) назначается лидер парламентского большинства, победившего на выборах в Государственную Думу. Силовые министры (обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, налоговой полиции), министр иностранных дел и министр финансов назначаются Президентом России и в своей деятельности подотчетны только ему. 4. Главы губерний назначаются указами Президента России и подотчетны ему. Формируется вертикаль исполнительной власти вплоть до отдельных населенных пунктов. 5. Из Конституции исключается механизм роспуска Государственной Думы, отставки Правительства и Президента России. Это позволит убрать силовое давление, страх, недоверие между ветвями власти. 6. Как коллективный орган власти образуется Государственный совет, в который входят по должности Президент России, Первый министр (Председатель) Правительства, Председатель Государственной Думы, силовые министры, министр иностранных дел, министр финансов, Председатель Конституционного Суда и губернаторы. Необходимость в Совете Федерации отпадает. Эти предложения, по мнению авторов программы ЛДПР, направлены на превращение России из аморфного федеративного государства в унитарное (единое) государство с сильной исполнительной властью. Либеральная программа СПС предлагала решить проблему управляемости и снятия конфликтности другим способом: вместо унитаризма 200 и неполноценного федерализма поэтапно культивировать «демократический федерализм», который подразумевает постепенное выравнивание прав и обязанностей субъектов Российской Федерации при сохранении их регионального и этнокультурного своеобразия. Демократический федерализм включает в себя четкое разделение полномочий центра, региональной власти и местного самоуправления при сохранении единого правового и экономического пространства. Большинство проблем должно решаться на том уровне, на котором возникают. «Либеральный ответ на вызов этнических и религиозных кланов состоит в безусловном признании права всех народов и этнических групп России на сохранение самобытной культуры, языка и традиционного образа жизни. Мы с равным уважением относимся ко всем религиям и церквям на территории нашей страны. Мирное совместное проживание всех российских народов и всех верующих (равно как и неверующих) может быть обеспечено только в том случае, когда мы все соглашаемся в каждом из наших граждан, прежде всего, признавать человеческую личность, обладающую неотъемлемыми правами и свободами. Любой иной подход – это путь к вражде, раздору и гражданским конфликтам. Наша цель – навсегда исключить возможность движения России по этому гибельному пути», – было записано в программе СПС. Однако и этот подход не лишен утопизма в условиях существования современных «образчиков» политической и правовой культуры, когда свобода оборачивается вседозволенностью и безнаказанностью, а право толкуется в пользу «сильного». Более умеренное в своих либеральных устремлениях «Яблоко» предлагало для построения эффективного федерализма такие меры: 1. Повысить эффективность и четко определить институт федерального вмешательства. 2. Проводить активную региональную политику. 3. Оказать особую поддержку регионам российского Севера – экономической, экологической и стратегической кладовой России. 4. Разрешить субъектам Федерации создавать в рамках их компетенции самостоятельные региональные органы исполнительной власти (в том числе правоохранительные), установить при этом административную ответственность за присвоение региональными властями полномочий федеральных органов власти. 5. Четко определить порядок принятия и реализации решений в сфере совместной компетенции Федерации и субъектов. 6. Укрепить финансовую самостоятельность регионов. Национальная политика, по мнению «яблочников», должна быть направлена на защиту прав каждого гражданина, в том числе национально-культурных, а не на обеспечение прав одних национальных общностей за счет других (Тимофеева, 2005, 373–374). 201 Действительно, современный мир характеризуется развитием мощных интеграционных процессов, глобализацией экономических, коммуникативных, экологических и других интересов. В то же время усиливается стремление народов к сохранению самобытности и базовых ценностей национальных культур. В этих условиях представляются весьма разумными предложения, которые сформулировала тогда Народная партия Российской Федерации: субъекты Федерации, независимо от принципа их формирования, должны иметь единый статус, равные права и обязанности; задачи укрепления государства должны формулироваться и решаться совместно с проблемами национального и регионального развития; финансовая поддержка субъектов Федерации со стороны центра должна дифференцироваться в зависимости от уровня развития региона, при условии всемерного стимулирования самостоятельного социально-экономического развития дотационных регионов, полной финансовой прозрачности региональных бюджетов и эффективного государственного контроля их исполнения; ненасильственное разрешение проблем и противоречий, порождаемых совместным проживанием многочисленных народов, народностей и этнических групп страны, недопущение проявления шовинизма, расизма, национализма и религиозного экстремизма. Однако из этих рассуждений большинства партий получается, что альтернативы многонациональному федерализму в России нет. Именно многонациональному федерализму, а не этнофедерализму. Что это означает? Прежде всего, это означает, что российское государство состоит из наций-этносов, проживающих в едином «многонародном», как говаривал И. А. Ильин, государстве. Это значит, что федерализм у нас должен выстраиваться как многонациональный, а не этнонациональный. Это означает также справедливое этнопредставительство в органах государственной власти, как исполнительной так и законодательной. Раньше в советское время в Верховном совете РСФСР была палата национальностей, которая выполняла эту функцию справедливого представительства. Сегодня в условиях либеральной демократии вопрос о квотах усиленно оспаривается. Серьезно обозначилась тенденция деруссификации власти во всех национальных республиках и автономиях России. Интересный опыт советского периода: обязательное присутствие в качестве одного их руководителей представителя самой многочисленной национальности, фактически забыт. Остро встает вопрос об интернациональном воспитании детей, подростков, молодежи в пределах многонационального государства. В рам202 ках этой проблемы на первый план выдвигается вопрос о приоритетах: что воспитывать раньше – «любовь к малой Родине», родному краю, а уже потом, когда человек станет старше – к большой Родине, России? Или делать это одновременно? Сегодня наблюдается явный перекос в формировании любви только «к родным осинам». Задача формирования единого многонационального народа с понятной для него гражданской идентичностью – «россияне» выполняется плохо. Между тем ряд ученых еще в конце 90-х годов выдвинули идею нового собирания российской нации на основе интегративной идеологии, ориентированной не на подавление различий, а на поиск возможного их конструктивного взаимодействия (Алексеева, Капустин и др., 1997, 139). Речь идет об интеграции социалистических и либеральных ценностей вкупе с ценностями патриотическими. Интегративная идеология – это система взглядов и ценностей, приверженность которым превращает некую совокупность людей в народ, т. е. в политически и исторически дееспособную целостность. «Народ» не отменяет своеобразия и даже конфликта интересов составляющих его групп. Он – та целостность, которая как раз создает возможность реализации таких интересов без превращения ее в «войну всех против всех». Иными словами, народ – та система общественной нравственности (в широчайшем смысле этого понятия), которая придает специфическим интересам групп и индивидов социально приемлемую форму. Ось постсоветского конфликта в России, часто скрытая от наблюдения, носит скорее не этнический, а духовно-этический характер: это терпимость и нравственность, с одной стороны, против нетерпимости и безнравственности – с другой. Первая пара оказывается, по сути, синонимом стабильности, безопасности и будущего России. Государство должно укреплять и повышать значение тех институтов, которые являются «площадками» максимально равноправного взаимодействия различных общественных сил, где происходит публичное выражение их взглядов и, возможно, согласование их устремлений. Считается, что государство может своим воздействием акцентировать некоторые ценности, вокруг которых, с одной стороны, может происходить кристаллизация толерантных идеологий и которые, с другой стороны, станут своего рода «эсперанто» взаимопонимания этих групповых интересов. Такими ключевыми ценностями, с точки зрения указанных авторов, являются Отечество, справедливость, достоинство человека. Эти ценности лишены этнической, религиозной и партийно-политической окраски и являются общечеловеческими. Другое дело – с какой целью и как их начнет использовать этнополитическая элита регионов и как можно противостоять их этнизации и политизации. 203 Обо всем этом необходимо думать, размышляя о судьбе многонационального федерализма в России. Литература Абдулатипов Р. Г. Этнополитология. СПб., 2004. Авксентьев В. А. Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы. Монография. Ставрополь, 2001. Алексеева Т. А., Капустин Б. Г., Пантин И. К. «Национальная идеология»: иллюзия или непонятная потребность? // Октябрь. 1997. № 1. Мацнев А. А. Этнополитические конфликты: пути предупреждения и регулирования // Основы национальных и федеративных отношений. Учеб. пособие. М., 2001. Тимофеева Л. Н. Власть и оппозиция: конфлкитно-дискусный анализ (история, теория методология). Докт. дисс. М. 2005. Тишков В. А. Этничность и власть в полиэтнических государствах. М., 1994. 204 В. А. Ачкасов (Санкт-Петербург) МОЖНО ЛИ С ПОМОЩЬЮ ФЕДЕРАЛИЗМА РЕШИТЬ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС»? В современном мире почти нет стран с моноэтническим и монокультурным составом населения, поэтому практически во всех обществах возникает проблема поиска и создания эффективных механизмов согласования интересов их различных групп (сегментов), имеющих религиозную, языковую, идеологическую, региональную, культурную, расовую или этническую природу. История свидетельствует, что федерация, как правило, ранее не служила средством решения пресловутого «национального вопроса» (опыт Запада), это скорее один из способов вертикального разделения и децентрализации власти и потому субъекты ее создавались не по «национально-территориальному» признаку (как в СССР и других социалистических федерациях), а по физикогеографическому (США, Австралия) или историческому признаку (Швейцария, Австрия, ФРГ). Судьба «социалистических федераций» СССР, ЧССР, СФРЮ, построенных на основе данного принципа, казалось бы, подтверждает эту констатацию, поскольку их распад, несомненно, связан с институализацией и легитимацией этничностей, обеспеченных «национально-территориальным» принципом федерализации. Тем не менее сегодня ряд исследователей считает, что при определенных обстоятельствах федерализм может служить инструментом урегулирования межэтнических конфликтов и средством достижения стабильной демократии в условиях мультиэтничного и мультикультурного общества. Как практическое подтверждение чаще всего приводится пример мультилингвистической и мультиконфессиональной Швейцарии. Однако в основе швейцарского федерализма лежат не этническая, а кантональная идентичность и демократическая интеграция. Именно это, по словам В. А. Тишкова, «помогает сохранять языковое и религиозное разнообразие и децентрализованную, кантональную и общинную лояльность. Унификационная составляющая крайне слаба в этой системе федерализма. Здесь федерализм – не коррекция и дополнение к основополагающей структуре национального правления, а структурный принцип демократии, построенной на согласии. Здесь демократия включена в качестве элемента в федеральную структуру, а не наоборот, для защиты интересов структурированных меньшинств внутри многокультурно205 го общества. Это не демократическая федерация мэдисоновского типа, а федерализированная демократия. Здесь федерализм и демократия изначально связаны друг с другом» (Тишков, 2005, 164). Кроме того, как показала практика, в большинстве случаев «сплав» этнического начала с территориальным ведет постоянному воспроизводству кризисов в отношениях между «этническими» субъектами и федеральным центром (Бельгия, Канада, Индия, Россия). Дж. Макарри и Б. О`Лири писали в 1993 г., «у федерализма как средства регулирования конфликтов в многонациональных и полиэтнических государствах плохой послужной список даже там, где он гарантирует определенную степень самоуправления для меньшинств» (McCarry , O`Leary,1993, 111– 112). Политическая практика показывает: 1. Не только большинство мультиэтнических государств не являются федерациями, но и «федерации, в институтах которых этнический фактор не получает отражение» составляют большинство – это США, Австрия, Австралия, ФРГ, Мексика, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Пакистан, Папуа–Новая Гвинея и др. 2. «Сплав» этнического начала с территориальным неизбежно вносит элемент асимметрии в выстраивание федеративных отношений, что чаще всего ведет не к социальной гармонии, а к постоянному воспроизводству кризисов в отношениях между «этническими» субъектами и федеральным центром, между «привилегированными регионами» и теми, которые лишены привилегий, а также между представителями так называемого «титульного этноса» субъекта федерации и «национальными меньшинствами» (Бельгия, Индия, Канада, Россия 1990-х годов). «Преференции, обеспечиваемые любому меньшинству, немедленно требуют защиты меньшинств внутри этого меньшинства – Ахиллесу никогда не догнать черепаху», – резонно отмечает А. Захаров (Неприкосновенный запас, 2008, 285). Кроме того, права личности становятся производными от прав этнических сообществ, а последние «рассматриваются как компактные целостности («коллективные тела») с четкими границами, очерчивающими якобы абсолютно оригинальные, самобытные, непохожие друг на друга культуры» (Шнирельман, 2008, 90). В результате требования этнических групп о признании их права на политическое самоопределение базируется на примордиалистском понимании этнической идентичности как извечной и присущей всем членам общности, а территории самоопределения – как места, где «совершился этногенез данного народа» (С. Червонная). Однако социальные и территориальные границы этнических групп, как и их идентичность, могут меняться во времени (поэтому вопрос об исконных территориях того 206 или иного «коренного этноса» не имеет решения). Этнофедерализм же институализирует то, что может быть временной «этнической» идентичностью в качестве константной, тем самым закрепляя существующие различия и способствуя их воспроизводству в изменившихся условиях идентификации, взаимопроникновения культур и культурной гибридизации. 3. В условиях общественных трансформаций этнофедерализм генерирует дополнительный конфликтный потенциал. «Преданность федерализму нередко истощается, когда он требует от них (субъектов федерации – прим авт.) дополнительных работ и финансовых затрат», – язвительно замечает Шарль Джеффери (Jeffery, 1995, 32). В этой связи В. А. Тишков констатирует: «Существуют четыре типа ситуаций, при которых федерализм оказывается перед вызовом этнического фактора: федерации в хроническом кризисе (Канада, Бельгия, Индия, Нигерия); распавшиеся бывшие коммунистические федерации; многоэтничные общества с элементами федеральных начал (регионализм, евросообщество); Швейцария – пока еще беспроблемное общество» (Тишков, 2005, 165). Не могу не прокомментировать этот пассаж. Первое. В «Единой Европе» культурная интеграция и решение проблемы формирования европейской идентичности явно отстает от темпов экономической интеграции. Оценивая результаты выборов 2004 г. в Европарламент, сотрудник лондонского «Центра европейской реформы» Алистер Мюррей указал на то, что «поддержка избирателями оппозиционных партий, евроскептиков и националистов – это первый звонок для европейских правительств. Итоги выборов показали, что население не поддерживает их политику и не чувствует никакой связи между собой и Евросоюзом». Это подтверждают и результаты социологических опросов. Так, в конце 2003 г. в 15 странах «ядра» ЕС впервые в истории более половины опрошенных оценивали результаты членства их страны в Евросоюзе как событие «отрицательное» или «скорее отрицательное» (Цит. по: Кокшаров, 2004, 25). После вступления стран Восточной и Центральной Европы в Европейский союз, многие граждане европейских государств и на Востоке, и на Западе континента испытывают все большее разочарования от экономических и политических последствий членства в «Единой Европе». «Идея единой Европы перестала играть роль вдохновляющего и мобилизующего девиза, как это было в течение длительного времени – с середины 40-х по середину 90-х годов минувшего столетия. Теперь это не столько ценностный ориентир, выстраданный предыдущим трагическим опытом и наполненный богатейшим историко-филологическим содержанием, сколько прагматическая зада207 ча, определяемая экономическими и геополитическими интересами европейских государств» (Кризис ЕС…, 2005, 35). В этой связи исследователи предсказывают рост электоральных успехов националистов, последовательно выступающих против процессов европейской интеграции и глобализации не только на Востоке Европы, но и на Западе. Насколько далеко продвинулись в сторону федерализма государства Европейского союза, свидетельствует провал ратификации очень умеренной в смысле федерализации Конституции ЕС и провал еще более умеренного Лиссабонского соглашения. Второе. Множество нерешенных проблем есть и у так называемых региональных государств Испании и Италии и не только. В первой постоянной «головной болью» для Мадрида является эскалация требований по передаче все новых полномочий Каталонии и Стране басков. Во второй, несмотря на регионализацию, не уменьшается, а по-прежнему растет отчуждение между Севером и Югом страны, что ставит под вопрос сохранение целостности итальянского государства. Следует добавить, что европейская интеграция, как это ни парадоксально, одновременно «является надеждой политических руководителей ―внутренних наций‖: Шотландии, испанской Страны басков, Каталонии, Галисии, Фландрии и др., видящих в европейской схеме рычаг, с помощью которого можно заставить считаться сначала с их стремлением к более широкому суверенитету, а затем – с самыми радикальными чаяниями прийти к формальной независимости, признанной Союзом» (Фуше, 1999, 83). Так, Барселона сегодня все чаще напоминает Мадриду о том, что все затруднения внутреннего диалога она готова преодолеть, напрямую апеллируя к Брюсселю, «без упоминания Испании даже в качестве промежуточной ступени», стремясь войти, таким образом, в единую Европу без посредничества Испании. Как отмечают испанские исследователи, «длительный демократический период привел к осознанию того, что испанское государство уже не то, что было раньше, и уже не будет тем, чем могло бы стать: суверенным национальным государством по вестфальской или французской модели» (Испания – Каталония: империя и реальность…, 2007, 28). В то же время именно такой «выход из тупика» европейского регионализма видят и многие западные исследователи. Так, один из них писал в конце прошлого века: «Только смесь из регионализма и паневропеизма может предотвратить рост (регионального. – В. А.) национализма, при этом регионализм может рассматриваться и как сепаратизм, и как движение автономизации» (Applegate, 1999, 1158). Третье. Знаменательна оговорка В. А. Тишкова: «Швейцария – пока еще беспроблемное общество». Сегодня можно констатировать Швей208 цария уже не беспроблемное общество. Об этом, в частности, свидетельствует убедительная победа на парламентских выборах осенью 2007 праворадикальной «Швейцарской народной партии» Кристиана Блохера, получившего 29% голосов избирателей – абсолютный рекорд страны с 1919 г. Эту победу, прежде всего, обеспечило обещание активно бороться с нелегальной иммиграцией, в частности, «высылать эмигрантские семьи из страны, если один из ее членов совершил серьезное преступление». И это можно понять, поскольку, согласно официальной статистике, 70% заключенных в Швейцарских тюрьмах составляют не европейцы (Политический журнал, 2007, 9). Поэтому, рассматривая проблемы этнического федерализма, исследователи формулируют одну важную «оговорку»: «По-видимому, многонациональные федерации эффективны только в тех случаях, когда претензии этносов на самовыражение не предусматривают элементов собственной государственности. …Именно национально-территориальный принцип государственного устройства препятствует нормальной реализации «асимметричной» модели, довольно успешно работающей в федерациях, которые допускают культурную, но не политическую автономию проживающих в них этносов» (Захаров, 2003, 115– 116). Кроме того, федерализм, это не неизменная данность, это процесс, предъявляющий очень высокие требования как к политическим элитам, так и к гражданам. Как писал еще в начале ХХ в. известный российский правовед А. С. Ященко: «...Форма федеративная вся построена на соглашениях, на взаимных уступках, очень хрупка, неустойчива и слаба; для своего более или менее нормального функционирования она требует совсем исключительного духа законности и привычки населения к повиновению законам и в особенности решениям беспристрастного и нейтрального суда, разрешающего конфликты между центральными и местными властями» (Цит. по: Карапетян, 1999, 17–18). Утверждать, что в России наличествуют данные условия нормального функционирования этнофедерации не будет даже самый завзятый оптимист. В 1990-х годах, когда федеральная исполнительная власть была слаба и нуждалась в политической поддержке властей регионов, Россия постоянно балансировала на грани распада ввиду бесконечного неформального торга с национальными республиками по вопросам перераспределения властных полномочий и финансовых ресурсов. Хотя справедливости ради нужно отметить, что в действительности ни один из регионов, за исключением Чечни, не был настроен на фактическую сецессию. Поэтому утверждение В. Путина о том, что в конце 1990-х «Страна распадалась и фактически находилась в состоянии гражданской 209 войны» – мягко говоря, преувеличение. Однако в эти годы, по данным Л. Иванченко, было заключено 46 двухсторонних договоров и около 300 соглашений (цифра впечатляющая), закрепляющих за субъектами федерации (и, прежде всего, национальными республиками) различного рода экономические и финансовые преференции, что, в свою очередь, укрепляло их политическую автономию от Центра (Иванченко, 2000). В 2000-е годы маятник резко пошел в обратном направлении. В результате осуществления политики «укрепления вертикали власти», которая нашла выражение в целом цикле административных реформ президента В. В. Путина, казалось бы, была создана «единая административная система, работающая как один организм» (Путин, 2004). Однако эти централизаторские реформы имели неоднозначные и неодинаковые последствия для разных субъектов Российской Федерации, особенно для национальных республик. Так, система власти, сложившаяся в северокавказских республиках, по словам Л. Шевцовой, «приняла экстремальное кланово-авторитарное выражение и держится на федеральных штыках и дотациях. Москва оказалась заложником местных царьков типа Рамазана Кадырова… которые, сбрасывая всю ответственность на Центр, тем самым только усиливают в регионе антироссийские настроения… В случае возгорания Кавказа Москва будет вынуждена вводить там чрезвычайные механизмы управления, ибо российская государственность не содержит иных механизмов ответа на подобные вызовы» (Шевцова, 2005). К сожалению, этот прогноз, сделанный три года назад, подтверждается событиями, происходящими в Ингушетии и Дагестане. В свою очередь, сегодня бывший советник Президента РФ Андрей Илларионов делает еще более широкие обобщения: «За прошедшие восемь лет реальный контроль центральных властей за ситуацией в национальных республиках, по сравнению с тем, что было в 1990-е годы, снизился на порядок. Чечня получила фактическую независимость, а Россия стала ее данницей. По пути получения де-факто независимости идут и другие национальные республики. Поворотным событием следует считать, очевидно, 2002 год, когда в разгар выборов президента Башкирии группе силовиков, бросившей вызов М. Рахимову и мобилизовавшей для своей поддержки значительные силы, включая и местные либерально-демократические круги, был дан приказ на отступление. Со времени тотальной сдачи позиций в Уфе ни одной серьезной попытки вмешательства Кремля в дела национальных республик не отмечено. Тем самым был фактически создан новый институт – институт невмешательства Москвы в дела национальных республик, означающий 210 переход к их фактической независимости при сохранении внешних атрибутов лояльности Кремлю» (Дело, 2008, 9). Действительно, большинство лидеров республик, которые в 1990-е годы выступали «локомотивами суверенизации», по-прежнему на своих местах, похоже получив от Кремля некую «охранную грамоту», и, думаю, они не утратили вкус к власти и ее неформальному перераспределению в свою пользу, конечно же, «во имя интересов своего народа». Поэтому в условиях серьезных экономических неурядиц (которые, похоже, уже начались) вновь может возникнуть мощная мотивация «спасться в одиночку» и вновь возникнет угроза распада России, которая опять же, скорее всего, будет исходить из национальных республик. Таким образом, политическая автономия этнических групп, обеспечиваемая федерализмом, чаще всего становится источником конфликтов, а не способом их разрешения. Особенно в ситуации, когда «…сохранению различий уделяется слишком много внимания в ущерб целенаправленной деятельности для формирования тех традиций, ценностей и надежд, которые разделяются различными людьми, это может привести к дальнейшей фрагментации общества и ослаблению чувства солидарности. Признавая культурные различия и этноконфессиональную специфику, важно делать акцент на общенациональных ценностях и обеспечивать защиту прав всех граждан. В связи с этим одним из главных вопросов (особенно в современной России. – В. А.) остается вопрос о способности федерализма управлять межэтническими отношениями, соблюдая при этом дух и букву либеральной демократии» (Грибанова, Сидоренко, 2007, 21). В целом же международный опыт свидетельствует, что при решении «этнической проблемы» наиболее успешные мультиэтничные западные демократии чаще идут не по пути создания этнофедераций, а по пути «распредмечивания» и деполитизации этнического фактора, в рамках политики мультикультурализма, демонтажа институтов, связывающих этничность и власть, этничность и государство, что достигается за счет подчеркивания процессуального характера этничности, множественности социальных идентичностей и идеи «гражданской нации», что не позволяет признать этнофедерализм оптимальным способом решения этнических проблем в «многонациональном» государстве. Сохранение этнической и религиозной принадлежности – это выбор и неотъемлемое право каждого человека, право оставаться самим собой, быть непохожим на других. Однако при этом люди должны подчиняться общим для всех законам, сосуществовать вместе, крепить гражданскую солидарность во имя сохранения и процветания общего для них национального государства. 211 Все сказанное выше о недостатках этнофедерализма отнюдь не означает, что автор предлагает «с сегодня на завтра» отказаться от национально-территориального принципа в построении Российской Федерации, да это и невозможно практически. «Федерализм, – как справедливо отмечает В. А. Тишков, – это процесс, столкновение позиций и аргументов, поиск компромиссов и меньше всего – правовое, а тем более, силовое принуждение» (Тишков, 2005, 161). Поэтому моя цель показать: 1) что существуют и другие, более оптимальные и менее конфликтные способы решения проблем сохранения идентичности в мультиэтнических государствах; 2) что права индивида, независимо от его этнической, расовой или конфессиональной принадлежности, а также места жительства, имеют приоритет по отношению к правам любых групп, в том числе этнических. Более того, никто в нашем Отечестве даже не задается вопросом, насколько корректно рассматривать такое условное множество как народ или национальное меньшинство в качестве субъекта права – имеет ли такая общность признаки правового субъекта? «Субъект права должен не только иметь способность приобретать и реализовывать свои права своими действиями, но и исполнять обязанности, а также нести ответственность. Условное или статистическое множество подобными свойствами не обладает, и речь может идти только о фикции» (Осипов, 2008, 147), о неком мегаантропосе, от имени которого действуют этнократические элиты. Право народов на самоопределение как раз и представляет наиболее яркий пример такой фиктивной правовой нормы, т. е. «вербальной конструкции, составленной как общезначимое правило, на основе которого не могут возникнуть правовые отношения» (Там же, 148). Кроме того, идея национального самоопределения, как не раз было показано, несет в себе серьезный конфликтный потенциал. Именно поэтому автор уверен, что формирование Российской Федерации на основе так называемого национально-территориального принципа привело к тому, что граждане различной этнической принадлежности фактически получили неравный правовой статус и неодинаковые права и условия для самореализации, сохранения и развития своей культурной самобытности. В частности, это следствие того, что меньше половины представителей нерусских народов проживают в пределах национально-государственных образований и более половины населения этих образований (республик и автономных округов) составляет так называемое «не титульное» население. Наделение «этносов» своей государственностью порождает целый ряд вопросов, на которые в рамках национально-территориальных федераций нет ответа: «Если определенный субъект федерации ―принад212 лежит‖ ―титульной национальности‖, то следует ли из этого, что он не является ―своим‖ для остальных живущих там граждан? Как тогда интерпретировать то, что они платят налоги, участвуют в выборах и пользуются всей полной прав гражданина и человека? Если государственность является для них также ―своей‖, то зачем нужны заявления о ее этнической ―принадлежности‖? Если такие заявления имеют не только символическое значение, то в чем, в каких институтах и отношениях находит выражение эта связь между этничностью и территорией?» (Осипов, 2008, 150–151). Вывод из вышесказанного представляется очевидным: «Никакая, самая радикальная суверенизация ―национальных‖ субъектов Российской Федерации и народов, не имеющих на ее территории национальногосударственных образований, не решит проблемы защиты этнических интересов населяющих ее граждан. Следовательно, выход из сегодняшнего состояния следует искать в преобразовании России в территориальную федерацию» (Народовластие в России…, 1997, 57). К такому выводу пришли сегодня многие российские исследователи и некоторые политики, вопрос лишь во времени и поиске наименее «затратного» и конфликтного пути такого рода реформы российского федерализма. Литература Грибанова Г. И., Сидоренко А. В. Федерализм и разрешение этнополитических конфликтов в современном обществе // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. СПб., 2007. Т. 3. № 3. Дело. СПб. 21.04.2008. Захаров А. E pluribus unum. Очерки современного федерализма. М., 2003. Иванченко Л. А. Организационно-правовое обеспечение приоритетов регионального развития // Конституционно-правовые проблемы развития российского федерализма. М., 2000. Испания – Каталония: империя и реальность: Сборник статей. М., 2007. Карапетян Л. М. Федерализм и права народов: Курс лекций. М., 1999. Кокшаров А. Интеграционная апатия // Эксперт. М., 2004, № 9. Кризис ЕС: Последствия и перспективы // Современная Европа. М., 2005, № 4. Народовластие в России – очерк истории и современного состояния / Под ред. Ю. А. Дмитриева. М., 1997. 213 Неприкосновенный запас. 2008, № 1 (57). Осипов А. Эссенциалистские представления об этничности в системах преподавания правовых специальностей // Расизм в языке образования / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. СПб., 2008. Политический журнал М., 2007, 29 октября. Путин В. В. Выступление на заседании Правительства РФ с участием глав региональных администраций. Москва, 13 сентября 2004 г. – http://kremlin.ru/text/appears/2004/09/76651.shtml Тишков В. А. Этнический федерализм: российский и международный опыт // Тишков В. А. Этнология и политика. М., 2005. Фуше М. Европейская республика. Исторические и географические контуры. М., 1999. Шевцова Л. Россия – год 2006: логика политического страха. Ч. 2 // Независимая газета. 2005. 16 декабря. Шнирельман В. «Патриотическое воспитание»: этнические конфликты и школьные учебники истории // Расизм в языке образования / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. СПб., 2008. Applegate С. A Europe of Regions: Reflections on the Historiography of Sub-National Places in Modern Times // American Historical Review. Vol. 104. N 4. October 1999. Jeffery Ch. The Non-Reform of the German Federal System after Unification // West European Politics. Vol. 18. April 1995. McCarry J., O`Leary B. The Politics of Ethnic Conflict Regulation: Case Studies of Protracted Ethnic Conflict. London; New York, 1993. 214 Н. В. Полякова (Санкт-Петербург) КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА Утвердившийся в России в 90-е годы федерализм представляет собой переходную систему, которая на современном этапе постоянно эволюционирует, модернизируясь и приспосабливаясь к новым социальноэкономическим и политическим реалиям. Вместе с тем эта система продолжает сохранять в себе некоторые специфические черты и проблемы прошлых моделей российского территориально-государственного устройства: как дореволюционного, имперского периода, так и советского периода с его собственным опытом построения федерализма. В этом контексте повышенное внимание к социокультурным детерминантам российского федерализма как со стороны ученых и экспертов, так и со стороны практических политиков представляется чрезвычайно важным. Одной из таких детерминант является конфессиональный фактор, всегда игравший исторически значимую роль в российском цивилизационном пространстве (даже насильственная секуляризация советского периода не смогла окончательно уничтожить этот вектор социокультурных отношений). На всех исторических этапах своего государственного строительства Россия представляла собой полиморфное образование не только в этническом, но и в конфессиональном смысле. Уже в дореволюционный период ее конфессиональное пространство, при безусловном численном, статусном и культурообразующем преобладании православия, было неоднородным и складывалось исторически под воздействием множества факторов социального, экономического и политического порядка: мирное и насильственное включение в состав России новых территорий, развитие экономических связей и культурных контактов, миссионерство, внутриконфессиональные процессы и др. (Каппелер, 2000, 106). На современном этапе это пространство стало еще более сложным и рельефным за счет гигантских процессов миграции, обусловленных социально-экономическими и политическими причинами, что привело к резкому изменению этнической и конфессиональной структуры населения большинства субъектов РФ, и, как следствие, к развитию там деятельности нетрадиционных для региона религиозных направлений. Так, Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 08-03-00641а. 215 на 1 января 2001 г. в Государственном реестре Минюста было зарегистрировано 20 215 религиозных организаций, представленных 60 конфессиями, церквями, религиозными объединениями и деноминациями. По числу направлений, а также числу последователей и религиозных объединений лучше всего представлено христианство (40 христианских церквей и деноминаций). При этом абсолютно ведущее место занимает среди них православие в лице Русской Православной Церкви (54% всех религиозных объединений, зарегистрированных в Минюсте). Общая численность православных в стране, по разным оценкам, составляет 70– 80 млн. человек и подавляющее большинство из них принадлежит к самой многочисленной деноминации России – РПЦ, представленной во всех российских регионах. Вторая по численности последователей религия РФ – ислам (около 13 млн человек; по другим оценкам, значительно выше). Официально зарегистрировано 3 186 мусульманские религиозные организации, что составляет около 18 % от общего числа зарегистрированных. Подобная пестрая и многообразная палитра конфессиональных отношений, предпосланная российской системе федерализма, требует в целях повышения эффективности этой системы решения серьезных и актуальных проблем, назревших в этой специфической области. Учитывая этноконфессиональные различия субъектов Российской Федерации, необходимо выстроить такую модель вероисповедальной политики, которая бы отвечала российским традициям и менталитету, учитывала опыт прошлого, а также непростую ситуацию в религиозной сфере современного российского (и не только российского) общества. В целом, возвращение религии в общество и политику становится в современном мире (в большей или меньшей степени в зависимости от конкретного контекста) повсеместным фактом: «В большинстве стран Азии и Африки религия явно возвращается в политику, однако и в Западной Европе классическая модель секуляризации зашаталась» (Альтерматт, 2000, 130). Многие исследователи связывают этот процесс расшатывания классической модели секуляризации с современным ренессансом этнонационального вопроса и отмечают наличие «диалектической связи между религией и национализмом». По мнению известного швейцарского историка У. Альтерматта, эта связь наиболее рельефно выявляется тогда, когда, во-первых, «религиозные ценности являются фундаментальной составной частью национальной культуры»; а, вовторых, «если национальные меньшинства отличаются от доминантной государственной культуры своей религией» (Там же, 141). Таким образом, религиозный фактор может становиться дополнительным средством идентификации и интеграции этнической общности, способным 216 усиливать или сглаживать (в зависимости от выбранного типа идентификации) различные противоречия, которые неизбежно возникают в ее разноплановых взаимодействиях с окружающей социальной средой. Подобные предпосылки взаимодействия религии и национализма вполне определенно могут быть отслежены и в российском контексте, а их игнорирование способно создавать достаточно опасные ситуации для развития и укрепления системы федерализма. Например, когда в марте 1999 г. НАТО начало бомбардировки Югославии, Президиум Казанского отделения Всетатарского общественного центра выступил в поддержку НАТО, ссылаясь на то, что сербское руководство проводило политику геноцида по отношению к мусульманам, а Россия «всякий раз оказывала поддержку братьям по вере» (Иванов, Яровой, 2001, 106). Действительно, начиная с 90-х годов ХХ в. в российских общественных отношениях четко обозначились два встречных процесса – процесс де-секуляризации политики и политизации религии. Эти процессы, являя собой одну из форм воплощения общемировой тенденции «коррозии» принципа отделения религии от государства, имеют и свои специфически российские причины. Одной из таких причин является рост пассивных и активных форм религиозности в современной России, связанный с фундаментальной ломкой всей системы экономических, социальных, политических и культурных отношений, которая началась после распада Советского Союза и привела российское общество к затяжному системному кризису. В этих условиях различного рода религии взяли на себя компенсаторное выполнение некоторых социальных функций, например функцию идентификации, интеграции, стабилизации и т.д. При этом критерием масштабов религиозности в стране обычно служит число зарегистрированных религиозных общин (в современной России это число достигает более 20 тыс. объединений). Вторая причина кроется в непрекращающемся, инициированном российскими политическими элитами поиске так называемой национальной идеи, т. е. той ценностно-мировозренческой системы, вокруг которой можно было бы сплотить российское общество, пребывающее в своеобразном духовно-идеологическом вакууме после отторжения прежней идеологической системы. В контексте этих поисков традиционные для России формы религиозности, прежде всего православие, начинают рассматриваться в некоторых кругах как воплощение искомой «национальной идеи» или как ее важнейший структурный элемент: «Именно новая власть, кровно заинтересованная в воссоздании национальной идеологии, стала выстраивать новые отношения с Церковью по старой схеме, – активно содействуя укреплению новых позиций священноначалия» (Фирсов, 2005, 203). Таким образом, встречный про217 цесс – роста интереса политических элит к позитивной, объединительной роли религии и понимания со стороны религиозных объединений роли политики как важнейшего средства реализации их собственных религиозных, социальных и просветительских задач – стал знаковым явлением современной России, что, несомненно, требует от формирующейся российской государственности выработки и укоренения новой модели политики в религиозной сфере. Кроме того, в условиях многонациональной и поликонфессиональной России модель государственнорелигиозных отношений должна быть качественно приспособлена и адаптирована к функциональным характеристикам системы российского федерализма. В современном мире существует несколько основных общепринятых моделей государственно-религиозных отношений, которые с теми или иными вариациями используются в большинстве государств мира. Вопервых, это модель теократии, для которой характерно слияние церковной и государственной власти, причем церковная власть включает в себя светскую, а все функции государственного управления выполняют представители церковной иерархии (Иран, Мавритания). Во-вторых, модель государственной церкви или идентификационная модель, где определенная религия официально закреплена как государственная (Великобритания, Дания, Швеция, Финляндия, Греция, т. е. достаточно значимая часть европейских стран). Государственная церковь, являясь частью правительственного аппарата, выполняет ряд светских функций в обществе и обладает различными привилегиями в сфере экономических, правовых и политических отношений. В-третьих, модель отделения церкви от государства или сепарационная модель, характеризующаяся полной секуляризацией и отделением всех конфессий от государства, их равенством пред законом (Франция, США). При этом ни одной церкви не отдается предпочтение и осуществляется принцип невмешательства во внутренние дела как церкви, так и государства. Вчетвертых, как разновидность сепарационной модели модель частичного отделения церкви от государства или кооперационная модель (Испания, Италия, Польша, Португалия, Германия, Австрия и др.). В этом случае официально все конфессии признаются государством равными перед законом, однако последнее фактически признает преимущественное положение определенной церкви. Например, религиозная организация через получение статуса «субъекта публичного права» может рассчитывать на содействие и получение привилегий со стороны государства. Важно отметить, что в России на протяжении ХХ в. последовательно было реализовано большинство указанных моделей, хотя исторически 218 традиционной в российских условиях выступала именно модель государственной церкви. Политика, направленная на огосударствление Русской Православной Церкви, начатая еще в середине XVII в. при царе Алексее Михайловиче и юридически оформленная при его сыне Петре I, впоследствии оставалась на протяжении XVIII–XIX вв. официальной вероисповедальной политикой Российской империи. Государство взяло на себя роль «защитника и хранителя» православия, что впоследствии было прямо зафиксировано в 7 главе Свода основных государственных законов Российской империи (Политическая история России, 1996, 597). Ее результатом стало практически полная интеграция церкви в государственную систему, превращение ее в часть административного аппарата, оправдывавшая себя в условиях абсолютной монархии, но ставшая в последней трети XIX в. препятствием на пути процесса буржуазных реформ. В феврале 1917 г. пришедшее к власти Временное правительство начало серию реформ в сфере вероисповедальной политики. Был провозглашен отказ от традиционной модели государственной церкви и законодательно закреплено равенство правого положения всех религиозных организаций: Постановление Временного Правительства от 20.03. 1917 г. «Об отмене вероисповедальных и национальных ограничений»; постановление Временного правительства от 14.07. 1917 г. «О свободе совести» (О свободе совести…, 1996, 24–26). Хотя в реальности традиционная модель за такой короткий промежуток времени (с февраля по октябрь 1917 г.) не могла быть разрушена. Октябрьские события 1917г. внесли более радикальные изменения в систему государственноцерковных отношений: большевистское правительство выбрало как образец и законодательно закрепило сепарационную модель. В соответствии с декретом СНК от 23.01.1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» было провозглашено отделение религиозных объединений от государства и полная секуляризация. Но в действительности большевистская власть, юридически продекларировав принцип отделения церкви от государства, фактически использовала, доведя до абсурда, ставшую традиционной российскую модель государственной церкви в своих собственных политико-идеологических целях, продолжая напрямую управлять церковью, вмешиваться во все внутриканонические вопросы, оказывать на нее жесткое давление, вплоть до осуществления практики гонений и репрессий. Очевидно, что складывание той или иной модели государственноконфессиональных отношений – это результат взаимодействия множества обстоятельств. Выбор модели зависит и от национального состава государства, и от числа представленных в нем последователей той или иной религии, и от степени дифференциации политических и религиоз219 ных институтов, а более широко – от степени развитости гражданского общества, его правовой культуры, но, прежде всего, от целей и задач государственного управления. Те модели государственно-конфессиональных отношений, которые сложились в царской и советской России, не будучи совершенными, тем не менее отражали общее состояние российского социума, а также стратегию государственного управления на том или ином этапе исторического развития страны. На современном этапе российское государство, обращаясь как к собственным традициям, так и к мировому опыту в этом вопросе, вынуждено было искать новые формы взаимодействия с религиозными объединениями и институтами. Эти поиски проходят в непростых условиях государственного строительства в целом и системы федерализма, в частности, сопровождаясь также исканиями идейных оснований развития российского общества. Начало формирования новой модели государственно-конфессиональных отношений связано с принятой в декабре 1993 г. Конституцией Российской Федерации, которая подтвердила в качестве правовой основы вероисповедальной политики государства такие нормы, как светскость государства, равенство граждан вне зависимости от их отношения к религии, а также равенство религиозных объединений (статьи 14 и 19 Конституции РФ). Таким образом, изначально сложилась и была конституционно закреплена ориентация на отделительную (сепарационную) модель государственно-конфессиональных отношений по образцу американо-французской модели. Но в 90-е годы. в условиях «эйфории свободы», в том числе и религиозной, и своеобразного законодательного «самоустранения» государства от проблем в этой сфере это обернулось многочисленными нарушениями и искажениями провозглашенных принципов. По данным Минюста, был отмечен быстрый рост количества протестантских церквей, особенно харизматических, и новых религиозных движений, что вызвало действительно небеспочвенную тревогу со стороны представителей традиционных конфессий. Следующим уже просто объективно вынужденным шагом стала подготовка и принятие Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» (1997), в котором было обозначено не только отношение государства к религии, но и определен правовой статус религиозных меньшинств, а также правовые рамки деятельности иностранных религиозных организаций на территории России. Процесс принятия этого закона проходил достаточно трудно – через многочисленные редакции и президентское veto, а после его окончательного принятия (26 сентября 1997 г.) последовала достаточно жесткая критика как внутри страны, так и извне (со стороны США и Совета Европы) за его антиде220 мократизм и несоответствие нормам международного права. Нужно подчеркнуть, что данный закон действительно имеет явные проблемы и не справляется в полной мере с возложенной на него задачей правового оформления и регулирования российской модели государственноконфессиональных отношений. Например, в его рамках не был выработан механизм, предотвращающий сращивание региональной власти с местными религиозными элитами, не был обозначен четкий путь разрешения проблемы федерализма, когда местные законы о религиозных объединениях противоречат закону общефедеральному и т. д. Например, к середине 1997 г. в более чем двадцати субъектах РФ были приняты и действовали законы и положения, регулирующие «миссионерскую деятельность» и вводившие дополнительные аккредитации религиозных объединений на местном уровне. И хотя Конституционный Суд РФ признал наиболее спорные положения указанного Закона соответствующими Конституции РФ, это не снимает проблемы правовой и политической непроработанности концепции государственно-конфессиональных отношений, особенно в условиях многонационального, а следовательно, многоконфессионального по своему составу Российского государства. Одним из основных принципов регулирования государственноконфессиональных отношений в современной России стало разделение религиозных объединений на «традиционные» и «иные». И хотя юридически такая классификация в российском законодательстве и не установлена, традиция «разностатусности» религиозных объединений твердо укоренилась в российской практике. В настоящее время на федеральном уровне фактически устоялся перечень «традиционных конфессий», который включает в себя Русскую Православную Церковь (РПЦ) – наиболее влиятельное религиозное объединение, а также исламские и иудейские объединения, и Традиционную буддийскую сангху России. С теми или иными отличиями (в зависимости от конфессионального состава субъекта РФ) данный перечень воспроизводится и на региональном уровне. Особое значение в рамках обозначенной проблематики имеет вопрос о характере современных отношений Российского государства и Русской Православной Церкви (РПЦ). В неизбежной конкуренции конфессий за влияние на общество официальные власти (в том числе и на федеральном уровне), отступая от позиции нейтральности, открывают РПЦ дополнительные возможности, открыто рассматривая ее как титульную Церковь России и отмечая особую роль православия в отечественной истории и культуре. Подобное положение нашло свое закрепление и в преамбуле к Федеральному закону «О свободе совести и религиозных объединениях», трудный процесс подготовки которого завер221 шился признанием особой роли православия в истории России. Таким образом, светская власть публично призналась в том, что видит в православии самую уважаемую религиозную конфессию. Таким образом, юридически Российская Федерация – светское государство, но фактически открыто протекционирует Русскую Православную Церковь, в том числе и на уровне Федерального закона «О свободе совести и религиозных обединениях», предоставляя ей налоговые льготы, отсрочку от службы в армии для священнослужителей, оказывая различного рода финансовую и иную материальную помощь, предоставляя преференции в области воспитания и образования, а также особые привилегии в отношениях с силовыми структурами (в частности, с армией) и т. д. На современном этапе представители российской политической элиты продолжают на официальном уровне в различных формах открыто позиционировать себя в отношении православия, опираясь на тактику лояльности и покровительства РПЦ. Все это противоречит конституционно продекларированному принципу отделения церкви от государства, атрибутивно присущему светскому государству, и тем самым размывает правовые основы взаимодействия государства и религиозных объединений в контексте российского федерализма. Следовательно, проблема выбора и правового укоренения определенной модели государственно-конфессиональных отношений остается по-прежнему достаточно актуальной для российского общества: что же все-таки предпочесть – полную религиозную свободу или патернализм государственной власти; отдать приоритет традиционным религиям или отстаивать принцип веротерпимости? Исторически традиционная для России модель государственной церкви, несущая на себе весь груз как позитивного, так и негативного прошлого опыта, не способна в современных российских условиях работать позитивно с учетом избранного принципа государственно-территориального устройства по типу федерализма. Оформленная законодательно с начала 90-х годов и апробированная в этот период отделительная или сепарационная модель также продемонстрировала уже в современной практике свою неэффективность в российских условиях. Что же касается третьей из распространенных в современном мире моделей государственно-церковных отношений – кооперационной, то она имеет, с точки зрения многих экспертов, достаточно реальный позитивный шанс для укоренения в российском социуме, позволяя сделать выбор в пользу «среднего пути» между государственной церковью и полным отделением церкви от государства. Ее зачатки начали складываться в России с середины 90-х годов, а после принятия закона 1997 г. «О свободе совести и религиозных объединениях» процесс в этом направлении ускорился, будучи поддержан 222 также и представителями ведущих религиозных объединений РФ. Так, например, в разделе III.4. Основ социальной концепции РПЦ (август 2000 г.) было выделено три основные модели взаимоотношений церкви и государства. При этом модель государственной церкви и сепарационная модель в концепции отвергаются, а промежуточная модель, при которой церковь, приобретая статус корпорации публичного права, имеет привилегии и обязанности, делегированные ей государством, последовательно раскрывается и обосновывается (Основы социальной концепции…, 2005, III.4.). В рамках кооперационной модели (укорененной уже, в частности, в ФРГ) создается правовое поле, в котором все конфессии официально признаются равными перед законом, но некоторые из них, например, через получение статуса «субъекта публичного права» смогут (уже официально, де-юре, а не только де-факто, как в современной России) рассчитывать на приоритетные формы поддержки со стороны государства (Мирошникова, 2002, 49). Тем самым появляется возможность в условиях поликонфессионального государства заставить работать одновременно оба принципа – принцип веротерпимости и принцип приоритета традиционных религий. С точки зрения некоторых экспертов, для этого «рано или поздно придется пересмотреть концепцию Закона о свободе совести и религиозных объединений и вместо действующей регистрационной предложить согласительную систему взаимоотношений между религиозными организациями и государством, которая будет строиться на принципах социального партнерства между каждой церковью в отдельности и российским государством в целом» (Щипков, 2002, 5). Зачастую и сегодня сотрудничество российских государственных органов и воинских структур с православными, мусульманскими и изредка протестантскими религиозными организациями оформляется как на федеральном, так и на региональном уровнях заключением соглашений. Хотя подобные соглашения с участием неправославных религиозных объединений заключаются гораздо реже: в отношении же РПЦ можно говорить о том, что сложилась целая система таких соглашений. Но тем не менее на данном этапе органы власти сотрудничают с ведущими религиозными объединениями без должного правового основания, а во многом только на основании личных договоренностей высших иерархов с представителями власти и соглашений с государственными органами. В рамках же согласительной системы между государством и каждой религиозной организацией заключается с целью реализации конкретных проектов социального служения договор, в котором будут оговариваться права и обязанности каждой из сторон, исходя из конкретных рос223 сийских условий, а также разработанной и действующей в этой сфере законодательной базы. В результате, «подобный подход сохраняет демократический принцип, позволяет полнее использовать потенциал традиционных религий, ограждает личность от посягательства псевдорелигиозных групп и одновременно предупреждает возбуждение конфликта между конкурирующими религиозными организациями» (Щипков, 2002, 6). Таким образом, при кооперационной модели государственноконфессиональных отношений важнейшее значение приобретает четкое установление порядка сотрудничества государственных органов и учреждений с религиозными объединениями, его детальное правовое регулирование с учетом конституционных принципов. В целом же очевидно, что находящаяся в процессе становления система российского федерализма может быть жизнеспособна при условии, что ее развитие и функционирование получит многофакторное обеспечение, в том числе и с учетом конфессионального фактора. В интересах оптимизации этой системы особенно важно выстроить и всемерно поддерживать, опираясь на конституционный принцип отделения церкви от государства (ст. 14 Конституции РФ), стратегию своеобразного баланса государственно-церковных и в целом конфессиональных отношений, нацеленную на поиск общих интересов и ценностей. Отсутствие четко законодательно и политически проработанной модели государственноконфессиональных отношений, замедление с определением ее сущностного содержания, плохая информированность общества в этом вопросе является дестабилизирующим фактором для социально-политической и духовной ситуации как в Российской Федерации в целом, так и в ее отдельных субъектах. В этих условиях основная задача государства – не вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви, а выработать, наконец, и зафиксировать законодательно некую эталонную схему государственноцерковных отношений, которая, с одной стороны, оставляла бы возможность ее конкретизации на уровне федеральных субъектов с учетом региональной этноконфессиональной ситуации, а с другой – не позволяла бы иррациональной религиозной стихии становиться опасной в условиях такого полиморфного во всех отношениях образования, как Российская Федерация. Литература Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. Градировский С., Малахова Е. Противоречия статусности религиозных организаций и объединений // Преодолевая государственно224 конфессиональные отношения. Сборник статей. Нижний Новгород, 2003. С. 99–102. Григоренко А. Ю. Церковно-государственные отношения в современной России и проблема религиозной свободы и терпимости // Вступая в третье тысячелетие: религиозная свобода в плюралистическом обществе. Материалы международной конференции (Москва, 23–24 марта 1999 г.). М., 2000. С. 106–118. Закон о свободе совести 1997: международные нормы и российские традиции. М., 1998. Иванов В. Н., Яровой О. А. Российский федерализм: становление и развитие. М., 2001. Казьмина О. Е. Конфессиональный состав населения России // Энциклопедия «Народы и религии мира», 2000 – http://www.cbooc/ peoples/obzor/confess1 Каппелер А. Россия – многонациональная империя. М., 2000. Кардинал Йозеф Хеффнер. Христианское социальное учение. Обработано и дополнено Лотаром Роосом. М., 2001. Мировой опыт государственно-церковных отношений. М., 1998. Мирошникова Е. М. Кооперационная модель как средство оптимизации российской государственной политики в области свободы совести. //Десять лет на пути свободы совести. М., 2002. С. 46–57. О свободе совести, вероисповедений и религиозных объединениях. Российские и международные правовые документы. М., 1996. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви – http://www. patriarchia.ru/db/text/141422.htm. 2005. Политическая история России: Хрестоматия. / Сост. В. И. Коваленко. М., 1996. Российское законодательство о свободе совести в 80–90-х гг. ХХ в. М., 1999. Фирсов С. Л. К вопросу о месте и роли Русской православной Церкви в структуре российской государственности XX в. (феномен «православного неоконсерватизма») // Философия и социально-политические ценности консерватизма в общественном сознании России (от истоков к современности): Сборник научных статей. Вып. 2. / Под ред. Н. В. Поляковой. СПб., 2005. С.160–223. Щипков А. Регулирование государственно-церковных отношений (к симфонии через партнерство) – http://www. religare.ru/article167.htm. 2002. 225 Л. И. Никовская (Москва) ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОРЕЧИВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ На современном этапе федерализм в России существует преимущественно в качестве формальных правовых принципов. Он фактически сведен к федеративной форме государственного устройства. Федерализм как идеология государства, как определенные взаимоотношения разных уровней власти, как гласные переговоры властных элит различных уровней, как форма достижения договоренностей и компромиссов фактически находится в современной России в зачаточном состоянии. Между тем развитие этой практики очень эффективно для урегулирования наиболее сложных противоречий, связанных с подвижным взаимодействием централизма и федерализма. Это противоречие как противоречие между центром и регионами свойственно любому государству, имеющему административно-территориальную структуру. Что касается России, противоречие между централизмом и регионализмом в многообразных формах проявления было одним из начал государственного строительства на всем протяжении всей истории страны: проблемы соотношения роли центра и частей государства независимо от их наименования известны уже с эпохи Киевской Руси. В подлинно содержательном отношении Россия не имела глубокого опыта реального, подлинного федерализма. Российская империя была унитарным государством с предельно централизованной системой управления. В советское время существовал номинально декларируемый федерализм. И лишь с 1991 г., после августовского кризиса, начались сложные этнополитические процессы, направленность которых хорошо выразила формула Ельцина: «берите суверенитета столько, сколько сможете переварить». Но эти процессы сыграли роль своеобразного тарана в борьбе против тоталитарной системы власти и ее ядра – КПСС. Фактически же этноэлиты сделали ставку на национализм для удержания своей власти и экономической независимости в той псевдолиберальной атмосфере реформ. Деятельность «суверенизировавшихся» местных элит в области законодательства и практической политики в прошедшее десятилетие ельцинского режима позволила говорить о «дикой конфедерации». Конституция 1993 г. и последующее конституционное развитие отразили эти центробежные тенденции достаточно четко (в виде, 226 так называемого, «договорного федерализма» и противоречивой концепции «внутреннего суверенитета»). Эта достаточно неустойчивая и внутренне противоречивая концепция асимметричного российского федерализма, в которой субъекты федерации, подобно матрешке, содержат внутри себя других «субъектов», на деле стала, однако, выражением реальных политических интересов – борьбы за раздел собственности, распределения ресурсов и власти. Следствием этого явилось, в частности, появление региональных патриархальных этнократических режимов (яркий пример – Калмыкия с Илюмжиновым) или авторитарных клиентелистских режимов личной власти (вроде Приморья при Наздратенко). Поэтому путинский лозунг об укреплении государственности, властных структур (особенно по вертикали, а затем уже по горизонтали) означал не только пересмотр политики безбрежной «суверенности», но и вполне соответствовал объективной потребности сохранения «единой и неделимой» России, отражая вполне реальную тенденцию объединения на качественно новой основе. И здесь невозможно обойти те сущностные, внутренние сложности, которые демонстрирует принцип федерализма в Новейшее время. В современной литературе по федерализму четко показано, что данная форма политико-территориального устройства в период Новейшей истории оказывается неустойчивой и имеющей противоположные тенденции развития: федерализм в принципе тяготеет либо к унитаризму, либо к конфедерации. Соответственно, различаются интегративный и деволютивный федерализм (Медушевский, 2001, 48–58). Стабильные (или централизованные) федерации существуют в основном там, где население принадлежит к одной нации или ассимилировано ею, имеет один язык, религию, сходную политическую культуру и ценности. Примерами являются США, где право сецессии штатов было ликвидировано сразу после гражданской войны середины XIX в., Швейцария или Германия. В качестве примера обратной тенденции (деволютивного федерализма) могут служить в Новейшее время Канада и особенно Индия, где федерализм (при наличии разнородных национальных, конфессиональных и политических тенденций штатов) поддерживается мощными институтами федеральной интервенции и периодическим введением чрезвычайного положения. Если рассматривать российский федерализм в этом сравнительном контексте, то он до последнего времени был значительно ближе ко второму типу, нежели к первому. Это объясняется особенностями его исторического формирования и реальным содержанием. В ельцинскую эпоху федерализм все явственнее стал эволюционировать в направлении национального сепаратизма и политической децентрализации, фактически – в направлении конфедерации. 227 Уже к середине 90-х годов стало очевидно, что стихийно сложившаяся в России федеративная система во многом мало функциональна. К числу ее наиболее явных недостатков относились: 1) смешанный этнотерриториальный характер построения, чреватый этноконфлитктами и «этновыдавливанием»; 2) ассиметричность масштабов федеральных единиц и, соответственно, неравный вес голосов проживающего в них населения; 3) неравенство статусов субъектов федерации (различия между республиками и «простыми губерниями», наличие субъектов федерации, входящих одновременно в состав других субъектов); 4) экономическая, социальная и политическая дифференциация регионов; 5) дотационность большинства субъектов федерации, а следовательно, их полная зависимость от субвенций федеральной власти; 6) провинциальный централизм, т. е. воспроизводство (в ухудшенном варианте) на регионально уровне существующих отношений Центр-регионы; 7) самовластие региональных элит; меньший, чем в Центре, контроль за их деятельностью со стороны гражданского общества и правовых институтов; 8) неоправданно высокая роль субъективного фактора, когда личные качества главы региона и его персональные связи в Центре во многом определяют отношение федеральных властей к региону и тем самым – социальное и экономическое положение проживающих в нем граждан; 9) разнобой в законодательстве, разрушающий единое правовое поле государства (Петров, 2000, 8). Новая власть предприняла решительные шаги по укреплению целостности российской государственности и восстановления управляемости вертикали власти. Концепция реформирования российского федерализма включила в себя изменение существующего административнотерриториального деления путем его укрупнения (семь федеральных округов); изменение порядка формирования верхней палаты парламента; наделение президента исключительно обширными полномочиями по роспуску региональных законодательных собраний и отрешению от должности избранных глав субъектов Федерации. Реализованные в своей совокупности, эти законы призваны были создать новый – централизованный тип федерации, имеющий устойчивую тенденцию к унитарной модели власти. Решающим элементом данной системы стали новые центры региональной власти – федеральные округа, а инструментом проведения в жизнь – полномочные представители президента. Центра228 лизованный федерализм, формируемый в современной России, можно назвать «исполнительным федерализмом», «верхушечным федерализмом», но он представляет собой принципиальный отход от системы квазифедерализма, который угрожал в определенном смысле целостности и управляемости российского государства. Но проблемы остаются. Одна из них связана с отменой общенародных выборов глав субъектов Федерации и переходом к процедуре их фактического назначения Президентом РФ. Предполагалось, что управление при таком положении дел станет более эффективным и завершенным по форме, исключающем неисполнительность, коррупцию и сепаратизм. При этом произошло обострение противоречия между административным и политическими началами во взаимоотношениях Центра– регионы». На политическом уровне формулируются основные задачи общества, их приоритеты и способы решения, на административном – осуществляется их реализация. Слабость или тем более отсутствие первого начала политико-государственного управления лишают административные усилия содержательного контента, изолируют управленческие институты от общества и в конечном счете приводят к пробуксовке и потере эффективности. Слабость или отсутствие второго начала превращают политику в пустые слова и декларации. Фактическая отмена общенародных выборов глав субъектов Федерации в какой-то мере усилила административную сторону управления обществом, но в еще большей степени ослабила политическую. Последовавшее за этим ужесточение избирательного законодательства усилило эту тенденцию. Обобщая существующие споры относительно характера российского федерализма, можно сказать следующее: и противники, и сторонники административных нововведений едины в определении данных реформ как радикальных с точки зрения трактовки российского федерализма; в том, что эти изменения ведут к централизации управления и контроля; наконец, в том, что их следствием становится резкое усиление реальных полномочий главы государства в области регулирования федеративных отношений на законодательном и особенно кадровом уровне. Основным объектом споров становится вопрос об эффективности нового (параллельного) административно-территориального деления страны и института полномочных представителей президента. Иными славами, трактовка властной вертикали, положенная в основу последнего этапа реформы отношения Центр–регионы, явно исходила из убеждения, что главное – не совокупность интересов социальных групп, составляющих общество и лежащих в основе любой осмысленной политики, не заинтересованность жителей регионов в целостности государственного организма, а набор инструментов, позволяющих по229 будить общество принять одобренные «верхами» решения. Отсюда тот естественный скептицизм, который проявила российская общественность при оценке возможных последствий очередного этапа реформ. Существуют же демократические государства, в которых главы регионов назначаются сверху. Правда, федерациями их никто не называет... Следует признать, справедливости ради, позитивность ряда результатов, связанных с реализацией «политики укрепления вертикали власти». Они особенно заметны на региональном уровне. Так, восстановлено правовое и экономическое общероссийское пространство, региональные элиты вынуждены отчасти отказаться от сепаратистской и этнократической политики, для развития институтов местного самоуправления созданы одинаковые правовые условия во всех регионах, в субъектах федерации стали возможными выборы по партийным спискам, правда, при этом были фактически выведены из игры региональные политические партии и т. п. Однако все эти преимущественно положительные подвижки не способствует демократизации регионов, скорее вектор общероссийского политического развития стал близок к традиционному авторитаризму региональных «пионеров федерализации». Важным показателем состояния федеративных отношений в стране являются механизм разграничения полномочий между уровнями публичной власти, а также совокупность доходных полномочий и расходных обязательств, которые закреплены за каждым уровнем управления. Существующий в Российской Федерации способ разграничения полномочий между уровнями власти основан на законодательном закреплении конкретного перечня полномочий с определением источников их финансирования. Такой подход позволяет четко определять компетенцию каждого из уровней власти, ответственность за решение конкретных проблем граждан, выполнение государственных функций. Принцип разграничения полномочий между уровнями публичной власти был впервые реализован в Федеративном договоре о разграничении предметов ведения и полномочий. Договор закрепил полномочия каждой из сторон и провозгласил принцип самостоятельного их осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также полноту государственной власти субъектов Российской Федерации вне пределов совместного ведения и предметов ведения Российской Федерации. Следующим шагом по формированию системы разграничения полномочий стало принятие Конституции Российской Федерации, в которой закреплены принципы федеративного устройства государства, в том числе общий для всех субъектов Российской Федерации перечень предметов ведения Российской Федерации и совместного ведения Россий230 ской Федерации и субъектов Российской Федерации вне зависимости от их статуса. Конституция Российской Федерации разграничила предметы исключительного ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. При этом остался открытым вопрос об осуществлении полномочий органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по предметам ведения, не был определен и способ их осуществления. Это порождало различные подходы, теоретические конструкции и трактовки разграничения полномочий, источников их финансирования, что привело к неравномерности в соотношении объемов полномочий различных субъектов Федерации, придало ему асимметричный характер. Таким образом, Россия вступила в договорный этап разграничения полномочий между уровнями публичной власти. В период с 1994 по 1998 г. было заключено 42 договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Договоры допускали перераспределение предметов ведения и полномочий, установленных в Конституции Российской Федерации, что позволило решить ряд внутриполитических проблем, но постепенно усугубляло асимметрию в федеративном устройстве и диспропорции в развитии регионов. Основным направлением укрепления государственности стало законодательное разграничение полномочий между уровнями публичной власти. Была проведена, как известно, масштабная инвентаризация всех государственных и муниципальных полномочий, закрепленных федеральным законом за каждым уровнем публичной власти. Меры по укреплению государственности свели на нет значение договоров о разграничении полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Законодательно этот механизм был сохранен, но суть договоров существенно изменилась. В период с 21 декабря 2001 г. по 20 мая 2003 г. было прекращено действие 33 договоров с 34 субъектами Российской Федерации. К январю 2005 г. сохранили действие 9 договоров с 12 субъектами Российской Федерации. 9 июля 2005 г. все оставшиеся на тот момент Договоры прекратили действие в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 4 июля 2003 г. № 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон ―Об общих принципах организации законодательных (представи231 тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации‖». Эта мера была направлена на обеспечение симметричности Федерации, оптимизацию федеративных отношений, реализацию конституционного принципа равноправия субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти (Аналитический доклад, 2007, 48). Разграничение полномочий по предметам совместного ведения между тремя уровнями публичной власти – Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и местным самоуправлением – было осуществлено Федеральным законом от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон ―Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации‖» и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Принятая система разграничения полномочий основана на выделении несколько типов полномочий по предметам совместного ведения. Определен перечень полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемых за счет средств собственных бюджетов, – круг вопросов, за решение которых несет ответственность субъект Российской Федерации. При этом допускается наделение субъектов Российской Федерации иными полномочиями по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения, но при условии достаточности финансирования их осуществления из федерального бюджета. В результате проведенных изменений была установлена необходимая мера ответственности субъектов Российской Федерации за осуществление функций государственного управления на своих территориях. С момента принятия первого основополагающего закона перераспределение полномочий было осуществлено несколько раз, и в первоначальный перечень было внесено более 20 изменений. Федеральные законы, определяющие систему разграничения полномочий, имели отложенное действие в целях обеспечения финансовой основы каждого полномочия, внесения изменений в отраслевое законодательство, а также приведения субъектами Российской Федерации своих правовых актов в соответствие с этими законами. В дальнейшем были приняты федеральные законы о внесении изменений и дополнений в Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации, устанавливающие разграничение бюджетных и налоговых полномочий, расходных обязательств и доходных источников, а также 232 определяющие формы и механизмы финансовой поддержки бюджетов других уровней. Доходные источники в значительной мере были перераспределены таким образом, чтобы каждое передаваемое полномочие имело достаточное финансирование. Продолжением процесса выстраивания вертикали власти, разграничения компетенции и формирования экономической основы федеративных отношений стал Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон ―Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации‖» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Этим законодательным актом были внесены изменения в значительное количество федеральных законов в сфере регулирования предметов совместного ведения с целью максимального приведения расходных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствие с закрепленным ранее исчерпывающим перечнем полномочий по предметам совместного ведения. Совершенствование системы разграничения полномочий предусматривает более четкое перераспределение всех функций и источников финансирования в соответствии с принципом эффективности и рациональности на всех уровнях управления. Был принят Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных образований». Приобретенный опыт, а также анализ отраслевого законодательства обусловили необходимость расширения перечня полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемых за счет средств собственных бюджетов. Закрепление закрытого перечня полномочий не позволяло субъектам Российской Федерации направлять средства на решение иных важных проблем. Конкретизация функций управления выявила ограниченность такого подхода в системе федеративных отношений. В условиях ограниченной компетенции ряд субъектов Российской Федерации объективно, в силу требований федерального законодательства, 233 не могли решать вопросы, имеющие особое значения для населения региона, направлять на их финансирование требуемый объем бюджетных средств. Эта же позиция с полным основанием может быть распространена и на муниципальный уровень, на который фактически возложено решение значительной части социальных, инфраструктурных и других территориальных проблем. Была осознана нецелесообразность увеличения федеральных структур, реализующих ряд отраслевых полномочий на уровне конкретных субъектов Российской Федерации. В связи с этим активизировался процесс передачи полномочий Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом Российская Федерация оставила за собой право получения доходов от ресурсов, полномочия по управлению которыми передавались, а финансирование их осуществления сохранилось в виде субвенций из федерального бюджета. Тем самым был обозначен очередной этап развития федеративных отношений, характеризующийся децентрализацией порядка выполнения функций Российской Федерации и передачи их субъектам Российской Федерации. При этом был сохранен высокий уровень контроля федерального центра за реализацией полномочий и воздействия на органы государственной власти субъектов Российской Федерации в случае получения негативного эффекта. В перспективе по мере получения практического опыта данный процесс может быть оптимизирован и послужит еще более устойчивой основой перераспределения доходных источников между федеральным центром и регионами в пользу последних. Концептуальным основанием этого процесса служит передача всех функций федерального уровня власти, реализуемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Финансирование этих полномочий должно осуществляться за счет субвенций из федерального бюджета в размерах текущих затрат федерального уровня. Однако такая децентрализация может вызвать рост бюрократического аппарата органов управления субъектов Российской Федерации, повышение расходов на его содержание. При этом существенно расширяется ответственность органов государственной власти регионов перед населением и федеральным центром. При явной недостаточности финансирования передаваемых функций из федерального бюджета их реализация может быть затруднительна. Проводимая реформа разграничения полномочий основана на достаточно четких принципах, отработанных в мировой практике. Речь идет в 234 первую очередь о принципе субсидиарности. Внедрение принципа субсидиарности выражается в четкой законодательной фиксации полномочий в зависимости от оптимальности их осуществления на том или ином уровне публичной власти, обеспечении финансовыми и иными ресурсами, закреплении ответственности за ненадлежащую реализацию. В перспективе этот принцип должен последовательно внедряться в законодательство в целях обеспечения эффективности осуществления государственных функций и местного самоуправления. Без участия субъектов Российской Федерации этот процесс может стать неконтролируемым и не отвечающим требованиям федеративной реформы. Показательно, что последние законодательные инициативы Правительства Российской Федерации по изменению перечня полномочий во многом основаны на предложениях субъектов Российской Федерации. Однако эти предложения принимаются «по факту» возникновения конкретных проблем в регионах, тогда как необходимо опережающее внесение корректив, основанных на детальном мониторинге реальной ситуации в регионах. В целях обеспечения реализации законодательных норм по обеспечению полномочий был закреплен такой правовой институт, как временное возложение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации на федеральные органы государственной власти. Этот механизм был призван стать обеспечивающей мерой подчинения региональных властей институтам федеральной власти. Тем не менее институт временной финансовой администрации ни разу не был реализован на практике, но наличие инструмента непосредственного вмешательства федерального центра в лице федерального органа исполнительной власти в разрешение кризисной ситуации в том или ином регионе представляется оправданным. Принципиальным моментом реформы стало то, что в основу взаимоотношений сложносоставных субъектов Российской Федерации был положен принцип неравенства и усеченной компетенции. Изначально такое неравенство привело к нарушению конституционного принципа равенства субъектов Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. Поиск оптимальных путей согласования позиций органов государственной власти сложносоставных субъектов Федерации привел к возникновению двух возможных вариантов – заключение договора о взаимодействии между автономным округом и краем, областью, в состав которого он входит, либо принятие решения об объединении автономного округа и края, области. Практика реализации закона подтвердила второй путь, так как заключение соглашения о взаимодействии предполагает весьма кропотли235 вую работу по поиску точек соприкосновения между органами государственной власти сложносоставных субъектов Российской Федерации. Более того, в условиях уже закрепленных полномочий поиск путей их перераспределения самостоятельно органами власти субъектов Российской Федерации невозможен. Такая ситуация во многом обусловила процесс укрупнения сложносоставных субъектов Российской Федерации. В итоге с момента начала реформы в сфере разграничения полномочий решения об объединении были приняты в 5 сложносоставных субъектах Российской Федерации. Укрупнение субъектов федерации, на наш взгляд, поможет не только сокращению количества чиновников регионального уровня, но и увеличению числа регионов-доноров, которое сегодня не превышает 20. У территории, которая получает увеличенные дотации в силу своего объединения, появляются перспективы к развитию городов, которые можно превращать из монофункциональных в полифункциональные. У таких городов больше шансов на развитие малого и среднего бизнеса, получения инвестиций и т. п., что при грамотной политике местных властей может вывести целый ряд регионов в разряд доноров. Реформа в сфере разграничения полномочий привела к появлению тенденций централизации компетенции на федеральном уровне. Здесь возникают предпосылки дальнейшего укрепления власти, концентрации наиболее значимых полномочий и «стягивания» под них наиболее доходных источников и ресурсов. В значительной мере этот процесс повышает управляемость и уровень исполнительской дисциплины в системе органов государственной власти, однако он не способствует учету региональных особенностей при принятии государственных решений. Это подтверждает череда инициатив по перераспределению полномочий, появлению все новых полномочий федерального центра, которые объективно вынуждены передаваться для осуществления на региональный уровень. Такое перераспределение не всегда учитывает реальные интересы субъектов Федерации и осуществляется посредством федерального регулирования. Так, Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» вновь перераспределил полномочия между Российской Федерацией и субъектами Федерации, но уже в определенной степени полномочия были перераспределены «сверху вниз». Без использования объективных критериев перераспределения, а также механизмов согласования интересов Российской Федерации и субъектов Федерации, дальнейшее совершенствование федеративных 236 отношений будет осуществляться на уровне взаимоотношений федеральных органов государственной власти, ответственных за различные сферы деятельности, и органов управления субъектов Российской Федерации. Между тем федеративные отношения предполагают более широкий диалог и отлаженную систему согласования интересов всех субъектов Федерации и федерального центра. В противном случае возникает директивность передачи полномочий, незаинтересованность субъектов Российской Федерации в качестве их исполнения. Нужно расширить участие субъектов Российской Федерации в процессе принятия решений о перераспределении полномочий. Существующих механизмов согласования позиций регионов и федерального центра недостаточно. Необходимо повысить роль субъектов Российской Федерации в законодательном процессе, особенно при рассмотрении законопроектов по предметам совместного ведения. Пока слабо учитываются официальные отзывы регионов по таким законопроектам в Государственной Думе. Требуется увеличение сроков рассмотрения законопроектов в регионах и подготовки официальных отзывов. Другим существенным моментом должно стать введение практики обязательного согласования с субъектами Российской Федерации сумм субвенций, выделяемых из федерального бюджета на осуществление передаваемых полномочий. Разграничение полномочий между уровнями публичной власти стало ключевым в совершенствовании федеративных отношений, но привнесло в них некоторые элементы и принципы управления унитарным государством. Главным же итогом проведенных преобразований стало повышение эффективности осуществления государственных функций, уровня социально-экономического развития и соответственно благосостояния граждан. Совершенствование федеративных отношений во многом зависит от обеспечения стабильности и сохранения принятой модели разграничения полномочий. Законодательная практика наглядно показывает, что изменения в законодательство вносятся достаточно оперативно, и это в большинстве случаев не позволяет учитывать мнения субъектов Российской Федерации при рассмотрении законов, не обеспечивает стабильность правового поля и выработку в субъектах Российской Федерации необходимых условий для реализации полномочий. Обеспечение стабильности в реализации полномочий является основной задачей современного этапа развития федеративных отношений и системы разграничения полномочий. Другая проблема, с которой сталкиваются органы государственной власти субъектов Российской Федерации – это недостаточность фи237 нансовых средств на реализацию полномочий Российской Федерации, делегированных для осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации. При сохраняющемся объеме финансирования решение многих социальных проблем в регионах будет осуществлено лишь в долгосрочном периоде. Во избежание появления новых необеспеченных «федеральных мандатов» при передаче полномочий необходимо проводить первоначальную оценку возможностей осуществления их органами государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом имеющихся средств федерального бюджета. При передаче федеральных полномочий не учитываются расходы по их администрированию, т. е. средства на постоянное и регулярное осуществление работ организационного и административного характера по созданию баз данных, отслеживанию, обработке, учету и обеспечению рабочих мест. Таким образом, при перераспределении полномочий важно учитывать не только основные расходы по их осуществлению, но и вторичные, которые неизбежно возникают при осуществлении функций государственного управления. В ближайшей перспективе можно ожидать следующую динамику развития событий. На федеральном уровне будут все больше концентрироваться функции и полномочия в сфере развития производственных структур и промышленности. В ведение субъектов Российской Федерации в еще большей степени будет отнесено решение вопросов обеспечения федеральных стандартов и гарантий в социальной сфере, а также связанных с созданием комплекса благоприятных условий для развития промышленности и других сфер экономики инновационного характера. При этом должна быть существенно расширена сфера взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти в решении межрегиональных вопросов, развитии проектов по использованию и освоению природных ресурсов и формированию научных центров. Целесообразным, на наш взгляд, является введение единого социального стандарта для всех российских регионов, когда федеральные дотации и субвенции будут выделяться в равной степени всем существующим субъектам федерации (с учетом их потребностей в бюджетной сфере), а различного рода дополнительные социальные программы могут осуществляться лишь за счет дополнительных доходов соответствующих регионов. Такой подход будет принципиально отличен от современной практики датирования субъекта федерации по этнополитическим соображениям безопасности. В своем Послании к Федеральному Собранию РФ Президент указал 238 на важность достижения «оптимального баланса разграничения полномочий между Федерацией и регионами. Как вы знаете, здесь была проведена большая, можно сказать, огромная работа. Но мы все равно уточняем параметры этого разграничения. В том числе вносим изменения в перечень имущества, необходимого для федерального, регионального уровня, для того, чтобы полноценно исполнять свои функции. Считаю, что надо вернуться к этому вопросу и, наконец, определиться, сколько и какого имущества надо регионам» (Медведев, 2008, 9) Основная перспектива России – развитие сложноорганизованного федерализма. Многочисленные трудности и проблемы формирования федерализма в России не означают потенциальную невозможность реализации данных принципов. В мире есть целый ряд государств, которые не имели многовекового опыта формирования демократии и федерализма, но смогли создать достаточно успешно функционирующие демократические федералистские модели. Большинство стран мира, избравших федеративную форму государственного устройства, развиваются по пути демократизации как своих политических режимов, так и расширения прав субъектов федерации. Во всяком случае, это характерно даже для стран, которые еще недавно являлись приверженцами жесткой централизованной федерации: Индия, Бразилия и т. п. Вектор развития российской государственности за годы реформ последовательно проходил этапы унитаризации и единообразия, квазифедерализации в рамках системы тотально-правового и фактического сепаратизма ряда территорий, «укрепление вертикали власти» и формирования модели централизованного федерализма. На наш взгляд, современная российская государственность должна строиться на принципе субсидиарности. Оптимальным для Российской Федерации является государство с развитым местным самоуправлением и централизованной федеративной системой. Такая концепция полностью противоречит «децентрализации сверху», которая была очень популярна в посткоммунистической России. На повестке дня стоит и реформа Совета Федерации, которая не изменит существующую стабильность, но демократизирует и сделает более эффективной всю федеративную систему России. Для такой реформы нет необходимости в изменениях в Конституции РФ, поскольку в рамках Основного закона российского государства, действующего уже 13 лет, мы видели различные модели верхней палаты парламента. Предложения, высказанные на съезде партии «Единая Россия» в декабре 2006 г. в Екатеринбурге, носят, на наш взгляд, половинчатый характер. Более целесообразными являются прямые выборы членов Совета Федерации в российских регионах. Представляется, что такие выборы позво239 лят сформировать верхнюю палату парламента (по два представителя от территории) из людей, отстаивающих интересы соответствующего субъекта федерации и его населения, подорвут административный ресурс «Единой России» на местах, фактически совпадающий с административным ресурсом местных глав регионов. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию России был предложен иной принцип формирования Совета Федерации, который сочетает в себе как усиление роли законодательной (представительной) власти регионов и местного самоуправления, так и повышение степени публичности самой процедуры избрания: «Совет Федерации должен формироваться только из числа лиц, избранных в представительные органы власти и депутатов местного самоуправления соответствующего субъекта Федерации. Так называемый ценз оседлости, предписывающий члену Совета Федерации проживать в ранее определенном регионе определенное количество лет, должен быть отменен. В результате в Совете Федерации будут работать граждане, прошедшие процедуру публичного избрания, имеющие опыт работы с избирателями и представляющие не только органы власти субъекта Федерации, но и, самое главное, непосредственно его население» (Медведев, 2008, 6). Совету Федерации предложено повысить свою роль как координатора законодательной деятельности представительных органов власти территорий. Современная Россия, отказавшись от несправедливой асимметрии федеративной модели, сократив количество субъектов федерации, постепенно оптимизируя всю систему отношения Центр–регионы, проведя деэтнизацию федерации, реализуя на практике национальнокультурную автономию целого ряда этнических групп, постепенно в будущем сможет внедрять и политические институты конфедеративного толка, которые популярны сегодня в развитых системах федерализма и объективно детерминируются процессом глобализации. «Но это возможно только после прохождения Россией стадии централизованного федерализма и постепенного изменения политической культуры россиян на демократическую и федералистскую, что потребует несколько десятилетий политического развития» (Сергеев, Большаков, 2008, 27). Литература Аналитический доклад «О состоянии федеративных отношений и региональной политики в Российской Федерации». М., 2007. Медведев Д. А. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации – http://www. kremlin. ru/text/appears/2008/11/208749. Shtm. 240 Медущевский А. Н. Федерализм нуждается в стратегических разработках // Россия в условиях трансформаций. Вып. 10. М., 2001. Петров Н. Федерализм по-российски. Pro et contra. Центр и регионы России. Зима 2000. Сергеев С. А., Большаков А. Г. Федерализм в современной России в контексте мирового опыта. Казань, 2008. 241 М. Х. Фарукшин (Казань) УСИЛЕНИЕ ДИСБАЛАНСА В РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЛИЗМЕ В развитии российской федеративной системы за последние 17 лет можно выделить два совершенно разных этапа: первый из них пришелся на период децентрализации власти (1991–1999 гг.), второй – на период ее рецентрализации (2000–2008). Каждый из этапов отличался большим своеобразием. Оба они имели противоречивый характер и по-разному сказались на состоянии федеративных отношений. I На первом этапе среди прочих направлений становления новой российской государственности декларировалось формирование реального федерализма, основанного на общепризнанных в мировом сообществе принципах. И первоначально в этом направлении были сделаны некоторые существенные шаги, особенно в связи с подписанием Федеративного договора и принятием на референдуме 1993 г. Конституции Российской Федерации: были институционализированы весьма важные элементы федеративного устройства. В Основном законе государства была закреплена федеративная форма государственного устройства. В статьях 71, 72 и 73 Конституции Российской Федерации проведено разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Были определены также правовые формы такого разграничения, включая возможность заключения по этим вопросам двусторонних договоров между центром и членами федерации. Чрезвычайно важными для становления российского федерализма явились конституционные положения о суверенитете и целостности Российской Федерации, верховенстве ее Конституции и других законов на всей территории России, равноправии субъектов федерации, безусловном признании в российском государстве принципов равноправия и самоопределения народов, статусе республик как государств в составе Российской Федерации и др. В системе федеральных органов государственной власти была создана типичная для федеративных государств вторая палата парламента – Совет Федерации, который, несмотря на все свои недостатки и прежде всего нарушение принципа разделения властей, стал полем 242 представительства и защиты интересов субъектов федерации, из которых в сущности и состоит сама Российская Федерация. При этом предполагалось, что как общенациональный орган законодательной власти Совет Федерации будет стремиться к балансу общегосударственных и региональных интересов. Впервые в России был образован Конституционный Суд, одна из задач которого состоит в усилении федеративного характера российского государства. Как и в конституциях иных федеративных государств, в российской Конституции был предусмотрен целый ряд гарантий прав как федерального центра, так и субъектов федерации, гарантий, призванных воспрепятствовать превращению федеративного государства в конфедерацию или унитарное государство. Так, помимо прочего, смысл разграничения предметов ведения полномочий заключался в том, чтобы субъекты федерации не присваивали себе федеральные полномочия, а федеральная власть не вторгалась в предметы ведения и полномочия субъектов федерации. Конституция закрепляла единое экономическое, политическое и правовое пространство. Согласно Конституции Российской Федерации статус субъекта федерации может быть изменен только по взаимному согласию Российской Федерации и самого субъекта в соответствии с федеральным конституционным законом. Также только с взаимного согласия могут быть изменены границы между субъектами федерации. Разумеется, воплощение в жизнь конституционных принципов федерализма и его гарантий оказывалось возможным лишь при наличии политической воли. Но она как раз и не была настроена неизменно на федералистскую волну. Федерализация 1991–1999 гг. основывалась на децентрализации власти и управления, которая была необходима для достижения заявленных стратегических целей – перехода к рыночной экономике и демократическому политическому режиму. Деконцентрация властных полномочий диктовалась также необходимостью покончить с системой жесткой и окостеневшей централизации, несовместимой ни с демократией, ни с рыночной экономикой. Практически всегда федерализация связана с определенной децентрализацией, хотя и не тождественна ей, тем более происходившую в России федерализацию нельзя отождествлять с той децентрализацией, которая приняла в России уродливые формы. На федерализацию не стоит возлагать ответственность за отклонение децентрализации от нормального пути. При этом оба уровня власти – и федеральный и региональный – ответственны за искажение децентрализации. Федерализм не предполагает только централизацию или одну децентрализацию. В реальной жизни федерализм невозможен без централи243 зации и децентрализации одновременно. «Если американский опыт чему-то учит, – пишет Брюс МакДоуэл, – так это тому, что федеративные системы управления устанавливают естественную напряженность между противостоящими силами централизации и децентрализации» (McDowell, 1995, 140–141). По мнению канадского политолога Рональда Уоттса, Канада продемонстрировала элементы одновременной селективной централизации и селективной децентрализации. «Действительная история канадского федерализма выявила динамичную и развивающуюся напряженность между центризмом и децентрализацией» (Watts, 1995, 262). В федеративной системе централизация и децентрализация сосуществуют, а не поглощают одна другую. И в нынешних условиях федерация как форма государственного устройства является, пожалуй, наиболее адекватным средством сочетания в разных пропорциях централизации и децентрализации в политико-управленческой сфере. Явное и безусловное преобладание одной из них превратило бы саму федерацию в фикцию (Gagnon, 1993, 19). Но специфика децентрализации в России 90-х годов заключалась в том, что она происходила в нестабильных и по существу неопределенных условиях, а также в ситуации глубокого раскола среди политической элиты. При попустительстве федерального центра процесс децентрализации вышел из-под контроля федеральных властей и превратился в свою противоположность – ситуацию, близкую к анархии. Страна предстала разобщенной и как бы потерявшей внутренний стержень. Были серьезно нарушены принципы единства экономического и правового пространства. Проявилась и начала усиливаться тенденция к политическому сепаратизму. В значительной части была потеряна управляемость, не говоря уже о слабости и неэффективности центральной власти. Как признавал тогда Президент Республики Татарстан, «центр давно уже никем не управляет» (Советская Татария, 1993). С другой стороны, региональные лидеры использовали слабость, неопределенность и противоречия в федеральном центре власти для усиления собственных позиций, присвоения многих полномочий и немалой части приватизированной собственности. Произошла коммерциализация региональных элит. По меткому замечанию известного немецкого политолога Клауса фон Бейме, в России «местные элиты благоприятствовали приватизации, потому что они получили шанс присвоить часть государственной собственности. Отношения «патрон–клиент» возникли как в центре, так и в регионах. Но в регионах переплетение экономической и политической элит пошло дальше, чем в центре…» (Beyme, 2000, 31–32). Примерно того же мнения придерживается шотландский поли244 толог К. Росс, который утверждает, что «в новом посткоммунистическом корпоративном союзе региональные экономические и политические элиты объединили усилия для грабежа богатств своих регионов» (Ross, 2000, 412). Словом, федерализм 90-х годов был во многом рудиментарным и нестабильным. Он имел более декларативный, чем реальный характер. В его институциональном дизайне было много пробелов. И прав был бывший Президент России, когда в 2001 г. в Послании Федеральному Собранию заявил, что «у нас еще нет полноценного федеративного государства». Таким образом, возникшие в России в 90-е годы прошлого столетия ростки федерализма оказались довольно слабыми. Российский федерализм находился в зачаточном состоянии, имел более декларативный, чем реальный характер, и задача общенационального масштаба заключалась в том, чтобы создать условия, необходимые для закрепления и развития действительного федерализма. II Как естественная реакция на процессы ослабления федеральной власти и ослабления управляемости сформировалась новая политика, направленная на централизацию власти. И это было объективной необходимостью. Дело в том, что несмотря на некоторые особенности все стратегические реформы – административная, военная, экономическая, бюджетно-финансовая, социальная и др. – характеризуются одним общим признаком – осуществление этих реформ зависит от жизнеспособности и эффективности государства. Однако, как обычно бывает в России, маятник проскочил середину и качнулся в другую крайность – чрезмерную централизацию. Начиная с 2000 г. все четче стала проявлять себя тенденция к движению в обратную сторону в государственном строительстве, в том числе к ослаблению федеративных основ российской государственности. Проводимая в России с начала нынешнего века «революция сверху» по существу прерывает тенденцию к деволюции в самом начальном ее периоде и тем самым разрушает еще слабые ростки федерализма в России. Была совершена подмена объекта противоборства. Вместо преодоления эксцессов децентрализации и мер, направленных против своеволия ставших всемогущими и бесконтрольными региональных баронов, федеральный центр стал наносить удары по правам субъектов федерации. Стал очевидным процесс дефедерализации России. Его основными проявлениями можно считать следующее: 245 1. Создание семи федеральных округов, возглавляемых полномочными представителями Президента Российской Федерации. С самого начала они рассматривались как средство централизации и ограничения полномочий субъектов федерации. Без достаточных финансовых ресурсов и политического влияния представители Президента практически превратились в информаторов. На примере Приволжского федерального округа можно сказать, что они ничего не сделали для населения, и люди не чувствуют их присутствия. Можно утверждать, что самым главным результатом установления этих округов явилось увеличение бюрократического слоя. 2. Пересмотр межбюджетных отношений в пользу федерального центра и практически отсутствие у субъектов федерации прав в сфере налогообложения. Первоначально Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривал равное распределение бюджетных средств, полученных за счет сбора налогов: пятьдесят на пятьдесят. Однако федеральная власть нарушила этот баланс и, начиная с 2001 г., в результате поправок в Бюджетный кодекс в федеральный бюджет направляется более 60% доходов, а российским регионам достается менее 40% процентов. Субъекты Российской Федерации не вправе ни вводить собственные налоги, ни определять их основные элементы. 3. Отрицание ограниченного суверенитета субъектов федерации при признании за ними всей полноты государственной власти по предметам их ведения, хотя вопрос о делимости суверенитета и наличии у республик ограниченного суверенитета остается дискуссионным. Конституционный Суд Российской Федерации дезавуировал конституционное положение о том, что республики являются государствами. 4. Отмена выборов высшего должностного лица региона населением субъекта федерации. Это означает, что конституционное право субъектов Российской Федерации самостоятельно устанавливать систему органов государственной власти в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом, существенно ограничивается. Российский Конституционный Суд легко поменял свою правовую позицию. В 1996 г. он признал избрание губернатора законодательным органом противоречащим Конституции РФ. В 2004 г. такой способ избрания был признан соответствующим той же Конституции. 5. В отличие от того перечня полномочий, которым Президент Российской Федерации наделен Конституцией РФ, он был дополнительно наделен правом отстранять от должности глав субъектов федерации, распускать досрочно законодательные органы субъектов федерации, что 246 противоречит самой природе федерации. Невозможно представить, например, чтобы Президент США получил право отрешать от должности губернаторов штатов. 6. В конституционном положении о праве субъектов РФ устанавливать самостоятельно систему органов государственной власти обращает на себя внимание то, что такая система, очевидно, предполагает наличие представительства всех трех ветвей власти. Однако в действительности оказалось, что система органов государственной власти, которую могут создавать субъекты Российской Федерации, включает лишь законодательные и исполнительные органы власти, но она лишена такого компонента, как судебная власть. На это указывает и название федерального закона, который устанавливает общие принципы организации только законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации. В компетенции последних находятся лишь конституционные (уставные) суды субъектов Федерации да назначение мировых судей, хотя финансирование последних осуществляется совместно из федерального государственного бюджета и государственного бюджета субъекта федерации. Наличие у субъектов Российской Федерации в отличие от зарубежных федераций неполной, урезанной системы органов государственной власти ввиду отсутствия ее судебной ветви в принципе не соответствует федеративной природе государства. Как справедливо отмечалось в зарубежной политической науке, если субъекты федерации располагают только делегированными законодательными полномочиями, то нельзя говорить о федеративном государстве в собственном смысле слова. «То же самое можно сказать, если региональные образования не наделены полномочиями автономно организовывать судебную власть» (Fleiner, 1996, 28). Таким образом, предусмотренное Конституцией Российской Федерации право субъектов Федерации устанавливать самостоятельно систему органов государственной власти является усеченным, поскольку исключает возможность формирования собственной судебной системы; 7. Почти полное отстранение органов государственной власти субъектов федерации от процедуры назначении в регионы федеральных должностных лиц и создание межрегиональных органов федеральной государственной власти, стоящих над органами государственной власти субъектов федерации. 8. Формирование в субъектах Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти своих региональных управлений параллельно существующим органам государственной власти субъектов федерации. Это создает дополнительные трудности во взаимоотноше247 ниях центра и регионов, поскольку распределение полномочий между главными управлениями федеральных органов власти и соответствующими органами государственной власти субъектов федерации ведет к посягательствам на полномочия субъектов федерации. Например, в Республике Татарстан одновременно существуют республиканское Министерство юстиции и главное управление Министерства юстиции по Республике Татарстан. Это реально создало трудности в разграничении функций и полномочий обоих органов власти. 9. Лишение субъектов федерации права делать внешние финансовые заимствования. Сначала в соответствии с Бюджетным кодексом России субъекты Российской Федерации, которые не получали федеральных субсидий, могли занимать деньги у иностранных партнеров. Затем федеральная власть решила в полном соответствии с традициями российской политической культуры все унифицировать, построить в одну шеренгу и причесать всех под одну гребенку, распространив запрет на внешние заимствования и на вполне успешные в финансовоэкономическом отношении регионы. 10. Частое принятие федеральных законов по предметам совместного ведения без учета мнения и интересов субъектов федерации, хотя согласно Конституции Российской Федерации и федеральный центр, и субъекты федерации имеют равные права по предметам совместного ведения. В сущности совместная компетенция уже давно превратилась в федеральную компетенцию; 11) Нередкое вторжение федерального центра в предметы ведения и полномочия субъектов федерации. Когда началась кампания по приведению законов субъектов федерации в соответствие с федеральным законодательством, Республика Татарстан передала федеральному центру 22 федеральных законов, которые вторгались в исключительные полномочия субъектов Российской Федерации. 12. Неоправданно широкое толкование Конституционным Судом РФ вопроса о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы, относящиеся к предметам совместного ведения. Дело в том, что в соответствии с российской Конституцией по вопросам, относящимся к предметам совместного ведения, принимаются федеральные законы. Однако Конституционный Суд России дал широкое толкование данного положения, включив в состав нормативных правовых актов, регулирующих предметы совместного ведения, и подзаконные акты исполнительных органов государственной власти. Это нарушает интересы и права субъектов федерации. Суть вопроса в том, что когда разрабатываются и принимаются федеральные законы по предметам совместного ведения на двух стадиях этого процесса участвуют и субъекты Российской Федерации. 248 Что касается актов федеральных исполнительных органов, то субъекты федерации отстранены от такого участия, хотя в принципе в этой части у них такие же полномочия, как и у федерального центра. 13. Неоправданно широкое толкование Конституционным Судом РФ конституционного положения о том, в соответствии с каким нормативным актом субъекты федерации самостоятельно создают свою систему государственных органов. Дело в том, что в российской Конституции есть норма, согласно которой субъекты федерации вправе устанавливать собственную систему законодательных и исполнительных органов государственной власти в соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов федерации, установленными федеральным законом. Как нетрудно заметить, в Конституции говорится о федеральном законе в единственно числе. Конституционный же Суд дал широкое толкование этой нормы и заявил, что общие принципы могут устанавливаться также нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти. III В нынешней России наблюдается парадоксальное явление: разрушение институциональных атрибутов федерализма происходит одновременно с перераспределением некоторых полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Такое перераспределение связано не с федеративной природой государства, а со стремлением повысить эффективность управления. Тема федерализма выпала из риторики руководящих фигур в российском истеблишменте. Очевидно, что в российской политической жизни действует ряд объективных факторов, которые, с одной стороны, препятствуют укоренению ценностей и принципов федерализма, а с другой – стимулируют авторитарные тенденции, несовместимые с федеративным устройством государства. Одним из этих факторов является доминирующая политическая культура. Как отмечал в свое время видный зарубежный исследователь федерализма Д. Элазар, «аналитики пришли к выводу, что наиболее успешными федерациями являются те государства, которые имеют политическую культуру, которая является либо федералистской по своей ориентации, либо открыта к восприятию федеральных принципов» (Elazar, 1987, 243). Без учета этого фактора невозможно понять трудности становления федеративного устройства в России. 249 Многие черты исторически доминирующей в российском обществе политической культуры не только не способствуют, а прямо противодействуют формированию демократических федеративных отношений. К ним относятся, например, оправдание жесткой бюрократической централизации процесса принятия политико-управленческих решений и управления страной в целом; интолерантность к инакомыслию и альтернативным идеям, предпочтение монизма, единообразия, унификации перед плюрализмом и диверсификацией, отсутствие культуры диалога, компромиссов и консенсуса, правовой нигилизм и некоторые друге черты. Беда российского федерализма заключается также в том, что в настоящее время в России нет реальной, достаточно организованной социальной силы, которая стояла бы за федерализм. Федералистские идеи находят отклик лишь среди части научной общественности. Усиление дисбаланса в российском федерализме вызывает подозрение, являлась ли на самом деле российская политическая элита последовательным сторонником федеративного проекта в 90-е годы прошлого столетия и позже или это было временной и вынужденной уступкой силам дезинтеграции в надежде взять реванш позже, после укрепления федеральной власти. Ближайшее будущее покажет, действительно ли это так. Лечение российского федерализма заключается не в том, чтобы отобрать или ограничить права субъектов федерации, а в том, чтобы обеспечить, с одной стороны, максимально широкие права республик, краев, областей и других субъектов Российской Федерации, с другой – использование этих прав строго по назначению – в интересах населения. Несомненно, решить эту задачу значительно труднее, чем стянуть «одеяло власти» в центр, но в интересах укрепления федерализма в России это будет единственно правильное решение. Литература Советская Татария. 27.03.1993. Beyme K. von Federalism in Russia // Federalism and Political Performance. London: Routledge, 2000. Elazar D. Exploring Federalism. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1987. Fleiner Th., Basta L. Federalism, Federal States and Decentralization // Federalism, Federal States and Multiethnic States: The Case of Switzerland. Fribourg, 1996. 250 Gagnon A.–G. The Political Uses of Federalism // Comparative Federalism and Federation: Competing Traditions and Future Directions. Toronto: Toronto University Press, 1993. McDowell B. D. The Interstate Commerce Clause of the US Constitution: a 200-year Case Study for European Integration // Federal-Type Solutions and European Integration. Lanham Maryland: University of America Press,1995. Ross K. Federalism and Democratization in Russia // Communist and Post-Communist Studies. 2000. Vol. 33. Issue 4. Watts R. L. Characteristics of Canadian Federalism and Their Implications for European Integration // Federal-Type Solutions and European Integration. Lanham Maryland: University of America Press,1995. 251 Р. М. Вульфович (Санкт-Петербург) ПРОБЛЕМА СЛИЯНИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ Федерализм как явление имеет достаточно давнюю историю: наиболее ранний и яркий эпизод – создание в XVIII в. из самостоятельных единиц, первоначально объединившихся для борьбы против колониальной метрополии за независимость и право самостоятельно функционировать на основе абсолютно новых для того времени принципов, США. Сложный процесс формирования системы с высоким уровнем целостности отразился в знаменитых памфлетах А. Гамильтона, Дж. Джея и Дж. Мэдисона (Гамильтон, 1994). Впоследствии к тринадцати штатам были присоединены еще тридцать семь, однако первые сохранили свои территории и границы в неприкосновенности до настоящего времени. Земли ФРГ или их части оставались суверенными государствами на протяжении длительного периода, а затем имели различный статус в империи – так называемом рейхе Бисмарка, образовавшемся в конце XIX столетия. Самым крупным и самым мощным образованием было тогда королевство Пруссия, под эгидой которого формировалось единое германское государство (Model, 1992, 28–31, 41–45). В XX в. оно пережило ряд потрясений, что привело в середине столетия к разделу территории на два государства, которые смогли объединиться вновь только в самом конце столетия. После Второй мировой войны земли ФРГ были вновь сформированы союзниками, исходя из конфигурации оккупационных зон, без учета исторического контекста, а также вне зависимости от экономических соображений или интересов развития той или иной территории. В 1990–1991 г. аналогичным путем создавались новые земли ФРГ из округов бывшей ГДР (Model, 1992, 47– 49). В ходе демократизации бывшего СССР на первом этапе произошел распад квазифедеративной системы, а затем – во вновь сформировавшемся российском государстве – появились субъекты РФ, обладающие правосубъектностью автономного территориально-государственного образования. Их территории соответствовали территориальному делению советского периода, т. е. не имели под собой практически никакой 252 исторической почвы, тем более какого-либо рационального основания (Добрынин, 2005, 32). Три вышеприведенных примера свидетельствуют о том, что, современные федеративные государства имеют чаще всего структуру, не имеющую обоснования с точки зрения рациональности и эффективности, что является в определенном смысле нарушением одного из фундаментальных законов управления – закона необходимого разнообразия (Радченко, 2007, 56). Данная проблема возникает как в системах с достаточно высоким уровнем децентрализации, так и в централизованных системах. Она существует независимо от типа федерализма. В большой части случаев решение проблемы управляемости, а также повышения степени эффективности федеративной системы видится в слиянии субъектов федерации. В последние годы количество субъектов РФ уменьшилось с 89 до 83 вследствие прекращения существования «матрешек». Оценить эффективность данных мер пока сложно, однако населением автономных округов это было воспринято неоднозначно: часто как посягательство на их этническую идентичность. По прогнозам ряда исследователей (Киселев, 2007; Тэпс, 2005), такие процессы могут вести к усилению радикальных националистических настроений, становиться почвой для повышения уровня социальной нестабильности и напряженности в регионе. Все чаще можно также слышать мнение политиков (Повестка, 2008) о необходимости объединения Москвы и Санкт-Петербурга с окружающими их областями. Данный процесс, естественно, связан с большими сложностями, что требует предварительного углубленного анализа различных аспектов проблемы: политических, экономических, социокультурных, административных и т. д. В ходе анализа может быть использован опыт попыток слияния городов-государств с окружающими их территориями, предпринимавшихся в ФРГ. Неудача, постигшая инициаторов объединения земель Берлин и Бранденбург в 1996 г., наиболее ярко высвечивает проблему, которая активно обсуждается в настоящее время. Наибольшее количество доводов в пользу объединения носит экономический характер. Звучит также мнение о возможности сокращения управленческого аппарата и снижения, таким образом, расходов на осуществление процесса управления (Busch, 2002, 897–900). Главными доводами противников объединения является ущемление интересов территориальных субъектов в связи с доминированием городов-государств во вновь создаваемых образованиях, а также наличие в 253 каждом из субъектов сложившихся систем управления, политических и управленческих элит, собственной идентичности, которая в процессе проведения референдумов, обязательных для принятия окончательного решения, не позволяет достигать положительного результата (Ibid., 901– 909). В целом можно сделать вывод о том, что слияние субъектов федеративного государства представляет собой комплексный, сложный и достаточно болезненный процесс, требующий серьезной подготовки политического, административного и психологического плана. Чисто административный, т.е. силовой, подход к данной проблеме – эффективный с точки зрения скорости принятия решения и проведения самой процедуры – скорее всего, приведет впоследствии к серьезным дисфункциям в процессе управления и дополнительным осложнениям в социальном функционировании нового региона. В ходе анализа проблемы слияния субъектов федеративных государств, один из которых является метрополией, необходимо ответить на ряд вопросов. Первым из них является вопрос о пространственной сущности регионов в целом, на который неоднократно в XX в. отвечали многие выдающиеся ученые, в том числе А. Лефевр и К. Доксиадис. Лефевр подчеркивал, что «пространство пронизано социальными связями, оно не только поддерживается социальными связями, но формирует их и формируется ими» (Lefebvre, 1991, 254). Социальные связи, достаточно интенсивные и исторически сформировавшиеся, существуют в регионах всех крупнейших городов: почти 10% населения Ленинградской области (около 150 тыс. человек) работает в СанктПетербурге, большая часть студентов, проживающих в регионах СанктПетербурга и Берлина, обучаются в высших учебных заведениях метрополий. Многие другие функции выполняются метрополиями не только для населения, проживающего непосредственно в официальных границах города (в обоих рассматриваемых случаях города-государства, т. е. субъекта соответствующего федеративного государства), но и жителей территории гораздо большего масштаба. Охватывает ли данная территория, находящаяся в сфере непосредственного влияния метрополии полностью территорию соседнего субъекта, зависит от масштаба последней, а также от возможностей транспортной системы обеспечивать мобильность населения в суточном ритме движения. К. Доксиадис в своих работах обращал внимание на то, что рамки исследования процессов в регионах крупнейших городов и управления этими процессами должны быть настолько широкими, насколько это возможно. Во временном аспекте это означает умение возвращаться в прошлое, настолько далеко, насколько это возможно, и проектировать 254 будущее на как можно более длительный промежуток времени (Doxiadis, 1968, 381–382). Из этого вытекает необходимость изучения всего организма региона в самых широких временных и территориальных рамках, чтобы как можно лучше подготовить его к будущему. Город не является изолированным сообществом: он представляет собой ядро и главную ячейку гораздо более широкой урбанизированной территории, которая может включать большое число населенных пунктов и различных функциональных элементов. Его жизненное пространство распространяется на всю систему, частью которой город является на определенном функциональном уровне. Общетеоретические размышления Лефевра и Доксиадиса открывают перед аналитиками и управленцами перспективу изучения проблемы слияние городов-государств и окружающих их регионов с точки зрения функционирования целостных систем, обладающих гораздо большей устойчивостью к внешним изменениям и большей адаптивностью в связи с наличием в них более интенсивных связей между отдельными элементами. В соответствии с положениями общей теории систем, целостная система всегда обладает большим спектром качественных параметров, чем простая сумма входящих в нее элементов. Органическая взаимосвязь городов-государств с окружающими их территориями легко выявляется в ходе анализа основных этапов исторического развития данных регионов. Одной из главных проблем, возникающих в процессе слияния города-государства с окружающей его территорией, является проблема формирования системы управления для всего вновь создаваемого региона. В научной литературе неоднократно исследовался вопрос об оптимальной модели управления, способной обеспечить эффективное функционирование и единообразное качество жизни в данных системах. Все крупные урбанизированные регионы страдают от слабой внутрирегиональной кооперации. Отдельные составляющие конкурируют между собой, что ведет к постоянным политическим конфликтам между центром и периферией, между глобальным пространством региона и его местными составляющими. Эти конфликты, как правило, имеют идеологические и тактические составляющие. Существует множество препятствий для выработки единой стратегии. В определенной степени справедливо опасение муниципалитетов, расположенных в регионе, окружающем метрополию, что их независимость и интересы будут принесены в жертву глобальной конкурентоспособности, а их потребности и требования не будут профинансированы. Их единственный шанс – привлечь внимание правительств, средств массовой информации и публики. 255 В этой ситуации чрезвычайно усложняется роль специалистов, осуществляющих планирование, так как они должны: а) понимать, как смягчить интересы различных групп; б) знать, как донести свои идеи до информированной и более широкой публики; в) осуществлять мониторинг социальных и экологических изменений; г) анализировать их последствия для пространственного планирования; д) быть в состоянии планировать публичные пространства таким образом, чтобы стимулировать одновременно частный сектор развивать свою деятельность; е) продолжать осуществлять ту деятельность, которую осуществляли всегда, т. е. планировать использование территорий, зонирование и контролировать эту деятельность. Внешнее влияние в этой сфере могут оказывать органы государственной власти и управления на местную публичную политику. Здесь достаточно сложно сделать однозначные выводы, тем более что влияние городской политики на государственную политику в «главных» городах часто очень велико, так как во многих случаях они также являются и столицами. Кроме того, разделение компетенции по разным вопросам между уровнями управления различно в разных странах. Управление в регионах крупных метрополий достаточно часто выделяют как отдельную модель и именуют метрополитенским управлением, что, в широком смысле слова, включает органы управления внутри метрополитенского региона, процессы (т. е. то, как участвуют в процессе управления различные группы, как принимаются решения, как распределяются ресурсы, какие виды деятельности осуществляются в регионе) и политику, которая оказывает влияние на весь регион в целом. Этот процесс распространяет также свое воздействие на пространственную структуру, которая, как минимум частично, формируется этими институтами, процессами и политикой (Governance and Opportunity, 1999, 129). Говоря о различных проблемах менеджмента в метрополитенских ареалах, необходимо все время помнить о главной проблеме, являющейся основой всех остальных проблем, – проблеме налогообложения и распределения налоговых поступлений, так как процесс функционирования и развития территорий является чрезвычайно затратным по своей сути. С ростом численности населения растет расходная часть бюджета территориального образования, им редко удается обходиться без дотаций из государственных бюджетов. Федеральные бюджеты, в свою очередь, выделяют суммы, исходя из численности населения, проживающего на территории («ночного»), в то время как центральные города, как уже указывалось, имеют массу до256 полнительных функций (наука, культура, высшее образование, специализированная медицина и т. п.). Как показывает опыт Западной Европы и США, крупные метрополии очень трудно заменить чем-либо, а также провести в них процесс децентрализации. Попытки снижения уровня концентрации населения в городе-ядре предпринимались неоднократно в Лондоне, Париже, НьюЙорке, Токио и даже в более мелких центрах, таких как Женева, Цюрих, Базель, Франкфурт, Брюссель и т.п. (Bagnasco, 2000, 195). Несмотря на все усилия, с одной стороны, в этих центрах продолжается рост центрального города с его многочисленными функциями, а с другой – растут и метрополитенские ареалы, растут транспортные потоки между центром и периферией, усиливается финансовый кризис центральных городов, так как трансферты правительств все больше попадают в те части метрополитенской территории, где люди живут, а не в те, где они пользуются различными услугами (Governance and Opportunity, 1999, 6). Политическая сторона метрополитенского управления еще более осложнена социальной стратификацией в результате роста урбанизированной территории. Крупные метрополиии всегда привлекают тех, кто ищет свой шанс в жизни. Отличия в доходах гигантские в густо населенных городах. Преступность и отсутствие безопасности не являются чем-то новым в европейских городах и тем более в городах России. В результате массовой миграции с начала 50-х годов в городах Европы уже сформировалось, а в российских метрополиях быстро формируется в начале XXI столетия никогда ранее не виданное по степени смешанности население. Возникает серьезная сегрегация на этнической, расовой, имущественной основе. С течением времени это приведет к конфликтам между соседями, миграции внутри метрополитенских регионов. Такие тенденции развиваются стремительно. Детальное изучение и глубокое рассмотрение всего разнообразия населения и социальных отношений в метрополитенских регионах заставляет сомневаться в возможности единых решений для всех регионов. Однако сама концепция метрополитенского региона признана в Европе всеми и представляется достаточно обоснованной. Во-первых, концепция метрополитенского региона представляет собой достаточно прочную основу для изучения и описания современного процесса урбанистического роста. Во-вторых, описание и анализ проясняют диагностику основных проблем всей системы в целом. Ни одно современное исследование этих проблем, если они идентифицированы, не останавливается на этом; делаются попытки найти решение для данной ситуации или хотя бы улучшить ее определенным образом. В-третьих, имен257 но этап реализации является наиболее сложным, разработанные концепции и решения должны быть осуществлены. Главным актором в процессе разработки и реализации концепций развития могут быть только органы метрополитенского управления, создание которых регионом, включая избираемый представительный / законодательный орган, т. е. институционализированный уровень управления в рамках всего региона. Модернизация систем управления крупнейшими метрополитенскими регионами активно обсуждалась в политической науке и других дисциплинах, связанных с общественным управлением в 80–90-е годы (Sharpe, 1994). Особую остроту этой проблеме придает все более широкий масштаб, который приобретает процесс урбанизации. При этом агломерации могут приобретать различные масштабы и формы. Для агломераций с ярко выраженным центром-доминантой возможны различные типы реструктуризации системы управления, начиная с создания совершенно новой единой структуры, обладающей абсолютной полнотой власти, до минимальных по компетенции органов управления в рамках всей территории, основанных на добровольной кооперации между существующими органами управления, без формирования какого-либо нового институционального статуса: 1. Модель «добровольного сотрудничества» (Ibid., 65) часто используется в США, но не связана с какой-либо определенной страной, так как наиболее проста и не требует дополнительных затрат. Кроме того, часто это единственная форма, которая оказывается достижимой с политической точки зрения. Одним из главных аргументов в пользу такого решения является то, что определенные типы политических решений в определенных институциональных условиях лучше принимать в ходе неиерархических переговорных процессов (Yaro, 1996). Не следует отрицать действенности «добровольной» модели, нельзя также не согласиться с тем, что при условии единства политических целей всех участников политического процесса, независимо от институциональной фрагментации, нет необходимости в создании дополнительных институтов, менее всего иерархических. Но нельзя забывать, что ставки в метрополитенской политике, как правило, очень высоки: эта политика затрагивает очень важные интересы. Все это делает добровольную кооперацию непростой, как бы теоретически велика ни была готовность к ней. Она обязательно предполагает элементы переговорного процесса, а отдельные стороны могут не иметь, что предложить для этих переговоров. 2. «Собственно метрополитенская модель» (Sharpe, 1994, 89) предполагает не только существование единых органов для всей территории, 258 включая выборный представительный орган, но и наличие полностью сформированного, на выборной основе, развернутого на всей территории, сознательно структурированного, второго уровня управления или более мелких структурных образований внутри метрополитенской структуры. Критика рациональной основы данной модели осуществлялась с различных позиций, чего и следовало ожидать, так как институциональные изменения так или иначе всегда ведут к изменениям властных отношений. С научной (академической) точки зрения, которая представляет собой системную критику основных положений данного варианта организации управления метрополитенского региона, можно выделить следующие основные подходы: 1. С позиций теории общественного выбора – небольшие муниципальные образования и их экономические системы имеют преимущества для функционирования местной демократии, одно из которых можно определить как наличие квазирынка, на котором конкурируют небольшие муниципальные образования, предоставляющие своим жителям услуги через организации публичного сектора. При таком варианте жители могут выбирать место жительства в зависимости от того, какое из этих муниципальных образований их больше всего устраивает. Преимущества такой системы компенсируют отсутствие единых метрополитенских органов управления. Кроме того, для любых метрополитенских органов сложно агрегировать все потребительские предпочтения и определить необходимый уровень расходов, а также избежать недостатков бюрократической системы и даже, возможно, злоупотреблений властью. А так как крупные экономические системы все равно возникают, то для их интеграции нужно использовать создание более крупных специализированных органов управления для предоставления услуг, перекрывающих мелкие фрагментированные органы общей юрисдикции. Данная теория достаточно широко распространена в США и в Западной Европе (Phares, 2004, 195). 2. Основой данной критики являются не позитивные стороны фрагментации или сомнения в способности метрополитенских органов выполнять возложенные на них функции, а сомнения в том, насколько релевантны теоретические предпосылки концепций метрополитенского управления как таковых. Если же они являются таковыми, то не слишком ли расширяются их рамки. Несмотря на все эти сомнения, нельзя не признать, что в случае метроплитенских ареалов существует настоятельная необходимость адаптации системы управления к социогеографическим и экономическим условиям, прежде всего, в связи с высокой степенью взаимосвязи и взаимозависимости различных терри259 торий внутри метроплитенского региона, в частности, в связи с тем, что они, как правило, образуют единый рынок труда (Bagnasco, 2000, 105– 115). В то же время в пользу метрополитенской модели и для рационального обоснования ее необходимости можно привести следующие аргументы: 1. Главным является принцип «фискальной эквивалентности», под которым понимается предоставление всех муниципальных услуг, насколько это возможно, на самоокупаемой основе, т. е. все затраты на их производство должны покрываться за счет оплаты их жителями, которые ими пользуются, что оказывается совершенно невозможным в условиях крупных урбанизированных территорий, где достаточно часто органы местного управления оказывают услуги, которыми пользуются не только жители данной территории, но и «посторонние» (Olson, 1999, 93–107). Особенно остро эта проблема стоит в сфере коммуникаций и инфраструктуры. Аналогично, соответствующие органы управления не могут эффективно осуществлять планирование использования территорий, так как в метрополитенских регионах существует пространственное разделение труда, в результате которого принятие решений по ключевым планировочным проблемам выходит за пределы юрисдикции местных органов, т. е. многие функции создают «внешние» обстоятельства такого высокого уровня генерализации, что они не могут быть «разделены», а могут эффективно предоставляться или координироваться только на уровне всего региона (Netzband e. a., 2007, 203). 2. Важным аргументом в пользу создания единых органов для метрополитенских территорий является также то, что эффективное функционирование крупных экономических структур возможно только в случае адекватности систем управления их масштабу, т. е. только органы, единые для всей территории могут сокращать затраты на предоставление этих высоко затратных видов услуг. Однако с этим аргументом следует обращаться осторожно. Дополнительным доводом в пользу метрополитенского управления может служить также необходимость финансирования таких видов услуг, как музеи, крупные библиотеки и т. п., которые не могут финансироваться центральным городом в том случае, если он недостаточно крупный по сравнению со всем метрополитенским регионом (Sharpe, 1994, 34). 3. Следующим аргументом в пользу создания единых органов управления является пространственная сегрегация функций, а особенно социальных и профессиональных групп в метрополитенских регионах. Достаточно часто пространственная фрагментация ведет к формирова260 нию системы расселения, сильно дифференцированной по признаку доходов, а также этнической и иной принадлежности. Выделение более состоятельных групп в отдельные пространственные сектора системы расселения снижает возможности перераспределения финансовых потоков, что снижает качество предоставления услуг в муниципалитетах с более низким уровнем доходов, хотя с точки зрения нормального функционирования рынка труда не менее важны низкооплачиваемые группы занятых (Bagnasco, 2000, 47–56). Аналогична и проблема делового центра, где множество услуг должно предоставляться центральным городом: институционных (парки, галереи, музеи, вузы и т. п.), а также в сфере услуг (парковки, организация уличного движения, полиция, главные магистрали, общественный транспорт), которые обеспечивают возможность для «нежителей» попасть в город и покинуть его, т. е. возможность участвовать в работе, торговле, услугах, досуге на его территории. Эта проблема полна противоречий, так как такое участие предусматривает и оплату различного рода услуг в достаточно больших масштабах, что впоследствии отражается и в налогообложении. Каким бы ни был этот баланс затрат и доходов, нет сомнений в том, что в случае такого рода услуг, которые лучше всего могут предоставляться метрополитенскими органами, они играют роль «выравнивателей», если вся территория будет находиться в единых условиях налогообложения (Strom, 2006, 319–332). Соответственно, наиболее популярной является не собственно «унитарная» модель (где весь процесс управления сконцентрирован на уровне управления в масштабах всей метрополии), а модель «двухуровневая», в которой периферийные органы управления сохраняются в той или иной форме. Многие специалисты высказываются в пользу этой модели, так как она позволяет в значительной степени разрешить внутренний конфликт, характерный в целом для МСУ и его взаимоотношений с органами государственного управления субнационального уровня: между базовыми ценностями участия, доступности и местной идентичности, с одной стороны, и функциональной оптимизации и экономической эффективности – с другой (Borja, 1997, 51). Нижний уровень (в российском варианте – местное самоуправление как единый институт) должен в этой модели взять на себя первую группу ценностей и функций, а верхний – вторую. Как подчеркивал Д. Харвей, «территориальная организация иерархична по своей сути, что допускает как максимальную степень участия, так и обеспечивает одновременно более близкий доступ к оптимальному обеспечению общегородскими услугами» (Harvey, 1996, 98). О популярности данной модели 261 свидетельствуют реально существующие системы управления такого рода. В целом двухуровневая модель метрополитенского управления достаточно хорошо может быть адаптирована к условиям конкретной территории в процессе слияния городов-государств с окружающими их регионами. Однако ее использование в каждом конкретном случае связано с определенными ограничениями, что отчетливо демонстрируют примеры Берлина и Санкт-Петербурга. Особый случай представляет собой Берлин, роль которого после объединения существенно изменилась, хотя против ожидания, в годы после объединения население в городе не растет, а даже уменьшается. Оптимистические прогнозы по поводу быстрого экономического выздоровления города не сбылись в полной мере. По мнению К. Кунцмана, потребуется одно, а, возможно – даже два поколения для того, чтобы Берлин вошел в ряд крупнейших городов Европы (Kunzmann, 1994, 6– 8). Несомненно, оздоровлению экономики крупнейшего города Германии могло бы и должно было бы способствовать его объединение с землей Бранденбург. Земля Бранденбург является естественным окружением города. Именно Бранденбург имеет историю, уходящую корнями в XII в. В течение столетий как маркграфство и провинция он входил в состав Пруссии и Германского рейха. Берлин (Кельн), впервые упоминаемый в документах в 1237 г. считался центром Бранденбурга в течение более 500 лет (Holmsten, 1984). С 1710 г. Берлин являлся столицей Пруссии и резиденцией королей, а с 1871 г. – одновременно, столицей рейха. В 1881 г. Берлин был выделен в отдельный городской округ (Stadtkreis), что определило особый статус столицы, но не означало создания города-государства. С образованием в 1920 г. «Большого Берлина» (Gesetz, 1987) город превратился в метрополию европейского уровня, но оставался частью Бранденбурга, хотя и был выделен в особую единицу, имевшую уникальную систему управления. Радикальные изменения произошли в 1945 г., когда Германия была разделена союзниками на 4 оккупационные зоны, а Берлин ─ на 4 сектора. Географическое и политическое разделение Берлина означало конец его истории как метрополии, а также его «физическое» отделение от Бранденбурга. На время оккупации устанавливался особый статус Берлина, формально сохранявшийся до 1990 г. Он был отменен договором «2+4» от 12 сентября 1990 г. (Vertrag, 1990) и заявлением союзников «О приостановлении действия договоренностей» от 2 октября 1990 г. (Erklärung, 1990). 262 При этом на протяжении всего периода статус Берлина как экстерриториальной единицы имел второстепенное значение, так как после проведения в одностороннем порядке в 1948 г. денежной реформы в западных зонах оккупации, создания ФРГ и ГДР в 1949 г., Германия была расколота на два государства, что автоматически было перенесено на Берлин: вместо метрополии появились два города: Западный Берлин и Восточный Берлин. Хотя западные сектора Берлина, согласно заявлениям союзников, в том числе в 1990 г., не являлись формально частью ФРГ, тем не менее Западный Берлин именовался землей ФРГ (Grundgesetz, 1949, 23; Berliner Verfassung, 1950, 69), а в умах оставался старой столицей Германии (Stölzl, 1995, 271). Восточный Берлин, в свою очередь, являлся с 1949 по 1990 г. столицей и местом работы органов государственной власти ГДР. В эти годы Бранденбург, первоначально в качестве земли, а с 1952 г. в виде трех округов (Потсдам, Франкфурт-на-Одере и Коттбус) входил в состав ГДР (Verfassung der DDR, 1949, 69) как отдельное от Восточного Берлина административное образование. Закрытие границы в 1961 г. после строительства Берлинской стены фактически ничего не изменило в этой ситуации, так же как и разрушение стены в 1990 г.. Радикально ситуация изменилась только после 3 октября 1990 г. с объединением двух немецких государств и введением нового регулирования в отношении Берлина как единого города и столицы Германии в соответствии с Договором об объединении, где было сказано, что «столицей Германии является Берлин» (Einigungsvertrag, 1990, 889). В процессе объединения Германии встал вопрос о структуризации территории бывшей ГДР, в том числе, о регулировании отношений между Берлином и Бранденбургом. Принятое в ходе этого процесса в отношении Берлина решение, с одной стороны, отдавало дань его особому статусу, сохранявшемуся в течение длительного периода, но, с другой стороны, предусматривало изменение общего положения в регионе в ходе дальнейшего развития с учетом характера Берлина как исторически бранденбургского города, а также с учетом необходимости формирования новых перспективных траекторий развития системы Берлин– Бранденбург в целом. В будущем объектом управления должна была стать гораздо большая по масштабам территория, чем территории Берлина и Бранденбурга в отдельности. В связи со значительными противоречиями, существовавшими между Западом и Востоком страны, был выбран вариант двухступенчатого процесса: на первом этапе формировались две отдельные федеральные земли – Бранденбург и объединенный Берлин, а в даль263 нейшем на основе референдума к 2002 г. должна была быть создана единая земля, включающая оба элемента данного региона. Провести подготовку реформы предполагалось в достаточно короткие сроки (1990–1995 гг.) с целью недопущения закрепления образовавшихся властных институтов и управленческих элит. Несмотря на осуществление всех необходимых подготовительных мероприятий и процедур, референдумы в двух землях 5 мая 1996 г. не дали положительного результата: большинство голосовало за слияние земель только в Западном Берлине (57,8%), что определило общий положительный результат для города в целом (53,4%), так как численность населения Западного Берлина почти в два раза превышала размеры восточной части города. Жители Бранденбурга голосовали против объединения (63%) и были поддержаны жителями восточной части метрополии (54,7%) (Busch, 2002, 899). До настоящего момента другие попытки объединения столицы ФРГ и земли Бранденбург не предпринимались, общим направлением развития региона стало интенсивное взаимодействие обоих субъектов в решении наиболее масштабных проблем, затрагивающих их общие интересы. По сути, можно констатировать, что в данном меторополитенском регионе в настоящий момент используется модель «добровольного сотрудничества». Аналогичные проблемы стоят и перед вторым по величине городом РФ – Санкт-Петербургом, являющимся органическим центром крупного региона на Северо-Западе нашей страны. Первый опыт разделения России на определенные административные единицы был произведен Петром I в 1708 г., когда были учреждены 8 губерний, среди которых была также Ингерманландская губерния (уже в 1710 году переименована в Санктпетербургскую). Она включала в себя существовавшие позднее губернии: Санкт-Петербургскую, Новгородскую, Псковскую, Олонецкую, большую часть Тверской и Ярославской губерний, а также Дерптский (позже Юрьевский) уезд Лифляндской губернии. Территория губернии составляла 424 тыс. кв. верст (1 кв. верста = 1 138 062.24 кв. м.), губерния имела население 2 млн человек и плотность населения 5 человек на 1 кв. версту. (Россия, 1898, 211). После неоднократных изменений в течение XVIII и XIX столетий к концу XIX в. Сантк-Петербургская губерния занимала в империи особое положение: не входила в состав ни одного из генерал-губернаторств, имела (наряду с 33 другими губерниями) земские учреждения. Город Санкт-Петербург был выделен из административного ведения губернии и имел собственного градоначальника (аналогично регулировалось положение городов Одессы, Севастополя, Керчи). Существовал также 264 особый Санкт-Петербургский военный округ, включавший 6 губерний (Архангельскую, Новгородскую, Олонецкую, Псковскую, СанктПетербургскую, Эстляндскую). На Санкт-Петербург были ориентированы также судебный округ (с 12 окружными судами) и учебный округ (включал губернии Архангельскую, Новгородскую, Олонецкую, Псковскую, Санкт-Петербургскую, Вологодскую), а также один из 9 округов Министерства путей сообщения, в ведении которого находились водные пути и другие пути сообщения (за исключением железных дорог). Ведение Санкт-Петербургского округа распространялось на реку Неву, Ладожское озеро, бассейны Ильменя и Чудского озера с реками Волховом и Нарвой, Вышневолоцкий водный путь, реку Волгу от верховий до города Рыбинска со всеми притоками, а также все искусственные сооружения на данных территориях (Россия, 1898, 212–213). В 1914 г. Санкт-Петербургская губерния была переименована в Петроградскую, в 1924 г. – в Ленинградскую. В 1927–1929 в СССР проходила административная реформа (были упразднены губернии), в рамках которой 1 августа 1927 г. была образована Ленинградская область. В ее состав вошли территории 5 губерний: Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской и Череповецкой. Территория области составила 360,4 тыс. кв. км, однако впоследствии она значительно уменьшилась. Дальнейшие изменения территории Ленинградской области представлены в таблице (Административно-территориальное деление Ленинградской области, 1990, 10–19; Административно-территориальное деление Ленинградской области, 2003, 305–317). Дата Событие 3 июня 1929 создана Западная область Увеличение территории Ленинград — город декабрь республиканского под1931 чинения 29 января 1935 создана Калининская область упразднен Ленинград- Всеволожский, Красавгуст ский Пригородный рай- носельский, Парголов1936 он ский, Слуцкий районы сентябрь создана Вологодская 1937 область 265 Уменьшение территории Великолукский округ (23 района) г. Ленинград, Ленинградский Пригородный район, г. Кронштадт 5 районов г. Череповец, 18 районов 28 мая 1938 создана Мурманская область 1940 результат Советскофинской войны 5 июля 1944 создана Новгородская область г. Мурманск, Мурманский округ (7 районов) Каннельярвский, Койвистовский, Раутовский районы г. Новгород, г. Боровичи, г. Старая Русса, 27 районов 23 августа 1944 создана Псковская обг. Псков, 17 районов ласть граница между РСФСР территория к востоку 1944 и Эстонской ССР уста- от р. Нарва, включая новлена по р. Нарва Ивангород территория Карельского г. Выборг, г. Кексноябрь перешейка передана из гольм, Выборгский, 1944 состава КарелоКексгольмский, ЯсФинской ССР кинский районы октябрь переданы в подчинение Сестрорецкий и 1946 Ленинграда Курортный районы упразднен Павловский июль часть района, вклюрайон, часть передана в 1953 чая г. Павловск подчинение Ленинграда рабочие поселки апрель переданы в подчинение Левашово, Парголо1954 Ленинграда во, Песочный переданы из состава 5 июля Дмитровский и МозоНовгородской области в 1956 лѐвский сельсоветы Бокситогорский район январь передан в подчинение г. Урицк 1963 Ленинграда г. Красное Село, апрель переданы в подчинение рабочие поселки 1973 Ленинграда Горелово, Можайский апрель переданы в подчинение г. Ломоносов 1978 Ленинграда 266 Как показывают вышеприведенные данные, Ленинградская область является естественным окружением и ресурсным потенциалом СанктПетербурга, ее развитие по многим направлениям ориентировано на город, отдельные города и поселки, входящие в состав СанктПетербурга, ранее являлись населенными пунктами области, а ближние к городу районы области уже в настоящий момент входят в состав городской агломерации. Тем не менее пример Берлина показывает сложность формирования единой системы управления в рамках всего региона и требует разработки долгосрочной концепции постепенной интеграции всей территории с последующей институционализацией устойчивых социальных и иных связей. Литература Административно-территориальное деление Ленинградской области. Л., 1990. Административно-территориальное деление Ленинградской области // Туристский путеводитель по Ленинградской области. М.; СПб, 2003. Гамильтон А. Федералист. М., 1994. Добрынин Н. М. Российский федерализм: становление, современное состояние и перспективы. Новосибирск: Наука, 2005. Киселев К. В. Федерализм и централизация. Екатеринбург, 2007. Повестка послезавтрашнего дня // http:// www. kadis.ru / daily / dayjust.phtml?id=49545. Радченко А. И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход / А. И. Радченко. М.; Ростов-на-Дону, 2007. Россия. Энциклопедический словарь. Л., 1991. Тэпс Д. С. Проблемы национального самоопределения в условиях реформирования российского федерализма. СПб., 2005. Bagnasco A., Le Gales P. Cities in Contemporary Europe. Cambrige, UK. 2000. Berliner Verfassung vom 1. Oktober 1950, Art. 1 (VOBl für Groß-Berlin I S. 433). Borja J., Castells M. Local and Global: The Management of Cities in the Information Age. London, 1997. Busch U. Berlin-Brandenburg: Zweiter Anlauf für eine Fusion // UTOPIE kreativ, H. 144 (Oktober 2002). Doxiadis C. Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlement. London, 1968. Einigungsvertrag – Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Ein267 heit Deutschlands vom 31. August 1990, Art. 2. EVertr. v. 31.8.1990, (BGBl. II S. 889). Erklärung zur Aussetzung der Wirksamkeit der Vier-Mächte-Rechte und Verantwortlichkeiten v. 2. 10. 1990 (BGBl. II S. 1331). Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin // Geschichte Berlins: In 2 Bänden – München, 1987. S. 823–840. Governance and Opportunity in Metropolitan America / Ed. by Committee on Improving the Future of US Cities Through Improved Metropolitan Area Governance. Washington D.C., 1999. Grundgesetz, Artikel 23. (VOBl. für Groß-Berlin I S. 23). Harvey D. Justice, Nature and Geography of Difference. Cambridge, Mass., 1996. Holmsten G. Die Berlin-Chronik. Düsseldorf, 1984. Kunzmann K. R. Europaeische Staedtenetze // Stadtforum Journal. 1994, 14. Kunzmann K. R. World City Regions in Europe: Structural Change and Future Challenges 2005. Lefebvre H. The Production of Space. Oxford: Basil Balckwell, 1991. Model O. Staatsbürgertaschenbuch. München: Verlag C.H. Beck, 1992. Netzband M., Stefanov W., Redman Ch. (ed.) Applied remote sensing for urban planning, governance and sustainability. Berlin; N. Y., 2007. Olson M. Strategic Theory and its Applications: The Principal of Fiscal Equivalence // American Economic Review Papers and Proceedings, 1999, LIX. Phares D. (ed.) Metropolitan governance without metropolitan government? Aldershot, 2004. Sharpe L. J. (ed.) The Government of World Cities: The Future of the Metro Model Chichester. NY, 1994. Stölzl Ch. Bonn oder Berlin? // Körner, H.-M./Weigand, K., Hauptstadt. Historische Perspektiven eines deutschen Themas. München 1995. S.123– 140. Strom E. A., Mollenkopf J. H. (ed.) The urban politics reader. Abingdon, Oxon; New York, 2006. Verfassung der DDR vom 7. Oktober 1949 (VOBl. für Groß-Berlin I S. 69). Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland (BGBl. 1999. II S. 1318). Yaro R. D., Hiss T. A Region at Risk: The Third Regional Plan NY – NJ. Connecticut Metropolitan Area. Washington D.C., 1996. 268 О. В. Попова (Санкт-Петербург) ПОЛИТИКА УКРУПНЕНИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: ДИСКУССИИ ВОКРУГ ОБЪЕДИНЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Идея укрупнения регионов в варианте «создания семи губерний» впервые в публичной политике была озвучена («со всей … прямотой») В. В. Жириновским еще во второй половине 1990-х годов. Чуть позднее эта идея была исполнительной федеральной властью модернизирована: в разделенной на семь федеральных округов территории страны представители Президента РФ стали с большим или меньшим успехом осуществлять контроль за губернаторами субъектов Федерации, изменена система представительства в Совете Федерации, прямое избрание губернаторов было заменено системой непрямых выборов (избранием депутатами законодательных региональных органов власти кандидатуры, представленной Президентом РФ), а фактически — назначением глав регионов федеральной исполнительной властью (Макаркин, 2007, 23). Несколько лет спустя в середине нынешнего десятилетия путем «инициирования процесса снизу» (точнее сказать, организации, поскольку укрупнение субъектов Федерации по российскому законодательству ныне возможно только после благополучного завершения соответствующих референдумов) процесс приобрел реальные очертания. Представители федеральной власти не скрывают, что вопрос о дальнейшем укрупнении регионов относится к разряду не обсуждаемых, но решенных. Фактически речь может идти о возрождении схемы существования 10 экономических районов, на которые делилась РСФСР до 1986 г. Тем не менее, согласно нынешним юридическим нормам, подобное изменение административной структуры современной Российской Федерации не может быть «спущено сверху волевым решением», а должно быть инициировано и поддержано населением объединяющихся регионов. В соответствии с федеральным конституционным законом «О порядке принятия в РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ», с объединительной инициативой могут выступать руководители исполнительной и законодательной ветвей власти объединяющихся регионов. После одобрения этой инициативы президентом РФ вопрос об объединении выносится на референдум жителей объединяющихся регионов. По Конституции требуется проведение в обоих субъектах федерации референдумов с минимальной 50%-ной явкой населения. И толь269 ко после одобрения этой инициативы населением федеральный парламент должен проголосовать за федеральный закон о создании объединенного региона, в котором прописывается порядок организации власти в новом субъекте РФ. Аналитики достаточно скептически оценивают процесс административно-государственной реформы, связанной с «перекраиванием» субъектов Федераций, но по разным причинам. Некоторые из них усматривают в современной административно-территориальной реформе «уши русофильского национализма» – имперский национализм. «Нынешние российские лидеры по той же причине декорируют свой главный политический проект рецентрализации страны и ―власти над народами без их на то согласия‖ под демократию (особую, ―суверенную демократию‖), федерацию (особую, ―вертикальную‖ федерацию)» (Паин, 2007, 47). Ссылка на «ту же причину» связана с отождествлением административной политики в современной России с политикой времен Сталина. Остаточная декоративность национально-федеративного устройства, по мнению Э. А. Паина, была нужна руководству СССР, потому что власти отлично понимали: в глобальном масштабе имперский тип правления нелегитимен. Фактически этот автор говорит об имперских замашках нынешнего российского руководства с той только разницей, что они готовы двигаться от государственно-бюрократического строительства государства к идеологическому, а не наоборот, как это было в советское время. «Имперский синдром включает в себя, помимо авторитарного политического режима и подданнического сознания, еще один важный элемент – ―имперское тело‖, то есть территорию, рассеченную рубцами колониальных завоеваний. Речь идет не только об ареалах компактного расселения некогда колонизированных этнических сообществ (чеченцы, татары, тувинцы и т. д.), но и обо всей совокупности российских регионов, так называемых ―субъектах Российской Федерации‖, которые в действительности лишены своей политической субъектности и объединяются на основе административного принуждения, а не обоснованной заинтересованности в интеграции» (Там же, 50–51). Понятно, что столь радикальная точка зрения связана с отсутствием восприятия самой России как единого целого. Установка эксперта явно свидетельствует о его представлении о России как о совокупности раздробленных государств, которые жаждут автономии, а «дурной царь» затягивает в кабалу, принуждая стать частью государства-монстра. Интересно, рискнул бы этот автор написать нечто подобное о других федерациях, например, о США. Естественно, всегда есть возможность заявить о подлинно федеративной сущности этого государства, где ре270 шения масштабных задач государства сочетаются с политикой поддержания сильных регионов, и, например, о том, что за более чем двухсотлетнюю историю своего существования эта страна никогда не была империей. Тем не менее почти анекдотический случай с заявлением в конце декабря 2007 г. индейцев племени дакота (их исторические земли охватывают части штатов Небраска, Южная Дакота, Северная Дакота, Монтана и Вайоминг) выйти из состава США показал, что Госдепартамент США на подобные декларации вообще реагировать не намерен, как не намерен и воспринимать всерьез заявления о том, что мирные договоры с правительством, подписанные вождями дакота в 1851 и 1868 гг., не имеют под собой юридической силы (Индейцы дакота, 2007). Если подлинно федеративное демократическое государство не реагирует на требования собственных граждан, то стоит ли предъявлять претензии к стране, которую эксперт оценивает как явно недемократическую?... Все же следует согласиться с циничным высказыванием, что «федерализм в России скорее мертв, чем жив» (Петров, 2007, 78), хотя многие федералистские институты сохранились. На практике при активизации обсуждения необходимости укрупнения регионов представители элит предпочитают не ссылаться на опасность последствий «парада суверенитетов», которые мы наблюдали в первой трети ушедшего десятилетия. Аргументация обычно касается необходимости сохранить «естественное единство территорий», которое обеспечивает близость проживающих в этих регионах народов и повысит экономическую эффективность хозяйствующих субъектов на этих территориях. Ни одна из объективных причин объединения регионов, обеспечивающих повышение эффективности управления ими (упрощение структуры управления из федерального центра, выстраивание «вертикали власти» для повышения контроля над территориями, политическими элитами региона и финансовыми потоками; выравнивание уровня экономического развития субъектов федерации; необходимость решения проблемы сложносоставных субъектов; уход от принципа формирования административно-территориального деления на основе национального фактора), в отношении случая Санкт-Петербурга и Ленинградской области не является существенной. Значение имеют мотивы, преимущественно связанные с интересами федеральных и региональных элитных групп (стремление губернаторов выторговать для региона дополнительные финансовые потоки, «выгоднее продать регион», а региональных бизнес-структур получить от объединения как можно больше выгод; желание региональных элит проявить лояльность по отношению к федеральному центру). 271 В связи с этим СМИ и политическим классом активно обсуждаются аргументы (главным образом «за», аргументы «против» замалчиваются), которые должны быть не только доведены до сведения рядовых жителей этих регионов, но активно внедрены в их сознание. Согласно данным «Левада-Центра», среди жителей города на сегодняшний день уже больше сторонников объединения с областью (56% опрошенных), чем противников (31%). Жители области более осторожны в этом вопросе («за» высказалось 49% репондентов, «против» — 35%). Еще более оптимистично выглядят данные Агентства социальной информации (руководитель – петербургский социолог Р. Могилевский), согласно которым в начале 2008 г. «за» объединение области и города высказались около 60% горожан и 70% жителей соседнего субъекта федерации. Хотя Санкт-Петербург и Ленобласть не относятся к категории так называемых «матрешечных» регионов, т. е. они эффективно существуют в «автономном режиме», являясь абсолютно самостоятельными, идея их объединения не дает покоя петербургским градоначальникам фактически с декабря 1993 г. (начиная с периода правления А. Собчака), когда Ленинградская область и Санкт-Петербург были выделены в самостоятельные субъекты Российской Федерации. Инициатива повторного поэтапного объединении области и города принадлежала представителю президента С. Цыпляеву, тогда же был подготовлен соответствующий проект договора. Позднее эту идею безуспешно пытался продвинуть губернатор В. Яковлев. Актуализация темы слияния в политической риторике глав петербургской исполнительной власти идет «волнами». Например, В. Матвиенко, получившая пост губернатора Санкт-Петербурга в 2003 г., четко заявила о своем положительном отношении к решению о слиянии только летом 2007 г. и повторно инициировала обсуждение этого вопроса весной и летом 2008 г. Реакция губернатора Ленобласти В. Сердюкова на мнение своей коллеги – отрицательная, однако за истекший год сам тон высказываний постепенно утрачивает резкость. Справедливости ради отметим, что руководители Ленинградской области в 1990-х годах не всегда столь негативно относились к данной идее. Например, первый губернатор Ленинградской области Беляков баллотировался на пост губернатора Санкт-Петербурга с идеей объединения двух регионов. В 1996–1997 гг. в головах руководителей Ленобласти возникла эта же идея, но тогда она встретила упорное сопротивление со стороны исполнительной власти Санкт-Петербурга. Предприняло попытку поучаствовать в воссоединении города и области законодательное собрание Санкт-Петербурга, когда в конце 2003 г. депутаты предложили провести референдум со следующей формулировкой: «Согласны ли вы, 272 чтобы Петербург и Ленинградская область объединились в новый субъект РФ – Петербургскую губернию». Позиции представителей политической элиты меняются постоянно. С. Миронов еще год назад, летом 2007 г., активно поддерживал В. Матвиенко по вопросу о необходимости объединения регионов, что не помешало ему столь же резко высказаться против в 2008 г., а потом еще раз изменить свое мнение… Год назад достаточно резко «против» высказывался и представитель Президента РФ И. Клебанов, но в конце сентября 2008 г. он поменял точку зрения на прямо противоположную. В конце своего второго президентского срока В. Путин 14 февраля 2008 г. на ежегодной пресс-конференции в Кремле сказал, что не считает целесообразным объединять Петербург и Ленинградскую область в один субъект. После этого федеральная исполнительная власть публично по данной проблеме не высказывалась. Но совершенно очевидно, что политики, так легко меняющие свою позицию, четко проводят линию Кремля. Например, В. Матвиенко готова предоставить Президенту РФ Д. Медведеву план экономического объединения регионов и схемы управления новым мегарегионом. В принципе среди политической элиты федерального и регионального уровня в любой политической ситуации найдутся противники и сторонники объединения Санкт-Петербурга и Ленобласти: «за» могут выступать президент и его администрация, крупные корпорации, губернаторы или «претенденты на пост» губернаторов «суперрегионов», представители президента, но лишь в случае, если это не будет угрожать их позиции в регионе; «против» будет выступать (не обязательно явно) местная бизнес-элита, которая может лишиться привилегий и выгод в случае прихода на рынок других, более крупных игроков, региональные политические элиты – представители не «партии власти». Ключевыми проблемами концепции объединения, на наш взгляд, являются следующие два. Во-первых, должно быть дано серьезнейшее экономическое обоснование необходимости объединения. Во-вторых, должна быть определена модель объединения: поглощение одного региона другим, паритетное сосуществование с частичным формированием общих функций, что-то иное... Возможный вариант первого шага – экономическая интеграция с отсроченным административным слиянием после приведения к «единому знаменателю» юридической базы. На сегодняшний день четких ответов по этим позициям нет. Аргументы власти «за» в отношении слияния города с областью касаются главным образом тех выгод, которые получит область. Декларируется выравнивание уровня жизни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на сегодняшний день средняя заработная плата в области 273 составляет около 72% от зарплаты петербуржцев). В противном случае Ленобласть стоит перед риском ухудшения жизни людей, невозможности реализовать долгосрочную стратегию развития всего СевероЗападного региона. При объединении регионов будет решена проблема диспропорции получения налогов по месту работы (в настоящее время значительная часть жителей Ленобласти, население которого составляет около 1 млн 700 тыс. человек, работает в Санкт-Петербурге и, естественно, налоги с заработной платы идут в бюджет мегаполиса). В свою очередь руководство Ленобласти не может быть довольно ситуацией, когда до четверти населения Санкт-Петербурга фактически живет на своих дачных участках с мая по октябрь, эксплуатируя инфраструктуру области. Существенными причинами объединения являются возможности получения новых территорий для строительства новых микрорайонов и вынесения и строительства предприятий за нынешнюю черту города. Кроме того, для города с населением свыше 4 млн 600 тыс. человек исключительно остро стоит вопрос о новых территориях для могильников промышленных отходов и свалок отходов бытовых. Кстати, число проживающих в Санкт-Петербурге, согласно правилу Ципфа, на сегодняшний день мало. Второй город России должен иметь примерно 7 млн жителей (в урбанистике мера гармоничности городской среды рассчитывается следующим образом: число жителей самого крупного города страны делится на порядковый номер данного города в ранжированном списке городов государства) (Смирнягин, 2007, 60). Понятно, что в случае слияния «северной столицы» и области лицо, возглавившее этот суперрегион, получит в свои руки практически неограниченные ресурсы и рычаги влияния. В «правильной» федерации, где действует принцип субсидиарности, наверх передаются лишь те функции, которые региональная власть эффективно решать не может, например, оборона или внешняя политика. Хотя в настоящее время в стране действует принцип «обратной субсидиарности», т. е. с верхнего уровня власти на региональный передаются лишь те функции, которые высший уровень выполнять не хочет, но в случае укрупнения таких значимых субъектов федерации, как Санкт-Петербург и Ленинградская область, Кремль неизбежно столкнется с ситуацией, когда глава «суперрегиона» может попытаться если не «померяться силой», то «перетянуть на себя» дополнительные права и полномочия. Аргументы «против» связаны прежде всего с опасностью снижения уровня жизни для петербуржцев, хотя темпы экономического развития Ленинградской области, которая остается регионом-донором, достаточно высоки. Бюджет области в 2008 г. по доходам составил 35 635 871,2 274 тыс. рублей, прогнозы поступлений на 2009 и 2010 г. равны соответственно 39 174 875,1 и 42 277 812,5 тыс. рублей. Бюджет СанктПетербурга на 2008 г. (доходная часть) равен 310 438 200,00 тыс. руб. (запланирован дефицит бюджета примерно в 50 000 000 тыс. рублей), на 2009 г. он запланирован в размере 335 970 219,1 тыс. руб., на 2010 г. – в сумме 381539375,7 тыс. руб. Наличие города-«миллионника» в регионе неизбежно создаст ситуацию «перетягивания финансов» в сторону мегаполиса, в то время как остальные районы будут финансироваться по остаточному принципу. Кроме того, в ситуации надвигающегося экономического кризиса вопрос об объединении мегаполиса и области может оказаться просто несвоевременным. Если в настоящий момент обе территории все же являются донорами и их объединение не должно привести к серьезному ухудшению в одной части за счет другой, то при развертывании экономического кризиса «провал» окажется уже существенным. Как следствие, при объединении может заметно пострадать какая-то часть населения обоих регионов выше допустимого уровня, что вызовет дополнительную социальную напряженность. Понятно, что в этом не заинтересованы ни федеральные, не региональные власти. Для объединения необходимо согласование законодательной базы области и города. Борьба за пост «супергубернатора» неизбежно усилит раскол региональной элиты и может грозить дестабилизацией политической обстановки. Неизбежно в случае объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области возникнет острейший конфликт между мэром города и губернатором региона за сферы влияния, финансовые и политические ресурсы, рычаги влияния на региональную элиту. Подобного рода конфликты существовали на протяжении всего прошедшего десятилетия открыто, а в нынешнем десятилетии в ситуации «укрепления вертикали власти» приобрели латентный характер серьезные противоречия в Саратовской, Свердловской областях, на Дальнем Востоке и т. д. Кроме того, федеральная политическая элита рискует ослаблением собственного влияния на реструктурированные субъекты Федерации. Весьма вероятно, что в случае слияния Санкт-Петербурга и Ленинградской области другие крупные регионы с хорошо развитой промышленной инфраструктурой или значительными природными ресурсами выберут этот же курс, что затруднит возможности контроля за ними со стороны Кремля. Коллизия при объединении возникнет еще и со статусами и объемом полномочий фактически назначаемого губернатора субъекта Федерации (формально он избирается региональным законодательным органом по представлению Президента РФ) и мэра областного города, избираемого жителями, что чревато появлением нового регионального конфликта. 275 Возникнет конфликтная ситуация: губернатор этого суперрегиона будет фактически назначаться (избираться депутатским корпусом с подачи президента, а если учитывать последние предложения Д. Медведева, прозвучавшие 5 ноября 2008 г. в Послании Президента РФ Совету Федерации, то и при поддержке «партии победителей» – партии, которая имеет большинство мест в региональном парламенте, понятно, что в ближайшее десятилетие это будет «Единая Россия»), а глава «второй столицы» – прямо избираться населением Санкт-Петербурга. Очевидно, что глава города, имея более низкий статус, чем губернатор Ленобласти, будет более независимым от федеральной власти. Подобная ситуация вряд ли может устроить федеральную власть, которая делает ставку на иерархические отношения прежде всего по линии исполнительной власти. Ситуация обращения представителей федеральной власти к руководству города в обход губернатора кажется, по меньшей мере, маловероятной. Как следствие, возникнет дополнительный повод к конфликту главы Санкт-Петербурга и губернатора «суперрегиона» – Ленинградской области. Нужно учесть и то обстоятельство, что при создании подобного «суперрегиона» федеральная власть должна будет менять стратегию контроля за региональными элитами. В период с 2000 г. Санкт-Петербург находится в зоне исключительно высокого внимания федеральных чиновников. В настоящий момент используется сочетание тактик из следующего набора: а) замена силовиков и силовиками людей, занимающих значимые должностные позиции в регионе; б) возможность визита (прямого обращения) главы региона или его окружения к президенту или в аппарат президента; в) силовое давление на региональные элиты; г) специальные законы, президентские указы, распоряжения правительства по поводу региона; д) близость главы региона Центру. Особо пострадала «чиновничья братия», поскольку если региональная политическая элита и не теряет еще посты, то с точки зрения реальных властных ресурсов и возможности контроля в городе достаточно часто инициативу «перехватывают» федеральные чиновники. Кроме того, растет влияние силовиков и представителей правоохранительных органов в ущерб реальным полномочиям публичных политиков (Петров, 2007, 81). Вполне вероятно, что потребуется изменение «репертуара тактик» в случае слияния города с областью. Необходимость создания нового аппарата управления этим «суперрегионом» с неизбежностью приведет к разрастанию чиновничьего управленческого аппарата, что повлечет за собой существенное увеличение стоимости его содержания. Необходимость унификации законодательства регионов касается самого широкого спектра вопросов – от инвестиционных условий (в об276 ласти они более привлекательны для инвесторов) до реального объема полномочий, ответственности, процедуры выборов органов местного самоуправления. Но, вероятно, наиболее сильным является аргумент не рациональный, а эмоциональный – в случае объединения Санкт-Петербург станет, как Ленинград в советское время, «городом с областной судьбой». Или еще хуже – муниципальным образованием Ленинградской области… Это тем более печально, что, по мнению экспертов, наш городмиллионник и сейчас плохо справляется с основной задачей мегаполиса – быть «передаточным звеном от столицы к глубинке» – распространять по территории страны нововведения. В случае снижения статуса Санкт-Петербурга это неизбежно. Для формирования удобного для политической власти общественного мнения по вопросу об объединении регионов будут использоваться в зависимости от ситуации аргументы «за» или «против». В первый набор войдут, скорее всего, следующие: в «суперрегионе» начнется бурный экономический рост за счет объединения ресурсной базы, возможности ее рационального использования (привлечение инвестиций), будут уменьшены расходы на создание новой инфрастуктуры, упростится структура управления и будет преодолен дефицит управленческих кадров, произойдет сокращение чиновничьего аппарата (сомнительно!!!), улучшатся социальные условия для населения. Наконец, территориальная, историческая, культурная общность регионов говорит сама за себя. В данном случае, скорее всего, последуют ссылки на то, как варварски менялись границы Ленинградской области в XX в. Вторая группа аргументов будет включать в себя: количество, размеры субъектов в федеративном государстве могут быть любыми, для экономической интеграции границы не играют и не должны играть роли; улучшение положения в экономически слабом регионе связано не с объединением, а с дополнительными финансовыми вливаниями по случаю референдума, экономическое неравенство регионов – результат экономической политики федерального центра, выравнивая регионы по статусу и экономическому потенциалу, федеральные власти могут «заморозить» точки экономического роста; излишняя централизация власти грозит в будущем появлением центробежных сил, слияние регионов не устранит существующие в них разрывы в уровне жизни населения; управлять крупными регионами намного сложнее, чем малыми, увеличится количество муниципальных образований, но снизится управляемость внутри региона. Чиновники «расформированного» региона займут места в новой системе управления, а потому его стиль не изменится. В регионах сформированы особые механизмы обслуживания населе277 ния в социальной, медицинской, образовательной сферах. Объединение разрушит существующие модели и надолго парализует систему. За почти два десятилетия эти регионы научились быть самостоятельными и успешными. Наконец, может быть использован и такой аргумент, что создание «суперрегионов» способно в будущем создать угрозы целостности и национальной безопасности России. В приведенных списках наглядно видно, что аргументы «против» весомее аргументов «за». Но совершенно очевидно, что в нынешней политической ситуации объединение регионов даже при формальном соблюдении всех «правил игры» в виде проведения референдума и инициирования «снизу» — решение исключительно федеральной и политической элит. В случае принятия элитными группами окончательного решения будет обеспечена нужная явка населения на референдум, «правильное» голосование. Важнейшую роль в этом сыграет прямой призыв поддержать мнение действующих президента и премьер-министра России земляками-петербуржцами. Литература Индейцы дакота вышли из состава США и разорвали все договоры с правительством, 2007 // http://www.newsru.com/world/20dec2007/ dakota.html/ Макаркин А. В. Мэры: борьба за независимость // Pro et contra. 2007. № 1 (35). Январь–февраль. С. 19–29. Паин Э. А. Россия между империей и нацией // Pro et contra. 2007. № 3 (37). Май–июнь. С. 42–59. Смирнягин Л. В. Трудное будущее российских городов // Pro et contra. 2007. № 1 (35). Январь–февраль. С. 56–71. Петров Н. В. Корпоративизм vs регионализм // Pro et contra. 2007. № 4-5 (38). Июль – октябрь. С. 75–89. 278 А. И. Кольба (Краснодар) ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ КОНФЛИКТАМИ В ПРОЦЕССЕ УКРУПНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В рамках данной работы автор ставит перед собой цель исследовать процессы и механизмы управления политическими конфликтами, возникающими в ходе укрупнения субъектов Российской Федерации. Для этого необходимо, во-первых, исследовать общие тенденции и модели объединительных процессов и скрытый в них конфликтный потенциал, во-вторых, рассмотреть с этой точки зрения ряд конкретных ситуаций (наибольшее внимание уделяется нами проблемам объединения Краснодарского края и Республики Адыгея). Укрупнение субъектов РФ стало одним из основных трендов развития российского федерализма в 2000-х годах Необходимость подобных реформ обоснована прежде всего количеством субъектов федерации, существовавших к началу этого периода (89), что создает проблемы управления ими. Очевидны также существенные различия в социальноэкономическом и географическом положении субъектов, усиливающие асимметричность федеративного устройства: – по площади территорий (между республиками Саха и Северная Осетия – в 388 раз); – по численности населения (между Москвой и Эвенкийским АО – в 443 раза); – по степени урбанизации (от стопроцентной в Москве до нулевой в Усть-Ордынском Бурятском АО); – по объему валового национального продукта на душу населения (между Ямало-Ненецким АО и Республикой Ингушетия – в 36 раз); – по уровню бюджетных доходов на душу населения (между ЯмалоНенецким АО и Республикой Ингушетия – в 178 раз); – по уровню бюджетных расходов на душу населения (между ЯмалоНенецким АО и Республикой Ингушетия – в 22,5 раза) (Дружинин, 2006, 15). Проблемы преобразования государственного устройства РФ, в том числе изменения территориальных границ и количества субъектов, обсуждаются с начала 1990-х годах Был выдвинут ряд проектов подобных преобразований (Усягин, Шишков, 2008), более или менее реалистич279 ных. Большинство из них, однако, объединяла одна общая черта – масштабные реформы планировалось провести в относительно короткий срок, сразу на всей территории России. Такой подход угрожал дестабилизацией социально-политической обстановки, резким ростом недовольства региональных элит, особенно в национально-территориальных субъектах РФ. Поэтому с началом реальных преобразований федеральный центр стремится придать им эволюционный характер, что позволяет выработать некую базовую модель и проверить ее эффективность в ряде конкретных ситуаций. Правовой основой укрупнения субъектов становится федеральный конституционный закон «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» (Федеральный конституционный закон, № 61, 2001). Согласно ему при создании нового региона за счет укрупнения существующих в России используется принцип народного волеизъявления. Во всех заинтересованных субъектах федерации обязательно проводятся всенародные референдумы по вопросу об объединении. В случае отрицательного результата в одном из субъектов федерации референдумы опять повторяются во всех заинтересованных регионах не ранее чем через год. Активную роль в данном процессе играют власти заинтересованных субъектов. Они должны подготовить мотивированное предложение президенту страны об объединении и его последствиях. Право окончательного решения принадлежит федеральному центру. Новый субъект федерации создается через принятие федерального конституционного закона, поскольку его создание влечет за собой внесение поправок в конституцию. Рассматривая установленный законом порядок объединения субъектов РФ с точки зрения возможности регулировать возникающие в ходе этого процесса противоречия и конфликты, мы видим в нем немало плюсов. Во-первых, используется принцип добровольности объединения, что предполагает достижение предварительных договоренностей между властями субъектов, урегулирование существующих спорных вопросов. Во-вторых, федеральные органы власти могут принимать активное участие в процессе объединения, начиная с ранних его стадий. Они могут выступать в качестве посредника, арбитра, одного из участников переговорных процессов и т.д. В то же время закон не предполагает доминирования федерального центра в интегративных процессах. Напротив, поощряются инициативы, идущие «снизу», речь идет об использовании в первую очередь не административных, а политических механизмов. В-третьих, ступенчатый механизм объединения, участие в нем различных политических субъектов создают барьеры на пути раз280 вития политических кампаний по слиянию всего и вся (не секрет, что многие полезные инициативы губит бюрократическая логика их исполнения). Использование механизмов референдума для придания процессу объединения высокой степени легитимности также представляется сильной стороной закона. В условиях современной России, когда реальные возможности участия граждан в политической жизни снижаются, этот порядок обеспечивает демократический характер процесса. Иначе говоря, политические силы, ратующие за объединение, должны не только договориться об этом с органами власти, но и заручиться поддержкой граждан. Это дает шансы на ведение дискуссии по спорным и неясным аспектам объединения, позволяет гражданам принять самостоятельные и зрелые политические решения. Однако следует учитывать, что референдум по своей природе может не только урегулировать, но и обострять политические конфликты. Главным минусом такого способа принятия решений является ограничение влияния меньшинства, которое далеко не всегда бывает «незначительным». Проведение объединительного референдума может спровоцировать раскол внутри самих субъектов федерации, если какая-либо сплоченная группа (этническая, конфессиональная и т. д.) увидит в его возможных результатах угрозу ущемления своих прав. Поэтому он целесообразен лишь в тех условиях, когда предварительные исследования, зондаж общественного мнения не выявляют подобной угрозы. Своеобразной «экспериментальной площадкой» укрупнительных процессов в РФ стали так называемые сложносоставные субъекты, где в составе края или области находились автономные округа, одновременно также являющиеся субъектами федерации. Наличие таких «матрешек» традиционно считается одной из слабых черт российского федерализма. Нетрудно было предположить, что федеральный центр будет стремиться в первую очередь уменьшить их количество, одновременно устраняя управленческие конфликты, заложенные в саму структуру отношений «двойного подчинения». Стимулятором объединительных инициатив для глав автономных округов должны были также стать поправки, внесенные в 2003 г. в федеральное законодательство. Они предусматривали передачу с 1 января 2005 г. части полномочий, которыми до сих пор пользовались автономные округа, краевым (областным) властям. Юрисдикция края (областей) начинает реально распространяться на территорию автономных округов (иное распределение полномочий возможно только в случае индивидуальных договоренностей края (областей) с автономными округами, т. е. при согласии края (области)). Это факти281 чески снижает статус автономных округов, который опять начинает приближаться к статусу внутрирегиональной автономии (Язев, 2008). В то же время установленный порядок объединения субъектов дает им возможность отстоять свои интересы (и интересы граждан, проживающих на управляемой ими территории), широкое поле для торга с властями «материнского» субъекта и федеральным центром. Таким образом, создается ситуация «кнута и пряника», в которой межсубъектная интеграция порой представляется наилучшим выходом из возникающих противоречий. У федерального центра появляются шансы не только решить главную задачу укрупнения, но и отработать способы уменьшения издержек этого процесса в наиболее благоприятной для этого политической обстановке. Впервые процесс объединения был запущен в Пермской области, где 7 декабря 2003 г., одновременно с выборами депутатов Государственной Думы, в двух субъектах федерации прошли объединительные референдумы. На них был вынесен вопрос: «Согласны ли вы, чтобы Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ объединились в новый субъект Российской Федерации – Пермский край, в составе которого Коми-Пермяцкий автономный округ будет являться административно-территориальной единицей с особым статусом и уставом края в соответствии с законодательством Российской Федерации?» По результатам референдума в марте 2004 г. был принят федеральный конституционный закон, в соответствии с которым 1 декабря 2005 г. в составе РФ появился новый субъект – Пермский край (Иванченко, Любарев 2007, 191–192). Территория бывшего КПАО вошла в состав нового субъекта на правах муниципальной единицы. Был создан так называемый «Пермский прецедент». Достижению этого позитивного результата предшествовал весьма длительный переговорный процесс. Тема объединения стала важнейшей составляющей в предвыборной кампании областного губернатора Ю. Трутнева еще в 2000-м г. При этом трудно было бы игнорировать очевидную тенденцию к конфликту интересов по вопросам о приоритетах проекта укрупнения, финансировании и руководстве. Попытки оказания давления «сверху» привели к тому, что администрация КПАО развернула кампанию по дискредитации проекта. Только при посредничестве Председателя Совета Федерации С. Миронова и полномочного представителя Президента РФ в Поволжском федеральном округе С. Кириенко удалось уговорить губернатора КПАО Г. Савельева начать переговоры (июль 2002 г.). Решающим фактором, по мнению самого губернатора, стало предоставление федеральным центром гарантий экономического развития региона. Позже в поддержку объединения 282 высказались ряд политиков федерального уровня и, наконец, Президент РФ В. В. Путин, посетивший регион в октябре 2003 г. Политическими силами округа активно обсуждались такие вопросы, как его будущее представительство в органах власти нового субъекта РФ, а также защита прав коренных жителей этой территории (более 60% от общего состава населения) (Там же, 192–193). Сочетание переговорных процессов и приемов массовой агитации привело к необходимому результату: противники объединения оказались в явном меньшинстве, а граждане обоих субъектов в достаточной мере убедились в полезности грядущего слияния. Очевидно, что федеральный центр с особым вниманием и тщательностью отнесся к созданию «Пермского прецедента», что и позволило не допустить обострения противостояния. По схожей схеме в 2005–2007 гг. прошли и другие объединительные процессы в сложносоставных субъектах РФ. Возникли новый Красноярский край, Камчатский край, новая Иркутская область, Забайкальский край. Во всех случаях поддержка объединения со стороны граждан оказалась достаточно высокой, иногда превышая 90%. Проанализировав объединительные процессы в этой группе субъектов, можно выявить некоторые закономерности. Во всех рассмотренных случаях они касались так называемых сложносоставных субъектов федерации, в которых между «большим» субъектом (областью или краем) и автономными округами уже существовали определенные соглашения интегрирующего характера. После объединения автономные округа получили статус муниципальных образований, однако сохранили определенные особенности, касающиеся формирования их бюджетов, представительства в органах власти нового субъекта и т. д. Для этого они стремились заручиться гарантиями не только со стороны администраций «больших» субъектов, но и со стороны федерального центра. Таким образом, выработанная модель укрупнения позволила с высокой степенью эффективности преодолеть конфликты с небольшими по численности населения автономными округами, не обладающие большим экономическим потенциалом. Способствовало объединительным процессам отсутствие в регионах ярко выраженных этнополитических проблем, структурированных национальных движений. В то же время не все сложносоставные субъекты удается объединить подобным образом. Пример Тюменской области, в составе которой существуют крупные и экономически мощные автономные округа (нефтедобывающий Ханты-Мансийский и газодобывающий Ямало-Ненецкий) говорит о том, что в данном случае объединительные инициативы сталкиваются с многочисленными препятствиями политического и экономического характера. В 1990-х – начале 2000-х отношения между субъ283 ектами были весьма конфронтационными, прежде всего из-за расположения нефтегазовых ресурсов, большая часть которых находится на территории автономий. Несмотря на то, что идея объединения в целом была поддержана федеральным центром, воплотить ее в жизнь пока что не удалось (Гуд, 2005, 195–203). Усиление давления на округа могло бы привести к обратному процессу – инициированию их выхода из состава области и превращения в полностью самостоятельные субъекты РФ. Подобные предположения недвусмысленно звучали из уст представителей региональных элит (Пресс-служба депутата В. Асеева…, 2008). Дальнейшее стимулирование объединительного процесса могло бы перевести дезинтеграцию в плоскость политической практики, создать масштабные политические конфликты. Поэтому интеграция субъектов на данный момент ограничена созданием консолидированного бюджета Тюменской области и функционированием программы «Сотрудничество», действующей в сфере социальной поддержки населения и развитии экономики (Неелов, 2008). В данном случае основным препятствием для объединительных процессов являются экономическая самостоятельность автономных округов («доноров» федерального бюджета), высокий уровень жизни и инвестиций в развитие экономики. На данном этапе развития регулирование спорных вопросов через договоры и соглашения между субъектами представляется наиболее целесообразным. Для оперативного рассмотрения возникающих проблем в области функционирует Совет губернаторов. Наибольший конфликтный потенциал процессов укрупнения продемонстрировали попытки объединения с другими субъектами национальных республик (Алтайский край и Республика Алтай, Краснодарский край и Республика Адыгея). Для анализа причин такого положения вещей остановимся более подробно на последней ситуации. До 1991 г. Адыгея входила в состав Краснодарского края на правах автономной области. В 1990 г. ее статус был поднят до республиканского, 28 июня 1991 г. пятая сессия областного Совета народных депутатов приняла «Декларацию о государственном суверенитете Советской Социалистической Республики Адыгея». С этого времени в республике постепенно формируется режим, имеющий черты этнократического, частично реанимируются кланово-родовые отношения. Некоторые законодательные акты, принятые в 1990-х годах, можно рассматривать как дискриминационные по отношению к русскому и русскоязычному населению. В частности, в Республике Адыгея был установлен паритетный принцип формирования органов исполнительной власти (равное представительство русских и адыгейцев во властных структурах) при соотношении адыгской и неадыгской части населения как 22 к 78%. В 284 реальности русское население и вовсе отодвигается на вторые роли. Так, президентом республики фактически может быть избран только представитель «коренной» национальности. Кадровый состав органов исполнительной власти в полной мере отражает этнический принцип формирования государственности (Денисова, 1996, 164–166). Во второй половине 1990-х годов адыгами были президент республики, премьерминистр, председатель конституционной палаты, председатели Высшего арбитражного и Конституционного, Верховного судов. Общая же доля славян среди руководства исполнительной власти составляла около 30%. При этом, по утверждению председателя Союза славян Адыгеи Н. Коноваловой, происходила внутренняя борьба за власть между «кланами» – представителями различных местностей (Ротарь, 2000). Происходит активное развитие национальных движений и организаций. Еще в 1988 г. было создано этнокультурное общество «Адыгэ Хасе», ставящее перед собой задачу возрождения традиций адыгского народа. В мае 1990 г. была образована Международная Черкесская ассоциация (МЧА), которая среди прочих декларировала и политические задачи – поддержку Абхазии в ее борьбе против Грузии, воссоздание Шапсугского национального района, получение черкесами статуса народа-изгнанника. Помимо этого, МЧА проводит культурнопросветительскую работу, главной задачей которой является консолидация всех ветвей адыгского этноса. Создаются также партия Адыгский Национальный Конгресс, общественно-политическое движение «Кабарда», «Комитет – 40» (юридически неоформленное объединение представителей адыгейской интеллигенции) и другие (Денисова, 1996, 159– 164). В целом, деятельность этих организаций отражает объективно существующие тенденции подъема этнического самосознания. Однако параллельно они решают и задачу сосредоточения власти в руках этнических элит, выступая «в тандеме» с органами власти. В качестве противовеса формируется политически активный Союз Славян, стремящийся защищать интересы не говорящего на языке адыгов большинства. Таким образом, в республике в период правления ее первого президента А. Джаримова накапливаются внутренние противоречия, вызванные в первую очередь отходом местного законодательства от принципов Конституции РФ. Вполне естественно, что это вызывает негативную реакцию федерального центра. При этом руководство Адыгеи выступало против изменения «принципа паритета», считая, что он призван обеспечить защиту адыгейского народа, а национальных проблем в республике и без того нет (Джаримов, 2000). После прихода к власти в Адыгее Х. Совмена начался процесс пересмотра ряда дискриминационных актов, что, однако, не изменило коренным образом ситуацию в рес285 публике и не привело к полному снятию напряженности в отношениях этнических групп. В 1990-х годах вопрос о статусе Адыгеи практически не поднимался. Причин и поводов для того, чтобы поднять его, было несколько. Наряду с преобладанием в республике русского населения, играли свою роль и экономические факторы. В начале 2000-х годов, по мере улучшения общей экономической ситуации в стране, стала расти привлекательность Краснодарского края как площадки для инвестиций. Адыгейский бизнес при этом приобрел достаточно сильные позиции в Краснодаре. С другой стороны, Адыгея рассматривалась как территория для деловой экспансии краснодарским бизнесом. Укрепление «горизонтальных» экономических связей давало некоторый козырь сторонникам объединения регионов (Казенин, 2008). Краснодарский край представляется регионом с существенно более развитой и мощной экономикой. Например, общий объем промышленной продукции, произведенной в крае, – около 110 млрд рублей в год, в Адыгее – только 4 млрд (данные по 2005 г.). При этом некоторые из местных экспертов выразили сомнение, что край сможет сыграть роль экономического локомотива в отношении республики (Кубань плюс Адыгея, 2005). Впервые мнение о возможности объединения субъектов было публично высказано губернатором Краснодарского края А. Ткачевым в декабре 2004 г. С января 2005 г. обязанности федерального инспектора по краю и республике стал выполнять один и тот же человек (А. Одейчук), тогда как раньше они были разделены. Объединительные процессы были активизированы в 2006 г. 12 января этого года А. Ткачев вновь поднял актуальную тему, завив, что «объединение позволит уменьшить администрирование для хозяйствующих субъектов». Практически тут же последовал ответ Х. Совмена: «С образованием Республики Адыгея удалось снять межнациональную напряженность, вызванную ростом национального самосознания и поиском новых форм его реализации, создать необходимые условия для свободного развития и гармоничного взаимодействия всех населяющих ее народов… Нельзя также забывать о предсказуемой реакции среди многомиллионной адыгской (черкесской) диаспоры, для которой Российская Федерация, Адыгея – это историческая Родина и мощный защитный морально-психологический фактор» (Президент Адыгеи считает…, 2008). Таким образом, позиции сторон определились достаточно ясно и приобрели явно конфликтный характер. Не замедлили высказать свое мнение и общественные организации. Союз Славян еще в декабре 2005 г. начал сбор подписей под обращением к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос об объединении субъектов. «Нам все равно, в какой 286 форме Адыгея войдет в состав края – в качестве автономии, как это было до 1991 года, или отдельными районами, – сообщила его лидер Н. Коновалова. – Главное – чтобы славяне, проживающие в республике, на деле получили равные права с адыгами» (Славяне Адыгеи хотят…, 2008). «Черкесский конгресс Адыгеи» направил обращение в Варшавский отдел по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, в котором просит «незамедлительно вмешаться в ситуацию в Адыгее с целью сохранения ее государственности в форме суверенной республики» (Черкесы просят защиты…, 2008). Конфликт также вылился в форму обсуждения нового варианта республиканского закона о референдуме (прежний не соответствовал требованиям российской конституции). В частности, прокурор республики потребовал вычеркнуть из законопроекта пункт, запрещающий изменение статуса республики путем проведения референдума. «Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Адыгея, имею все права, оговоренные уставом ООН, но статус ее территории относится только к коренному народу, только он может ее менять или изменить статус», – утверждал председатель «Черкесского конгресса» М. Берзегов. «У населения должно быть право и возможность… решать важнейшие вопросы прямым голосованием» – возражала Н. Коновалова (Кусов, Баркина, 2006). Катализатором конфликта послужили и итоги прошедших 12 марта 2006 г. выборов в высший орган законодательной власти – ГоссоветХасэ Адыгеи, где значительное число мест получили политические противники Х. Совмена (Казенин, 2008). В этот период полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Д. Козак попытался оказать давление на республиканские власти с целью официально поднять вопрос об объединении. В результате Х. Совмен подал в апреле 2006 г. в отставку со своего поста. Однако она не была принята Президентом РФ (Коц, Стешин, 2006). Еще ранее последовали заявления А. Ткачева и Х. Совмена об отказе от идеи объединения (Краснодарский край и Адыгея…, 2008). Правда, по истечении своих полномочий в январе 2007 г. Х. Совмен все-таки лишился своего поста, а его место занял бывший ректор Майкопского государственного технологического университета А. Тхакушинов, долгое время пребывавший в оппозиции к прежнему руководству республики. Однако его позиция по вопросу о статусе Адыгеи не отличается от позиции Х. Совмена: уже в первом интервью на новом посту президент заявил, что вопрос объединения республики с краем не стоит, и это гарантировано лично В. Путиным (Я давно хотел стать президентом…, 2008). Таким образом, от объединения регионов пришлось 287 если не полностью отказаться, то, по крайней мере, отложить его на неопределенное время. К каким выводам мы можем прийти, рассмотрев данную ситуацию? Основным из них является ограниченная пригодность модели объединения, обкатанной на сложносоставных субъектах. Очевидно, что в условиях Адыгеи референдум с большой вероятностью дал бы ответ, желанный для сторонников объединения. Не менее очевидно, что это не решило бы, а только усугубило конфликт. Мнением «титульного» этноса, пусть даже находящегося в явном меньшинстве, в данном случае невозможно пренебречь. Этническая элита адыгов, несмотря на клановое устройство и присущие ему разногласия, способно сплотиться вокруг проблемы статуса своего национального образования. Во многом это объясняется не только политическими и национальными интересами, но и развитым в республике этническим предпринимательством. В случае присоединения к краю оно может потерять важнейшие основания для своего функционирования: обеспечение благоприятных условий за счет родственных связей, устойчивость расклада сил в сложившихся сферах влияния. Имеют определенные основания и опасения адыгов «раствориться» в Краснодарском крае, утратить этническую идентичность, во многом опирающуюся на традиционный уклад жизни. Вообще, данная ситуация демонстрирует столкновение двух подходов. С одной стороны, это ориентация на приоритет общегражданских прав, с другой – рассмотрение проблемы сквозь призму этнических интересов. Для адыгов сохранение статуса республики имеет особый смысл, являясь символом существования их народа, компенсацией за жертвы, понесенные в ходе Кавказской войны. Не следует забывать и о наличии на Северном Кавказе идеи «Великой Черкессии» – общего государства родственных этносов (адыгов, черкесов, кабардинцев). В условиях обострения этнополитической ситуации в регионе может возникнуть ряд очагов напряженности далеко за пределами Адыгеи. Отдельно стоит остановиться на действиях сторонников объединения. В данном случае они характеризуются некоторой поспешностью, несогласованностью. Вряд ли стоило начинать объединительный процесс с публичных заявлений. Они в данном случае не послужили средством зондажа общественного мнения, а стали сигналом для мобилизации его сторонников и противников. В результате, даже начав предварительные переговоры с республиканской элитой, вряд ли удалось бы добиться многого. Попытки же использования силового давления в данной ситуации не только бесперспективны, но и опасны. Видимо, стоило 288 предварительно использовать не только публичные способы обсуждения проблемы, например, через партийные структуры. Не был учтен общественный резонанс, который приобрела данная ситуация не только в двух субъектах РФ, но и за их пределами. Можно сказать, что за ней пристально наблюдали во всем Северо-Кавказском регионе, где ряд народов родственны адыгам, а также из-за рубежа (черкесские диаспоры). Нужно думать, что объединительные процессы в регионе будут какое-то время испытывать влияние несостоявшегося «Адыгейского прецедента». Налицо не наличие долговременной стратегии, а скорее желание воспользоваться благоприятной ситуацией, «подтолкнуть» объединительные процессы. К счастью, федеральный центр, в целом придерживающийся настойчивой, но осторожной политики по вопросу укрупнения регионов, сумел вовремя вмешаться и заморозить конфликт. Естественно, возникает вопрос: как может развиваться ситуация в дальнейшем? Это зависит от действий всех субъектов конфликта, и прежде всего, федерального центра. Во-первых, необходимо решить: является ли насущно необходимым объединение данных субъектов, если отбросить чьи-либо политические амбиции? Какова будет «цена вопроса» (не только в экономическом отношении)? Может быть, имеет смысл сосредоточиться на исправлении как экономической, так и этнополитической ситуации в рамках существующего субъекта? Во-вторых, при положительном решении данного вопроса необходимо выработать долговременную стратегию. Возможно, это будет ступенчатая модель, при которой Республика Адыгея будет пошагово сближаться с Краснодарским краем (к примеру, через осуществление общих экономических проектов, чему, кстати, способствует подготовка к сочинской Олимпиаде). Необходима широкая пропагандистская, точнее, даже просветительская работа, чтобы рассеять представления об угрозе существованию этноса вне рамок собственной государственности (которая по многим параметрам является квазигосударственностью), перевести идею автономии прежде всего в культурную плоскость. Имеет смысл подумать и о сохранении некоего особого статуса адыгейских территорий в составе края (может быть, автономные районы?). Необходим переговорный процесс с этнической элитой, урегулирование спорных вопросов, которое не должно на первых этапах иметь публичного характера. Наконец, необходимо время, потому что «кавалерийским наскоком» проблему в данном случае не решить. 289 Литература «В Адыгее национальных проблем пока нет» (интервью с Президентом Республики Адыгея А. Джаримовым) // Независимая газета. 20.06.00. Гуд Дж.П. Россия при Путине: укрупнение регионов // Логос. 2005. № 1 (46). Денисова Г. С. Этнический фактор в политической жизни России 90-х годов. Ростов-н/Д. 1996. Дружинин С. А. Территориально-политическое устройство РФ (1990-е – настоящее время): структурно-функциональный анализ. Автореф. дис. … канд. пол. н. Нижний Новгород, 2006. Иванченко А. В., Любарев А. Е. Российские выборы от перестройки до суверенной демократии. М., 2007. Казенин К. «Союз» против «Конгресса»: ситуация в Адыгее перед окончанием полномочий главы республики. – http://www.regnum.ru/ news/694395.html (29.02.2008.) Коц А., Стешин Д. Россию будут перекраивать без крови // Комсомольская правда, 24.05.06. Краснодарский край и Адыгея отказались от объединения – http:// www.lenta.ru/news/2006/03/02/join/ (29.02.2008) Кубань плюс Адыгея // Новые известия. 12.01.2005. Кусов О., Баркина Л. «Попытки центра объединить Адыгею и Краснодарский край могут спровоцировать конфликт» // Коммерсант, № 16(3347) от 31.01.2006. Неелов: Вопрос объединения Ямала с Югрой и Тюменской областью не актуален // http://www.muravlenko.com/2006/09/05/print:page,1,neelov _vopros_obedinenija_jamala_s_jugrojj_i_tjumenskojj_oblastju_ne_aktualen. html (29.02.2008). Президент Адыгеи считает историческим регрессом объединение с Краснодарским краем // http://www.yuga.ru/news/45338/ (29.02.2008.) Пресс-служба депутата В. Асеева сообщает: Депутат о возможном развитии событий в процессе объединения Тюменской области и АО. – http://www.admmegion.ru/news/1023 (29.02.2008). Ротарь И. Этнократия по-адыгейски // Независимая газета. 11.02.2000. Славяне Адыгеи хотят объединиться с Краснодарским краем // http://www.nr2.ru/south/50547.html (29.02.2008). 290 Усягин А. В., Шишков М. К. Территориальное управление в России: теория, история, современность, проблемы и перспективы // http://www.terrus.ru/mono/ (29.02.2008). Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 61 ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» // Российская газета, 20.12.2001. Черкесы просят защиты у Европы от угрозы объединения Адыгеи с Краснодарским краем // pressa.kuban.info/article/kuban_info/29105/ (29. 02.2008). Я давно хотел стать президентом: интервью нового президента Адыгеи Аслана Тхакушинова ИА REGNUM // www.regnum.ru/dossier/ 482.html (29.02.2008). Язев Г. В. Проблема укрупнения регионов в современной России: подходы и оценки // politpractice.gospolitika.ru/nomera/p4/14_GV_Yazev_ 2007_05.pdf (29.02.2008). 291 В. Н. Якимец (Москва) ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И РЕГИОНАМИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ Сложившаяся в РФ к концу первого десятилетия XXI в. модель федеративных отношений стала следствием преодоления завалов, образованных рядом решений первого президента страны в 90-е годы прошлого века. Маятник, качнувшийся в сторону от парада суверенитетов, проскочил позицию равновесия и уверенно ушел в сторону «централизации». Появились даже такие определения этой модели как «формальный федерализм», «квазифедерация, в которой централизм преобладает в управлении» (Гаврилов, 2007, 29; Административная реформа, 2008). Последствия «взятия суверенитетов» пришлось устранять с помощью различных крайних мер («назначение» губернаторов, сведение выборов до «назначение в список», превращение муниципалитетов в «отстойник бюджетных дефицитов», «суверенная демократия» и др. (Татаркин, 2008, 66). Совершенствование и развитие федеративных отношений в России возможно на основе изучения двух тенденций в мировом опыте (Там же, 69): последовательное расширение демократических основ федеративных отношений при строгом соблюдении прав муниципальных органов (разграничение полномочий между уровнями власти, их финансовое обеспечение, самостоятельность в выборе приоритетов регионального развития и др.); качественная настройка процессов выравнивания уровней экономического и особенно социального развития регионов, обладающих разными возможностями. Доклад сосредоточен на обсуждении второй темы. Известно, что фондовое обеспечение субъектов РФ имеет несколько составляющих: – средства из федерального бюджета; – средства государственных внебюджетных фондов; – средства консолидированных бюджетов регионов РФ; – заемные средства; – привлеченные средства. Бюджетные ассигнования, обеспечивающие выполнение определенных функций государственного управления, составляют около 2/3 рас292 ходов федерального бюджета (в 2006 г. – 62%). На долю межбюджетных трансфертов в 2006 г. приходилось 38%. Сравнивая среднедушевое бюджетное обеспечение (расходы консолидированных и местных бюджетов), можно отметить, что существуют значительные разрывы между разными субъектами РФ в сотни раз. Сложившаяся в России практика выравнивания уровней социального и экономического развития регионов подвергается критике со стороны теоретиков, специалистов и управленцев. Эта практика «возврата абсолютному большинству регионов заработанных ими средств из федерального бюджета, с использованием институтов дотаций, субвенций и субсидий, свидетельствует о слабости федеративных взаимоотношений и отсутствии у регионов стимулов повышать эффективность развития» (Там же). Известно, что такая система межбюджетных взаимоотношений, как бюджетный федерализм, должна удовлетворять требованиям социально-экономической эффективности, региональной (территориальной) справедливости и политической стабильности. Эти требования противоречивы. Так, для достижения политической стабильности приходится идти на межбюджетные трансферты и дополнительные «вливания» в регионы, которые в силу ряда обстоятельств не могут обеспечить эффективное их использование. Региональная (территориальная) же справедливость в российской практике приводит к тому, что у дотационных субъектов РФ, привыкших к «выравниванию» за счет регионов-доноров и центра, ослаблены стимулы к развитию. Справедливость обеспечивается тогда за счет определенного ущерба экономической эффективности. О том, что необходимо что-то менять в таком подходе говорят уже не только теоретики, но и управленцы. Так, министр регионального развития РФ Д. Козак отметил, что надо разработать «механизм ответственности федеральных, региональных и местных властей за конечный результат», предоставив субъектам РФ больше самостоятельности и финансов (Городецкая, Хамраев, 2007, 2). В силу многих обстоятельств уровни бюджетной обеспеченности (БО) консолидированных бюджетов субъектов РФ оказываются различными. Для того, чтобы хоть как-то выровнять различия, в РФ были созданы так называемые выравнивающие механизмы – система безвозмездных перечислений регионам из федерального бюджета в формате межбюджетного трансферта. Эта система оказания финансовой помощи на сегодняшний день включает 5 фондов: ФФПР, ФФК, ФССР, ФФРР и ФРРФ. 293 Фонд финансовой поддержки регионов (ФФПР) – это основной механизм выравнивания БО, созданный в 1994 г., объем которого в 2007 году равнялся 260,4 млрд рублей. Федеральный фонд компенсаций (ФФК) – второй по величине (153,1 млрд рублей в 2007 г.) фонд, образованный в 2001 г., предназначен для предоставления субъектам РФ субвенций на реализацию федеральных законов, связанных с социальными выплатами или льготами выделенным категориям населения. Объемы трех других фондов в 2007 г. менее значительны: – Фонда софинансирования социальных расходов в форме субсидий (ФССР – 35,4 млрд рублей), – Федерального фонда регионального развития в виде субсидий на развитие общественной инфраструктуры и поддержку региональных фондов муниципального развития (ФФРР – 6,3 млрд рублей), а также – Фонда реформирования региональных финансов (ФРРФ сформирован за счет средств МБРР – 1,9 млрд рублей) в форме субсидий на основе конкурсного отбора субъектов РФ для выполнения реформ в бюджетной сфере. Действующая методика расчета бюджетных трансфертов ФФПР основана на оценке уровня БО, определяемой из соотношения индекса налогового потенциала (ИНП) и индекса бюджетных расходов (ИБР). ИНП – это оценка налоговых доходов консолидированного бюджета региона на душу населения, при расчете которой используют показатели добавленной стоимости за несколько лет, а ИБР – это оценка расходов консолидированного бюджета по предоставлению одинакового объема бюджетных услуг на душу населения (применяются коэффициенты дифференциации зарплаты, стоимости ЖКУ, уровня цен в регионе и др.). Субъекты РФ, у которых БО больше 1 поддержки из ФФПР не получают. В число таких регионов в 2006 г. входили 18 субъектов РФ (Тюменская обл., Москва, Липецкая обл., Республика Татарстан, СанктПетербург, Вологодская обл., Пермская обл., Самарская обл., Красноярский край, Челябинская обл., Томская обл., Оренбургская обл., Республика Коми, Свердловская обл., Ленинградская обл., Ярославская обл., Астраханская обл., Республика Башкортостан), а в 2007 г. – 17 (перечисленные выше без Республики Башкортостан). Остальные субъекты РФ по линии ФФПР получили поддержку, которая отличается следующими особенностями (Мильчаков, 2008, 519– 520): – велика поляризация регионов по уровню финансовой поддержки (в 318 раз на душу населения – от 241 рублей / человек для Удмуртии до 76 533 рублей / человек для Эвенкийского АО; в 50 раз по общему объ294 ему перечислений – от 0,37 млрд рублей в Удмуртию до 18,62 млрд рублей в Дагестан); – меньшую поддержку получают регионы, имеющие одну или несколько конкурентноспособных отраслей, или отличающиеся наличием города-миллионера; – наибольшую поддержку получают депрессивные регионы ЦФО, УрФО и ПФО со значительным спадом промышленного производства, регионы юга СФО и ДФО, находящиеся в состоянии социальноэкономического кризиса, слабо развитые АО и субъекты РФ с малой численностью населения и бюджетной экономикой, удаленные субъекты с плохой транспортной доступностью и суровым климатом, а также слаборазвитые субъекты Северного Кавказа. Следует отметить, что методика расчета финансовой помощи по линии ФФПР неплохо формализована, в основном достаточно четко выявляет проблемные регионы. Однако имеются примеры, свидетельствующие «о политической обусловленности особой поддержки (скорее всего, на этапе расчета статистических данных) некоторых регионов: балансирование Кемеровской области и Башкирии, значительные трансферты отдельным республикам Северного Кавказа» (Там же, 521). Рядом исследователей отмечается, что в последние годы в связи с передачей части федеральных полномочий в субъекты РФ и осуществлением региональных социальных полномочий распределение всей совокупности межбюджетных трансфертов разнится от расходования по линии ФФПР: проявился рост уровня душевых безвозмездных перечислений в регионы с БО > 1. Поэтому выравнивающая роль ФФПР стала уменьшаться. Очевидно, что при выработке стратегии реформы межбюджетных отношений в России придется искать допустимый компромисс между экономической эффективностью и региональной справедливостью. При этом надо осознавать, что экономическая эффективность есть рациональное использование бюджетных ресурсов и создание стимулов такого поведения со стороны властей разных уровней, а региональная справедливость состоит в обеспечении на всей территории страны (включая дотационные регионы) определенного минимума социальных гарантий. Забота федерального центра не должна сводиться к такому распределению, но должна состоять в оказании помощи в саморазвитии регионов и в контроле за рациональным использованием ресурсов. Начали создаваться новые инструменты. 1. Указом Президента России от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» утверждена методика оценки эффективности 295 деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Идея о создании такого инструмента впервые была озвучена почти десять лет назад, но стала актуальной в связи с назначением губернаторов. В соответствии с методикой оцениваются эффективность расходования бюджетных средств, динамика изменения показателей, характеризующих качество жизни, уровень социально-экономического развития региона, степень внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям регионального управления. На основе полученных оценок определяются вопросы, требующие приоритетного внимания региональных и муниципальных властей, затем предполагается сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности региональных органов исполнительной власти (включая сокращение неэффективных расходов, выявление внутренних ресурсов для увеличения заработной платы работников бюджетной сферы, повышения качества и объема предоставляемых населению услуг). Трудности, с которыми пришлось столкнуться создателям этого инструмента, просматриваются уже из перечня показателей оценки, утвержденных названным выше Указом Президента. Совокупность из 43 показателей (в исходном Указе) и 77 показателей (список расширен Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия, протокол № 1 от 18 июля 2007 г.) условно можно разбить на две группы: «затратные» показатели и показатели «результатов» деятельности, которые можно подразбить на 3 подгруппы – прямые, конечные и показатели эффективности. Оценка осуществляется в социально-экономической сфере по следующим направлениям: развитие экономики, уровень доходов населения, политика в сфере обеспечения безопасности, здоровье, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищная политика – и проводится с использованием показателей, утвержденных Указом, а также дополнительных показателей, разработанных во исполнение Указа, утвержденных Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия и необходимых для проведения комплексного анализа и расчета эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Бросается в глаза сразу то, что группа «затратных» показателей оказывается неполной в том смысле, что она не охватывает всех полномочий. Одновременно включены показатели, в которые входят полномо296 чия, не относящиеся к субъектам РФ (охват населения мобильной связью). Есть сложности и со второй группой. Нетрудно заметить, что эти показатели, характеризующие динамику, имеют разный базовый уровень и являются противоречивыми: у одних рост значений отражает эффективность (доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, или реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом), а у других напротив уменьшение значений (доля убыточных организаций ЖКХ или смертность населения разных половозрастных групп). А ряд показателей вообще трудно отнести к таким, которые позволяли бы оценить конечный результат (доля автономных учреждений). Странно, что не включены показатели, увязывающие затраты с эффективностью. Трудно не согласиться со следующим мнением представителя Центра фискальной политики (Курляндская, 2007): Наличие показателей, динамика которых зависит от огромного числа факторов (ВРП, частные инвестиции); Наличие показателей, сомнительно характеризующих эффективность деятельности субъектов РФ (Соотношение среднедушевого товарооборота и величины прожиточного минимума); Наличие показателей, формирующих ложные стимулы (Число рентабельных крупных и средних сельскохозяйственных предприятий); Межрегиональная несопоставимость ряда показателей (абсолютные значения, различные условия и т.п.); Отсутствие интегральной оценки по отдельным отраслям (методика экспертной оценки предлагает формализованную сводную оценку только по отдельным показателям). Экзотическим выглядит такой показатель как количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения. Действительно, если ничего не говорится о том, что из себя представляют эти книги, то можно сильно нарастить значение показателя за счет приобретения бульварных книжонок. 2. Для повышения эффективности государственного и муниципального управления в России наряду с усилением профессионализма и ответственности власти необходимо расширение участия общества в делах государства, развитие каналов обратной связи между обществом и властью, привлечение потенциала гражданского общества к созданию условий устойчивого социально-экономического развития регионов. 297 Основные направления развития институтов гражданского общества и межсекторного социального партнерства включают (Якимец, 2004): – развитие механизма конкурсного размещения государственного и муниципального заказа на предоставление социальных услуг, обеспечивающее участие в их оказании некоммерческих организаций (НКО); – расширение практики частно-государственного финансирования социальных программ (проектов) в рамках механизмов социального партнерства с привлечением к их реализации НКО; – развитие механизмов взаимодействия органов исполнительной власти и структур гражданского общества в рамках административной реформы; – распространение лучшей практики реализации социальной политики с привлечением НКО. Нами была предложена рейтинговая методика оценки (АЯ-рейтинг регионов по уровню продвижения механизмов межсекторного социального партнерства (МСП), основанная на учете факта наличия механизмов МСП в соответствующем субъекте РФ или факта наличия механизмов МСП с учетом их качества (значимости) (Акрамовская, Якимец, 2007). Модель предполагает расчет рейтинга на уровне регионов и федеральных округов. На уровне регионов рейтинг может рассчитываться двумя способами. С помощью первого способа оценивается использование механизмов МСП на региональном уровне. Второй способ позволяет определить рейтинг региона с учетом развитости механизмов МСП на внутрирегиональном уровне – в муниципальных образованиях, которые входят в состав региона. Первый способ предполагает расчет рейтинга по двум вариантам: первый – по факту наличия механизмов МСП в регионе, второй – с учетом значимости механизмов МСП в регионе. В исследовании участвовали восемь значимых механизмов МСП (фонды местных сообществ, гранты НКО, налоговые льготы НКО и донорам и др.). Отметим, что многие механизмы МСП позволяют привлечь на территорию внебюджетные средства. Расчет рейтинга по факту наличия механизмов МСП в регионе производится по формуле J x ij (t ) R (t ) i j 1 J , где i – номер региона; 298 Ri – рейтинг i-го региона; t – время (год) определения рейтинга; j – номер механизма МСП; J – количество анализируемых механизмов МСП; хij – булева переменная, определяемая следующим образом: xij 1, если в регионе i есть механизм j 0, если в регионе i нет . механизма j По методике каждому j-му механизму МСП (j = 1, 2, ... J) в каждом iм регионе (i = 1, 2, ... I) выставляется значение, используя булеву переменную xij, где I – количество исследуемых регионов России. Результаты расчета рейтинга субъектов России по факту наличия механизмов МСП позволили выделить шесть групп регионов (2006 г.): 1) «отсталые» – регионы, для которых значение рейтинга Ri =0, т. е. механизмов МСП нет. Таких – 22, что составляет 25% от числа всех субъектов РФ. Большая часть из них – это республики и автономные округа в составе РФ, занимающие примерно такие же строчки рейтингов по экономическому положению (депрессивные регионы); 2) «начинающие» – регионы, где значение Ri =1. Здесь 23 региона, что составляет 26% от всех субъектов РФ; 3) «средние» – регионы, где значение Ri=2, 19 регионов, или 22%; 4) «развитые» – регионы, в которых значение Ri =3, таких регионов 12 по состоянию на 2006 г. (что составляет 14%); 5) «продвинутые» – регионы, в которых значение Ri=4. Их 10 (или 11%). Треть из них – регионы, считающиеся донорскими (Челябинская, Тюменская, Свердловская области). Но сюда вошли и не столь экономически развитые (Приморский край, Сахалинская и Саратовская области); 6) «лидеры» - это Пермский край и г. Санкт-Петебург – регионы, в которых значение Ri =5. Аналогично рейтингу регионов по факту наличия механизмов МСП рассчитан рейтинг каждой выше названной группы регионов по факту наличия правовых условий МСП (Pi ). При сравнении этих двух рейтингов наблюдается связь первого и второго показателей. Из чего следует очевидный вывод о необходимости существования правовых условий для запуска механизмов МСП. В то же время зависимость не является прямо пропорциональной, что логично, так как для развития и эффективной работы механизмов МСП необходимо наличие процедурных, а не декларативных правовых норм (здесь важно отметить, что при опре299 делении Pi учитывались в большей степени декларативные правовые нормы). Рейтинг с учетом «качества» (значимости) механизмов МСП в регионе рассчитывается по формуле J * Ri (t ) где j xij (t ) , j 1 j определяется как j 1, m , 0 j 1и j 1. i Значения определяются путем экспертных оценок методом кон- j сенсуса в режиме мозгового штурма. На основе проведенных исследований были выделены восемь значимых механизмов МСП. Их список приведен в таблице. Весовые коэффициенты механизмов МСП № Механизм МСП j 1 2 3 4 5 6 7 8 В Фонды местных сообществ Социальный заказ Гранты НКО Налоговые льготы НКО и донорам Общественные палаты Форумы НКО Общественные советы при законодательных органах власти Общественные советы при исполнительных органах власти этом K случае рейтинг определяется по 0,2 0,15 0,15 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 формуле J x ijk (t ) M (t ) k 1 j 1 , Ri J K где Ri М – рейтинг i-го региона с учетом развитости механизмов МСП в муниципальных образованиях, которые входят в состав региона; k – номер муниципального образования в регионе; K – количество муниципальных образований в регионе; 300 хijk – булева переменная, определяемая следующим образом: xijk 1, если в муниципальном образовании k региона i есть механизм j 0, если в муниципальном образовании k региона i нет механизма j В рамках второго способа рейтинг i-го региона можно определять с учетом развитости механизмов МСП на муниципальном уровне, т. е. в муниципальных образованиях, которые входят в состав этого региона. Среднее значение рейтинга региона по степени развитости механизмов МСП по России составляет 0,21. Ниже этой границы находится более половины (45) регионов России. Их список совпадает со списком дотационных регионов. Стратегия развития МСП будет различаться в зависимости от принадлежности региона к той или иной группе. Так, для регионов отсталых и начинающих акцент необходимо делать на просвещении и обучении участников, создании базовых институциональных условий, необходимых для запуска механизмов МСП. В регионах, принадлежащих к группам «средние» и «развитые» приоритетным станет разработка и запуск тех механизмов МСП, которые в регионе еще не работают, методическая и консультационная поддержка процесса межсекторного взаимодействия. В продвинутых регионах и регионах-лидерах скорее всего речь пойдет о повышении качества и эффективности МСП, обеспечении стабильности, поддерживании необходимого уровня мотивации участников, обмене опытом. Именно эти регионы могут взять «шефство» над отсталыми и начинающими и оказывать им необходимую информационную, методическую, консультационную и иную поддержку. В заключение отметим, что наблюдающееся в течение многих лет устойчивое сохранение в списке «дотационных» субъектов РФ подавляющего числа одних и тех же регионов свидетельствует о том, что практика межбюджетных взаимоотношений между федеральным центром и субъектами РФ в динамике оказывается неэффективной. Эта практика не стимулирует саморазвитие дотационных регионов и не способствует наращиванию потенциала регионов-доноров. Очевидно, что должно работать не только оказание финансовой помощи из федерального центра. Необходимо в ускоренном темпе создавать новые инструменты управления, направленные, с одной стороны, на поощрение экономического и социального саморазвития всех субъектов РФ, а с другой стороны, на контроль за эффективным расходованием финансовых средств органами исполнительной власти регионов, на комплексную и верифицированную оценку эффективности их деятельности, как в отношении использования этих фондов, так и в создании новых механизмов саморазвития (в том числе и межсекторного социального партнер301 ства) с учетом состояния и потенциала всех секторов экономики (государственного, муниципального, коммерческого и некоммерческого). Литература Административная реформа в контексте властных отношений: сравнительная перспектива. М., 2008. Акрамовская А. Г., Якимец В. Н. АЯ-рейтинг регионов по уровню продвижения механизмов межсекторного социального партнерства // Актуальные проблемы управления. М.: Государст. ун-т управления. 2007. Гаврилов В. Федерализм и его российская интерпретация // Федерализм. 2007. № 4. Городецкая Н., Хамраев В. Дмитрий Козак ищет место полпредам // Коммерсантъ. 26.10.2007. Курляндская Г. В. Эффективен ли административный рейтинг регионов. Центр фискальной политики, 2007. Мильчаков М. В. Выравнивающие финансовые механизмы федерального центра: современные тенденции и территориальные изменения // Проблемы государственной политики регионального развития России. М., 2008. Татаркин А. И. Макроэкономические условия и организационноэкономические формы устойчивого развития регионов // Проблемы государственной политики регионального развития России. М., 2008. Якимец В. Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, механизмы. М., 2004. 302 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ Арефьева Наталья Сергеевна (Таллинн, Эстония), магистрант факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. Ачкасов Валерий Алексеевич (Санкт-Петербург), доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных политических процессов факультета философии и политологии СанктПетербургского государственного университета. Вульфович Ревекка Михайловна (Санкт-Петербург), доктор политических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Северо-западной академии государственной службы. Ильченко Михаил Сергеевич (Екатеринбург), аспирант Института философии и права Уральского отделения РАН. Ирхин Юрий Васильевич (Москва), доктор философских наук, профессор кафедры политологии и политического управления Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Коваленко Валерий Иванович (Москва), доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой мировой и российской политики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Колесников Владимир Николаевич (Санкт-Петербург), кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии Северо-западной академии государственной службы. Кольба Алексей Иванович (Краснодар), кандидат политических наук, доцент кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета. Кузнецова Ольга Александровна (Тольятти), кандидат социологических наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных дисциплин филиала Самарского государственного экономического университета. Курочкин Александр Вячеславович (Санкт-Петербург), кандидат социологических наук, доцент кафедры политического управления факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Макаренко Виктор Павлович (Ростов-на-Дону), доктор политических и философских наук, профессор, заслуженный деятель науки России, академик Академии педагогических наук Украины, зав. кафедрой политической теории Южного федерального университета. Никовская Лариса Игоревна (Москва), доктор социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН. 303 Павроз Александр Васильевич (Санкт-Петербург), кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политического управления факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Пляйс Яков Андреевич (Москва), доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-политических наук Финансовой академии при Правительстве РФ. Полякова Наталья Валерьевна (Санкт-Петербург), кандидат философских наук, доцент кафедры теории и философии политики факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Попова Ольга Валентиновна (Санкт-Петербург), доктор политических наук, профессор кафедры политических институтов и прикладных политических исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Сморгунов Леонид Владимирович (Санкт-Петербург), доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой политического управления факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета. Солонин Юрий Никифорович (Санкт-Петербург), доктор философских наук, профессор, декан факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Тимофеева Лидия Николаевна (Москва), доктор политических наук, профессор кафедры политологии и политического управления Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Торре Алессандро (Бари, Италия), доктор наук, профессор Университета Бари. Фарукшин Мидхат Хабибович (Казань), доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой политологии философского факультета Казанского государственно университета. Четырова Любовь Борисовна (Самара), доктор философских наук, профессор Самарского государственного университета. Якимец Владимир Николаевич (Москва), доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института системного анализа РАН. Яскевич Ядвига Станиславовна (Минск, Беларусь), доктор философских наук, профессор, директор Института социально-гуманитарного образования Белорусского государственного экономического университета. 304 СОДЕРЖАНИЕ Введение: Федерализм как принцип публичного управления и способности государства управлять (Л. В. Сморгунов)………… Раздел I. СОВРЕМЕННЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРАКТИКА Макаренко В. П. (Ростов-на-Дону) Концептология федерализма: понятие и процесс изменения………………………………... Ильченко М. С. (Екатеринбург) Федерализм с позиций инструментализма: теоретические основания и политические реалии………………………………………………………………….. Торре А. (Бари, Италия) Похожа ли деволюция на федерализацию? Размышления конституционного компаративиста……… Ирхин Ю. В. (Москва) Сравнительный анализ государственной региональной политики (общее и особенное в опыте Канады и российские реалии)……………………………………………….. Кузнецова О. А. (Тольятти) Федерализм и политические элиты. Перспективность федерализма для Украины…………………… Яскевич Я. С. (Минск, Беларусь) Союзное государство России и Беларуси: федерация, конфедерация или особое политическое сообщество?.............................................................................. Арефьева Н. С. (Таллинн, Эстония) Интеграция русского меньшинства в Эстонии: перспективы использования федералистских практик………………………………………………….. Раздел II. ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА Коваленко В. И. (Москва) Система взаимоотношений «Центр – регионы»: уроки отечественной политической традиции……... Четырова Л. Б. (Самара) Исторические предпосылки российского этнофедерализма: опыт Калмыцкого ханства……………. Пляйс Я. А. (Москва) Природа, генезис и современные особенности российского федерализма…………………………………. Колесников В. Н. (Санкт-Петербург) Политическое представительство и стабильность в условиях современного российского федерализма……………………………………………………….. Курочкин А. В. (Санкт-Петербург) Федеративные отношения и региональные политические режимы в РФ……………………... 305 3 15 23 36 62 79 88 100 109 120 139 163 173 Павроз А. В. (Санкт-Петербург) Федеративные реформы начала XXI в. в России: ход реализации и противоречивость результатов…………………………………………………………... Раздел III. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ В РОССИИ Тимофеева Л. Н. (Москва) Этнополитические конфликты в ракурсе российского этнофедерализма: проблемы регулирования………………………………………………………………….. Ачкасов В. А. (Санкт-Петербург) Можно ли с помощью федерализма решить «национальный вопрос»?.................................... Полякова Н. В. (Санкт-Петербург) Конфессиональный фактор в системе российского федерализма…………………………….. Никовская Л. И. (Москва) Проблемы противоречивого взаимодействия централизации и децентрализации в современной России……………………………………………………………… Фарукшин М. Х. (Казань) Усиление дисбаланса в российском федерализме……………………………………………………….. Вульфович Р. М. (Санкт-Петербург) Проблема слияния субъектов федеративных государств: история и современность…….. Попова О. В. (Санкт-Петербург) Политика укрупнения российских регионов: дискуссии вокруг объединения СанктПетербурга и Ленинградской области…………………………... Кольба А. И. (Краснодар) Проблемы управления политическими конфликтами в процессе укрупнения субъектов Российской Федерации…………………………………………………………. Якимец В. Н. (Москва) Инструменты управления взаимоотношениями между центром и регионами для выравнивания социально-экономического положения……………………………. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ…………………………………. 306 187 196 205 215 226 242 252 269 279 292 303 Н а уч н о е и з да н и е Сравнительный федерализм и российские проблемы федеративных отношений Сборник статей Печатается без издательского редактирования Обложка Е. А. Соловьевой Корректор И. А. Симкина Компьютерная верстка А. В. Павроза ___________________________________________________ Подписано в печать с авторского оригинал-макета 1.12.2008. Формат 60х84/16. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,91. Тираж 200 экз. Заказ Издательство СПбГУ. 199004. Санкт-Петербург, B.О., 6-я линия, 11/21. Тел. (812) 328-96-17; факс (812) 328-44-22 E-mail: [email protected] www.unipress.ru ___________________________________________________ Типография Издательства СПбГУ. 199061, С.-Петербург, Средний пр., 41. 307