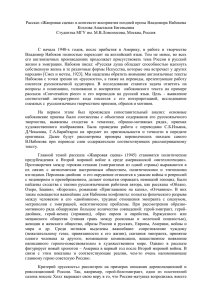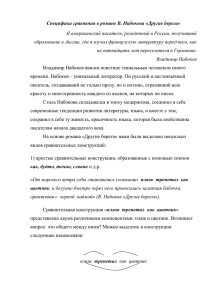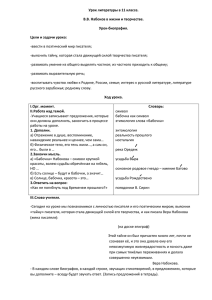Роман владимира набокова «Дар
реклама
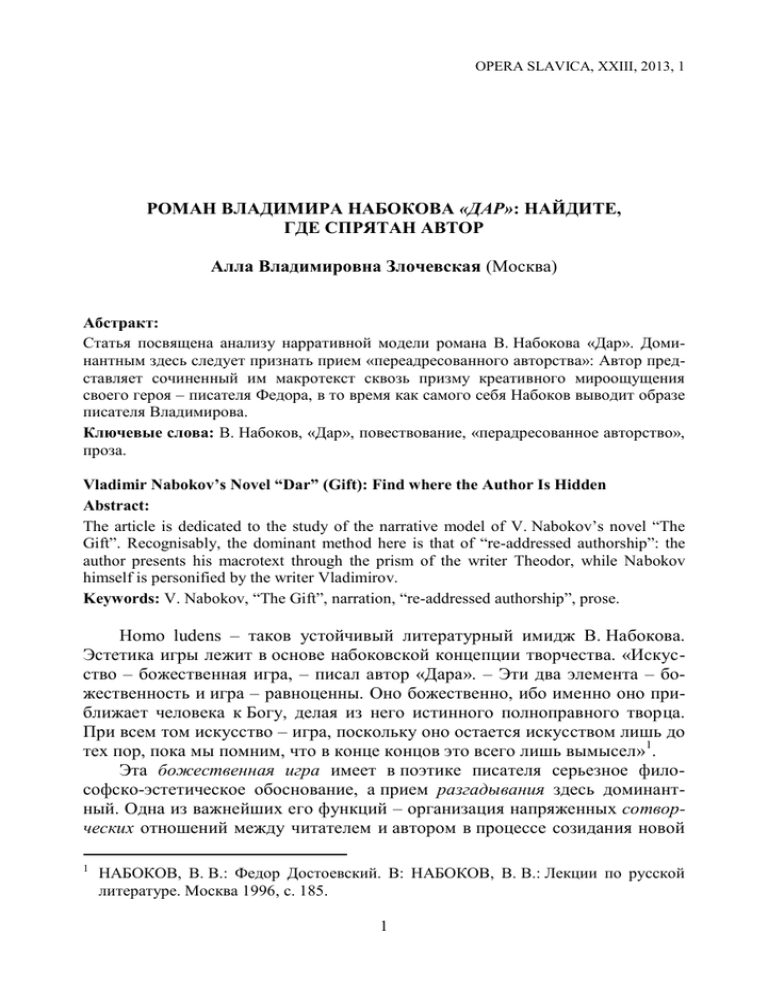
OPERA SLAVICA, XXIII, 2013, 1 РОМАН ВЛАДИМИРА НАБОКОВА «ДАР»: НАЙДИТЕ, ГДЕ СПРЯТАН АВТОР Алла Владимировна Злочевская (Москва) Абстракт: Статья посвящена анализу нарративной модели романа В. Набокова «Дар». Доминантным здесь следует признать прием «переадресованного авторства»: Автор представляет сочиненный им макротекст сквозь призму креативного мироощущения своего героя – писателя Федора, в то время как самого себя Набоков выводит образе писателя Владимирова. Ключевые слова: В. Набоков, «Дар», повествование, «перадресованное авторство», проза. Vladimir Nabokov’s Novel “Dar” (Gift): Find where the Author Is Hidden Abstract: The article is dedicated to the study of the narrative model of V. Nabokov’s novel “The Gift”. Recognisably, the dominant method here is that of “re-addressed authorship”: the author presents his macrotext through the prism of the writer Theodor, while Nabokov himself is personified by the writer Vladimirov. Keywords: V. Nabokov, “The Gift”, narration, “re-addressed authorship”, prose. Homo ludens – таков устойчивый литературный имидж В. Набокова. Эстетика игры лежит в основе набоковской концепции творчества. «Искусство – божественная игра, – писал автор «Дара». – Эти два элемента – божественность и игра – равноценны. Оно божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, делая из него истинного полноправного творца. При всем том искусство – игра, поскольку оно остается искусством лишь до тех пор, пока мы помним, что в конце концов это всего лишь вымысел»1. Эта божественная игра имеет в поэтике писателя серьезное философско-эстетическое обоснование, а прием разгадывания здесь доминантный. Одна из важнейших его функций – организация напряженных сотворческих отношений между читателем и автором в процессе созидания новой 1 НАБОКОВ, В. В.: Федор Достоевский. В: НАБОКОВ, В. В.: Лекции по русской литературе. Москва 1996, с. 185. 1 OPERA SLAVICA, XXIII, 2013, 1 нравственно-философской и эстетической концепции мира. Свою задачу сочинителя Набоков видел в том, чтобы привести своего читателя в состояние резонансного сочувствия – «не персонажам книги, но к ее автору, к радостям и тупикам его труда»2. Одна из излюбленных Набоковым – игра масками автора – повествователя – героя. И среди множества разнообразных видов этой игры есть один прием, до сих пор никем, кажется, не отмеченный и не описанный. А между тем именно он является доминантным в нарративной структуре «Дара». Назовем этот прием «переадресованным авторством». *** Творческое постижение личности «другого», по Набокову, есть «протеическое» перевоплощение в чужое сознание. «Любая душа может стать твоей, если ты уловишь ее извивы и последуешь им»3, – писал Набоков. Смысл творчества – в том, чтобы «сознательно жить в любой облюбованной тобою душе – в любом количестве душ – и ни одна из них не сознает своего переменяемого бремени» (Н1.; 1.191). Не случайно в лекции о Флобере Набоков с сочувственным восхищением цитирует строки из письма автора «Мадам Бовари»: «Сегодня […] я был (мысленно. – В. Н.) одновременно мужчиной и женщиной, любовником и любовницей и катался верхом в лесу осенним днем среди пожелтевших листьев; я был и лошадьми, и листьями, и ветром, и словами, которые произносили влюбленные, и румяным солнцем»4. У самого Набокова этот принцип был впервые сформулирован в «Даре»: «… он [писатель Годунов-Чердынцев – А. З.] старался, как везде и всегда, вообразить внутреннее прозрачное движение другого человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так чтобы локти того служили ему подлокотниками, и душа бы влегла в чужую душу…»5. Правда, в чужой облюбованной душе автор может ощущать себя очень по-разному, порой весьма неуютно. Многое могло изумлять его, «как чо2 3 4 5 НАБОКОВ, В. В.: L’Envoi. В: НАБОКОВ, В. В.: Лекции по зарубежной литературе. Москва, 1998, с. 478. НАБОКОВ, В. В.: Собрание сочинений американского периода: в 5 т., т. 1. СанктПетербург 1997, с. 191. Англоязычные произведения писателя цитируются по этому изданию с пометой Н1. НАБОКОВ, В. В.: Гюстав Флобер. В: НАБОКОВ, В. В.: Лекции по зарубежной литературе, с. 220. НАБОКОВ, В. В.: Собрание сочинений американского периода: в 5 т., т. 4. СанктПетербург 2004, с. 222. Далее русскоязычные произведения Набокова цитируются по этому изданию с пометой Н. 2 OPERA SLAVICA, XXIII, 2013, 1 порного путешественника могут изумлять обычаи заморской страны, базар на заре, голые дети, гвалт, чудовищная величина фруктов» (Н.; 4.222–223), в «просторные недра» иных душ он погружался «с содроганием и любопытством» (Н.; 4.222). А «переселившись» в сознание Александра Яковлевича Чернышевского, психически вполне здоровый сочинитель вместе со своим «персонажем» видит призрак его погибшего сына Яши. Но в любом случае автор осуществляет в своем творении «идею эстетической любви»6, ибо иное отношение в творческом плане абсолютно непродуктивно. «Красота плюс жалость – вот самое близкое к определению искусства, что мы можем предложить, – говорил Набоков своим студентам. – Где есть красота, там есть и жалость по той простой причине, что красота должна умереть: красота всегда умирает, форма умирает с содержанием, мир умирает с индивидом»7. Одна из интереснейших вариаций такого принципа эстетического освоения «чужой души», как бы предварительный этюд – в малоизвестном и еще менее изученном рассказе «Набор». Удивительно, что до сих пор никто не задумался над смыслом названия – почему набор? К типографскому делу содержание рассказа отношения не имеет – так кто кого или что здесь набрал? Речь в рассказе – об одном утре из жизни некоего Василия Ивановича, пожилого русского эмигранта. «Он был стар, болен, никому на свете не нужен и в бедности дошел до той степени, когда человек уже не спрашивает себя, чем будет жить завтра, а только удивляется, чем жил вчера. Кроме болезни, у него не было на свете никаких личных привязанностей» (Н.; 4.557). В то утро он возвращался с кладбища, где хоронили профессора Д. – одного из уже немногих людей, которых он знал близко. Каждое движение – опуститься и встать с колен во время службы, сесть на скамейку, тем более встать с нее, войти в трамвай и выйти из него – дается с огромным трудом и грозит различными опасностями. Но вот образ этого неопрятно и некрасиво старого человека, ничем не примечательного и не интересного, незаметно для читателя оказывается неотразимо привлекательным и симпатичным. Мы проникаемся к нему не только острой жалостью и состраданием, но и уважением – к человеку, с таким мужеством и благородным терпением переносящему свои несчастья, не теряя, несмотря на личную беспомощность и всю безнадежность своего существования, главного – тонкой деликатности души, способности помнить, любить и сострадать. И еще – 6 7 БАХТИН, М. М.: Автор и герой в эстетической деятельности. В: БАХТИН, М. М.: Эстетика словесного творчества. Москва 1979, с. 13. НАБОКОВ, В. В.: Превращение. В: НАБОКОВ, В. В.: Лекции по зарубежной литературе, с. 325. 3 OPERA SLAVICA, XXIII, 2013, 1 какое-то неприличное счастье, «происхождения неизвестного» (Н.; 4.560), неожиданно нахлынувшее на больного, нищего, абсолютно одинокого старика. Повествование ведется от 3-его лица. Но вдруг – вкрапление, явно от лица автора – о знакомом Василия Ивановича: «тоже никому, кроме как мне, не нужный» (Н.; 4.558) … А вскоре выясняется, что все это – и несчастного Василия Ивановича, его судьбу и все его беды, и возвращение с похорон близкого знакомого – сочинил автор. Оказывается, просто одним июльским утром рядом с рассказчиком, «на ту же в темно-синюю краску выкрашенную, горячую от солнца, гостеприимную и равнодушную скамейку, сел господин с русской газетой» (Н.; 4.560). Этого старого человека рассказчик увидел в трамвае – «и этот момент я как раз и схватил, после чего уже ни на минуту не отпускал рекрута» (Н.; 4.558). Вот ключевая фраза, объясняющая название рассказа: Василий Иванович – рекрут, набранный автором из «жизни действительной» – в мир сверхсознания сочинителя. Именно писатель, «спеша как-нибудь помрачнее и потипичнее меблировать утро Василия Ивановича […] и устроил ему эту поездку на похороны» (Н.; 4.561). Некролог о смерти профессора Д. действительно был опубликован в газете, но автор слегка ускорил похороны (об их дате еще только должны были объявить). А черты «полного бритого лица» Василия Ивановича напомнили автору «черты московской общественной дамы, А. М. Аксаковой, которую» рассказчик помнил «с детства» (Н.; 4.561), – и он сделал ее умершей сестрой Василия Ивановича, которую тот всей душой любил. Так симбиоз реальности «жизни действительной» – воспоминания – творящего воображения создал новую художественную реальность. Позднее в «Аде» симбиоз реальности – воображения – памяти сформировал всеобъемлющую метафору организованного сна (Н1.; 4.345–351). «Какое мне было дело, – восклицает рассказчик в «Наборе», – что толстый старый этот человек, […] который теперь сидел рядом, вовсе, может быть, и не русский? Я был так доволен! Он был такой вместительный!» (Н.; 4.561). Но главное – автор его выбрал, чтобы передать ему то неожиданное чувство счастья, которое переполняло его самого и которым необходимо было с кем-то поделиться. Тем более что оно являло собой столь эффектный контраст с беспросветным существованием этого несчастного (по версии и по воле сочинителя) старика, потерявшем все, что было ему в этом мире дорого, – и тем вознаградило его. Неожиданно нахлынувшее ощущение счастья – вот что соединяет сочинителя и его героя. Потому-то в определенный момент вместо повествования от 3-его лица возникает объединяющее мы: «Этот сквер, эти розы, эту зелень во всех их незамысловатых преображениях он видел тысячу раз, но все насквозь сверкало 4 OPERA SLAVICA, XXIII, 2013, 1 жизнью, новизной, участием в его судьбе, когда с ним и со мной случались такие припадки счастья» (Н.; 4.560). По набоковской терминологии, тот, кого я до сих пор называла автор – рассказчик – сочинитель, – это «представитель» автора в художественном тексте8. В рассказе, таким образом, перед нами трехуровневая нарративная структура: уровень бытия автора – вне повествования; реальность художественного текста, а в ней – представитель автора, с лицом, загримированным «под читателя» газеты, и его случайный сосед по скамейке, некий Василий Иванович; наконец, намеки на существование в реальности «жизни действительной» – старика (вовсе не Василия Ивановича и, быть может, даже не русского) и, возможно, действительно сидящего рядом на скамейке человек. О двух последних – «реальных» старике и человеке на скамейке – нам ничего не известно9. Итак, «на самом деле» ничего из того, о чем говорится в «Наборе», не было. И все, очевидно, сочинено ради одного – проскочившей искры: герой взглянул – сквозь призму «представителя – посредника», в лицо автора. Теперь тот – его набранный рекрут, а значит, «навеки» с автором связан: он «как чуму […] уносил с собой необыкновенную заразу и был заповедно связан» с автором, «обреченный появиться на минуту в глубине такой-то главы, на повороте такой-то фразы» (Н.; 4.562). Нарративная схема рассказа «Набор» «проросла» в «Даре». Основание для типологического сопоставления – два важных момента. Первый – «наполнение» случайного «реального» персонажа неким нужным автору содержанием: в воображаемом разговоре Годунова-Чердынцева с Кончеевым жарким июньским полднем, на скамейке. Второй – взглядискра, проскочивший между автором и его героем: встреча ГодуноваЧердынцева с писателем Владимировым на собрании Общества Русских Литераторов в Германии. 8 9 НАБОКОВ, В. В.: Чарлз Диккенс. В: НАБОКОВ, В. В.: Лекции по зарубежной литературе, с. 145. Некоторые детали позволяют предполагать, что «реальный» старик, судя по благородной независимости и величавости движений («снял черную фетровую шляпу […] с целью освежить голову […] медленно погладил себя по темени […] Все так же медленно он повернул голову ко мне, взглянул на мою газету […] и, величаво отвернувшись, снова надел шляпу […] спокойно двинулся прочь» – Н.; 4.562), а также по наличию «фетровой шляпы» и газеты, отнюдь не столь беден и несчастен, как придумал за него автор – ради вящщего контраста с чувством счастья, которым сам его и одарил. 5 OPERA SLAVICA, XXIII, 2013, 1 В романе два разговора с Кончеевым. Если первый был вымышленным диалогом «по самоучителю вдохновения» (Н.; 4.260) – продолжением разговора, «действительно» бывшего и состоявшего из обмена незначащими фразами о погоде, то второй целиком вымышлен – на место обмена незначащими фразами о погоде с неким молодым немцем, «показавшимся ему похожим на Кончеева» (Н.; 4. 518). Во втором случае, как и в «Наборе», автор – в данном случае Годунов-Чердынцев, наполнил молодого немца нужным себе содержанием, совершенно тому несвойственным. Образ Кончеева, «действительно» существующий в реальности «Дара», заявлен как сочиненный. А вот эпизод писателем Владимировым: «„Интересно бы знать, – подумал Федор Константинович, искоса взглянув на Владимирова, – прочел ли он уже…?“. Владимиров опустил свой стакан и посмотрел на Федора Константиновича, но не произнес ничего» (Н.; 4.495). Такой же отсутствующеотрешенный взгляд бросил в «Наборе» герой на «представителя» своего автора. Однако в «Даре» загадочно-отрешенно взглянул «представитель» автора – писатель Владимиров10. В этот момент устанавливаются некии таинственные подспудные отношения между тремя персонжаами: Годунов-Чердынцев – Кончеев – Владимиров. Сперва прочерчивается один катет этого треугольника: «Он [Владимиров – А. З.] уже был автором двух романов, отличных по силе и скорости зеркального слога, раздражавшего Федора Константиновича потому, может быть, что он чувствовал некоторое с ним родство» (Н.; 4.496). Затем достраивается и весь треугольник: «Как собеседник, Владимиров был до странности непривлекателен. О нем говорили, что он насмешлив, высокомерен, холоден, неспособен к оттепели приятельских прений, – но так говорили и о Кончееве, и о самом Федоре Константиновиче, и о всяком, чья мысль живет в собственном доме, а не в бараке, или кабаке» (Н.; 4.496). Все трое являют собой счастливое исключение в среде русских литераторов-эмигрантов (как изобразил ее Набоков): настоящие писатели, а потому соперники, по-видимому, друг другом восхищавшиеся и друг другу завидовавшие, а в то же время лишь мнением друг друга дорожившие. И все трое несут на себе печать автобиографичности: «именно в Кончееве, – писал Набоков, – да еще в другом случайном персонаже, беллетристе 10 Образ его предстает в подсвеченном иронией (в сущности, самоиронии): «Под пиджаком у него был спортивный свэтер с оранжево-черной каймой по вырезу, убыль волос по бокам лба преувеличивала его размеры, крупный нос был что называется с костью, неприятно блестели серовато-желтые зубы из-под слегка приподнятой губы, глаза смотрели умно и равнодушно, – кажется, он учился в Оксфорде и гордился своим псевдо-британским пошибом». (Н.; 4.495). 6 OPERA SLAVICA, XXIII, 2013, 1 Владимирове, различаю некоторые черты себя самого, каким я был в 1925-м году»11. Но если все так, если перед нами своего рода треугольник зеркал, отражающих в трехчастном делении личность Автора, то не предположить ли, что главный «представитель» автора – Владимиров, взглянув на свое отражение – Годунова-Чердынцева, препоручил ему написание «Дара»? И здесь стоит обратить внимание на эпитет «зеркальный» как характеристику слога писателя Владимирова: быть может, он проецирует самого себя в окружающий мир, рождая образы новых героев? Ведь «вторую реальность» художественного текста, как писал Набоков в эссе «Николай Гоголь», творит система зеркал, а сочиненный мир – зеркальная комната, замкнутая и самодостаточная, хотя стены ее прозрачны. Пропустив внутрь отблески внешнего мира, креативные зеркала отбрасывают вовне рожденные в ней образы (Н1.; 1.433). Наша версия подтверждается и тем, что идея романа родилась у писателя Федора вскоре после встречи с Владимировым. Не случайно и неизменное ощущение писателя Федора, «что воплощение замысла уже существует в некоем другом мире, из которого он его переводил в этот» (Н.; 4.352). Такое предположение снимало бы практически все вопросы, связанные с центральной проблемой «Дара» – об авторе макротекста романа. В свое время иерусалимские исследователи Омри и Ирэн Ронен высказали остроумную мысль о том, что структура романа «Дар» подобна ленте Мёбиуса12. В финале происходит волшебное преображение: герой оказывается автором макротекста романа. «Внутренний текст „романа-матрешки“, – развивал эту мысль С. Давыдов, – стал внешним, изнанка стала лицевой стороной, герой возведен в статус автора»13. Такая интерпретация утвердилось в набоковедении14. Подтверждают ее, казалось бы, и слова самого Набокова: «Последняя глава сплетает все предшествующие темы и намечает контур книги, которую Федор мечтает когда-нибудь написать, – 11 НАБОКОВ, В. В.: Предисловие к английскому переводу романа «Дар» (“The Gift”). В: В. В. Набоков: pro et contra. Санкт-Петербург, 1997, с. 49–50. 12 RONEN Irena and Omry: «Diabolically evocative»: An Inquiry into the Meaning and Metaphor. В: Slavica Hierosolymitana. Slavic Studies of the Hebrew University. Vol. V – VI. Jerusalem, 1981. 13 ДАВЫДОВ, С.: «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. Санкт-Петербург 2004. с. 136. 14 БОЙД, Б.: Набоков, В. B. Русские годы. Биография. Санкт-Петербург 2001; ДОЛИНИН, А. А.: Истинная жизнь писателя Сирина (Н.; 4.40–43); БАРАБТАРЛО, Г.: Сочинение Набокова. Санкт-Петербург 2011; ДЖОНСОН, Д. Б.: Миры и антимиры Владимира Набокова. Санкт-Петербург, 2011 и др. 7 OPERA SLAVICA, XXIII, 2013, 1 „Дар“»15. В то же время исследователи (в том числе и приверженцы концепции Федора Годунова-Чердынцева – автора «Дара») отмечают многие моменты в тексте, которые такой интерпретации противоречат16. В предлагаемую мной интерпретацию вписываются слова Набокова о том, что в финале намечен «контур книги, которую Федор мечтает когданибудь написать, – „Дар“»: роман будет написан Годуновым-Чердынцевым, продиктован ему, но сочинен он самим Набоковым, который через свое «подставное лицо» – Владимирова, этот текст своему герою «навеял», но при этом пожелал приоткрыть читателю свое лицо автора. Наконец, лишь такая интерпретация оправдывает появление Владимирова в тексте «Дара». Почти в каждом набоковском романе «есть призрачный герой»17 – «представитель» автора, но во всех случаях он выполняет в произведении ту или иную функцию – сюжетную или композиционную. В «Даре» моментальное явление такого «представителя» иначе было бы ничем не мотивировано. Так же как, впрочем, и весь эпизод на собрании Общества Русских Литераторов – не думаю, что в романе о проблемах творчества столь значительное место могло быть отведено саркастическому живописанию рутинных дрязг в среде бездарных литераторов. Не бытописатель ведь Набоков! Напротив, вся сцена Собрания и написана ради этого совершенно случайного персонажа Владимирова, как называет его Набоков, пытаясь увести читателя от истины, а тем самым истину ему подсказывая. Так в «Даре» выстраивается трехуровневая нарративная структура: Автор – его «представитель» – герой. Система осложнена тем, что герой – писатель Федор, сам носитель креативного сознания, и потому его сверхсознание творца в свою очередь включает множество миров героев его произведений – созданных или еще только сочиняемых. Закономерна в этом смысле доминантная роль «диалогизированного», «двухголосого» слова 18 в нарративной ткани романа: лик Автора высшего повествовательного уровня «просвечивает» сквозь слово его героя. Этот принцип проявляет себя уже на первых страницах романа – в воображаемой рецензии Годунова-Чердынцева на сборник его «Стихов» (Н.; 4.197–215). Здесь впервые возникает модель разговора с самим собой на 2 голоса: голос героя вплетен в текст воображаемого рецензента. Вариация 15 НАБОКОВ, В. В.: Предисловие к английскому переводу романа «Дар». С. 50. См., напр.: TAMMI, P:, Problems of Nabokov’s Poetics: A Narratological Analysis. Helsinki 1985, p. 91–92; ДОЛИНИН, А. А.: Истинная жизнь писателя Сирина; Примечания (Н.; 4.42,651,704,764). 17 ДЖОНСОН, Д. Б.: Op. cit., c. 204. 18 БАХТИН, М. М.: Проблемы поэтики Достоевского. Москва 1979, с. 224. 16 8 OPERA SLAVICA, XXIII, 2013, 1 того же принципа – в диалогах с Кончеевым. С той лишь разницей, что здесь голос собеседника уже лишен стилизации под «чужое слово», а почти откровенно дан как собственное слово Годунова-Чердынцева19. Сниженнопародийный вариант приема – в бесконечных рассказах Щеголева, где повествование всегда велось со слов некоего необыкновенного собеседника, «без конца рассказывавший ему интересные вещи, […] а так как нельзя было представить себе Бориса Ивановича в качестве молчаливого слушателя, то приходилось допустить, что это было своего рода раздвоением личности» (Н.; 4.366). «Треугольник, вписанный в круг» (Н.; 4.228) – этот двухмерный чертеж трагических взаимоотношений Яши Чернышевского и его друзей оживет, обретя трехмерность, в макротексте набоковского «Дара», в его наративной модели: Годунов-Чердынцев – Кончеев – Владимиров. «Набоков, – писала Н. Берберова, – […] учит […], как читать по-новому […] В современной литературе […] мы научились идентифицироваться не с героями, как делали наши предки, но с самим автором, в каком бы прикрытии он от нас ни прятался, в какой бы маске ни появлялся»20. Принцип «растворенности» автора в своих героях присущ поэтике Набокова21. Присутствие Творца в словесной плоти каждого из героев рождает иллюзию, будто авторство принадлежит им. Но это иллюзия, к созданию и одновременно разоблачению которой стремился Набоков – единственный и бесспорный создатель макротекста «Дара». *** Лик Автора в макротесте «Дара» «просвечивает» сквозь видимо господствующий слой наррации его героя. Прием «переадресованного авторства» здесь доминантный: Автор представляет сочиненный им макротекст сквозь призму креативного мироощущения своего героя, писателя Федора, – «рекрута», «набранного» Автором через своего «представителя» писателя Владимирова. А читателю предлагается, в духе столь любимой Набоковым игровой поэтики, автора найти. Занятие, надо признаться, увлекательнейшее. 19 Явно «озвучено» Кончеевым подсознательное опасение Годунова-Чердынцева об оставленной одежде: «Могут украсть» (Н.; 4.513). 20 БЕРБЕРОВА, Н.: Автобиография. В: Набоков, В. В.: pro et contra. c. 189–190. Курсив мой. 21 См.: ПЕХАЛ, З.: Роман Владимира Набокова: прием просвечивания как элемент композиционной и стилевой. В: Tradície a perspektívy rusistiky. Bratislava 2003, s. 283–290; ЗЛОЧЕВСКАЯ, А. В.: Роман В. Набокова «Бледное пламя»: загадка эпиграфа – тайна авторства. В: Studia Slavica Hungarica. Budapest 2008, N 1, s. 204–217. 9