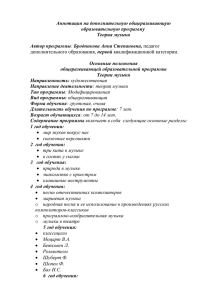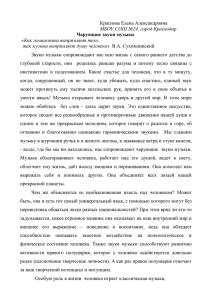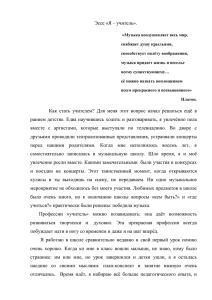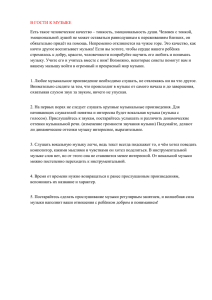Звуковой ландшафт Русского Севера
реклама
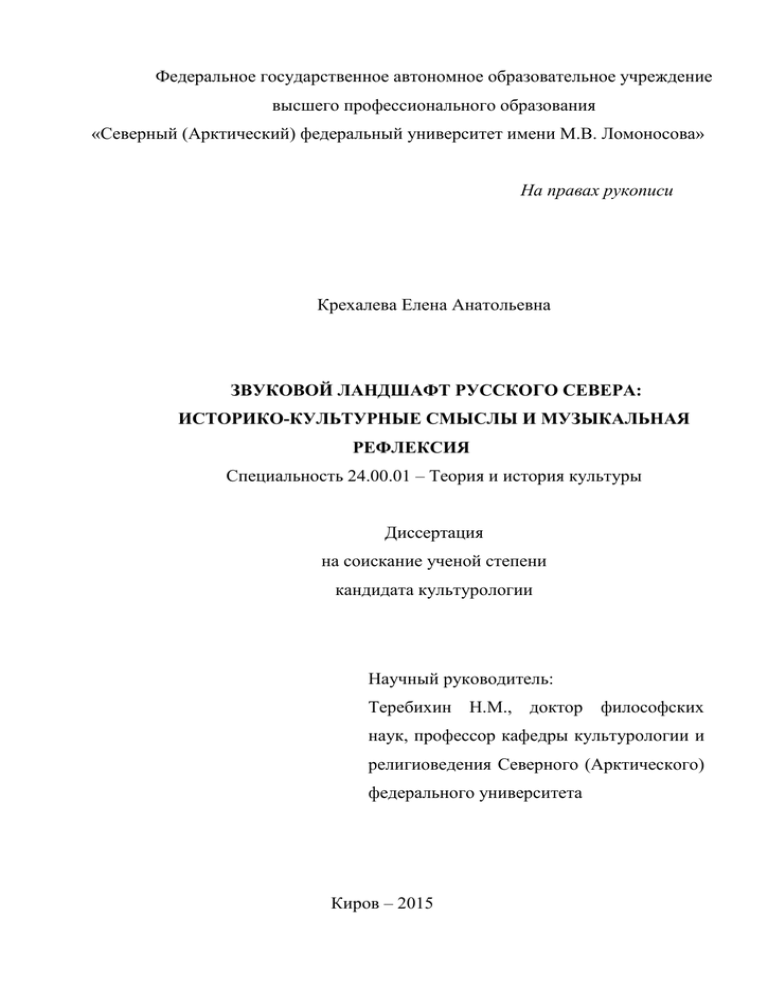
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» На правах рукописи Крехалева Елена Анатольевна ЗВУКОВОЙ ЛАНДШАФТ РУССКОГО СЕВЕРА: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ И МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ Специальность 24.00.01 – Теория и история культуры Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии Научный руководитель: Теребихин Н.М., доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и религиоведения Северного (Арктического) федерального университета Киров – 2015 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение …………………………………………………………………..….....3 Глава I. Культурологические аспекты антиномии «звучащее/молчащее» и ее ритуально-мифологическая основа 1.1. Концепции звукового ландшафта …………………………………….....20 1.2. Онтология «звучащего/молчащего» в архаических культурах 1.2.1. Мифология и богословие звука ……………………………………..…40 1.2.2. Музыка как число ……………………………………………………....48 1.3. Интермедиальные отношения музыки и звукового универсума...……56 Глава II. Звукомузыкальный ландшафт Русского Севера 2.1. Полифония северного геопространства …………………………….…..75 2.2. Колокол как звучащий центр «северного мiра» …………..………….105 2.3. Музыкальная рефлексия звукового ландшафта отчего края в творчестве В.А. Гаврилина …………………………………………….….119 Заключение ……………………………………………………………..…….138 Список источников …………………………………………………..………146 3 ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы исследования В условиях нарастающей глобализации, оказывающей унифицирующее влияние на духовную сферу человеческого бытия, отмечается возрождение интереса общества к локальным культурам и субкультурам, актуализируется проблема сохранения их идентичности. В рамках данной проблематики внимание ученых всегда привлекала культура Русского Севера. В последнее время активизировались исследования в области культурного и этнокультурного ландшафтоведения северных территорий. Актуальность данных исследований видится, в частности, в выявлении путей устойчивого развития этих территорий, в сохранении их природного и культурно-исторического наследия, а также исторической памяти, являющейся действенным фактором социальной стабильности. Вместе с тем целый ряд аспектов, важных для понимания культуры Русского Севера, остается еще малоизученным. Значимое место в этих исследованиях, на наш взгляд, должно занять изучение звукового кода севернорусского ландшафта и его семантической организации. Осознание степени влияния особенностей звукового ландшафта конкретной территории на способы взаимодействия человека с окружающим миром, изучение звуков как знаков, входящих в систему культурного кода, – важные условия сохранения и развития культуры данной территории. Русский Север является геоконцептом, под которым, согласно В.Н. Калуцкову, понимается любое значимое для определенного сообщества место, обладающее устойчивым образом, а в структурном плане является единством трех элементов: образа, топонима и территории. В течение минувшего тысячелетия концепт Русского Севера неоднократно трансформировался. Вначале, в VIII – XV веках, это была чудская окраина, а затем, в XVI – XIX веках, – одна из важных 4 русских территорий. В течение столетий происходило изменение образа региона и регионального топонима. Различные наименования примерно одной и той же территории – Заволочье, Поморье, Русский Север – показывают эволюцию ее статуса в русском культурном пространстве, его обновленную концептуализацию [131, с. 29-30]. Для настоящего исследования имеет значение то, что Русский Север – это заповедная территория исторического диалога славянской, финно-угорской и скандинавской культур с суммой характерных именно для этой территории знаков и символов, в том числе звукомузыкальных, раскрывающих геопоэтику этнокультурного пространства. Звуковой ландшафт Русского Севера, являясь неотъемлемой частью звучащего «русского мира», обладает своей особой эстетикой, уникальность которой объясняется этнокультурными и геоисторическими особенностями «северного мiра» с триединством его сакрального устроения архаикой и традиционализмом. В среде старообрядцев Поморья сохранилось раздельноречное пение (хомония), насчитывающее не одно столетие, а используемая ими знаменная нотация имеет уже более чем тысячелетнюю историю развития. Важную роль в сохранении архаического мелоса и логоса Русского Севера сыграли скоморохи как своеобразные хранители северной шаманской традиции. Неповторимое обаяние северному пению, с его древними формами подголосочной полифонии (гетерофонии), придает так называемая «поморская говоря». Сохранилась также традиция женского хорового пения не свойственная общерусскому народному исполнительству, где мужские и женские голоса абсолютно равноправны. Таким образом, актуальность проблемной области диссертации обусловлена, во-первых, отсутствием специальных исследований «семиотического статуса» (А.К. Байбурин) звука в природно-культурном ландшафте Русского Севера. Вовторых, ее актуализация определяется значимостью звукомузыкального дискурса в целях дальнейшего изучения русского культурного кода, дающего человеку 5 возможность ощутить и сохранить свою идентичность на фоне грядущей десакрализации, «расколдовывания» мира. Степень разработанности проблемы Предметно-проблемная область «звукового ландшафта» является полем междисциплинарных исследований. Оно располагается на перекрестке целого ряда наук и научных направлений, таких как история культуры, философия культуры, семиотика культуры, культурное ландшафтоведение, этнография, музыковедение, психология и др. Использование научных достижений во всех этих сферах дает возможность провести целостное исследование полифонии «звучащего и молчащего», входящей в семиосферу культурного ландшафта. Изучению культурного ландшафта были посвящены труды Л.С. Берга, К. Зауэра, Н.П. Анциферова еще в начале ХХ века, а к концу его в исследованиях культурного ландшафта обозначился целый ряд различных направлений. Из них А.Г. Исаченко выделяет два основных направления: классическое ландшафтоведение и междисциплинарный дискурс. У П.И. Меркулова мы также находим две концепции культурного ландшафта: геоэкологическую и культурологическую. По мнению В.Н. Калуцкова, в исследованиях культурного ландшафта сложился целый спектр научных направлений: антропогенное (А.Г. Исаченко, Ф.Н. Мильков, А.В. Николаев), эстетическое (А.В. Николаев), феноменологическое (В.Л. Каганский), экологическое (Ю.А. Веденин, М.Е. Кулешова, И.П. Чалая) и этнокультурное (В.Н. Калуцков, М.В. Рагулина). Из них только два направления – экологическое и этнокультурное – изучают традиционный культурный ландшафт. В рамках этнокультурного направления В.Н. Калуцков развивает топологическую концепцию ландшафта, которая позволяет разработать теорию звукомузыкального ландшафтного топоса. В рамках культурной или гуманитарной географии разрабатываются значимые для диссертационного исследования предметные области – культурные образы географических объектов (Д.Н. Замятин), география искусства (Ю.А. Веденин) и семантика культурного 6 ландшафта (О.А. Лавренова). Ученые экологического направления исследуют связь географии с искусствоведением, культурологией, музыковедением и некоторыми другими гуманитарными науками. Это направление включает развитие гуманитарно-географических интердисциплин – географию искусства, семантику культурного ландшафта. Человек, обустраивая новую территорию, осваивает ее и духовно, осуществляя, в частности, семиотизацию местности. Географическое пространство может отражаться в том числе с помощью произведений искусства, что позволяет рассматривать культурный ландшафт сквозь призму отражающих его художественных, в том числе музыкальных, произведений в рамках художественно-ассоциативного ландшафта (Н.А. Дивакова). Звуковой ландшафт как одна из типологических единиц культурных ландшафтов более всего близок к ноосферной концепции культурного ландшафта (Ю.А. Веденин), развивающей идеи В.И. Вернадского о ноосфере. Тема звука как компонента культурного ландшафта, а точнее – его интеллектуально-духовного слоя, затрагивается в исследованиях, посвященных проблематике культурного ландшафта, в том числе культурного ландшафта Русского Севера, в трудах Т.А. Бернштам, Н.А. Диваковой, Н.В. Дранниковой, А.А. Ивановой, А.Г. Исаченко, В.Н. Калуцкова, Т.М. Красовской, О.А. Лавреновой, А.Б. Пермиловской, Л.Д. Поповой, И.А. Разумовой, И.И. Свириды, Н.М. Теребихина, Р.Ф. Туровского, Л.В. Фадеевой. Эти исследования дают возможность рассмотреть совокупность антропогенных и природных звуков в качестве интегрального собирательного образа конкретной местности. На то, что география звуков поддается научному изучению, указывал В.П. Семенов-Тян-Шанский. В своих трудах он размышлял о связи звуков и географической местности, а также о музыкальных различиях народов и территорий. Музыкальное творчество, считал ученый-географ, подчинено в большой степени географическому «пейзажу» страны и взаимосвязано с ним [301, 7 с.231]. При этом ученый-географ обращал внимание на две различные стороны, связывающие музыку с географической средой. Она оказывает влияние на самобытность музыкального искусства народов. В свою очередь народы отражают этот ландшафт в своем творчестве посредством звуков [301, с. 268]. Еще ранее идеи о связи музыки и определенного народа высказывали И. Гердер (излюбленные народом звуки музыки могут показать нам его сокровенный характер), А. Шопенгауэр (конкретная тональность может преобладать в характере определенных народов) и др. Вопросы влияния географических особенностей в целом на дух и культуру народов рассматривались, в частности, в рамках философии географического детерминизма, получившей особое распространение в конце XIX века (Ф. Ратцель и др.). В.И. Хаснулин пришел к выводу о существовании физиологической связи между экспериментальными условиями жизни на Крайнем Севере и образным восприятием мира, образным мышлением, формировавшимся у жителей Севера в течение многих сотен лет. Для северян творческое мировосприятие, с его точки зрения, – это один из важнейших адаптационных защитных механизмов. В настоящее время автором оригинальной концепции звукового ландшафта в культурной географии является музыковед, социолог и культуролог Е.Д. Андреева (Институт Наследия). Изучением звуковых ландшафтов различных территорий занимается канадский ученый Мюррей Шейфер, которого называют «отцом акустической экологии». Концепция звукового ландшафта впитала в себя наследие античной философии (Пифагор, Платон, Кассиодор), в соответствии с которой в основе мироздания и музыки лежит число, понимаемое как первая сущность, определяющая все многообразные внутрикосмические связи мира, основанного на числе и мере, гармонии и соразмерности. Звездное небо, музыку которого слышали древние греки, представляет собой не что иное, как неземной ландшафт – пространственную среду, в которой располагается взаимосвязанная совокуп- 8 ность звезд, планет и других космических тел. В Средневековье вопросы восприятия музыки как числа нашли отражение в трудах Августина и Боэция. В XVII веке учение о мировой гармонии развил И. Кеплер, полагавший, что каждая планета соответствует определенному музыкальному ладу и определенным тембрам человеческого голоса. О том, что природа музыкальных созвучий основывается на числовых пропорциях, размышлял немецкий ученый Лейбниц. Идея о музыке как уравнении мира в целом нашла свое отражение в творчестве представителя немецкого романтизма Новалиса. А. Шопенгауэр обосновал феноменологическую уникальность музыки и ее исключительное место в иерархии искусств, что позволяет говорить о неслышимом, метафизическом предмузыкальном эйдосе текстов музыкальной культуры. Осмысление феномена звука, в том числе звучащего слова, в качестве семиотического объекта представлено в трудах В. Гумбольдта, Ч. Пирса, Ф. де Соссюра, Р. Якобсона, Ч. Морриса, К. Леви-Стросса, Р. Барта, Ж. Дерриды, Вяч.Вс. Иванова, Ю.М. Лотмана, Н.И. Толстого, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского, М. Фуко, У. Эко, Б.М. Гаспарова, Н.Б. Мечковской и др. Исследования филологов и лингвистов в области структурной лингвистики и социолингвистики дополняются выводами представителей естественно-научного знания. Так, по мнению В.И. Хаснулина, переселение человека в новые регионы сопровождалось определенными физиологическими изменениями в организме человека (головной мозг, речевой аппарат). Вследствие данного процесса артикуляция отдельных слов менялась и в конце концов начинала соответствовать новому голографическому образу окружающей среды. Этим же можно объяснить наличие в языке одного народа множества диалектов. Человек в контексте музыкального ландшафта является читателем его смыслов, в связи с чем для изучения ландшафта актуальна проблематика воздействия и восприятия музыки. Пониманию звукомузыкального ландшафта как знаковой системы способствует обозначившийся в ХХ веке семиотический 9 подход к исследованию музыкальных произведений как в зарубежной музыкальной науке (В. Карбузицкий, Ж.-Ж. Натье, Б. Неттль, Н. Рюве, Е. Тарасти, Й. Йиранек и др.), так и в отечественной (Б.В. Асафьев, Л.А. Мазель, Ю.Г. Кон, А.Н. Сохор, Г.А. Орлов, Е.В. Назайкинский, М.Г. Арановский, В.Н. Холопова, И.И. Земцовский, В.В. Медушевский, А.В. Денисов, С.М. Мальцев, Л.Н. Шаймухаметова и др.). Ю.М. Лотман видел возможность семиотического осмысления музыкального текста как некоторого синтагматического построения, полагая, что «музыка резко отличается от естественных языков отсутствием обязательных семантических связей» [202, с. 16]. Вместе с тем ряд музыковедов считает, что музыка может быть представлена в качестве языка, в котором можно обнаружить три типа знаков, выделенных Ч. Пирсом. По мнению Н.Б. Мечковской, в музыкальном произведении знаки-индексы передают зрительную предметность мира. Иконические знаки отражают диапазон психоэмоционального напряжения человека, а знаки-символы, как узнаваемые цитаты, вызывают у аудитории определенные художественные ассоциации. С точки зрения В.Н. Холоповой, музыкальное содержание, согласно пирсовской триаде, может иметь три стороны: в качестве обязательной стороны-эмоцию (икона), а также в качестве возможных сторон – изобразительность (индекс) и символику (символ). С позиции пирсовской триады исследовали музыку В.В. Медушевский, А.Н. Сохор, С.Х. Раппопорт, С.М. Мальцев, Л.О. Акопян, В. Карбузицкий, Д. Лидов и другие. Некоторые исследователи в качестве исходной модели в семиотике музыки выделяли языковой знак с его непременными атрибутами: повторяемостью в разных текстах, относительно стабильным значением, а также устойчивостью внешней формы (И.С. Волкова, О.Б. Никитенко, Б.М. Гаспаров). Семиотика музыки сохраняет свою актуальность и в настоящее время, что подтверждается существованием отдельных исследовательских направлений, в том числе в России (Л.Н. Шаймухаметова, В.Н. Холопова) [95, с. 26-28]. 10 Звук как явление, обладающее глобально-культурными, цивилизационными и этнонациональными особенностями, рассматривал Дж. К. Михайлов. Сравнительно-типологический анализ звуковой семиосферы разных народов мира позволяет, по мнению Дж. К. Михайлова и представителей его школы, выделить универсальную инвариантную музыкальную структуру – матрицу, порождающую музыкальный мультикультурализм. Свой подход к исследованию музыкальнокультурного пространства Земли предлагает Е.В. Васильченко, суть которого заключается в типологическом сопоставлении целостных «звуковых портретов» региональных цивилизаций и отдельных явлений мировой музыкальной культуры, являющихся символами своих музыкальных культур. При этом звук рассматривается в качестве равноправного по отношению к музыке самодостаточного феномена культуры. Значимую роль в постижении глубинных смыслов звукового ландшафта играют исследования в области теории и истории культуры, антропологии, богословия (П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, М.С. Уваров), а также семиотики культуры (Т.А. Агапкина, Е.Е. Левкиевская, С.М. Толстая, Т.В. Цивьян, Н.О. Осипова), искусствоведения (Т.В. Барсукова, А.М. Лидов). Теоретическая парадигма диссертации основывается на трудах Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Н.О. Лосского, Э. Кассирера, Г. Башляра, М. Хайдеггера, К. Юнга, Т. Адорно, Д. Золтай, М.С. Кагана, В.П. Шестакова, Т.А. Апинян, Л.П. Зарубиной, А.С. Клюева, Г.Г. Коломиец, В.А. Подороги, М.С. Уварова, Е.Н. Францевой-Дозоровой, Т.В. Чередниченко, Ю.И. Шейкина. Важными для понимания метафизических смыслов родного края, неразрывной связи звука и местности являются исследования В.Ф. Одоевского, Н.П. Анциферова, Д.Л. Спивака, а также В.В. Варавы, в трудах которого разрабатывается философия «отчего края». В рамках настоящего исследования необходимо понять, что представляет из себя звукомузыкальный ландшафт «после физики» (ta meta ta physica), то есть не 11 как некая совокупность простых звуковых колебаний (или организованных композитором), воздействующих на центральную нервную систему слушателя и вызывающих у него определенные чувства и настроения, а как некий метафизический феномен, играющий роль посредника между макрокосмом (Бог, Абсолют, Космос, Универсум, информационное поле и т.д.) и микрокосмом (человеком). В архаических мифологиях и религиозно-философских учениях звукам – звуковым вибрациям, слову и музыке – придается сакральное значение: с их помощью происходит общение человека с Богом. Сочетание этих звуков в пространстве и времени образуют сакральный звукомузыкальный ландшафт Земли. Работы о сакральном значении звука в архаических мифологиях и религиозно-философских учениях (Р. Кайуа, Б.Н. Путилов, П. Хамель, Х.И. Хан, М. Элиаде) позволяют исследовать еще одну грань звукомузыкального ландшафта – сакральную. Осмыслению «тишины» (молчания) как важного знакового элемента звукового ландшафта Русского Севера посвящены труды современных этнокультурологов и философов Ю.В. Попкова, Н.М. Теребихина, Е.А. Тюгашева. Северное измерение являет собой метафизический центр и одновременно границу бытия. Его характерные черты, являющие собой трансцендентный уровень бытия – тишина, молчание, предшествующие какой бы то ни было актуализации. Отсюда, от огромных безжизненных пространств, большую часть времени одетых в белый саван, начинается путь Мира к звуку и слову, от божественной нетварной реальности к творению. В современной музыкальной культурологии тишина выдвигается на первый план как противоположность феномену звука, музыка же выступает как способ организации тишины и шума (Л. Руссоло, Д. Кейдж, М.Ш. Бонфельд). «Музыкальная тишина – это особенный динамичный и значимый компонент живого музыкального исполнения» [418, с. 19]. Богословие тишины (молчания) занимало центральное место в исихастской традиции (К.А. Богданов, С.С. Хоружий). Феномен молчания исследовался в 12 трудах как отечественных ученых (Ю.М. Лотман, С.С. Аверинцев, В.В. Бибихин), так и зарубежных (Л. Витгенштейн, Д. Бонхоффер, М. Мерло-Понти, К. Барт, Ж. Деррида). Одна из ярких граней звукового ландшафта Русского Севера представлена творчеством скоморохов, пришедших сюда, по мнению отдельных исследователей, вместе с древними новгородцами. Скоморошество представляет собой религиозно-культурный феномен, уходящий своими корнями в шаманистскую архаику славяно-финского мира. Северные сказители веками сохраняли скоморошины, относящиеся к реликтовым фольклорным жанрам, бережно передавали из поколения в поколение древние слова и напевы скоморохов, запечатлевшие яркое мироощущение наших предков. Тема скоморошества нашла свое отражение в исследованиях И.Д. Беляева, А.С. Фаминцына, Н.Ф. Финдейзена, А.А. Белкина, А.А. Морозова, З.И. Власовой. Особый интерес представляют классические труды исследователей смехового мира М.М. Бахтина, В.Я. Проппа, Д.С. Лихачева, А.М. Панченко. Значимым компонентом звукомузыкального ландшафта Русского Севера является фольклор: былины, легенды, духовные стихи, песни (исторические, протяжные, свадебные, плясовые), частушки, припевки, заговоры, причитания, сказки, небывальщины, скоморошины, былички и др. Научный интерес к фольклору начал проявляться еще с XIX века (А.М. Астахова, А.Ф. Гильфердинг, А.Д. Григорьев, Г.О. Дютш, Ф.М. Истомин, А.В. Марков, Н.Е. Ончуков, О.Э. Озаровская, П.Н. Рыбников, Д.М. Балашов, Е.В. Гиппиус). Важной составной частью традиционного звукомузыкального ландшафта Русского Севера являлось творчество его певцов и хранителей (М.Д. Кривополенова, Г.Л. Крюкова, М.С. Крюкова, Т.Г. Рябинин, И.П. Сивцева-Поромский, А.П. Сорокин). Особое место в звучащей полифонии северного ландшафта занимают голоса и образы великих творцов поморского изустного слова (С.Г. Писахов, Б.В. Шергин). Северной протяжной песне посвятили свои исследования Б.В. Асафьев, Е.В. Гиппиус, Б.В. 13 Шергин, П.Ф. Кольцов, Т.А. Бернштам, А.А. Иванова, И.Е. Иевлева, Т.М. Красовская, В.Н. Калуцков, З.Г. Пашкова, В.М. Щуров, Г.С. Щуров. Звуковую семиосферу Русского Севера нельзя представить без колокольных звонов, без персонализации колоколов, каждый из которых обладал неповторимым личностным голосом и являлся звуковым символом локальной идентичности. Исследования, посвященные колоколу и колокольному звону в богословии и традиционной культуре, мы находим в трудах Т.А. Агапкиной, А.Н. Давыдова, И.В. Данилова, В.Н. Ильина, В.В. Ковалива, В.В. Лоханского, С.Е. Макаровой, протоиерея Б. Николаева, И.А. Чудиновой, А.С. Ярешко и других. Звуковая сторона христианского богослужения, что особенно ценно для изучения монастырского (церковного) звукомузыкального ландшафта, вызывала значительный интерес П.А. Флоренского. Русский Север является одним из наиболее значительных регионов распространения старообрядчества, которое внесло свою неповторимую ноту в звуковую палитру этой территории. Изучением музыкальной культуры и музыкальной поэтики старообрядцев Поморья занимались Т.Ф. Владышевская, С.И. Дмитриева и др. Звукомузыкальный ландшафт Русского Севера, имеющий богатую звуковую палитру, вобрал в себя все многокрасочное этнокультурное наследие автохронных, коренных и старожильческих народов Севера. В частности, в его создании принимали участие носители звукомузыкальной традиции, восходящей к шаманам уральского этнокультурного мира. Полифония звукомузыкального ландшафта Русского Севера, в том числе фольклор – один из основных элементов ландшафта, несущий отпечаток культуры своей эпохи и местности, уникальным образом представлена в творчестве композитора В.А. Гаврилина. Наиболее ярко это проявилось в симфонии-действе «Перезвоны», а также в таких произведениях, как «Русская тетрадь», «Вечерок», «Скоморохи, представление и песенки из старой русской жизни» и др. 14 Несмотря на то, что Гаврилин еще при жизни был признан классиком, его творчество по-прежнему является недостаточно изученным. Важным источником исследования музыкального наследия композитора являются следующие издания: сборник статей, эссе и интервью В.А. Гаврилина «Слушая сердцем» (2005), сборник прижизненных записей композитора «О музыке и не только…» (2003), сборник воспоминаний о В.А. Гаврилине выдающихся деятелей культуры «Этот удивительный Гаврилин» (2002), а также сборник «Валерий Гаврилин: воспоминания современников» (2000). Исследование творчества композитора представлено в монографии известного российского музыковеда А.Т. Тевосяна «Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина» (2009), а также в работах Г.Г. и О.В. Беловых, А.С. Белоненко, М.Г. Бялик, О.И. Гладковой, Т.В. Иваниловой, Н.А. Мещеряковой, Л.Н. Раабена, Е.А. Ручьевской, А.Н. Сохора, Л.Л. Христиансен и др. Объект диссертационного исследования – культурный ландшафт Русского Севера. Предметом диссертационного исследования является звуковая парадигма севернорусского ландшафта и ее музыкальная рефлексия. Целью диссертации является исследование историко-культурных доминант звукового кода «русского мiра» в его северном измерении и музыкальной репрезентации в творчестве В.А. Гаврилина. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих исследовательских задач: 1. Определить роль исторических и философско-культурных аспектов оппозиции «звучащее/ молчащее» в формировании картины мира. 2. Проанализировать концепции звукового ландшафта в контексте обозначенной антиномии. 3. Исследовать оппозицию «звучащее/молчащее» в традиционных религиозно-мифологических представлениях. 15 4. Выявить характер интермедиальности в процессе взаимодействия музыки и звукового универсума. 5. Охарактеризовать особенности полифонии геопространства Русского Севера. 6. Раскрыть семантику колокольного звона как звучащего центра «северного мiра». 7. Изучить особенности музыкальной рефлексии звукового ландшафта в творчестве В.А. Гаврилина. На защиту выносятся следующие положения: 1. Топос приобретает духовное содержание, когда обнаруживает свое уникальное звучание, свой звукомузыкальный образ. Границами топоса можно считать зону его звучания. Уникальность звучания топоса зависит, прежде всего, от специфики культурного ландшафта данной территории. 2. Звуковой ландшафт включает пространственно-временной комплекс природных и (или) антропогенных звуков, являющихся материально-духовными знаками определенной территории и создающих звуковой образ этой территории. Одной из его составляющих является звукомузыкальный ландшафт – пространственно-временной комплекс музыкальных звуков и интонаций, художественно отражающих культурные особенности определенной территории в конкретный исторический период. Звуковой ландшафт воплощает звуки-архетипы, представляющие собой как образное отражение географического ландшафта, так и часть архетипической структуры души народа, его этничности – активной «парадигмы, формирующей и структурирующей окружающий временной и пространственный космос» [318, с. 44]. 3. Звуковой ландшафт, включающий в себя слышимые звуки-символы, запечатленные в музыкальном искусстве и народном фольклоре, обладает также неслышимым, метафизическим камертоном, представляющим собой «дух» или «образ» данного ландшафта. Неслышимые компоненты звукового ландшафта 16 способны уникальным образом воздействовать на человека помимо его сознания, затрагивая глубинные пласты личности, связанные с культурными архетипами, расширяя коммуникативно-познавательные возможности человечества. Слышание тишины природного ландшафта, восприятие его как музыкального текста связано со способностью человека испытывать экзистенциональное «ландшафтное переживание», которое можно определить как «слышимое становление неслышимого». 4. В звуковом этнокультурные ландшафте Русского архетипы, представляющие Севера собой находят отражение константы не только севернорусского ареала, но и в целом русской национальной духовности. Север занимает маргинальное положение в пространстве русской культуры, являясь его предельной границей и в то же время смыслопорождающим центром. Здесь одновременно звучат и взаимодействуют «серьезная» и «смеховая» области народно-православного сакрального фундамента традиционной культуры Поморья, мелос и логос которой превратили звучащий ландшафт Русского Севера в священный хорал и «памятник отечественной и мировой культуры» (Д.С. Лихачев и В.Л. Янин). 5. В звуковой семиосфере православного ландшафта центральное, «осевое» место занимает колокол как звучащий центр мироздания. Звон колокола соединял разомкнутые пространства, собирая их в космическую вертикаль, связующую земное и небесное, человеческое и божественное. Важной особенностью северного «извода» колокольного звона являлось то, что он был встроен в музыкальную поэтику севернорусской традиции многоголосного пения. 6. Музыка В.А. Гаврилина воплощает собой целостную полифонию геокультурного пространства Русского Севера, являющегося частью звукомузыкального ландшафта Земли, сохраняющего в неприкосновенности и неизменности традиционное сокровенное наследие предков. Его музыка представляет собой 17 звучащую модель «северного мiра» как микрокосма, «настроенного» на ритмы универсума. Методологическую основу диссертационного исследования составили интермедиальный метод и мифопоэтический подход к анализу текстов культуры. Особое место в теоретико-методологическом инструментарии диссертации занимает концепция семиосферы, разработанная в трудах Ю.М. Лотмана, которая позволила представить модель звукового ландшафта Русского Севера как звучащей семиосферы традиционного «русского мiра». Научная новизна исследования определяется целью и задачами работы и заключается в том, что: 1. Использован мифопоэтический подход к анализу текстов культуры, позволивший реконструировать историко-культурные смыслы, запечатленные в полифонии севернорусского звукового ландшафта. 2. Уточнены определения и понятия «звуковой ландшафт» и «звукомузыкальный ландшафт», в основе которых лежит топологическое постижение мира звуков, закодированных в знаково-семантической системе культуры Русского Севера. 3. Впервые представлен анализ музыкального творчества В.А. Гаврилина сквозь призму историко-культурологического и культурфилософского анализа в отличие от собственно музыковедческого подхода, доминирующего в современных исследованиях творчества композитора. 4. Впервые раскрыта и проанализирована роль дуальных моделей в конструировании музыкальных текстов В.А. Гаврилина, отражающих бинарность «священного космоса русской жизни» (В.Н. Топоров). Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выводы и положения работы могут быть использованы для дальнейшего культурологического осмысления концепций «звукового ландшафта», «звукомузыкального 18 ландшафта», а также для разработки новых предметно-проблемных направлений музыкальной культурологии. Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные научные результаты могут быть использованы при разработке учебно-методических комплексов ряда дисциплин гуманитарного цикла: история и философия культуры, семиотика культуры, культурная антропология, культурология, история отечественной и мировой культуры и т.д. Материалы диссертационной работы внедрены в образовательный процесс и разработку учебно-методических программ по культурологии, истории отечественной и мировой культуры. Апробация работы. По материалам исследования опубликовано 12 статей, из них пять статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Научные результаты исследования изложены на следующих конференциях: международной научнопрактической конференции «Традиционная и современная культура: история, актуальное положение, перспективы » (г. Пенза – Москва – Минск, 2011 г.); VII Поморских чтениях по семиотике культуры, проведенных Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова при участии международной сети научных центров по изучению, сохранению и освоению этнокультурных ландшафтов народов Европейского Севера (г. Онега, 2011 г.); VI научно-практической конференции «Михайловские чтения» кафедры культурологии и религиоведения Института социально-гуманитарных и политических наук САФУ (г. Архангельск, 2011 г.); II Международной научно-практической конференции «Народы Евразии. История, культура и проблемы взаимодействия» (г. Пенза – Баку – Белосток, 2012 г.); X Международной научно-практической конференции «Гуманитарные науки в XXI веке» (г. Москва, 2012 г.); VIII Поморских чтениях по семиотике культуры «Поморье в геоэтнокультурном пространстве России», проведенных САФУ при участии международной сети научных центров по изучению, сохранению и освоению этнокультурных 19 ландшафтов народов Европейского Севера (г. Онега, 2012 г.); IХ Всероссийской научно-практической конференции «Михайловские чтения» кафедры культурологии и религиоведения Института социально-гуманитарных и политических наук САФУ им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск, 2014 г.); XVII межрегиональных педагогических чтениях «Контроль и оценка компетенций обучающихся как условие повышения качества образования», проведенных Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Архангельский педагогический колледж» (г. Архангельск, 2015 г.). Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав и шести параграфов, заключения и библиографического списка из 433 наименований. Общий объем диссертации – 145 страниц. 20 Глава I. Культурологические аспекты антиномии «звучащее/молчащее» и ее ритуально-мифологическая основа 1.1. Концепции звукового ландшафта Основные компоненты природного ландшафта – рельеф, климат, воды, почвы, растительность и животный мир – находятся в сложнейшем взаимодействии, образуя неразрывную систему. При более широком изучении природного ландшафта становится очевидным, что многие его компоненты тесно связаны с культурными элементами, сочетание которых образует так называемый «культурный ландшафт» (термин Л. Берга). Первоначальное осмысление природного ландшафта имело сакрально-мифологический характер. В ходе культурноисторического развития ландшафт являлся объектом рефлексии, в результате чего он становился частью культурного пространства, ландшафтом-текстом, раскрывающим внутренний мир человека. В отличие от природного ландшафта, которому безразлично, является ли он чем-то для субъекта, культурный ландшафт, как эстетическая ценность, не существует в себе. Он существует только относительно эстетически созерцающего субъекта и только с конкретного места, видимый под определенным углом. Каждый способен видеть разные ценности в одном и том же ландшафте, исходя из его личного опыта, компетенции и социальной идентичности [422, с. 71]. Один и тот же культурный ландшафт, увиденный из другого исторического периода или носителями другой культуры, будет восприниматься иначе. Так, ландшафты Соловецких островов, в том числе их сакральная звуковая аура, являются значительной духовной ценностью именно для русского человека, потому что судьба островов тесно вплетена в русскую историю. Эта история 21 включает не только светлое время колокольных звонов, церковных хоров и священных молитв, но и мрачный, глухой период ГУЛАГа. Священник П. Флоренский, отбывавший наказание на Соловках, на вопрос, почему он ничего не пишет о соловецких звуках, ответил, что это «царство безмолвия». Разумеется, философ слышал здесь множество различных шумов и звуков, но он не мог воспринять «внутреннее звучание природы». Он не знал, почему у него сложилось такое ощущение, и констатировал лишь факт: музыки нет [349, с. 526]. В культурном ландшафте, как в зеркале, отражаются особенности населяющего его народа: история, менталитет, материальная и духовная культура. Например, в такой плотно заселенной стране, как Китай, едва ли найдется место, не измененное людьми, их деятельностью. По словам Джорджа Б. Кресси, китаец так глубоко корнями врос в землю, что китайский ландшафт представляет собой биофизическую совокупность. Это не человек и природа, но единое органическое целое. В течение многих тысячелетий китайцы преобразовывали природу, сливаясь с ней в своем бытии, и дали ей человеческий отпечаток, отпечаток своей культуры. Сама пыль оживлена их наследием. Человек в контексте ландшафта является в то же время его частью и читателем культурных смыслов, объединяя таким образом географическое пространство и культуру. Согласно В.И. Вернадскому в течение последнего полутысячелетия непрерывно усиливалось влияние человека на окружающую природу, шел процесс ее осмысления, совершался охват единой культурой всей поверхности планеты [62, с. 404-410]. Идеи В.И. Вернадского легли в основу ноосферной концепции культурного ландшафта: «…пространство Земли организует культуру, а культура организует пространство» [58, с. 3]. Культурный ландшафт в рамках ноосферной концепции представляет собой «природнокультурный территориальный комплекс, сформировавшийся в результате эволюционного взаимодействия природы и человека, его социокультурной и хозяйственной деятельности и состоящий из характерных сочетаний природной и 22 культурных компонентов, находящихся в устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности» [59, с. 16]. Вышеприведенное определение культурного ландшафта – одно из многих. В современном культурном ландшафтоведении сформировался ряд новых научных исследовательских направлений и методологических парадигм [315, с. 80-87]. При всем их многообразии можно выделить два основных направления, по которым идут исследования культурного ландшафта. В первом случае ключевым словом является «ландшафт»: культурный ландшафт представляется в качестве комплекса процессов как природных, так и вызванных человеческой деятельностью. Во втором случае слово «ландшафт» является в значительной степени метафорой, ключевым же словом является «культура», с помощью которой люди сохраняют свою сплоченность, свои духовные ценности, индивидуальность и устанавливают связи с окружающим миром. Традиционный культурный ландшафт изучается представителями двух исследовательских направлений – экологического и этнокультурного. Один из представителей экологического направления Ю.А. Веденин выделяет три основных составляющих культурного ландшафта: ментифакты, отражающие наиболее устойчивые элементы культуры (религия, язык, фольклор, традиции искусства и др.), социофакты – связи между людьми, обусловленные культурой (структура семьи, принципы воспитания детей, политическое устройство, система образования), артефакты, опосредующие связь людей с материальной средой (виды производственной деятельности, орудие труда, жилище, одежда и т.д.) [58, с. 11]. Внимание исследователей этнокультурного направления сфокусировано на культурном своеобразии этнических и регионально-локальных групп, которое возникло в результате их взаимодействия с окружающей средой. Этноландшафтные исследования ведутся, например, на Русском Севере – регионе с достаточно 23 хорошо сохранившимися пластами традиционной культуры, сформированной коренным населением. Представителем этнокультурного направления В.Н. Калуцковым разработана концепция топологической организации этнокультурного ландшафта [134, с. 116-142]. С его точки зрения, топологическая организация – это территориальная организация «внутреннего» культурного ландшафта, созданного местным сообществом. На протяжении длительного времени обустраивая «свой» культурный ландшафт, сообщество создает особую систему топологической организации. Единицей топологической организации культурного ландшафта является топос, который следует рассматривать как место, имеющее вполне определенное название. В том или ином «культурном ландшафте топос возникает тогда, когда место получает своѐ имя (топоним) или в случае локализации топонима» [134, с.117-118]. Созданные человеком смыслы географического ландшафта, особые представления о нем, получившие знаковую форму, помогают освоению данного ландшафта. Семиотически структурированное географическое пространство, наделенное системой местных географических названий, символикой, выражающей чувства, убеждения и ценности человека, местным фольклором и т.п., перестает быть «чужим» и становится «своим». Человек наделяет предметы и явления окружающего мира определенными смыслами, дает этим предметам и явлениям свои имена – ориентиры. Так окружающий мир становится зеркалом нашего внутреннего мира. Топос приобретает свой смысл и индивидуальность, получая имя (топоним). То есть, когда он начинает звучать, обретает речевую реальность в слове. Причем не в случайном слове. С точки зрения Платона, нельзя считать, что если кто-то чему-либо установит какое-либо имя, то это имя и будет правильным. Имя есть некое подражание вещи. У каждой из вещей есть звучание, очертание, а у многих – и цвет. Однако искусство наименования связано не с таким подражанием при помощи голоса, когда кто-то подражает этим свойствам вещей. Это дело, с одной 24 стороны, музыки, а с другой – живописи. Наименование же, по Платону, – это подражание сущности вещи. Когда кто-то знает имя, каково оно, – а оно таково же, как вещь, – то он будет знать и вещь, если только она оказывается подобной имени [268, с. 421-502]. При наименовании топоса следует также иметь в виду, что слово представляет собой весьма сложный феномен, а не просто звуковой комплекс, объединенный каким-либо определенным значением. Слово обнаруживает два уровня бытия. Слышимый звук сигнализирует о чувственном мире, а значение звука – о мире духовном. Слово является своего рода посредником между внутренним и внешним мирами – «амфибией» (П.А. Флоренский), проживающей в обоих мирах. С точки зрения Ф. де Соссюра, языковой знак состоит из означаемого (понятия) и означающего (акустического образа). Соссюр уподобляет язык листу бумаги, лицевой стороной которой является мысль, а оборотной – звук [305, с. 145]. Когда с течением времени смысл слова теряется, оно становится простым набором звуков, означающим тот или иной топос. Его первоначальное значение могут понять только специалисты. Духовное содержание топос приобретает, когда обнаруживает свое неповторимое звучание, свой звукомузыкальный образ. П.А. Флоренский отмечает, что звучание слова, «независимо от его смысла, подобно музыке, настраивает известным образом душу», и не так важно, что эта музыка воспринимается лишь на подсознательном уровне – «тем проникновеннее вибрация души откликается этой музыке» [348, с. 222]. Границами топоса можно считать зону его звучания. Уникальность звучания топоса зависит от многих факторов, но прежде всего – от специфики культурного ландшафта, под которым, по определению В. Калуцкова, понимается культура этнического сообщества, сформировавшаяся в определенных природногеографических условиях, взятая в ее целостности, это среда жизнедеятельности 25 местного (этнического) сообщества. В числе основных частей и компонентов культурного ландшафта В.Н. Калуцков называет мифологию места, духовную культуру, местный фольклор, местную языковую систему, включая топонимию, восприятие местным сообществом своих традиций [133, с. 6-10]. Звук – это физическое явление, параметры которого (частоту звуковых колебаний, длину звуковой волны и пр.) можно измерить специальными приборами. Человек, воспринимая мир с помощью органов чувств, придает звукам тот или иной смысл, окрашивает их своими эмоциями: гром при грозе – пугающий, страшный, пение соловья – завораживающее, волнующее, шелест листьев – ласковый, мягкий и т.д. В результате взаимодействия территориальной общности людей с окружающим миром происходит семиотизация природного ландшафта. Его звучащие компоненты в результате семиозиса приобретают знаковый смысл. Как, например, лес в архаической картине мира, когда человек ощущал единство с миром природы. Его мифологическое сознание воспринимает жизнь деревьев, животных и птиц, природные шумы и звуки как проявление сверхъестественных существ: леших, кикимор, духов леса. Звук как акустический феномен выполнял и сигнальную функцию, и роль символа, значение которого определял тот, кто использовал его в качестве средства коммуникации. Крики птиц и животных, завывание вьюги, скрип дерева, жужжание и стрекот насекомых – все природные звуки определенным образом идентифицировались, вследствие чего с помощью воображения они воспринимались как чьи-то голоса. Способность древнего человека к образному мышлению, возможно, была обусловлена объективными причинами. Необходимо принять во внимание, что его жизнь проходила в экстремальных условиях. Низкие и высокие температуры, звуки, связанные с явлениями природы, зрительные образы растительного и животного мира постоянно требовали повышенной функции правого полушария мозга и способствовали его совершенствованию, считает В.И. Хаснулин [365, с. 46]. 26 Первые представления об окружающем мире, отношение к слышимым звукам, их истолкование как определенных знаков отражались в музыкальном и мифопоэтическом творчестве. Связанные с семиозисом произведения традиционной народной культуры транслируются во времени, передаются потомкам «из уст в уста». Во многом они определяют духовный слой культурного ландшафта конкретной территории, содержащий инвариантные структуры, остающиеся неизменными в ходе исторического процесса. И.Г. Гердер обращал внимание на то, что в фантазиях запечатлеваются климаты и народы. Сравнивая гренландскую и индийскую мифологии, лапландскую и японскую, перуанскую и негритянскую, он делает вывод, что все это – география «поэтически творящей души». Брамин не поймет исландскую «Волуспу», так же как исландец – индийские «Веды» [76, с. 201]. На тесную связь мифологического творчества «с географическими условиями местности» обращал внимание П.П. Семенов-Тян-Шанский [302, с. 124]. Передача информации от поколения к поколению происходит с помощью как отдельных знаков (элементарных носителей информации, к которым относятся и звуки), так и знаковых систем, несущих информацию о соответствующем фрагменте реальности, – звуковых ландшафтах, в частности. В настоящее время проблематике звукового ландшафта придается все большее значение, а его изучение представляет собой одно из важнейших культурологических направлений. Один из авторов собственной концепции «звукового ландшафта» Е.Д. Андреева обращает внимание на то, что звуковой ландшафт формируется естественным образом, с течением времени и имеет определенную структуру. Он представляет собой неотъемлемую часть культурного ландшафта и вместе с тем сам является таковым. Более того, звуковой ландшафт «часто оказывается одной из основных культурных доминант» [10, с. 106]. Например, в результате исследования Институтом Наследия культурного ландшафта Козельского края (Калужская область) обнаружился, как отмечает Е.Д. 27 Андреева, один существенный недостаток в созданном портрете края: он оказался немым, в то время как реальный ландшафт был звучащим. Вместе с тем следует заметить, что изучение звуковых ландшафтов представляет особую сложность, так как звуки, в отличие от каких-либо материальных предметов, существуют сравнительно короткий промежуток времени. Конечно, они поддаются фиксации с помощью аудио- и видеозаписи. Однако в данном случае мы получаем не сами звуки, а набор их копий. Это ограничивает возможность осмысления целостного звукового образа в его пространственно-временном развитии, в контексте природного и культурного ландшафта определенной территории и, прежде всего, с точки зрения семантических особенностей звуков и корреляционных связей (что означает слышимый звук, типичен ли он для данной местности, почему он возник именно в этом месте, как он распространяется в пространстве, как логически связан с другими звуками, вытесняет их или сочетается с ними…). Таким образом, звуковой ландшафт следует рассматривать в неразрывном единстве с культурным и географическим ландшафтом. В противном случае составляющие звукового ландшафта теряют свой смысл и значение. И.Г. Гердер отмечает, что звуки, связанные с природой, сопровождаемые различными явлениями, задевают нашу душу и имеют для нас важное значение, однако «вырванные из целого, лишенные жизни, они превращаются в бессодержательные значки» [77, с. 135]. При изучении проблематики звуковых ландшафтов отдельного внимания заслуживает теория звуковой (акустической) экологии, автором которой является канадский композитор, профессор канадского университета Simonа Fraserа Мѐррей Шейфер. Под звуковым ландшафтом он понимает «окружающую нас акустическую среду» [387, c. 5]. При этом М. Шейфер уточняет, что лично ему звуковой ландшафт представляется величественной музыкальной композицией, беспрерывно раскрывающей перед нами все новые и новые звучания. Однако, с его точки зрения, эта гармоничная композиция может быть легко разрушена 28 различными шумовыми загрязнениями. Допускать этого нельзя, считает ученый, так как акустическое пространство – это наше общее достояние, из которого люди получают жизненно важную информацию. Теория звукового ландшафта отразилась и в музыке композитора. В сочинениях Шейфера можно встретить интервалы океанского прибоя, графическую запись шума ванкуверских улиц. Он написал серию «произведений естественной среды», в которых значительную роль играют время и пространство. Одно из таких произведений – пьеса в двух частях «Музыка для озера в глуши». Обе части этой пьесы должны исполняться только в определенное время дня в сельской местности: «…на рассвете и в сумерках вокруг озера, чтобы отражения звука вели себя желательным образом» [431, с. 183]. Исследования по акустической экологии были начаты Шейфером и его научными единомышленниками в конце 60-х годов ХХ века. Из первоначальной попытки композитора обратить внимание на шумовое загрязнение окружающей акустической среды вырос масштабный проект World Soundscape Project (WSP). Главной целью этого проекта был поиск решения проблемы экологически сбалансированного звучания, при котором связь между человеческим сообществом и его звуковой средой находилась бы в гармонии. Интерес к акустической экологии вырос благодаря созданию в 1993 году Всемирного Форума Акустической Экологии – World Forum for Acoustic Ecology (WFAE), региональные организации которого возникли во многих странах мира: Австрии, Австралии, Канаде, Финляндии, Германии, Ирландии, Италии, Мексике, Японии, Швейцарии, Великобритании, США… Исследования по проблематике звуковых ландшафтов начали публиковаться в профессиональном журнале SOUNDSCAPE, издаваемом с 2000 года. Название этого журнала может переводиться как «Звуковой ландшафт», так и «Звуковое пространство». Журнал был задуман как место для общения и обсуждения проблем, связанных с исследованиями и практикой в области 29 акустической экологии, с учетом взаимосвязи звука, природы и общества. Его авторами и членами редакционной коллегии стали авторитетные ученые, занимающиеся проблемами акустической экологии и звукового пространства, а также признанные специалисты, представители различных профессий, связанных со звуком, – звукооператоры, актеры озвучивания и т.д. В числе поднимаемых в журнале тем можно назвать следующие: акустическая экология, акустическая коммуникация, тишина и шум, мир подводного звука, сакральные звуковые ландшафты, учимся слушать, акустическая среда как общественное достояние, тишина в современном звуковом ландшафте, отражение звука и др. Одной из главных проблем изучения звукового пространства в целом и звуковых ландшафтов как его целостных единиц является междисциплинарность. Исследовательский успех в этой сфере, как, впрочем, и в целом в современной науке, наиболее всего вероятен на стыке наук – как естественных (физика, акустика, экология, география), так и гуманитарных (психология, лингвистика, филология, культурология, музыковедение, философия). В связи с этим в вопросе изучения звукового пространства необходимо стремиться к комплексному анализу результатов нескольких научных направлений. Классификация звуковых ландшафтов – еще одна проблема, которую предстоит решить исследователям, работающим в данном направлении. Различные типы ландшафта – как природный, так и антропогенный – обладают своей звуковой «аурой». Монастырский ландшафт характеризуется колокольным звоном, чтением богослужебных текстов и хоровым пением. Традиционные звуки города – гудки и шуршание шин автомобилей, треск мотоциклов, грохот трамваев. Особое место в городском звуковом ландшафте занимает людское многоголосье. Например, в «столице мира» Нью-Йорке во время прогулки по Уолл-Стрит и Бродвею можно услышать одновременно французский, испанский, итальянский, английский, немецкий, турецкий и практически любой другой язык мира. Эта лингвистическая полифония является частью городского шума – его 30 спешки, суеты [432, с.10]. Заметим, что в сложном акустическом потоке человек способен слышать отдельные, значимые для него звуковые события, а не какофонию звуков, то есть в нашем сознании сложный акустический поток подвергается анализу и детализируется. Имея общие признаки, звуковые ландшафты городов различных стран обладают своей индивидуальностью. Вот как представляется одному из авторов журнала SOUNDSCAPE местный музыкальный ландшафт мексиканского г. Пачука. Автор проснулся утром в субботу и услышал за окном множество звуков, которые в его восприятии выстроились в виде музыкальной партитуры, где каждый звук – это своя партия. В многообразии звуков есть музыкальная форма, динамическая и ритмическая составляющая. Вступление: ненавязчивый свисток продавца шариков, растущий от меццо-пиано... Затем этот звук дополняется твердым, неуклонным свистом точильщика ножей на своем велосипеде, пианиссимо уводит в другое измерение... Присоединяясь к хору звуков утром, а затем, солируя ночью, продавец тамале каждый раз заявляет о своем прибытии... Он кричит: «Тамааааа-леееееее» снова и снова, пока везет свою повозку по улицам. Затем он начинает партию трубы... Финал соответственно наступает с появлением мусорщика, объявляющего о прибытии мусоровоза, звеня меццофорте своим писклявым колокольчиком. Когда музыка прекращается, начинается партия перкуссии, появляющаяся вместе с мальчиками и девочками, гоняющими мяч на корте или в парке. Ритм ударов тяжелого кожаного мяча об асфальт зазывает остальных играть в футбол или баскетбол... Благодаря этому еженедельному представлению автор чувствует себя частью этого места и благодаря такому «ритуалу» смешивается с окружающей атмосферой, которая становится его частью. Он реагирует на ритмы, следует культурной хореографии и становится танцором на этой сцене. Музыка этого места, по его признанию, в отличие от сделанных фотографий, глубоко проникает в его сознание, где музыка и будет находиться, когда он уедет [430, с. 23]. 31 В отличие от городского звукового ландшафта звуковые особенности села – народные песни, шум, издаваемый тракторами и другими сельскохозяйственными машинами и орудиями, голоса домашних животных (лай, визг и скуление собаки, мычание коровы, мяуканье кошки), хлопанье крыльями и кряканье уток, пение сверчка за печкой и т.д. При этом звуковой ландшафт конкретной местности в конкретный период времени имеет свои характерные особенности. Вот как описывает период сбора богатого урожая Г.И. Успенский: «Вдруг вдали на деревне грянул звонкий девичий хор; старик поднял голову и, слушая песню, сказал: – Ишь, горло-то дерут! Урожай ноне… Бог послал… Хор зазвенел еще звончей и громче. – Картофь, должно, господь уродил ноне, – прибавил старик в объяснение слишком звонкого пения» [339, с. 219]. Вместе с другим автором журнала SOUNDSCAPE прислушаемся к звуковому ландшафту современной индийской деревни Хампи. Звук утренней Индии, пишет он, связан с шуршанием метлы. Зажав в руках плотные стебли травы, уборщик подметает пыль на тротуарах и у входов в магазины. Слышится падение воды на землю, звуки черпака, разговор мамы с ребенком. Доносятся отдаленные голоса «фото, ручка?», кукареканье петуха. На главной улице появляются слабые звуки мотоциклов и музыки по радио: песнопения, флейты, караталы. К этим звукам примешивается легкий хруст сандалий автора, ступающего на пыльную землю. На всем пути не замолкая поют птицы. У огромного храма в конце улицы музыка плотно перекрывает все остальные звуки. При приближении к храму начинают прыгать и кричать обезьяны, бешено носясь вокруг башен и стен. Смешиваясь с общей палитрой звуков, стая собак проносится с диким рычанием мимо проезжающего мопеда и начинает схватку…[430, с. 23]. Непременной составляющей природных ландшафтов являются природные звуки. Для океана характерны рокот прибоя, пронзительные крики чаек. Гроза 32 сопровождается громом и барабанной дробью дождя, буря – свистом ветра, треском ломаемых ветвей и т.д. При этом одни звуки могут накладываться на другие, замещать их. Звуки леса – это шум листвы, журчание ручья, всплески рыбы в водоеме, волчий вой, тявканье лисицы, пение птиц и шелест их крыльев. В.П. Семенов-Тян-Шанский отмечает, что характер природных звуков зависит от географических условий местности: для тундры характерен крик белой совы, для финского гранитного массива – слабый, однообразный писк синицы в течение всего лета и частое кукование кукушки весной, для средней черноземной части Русской равнины – обилие звуков певчих птиц с соловьем во главе [301, с. 231]. Ландшафт – природный и антропогенный – можно рассматривать в качестве гигантского отражателя, или резонатора, в котором отражается звук [417, с. 45]. А так как ландшафты всегда чем-то отличаются друг от друга, представляя собой неоднородные акустические среды, то и звуки в этих средах распространяются самым неповторимым образом, то есть каждый из ландшафтов является уникальным по своему звучанию и тембру. Звуковая структура местности может меняться циклично: день – ночь, утро – вечер, зима – лето, весна – осень и т.д. Например, наиболее интенсивное пение птиц можно слышать рано утром, перед закатом солнца у некоторых видов оно снова усиливается. Звучание местности меняет свою структуру и независимо от природных циклов. На это влияют, прежде всего, процессы урбанизации и индустриализации. Например, в «тесной» Европе с течением времени все меньше становится звуков природных и все больше – антропогенных. Исследования показывают, что в европейской литературе ХIХ века из общего числа упоминаний о звуках 43% относятся к естественным звукам, а в литературе ХХ века их доля снизилась до 20%. С учетом этой негативной тенденции в фонотеках индустриально развитых стран научно классифицируются и документируются природные звуки, которые когда-то могут исчезнуть: шум листвы, голоса животных, пение птиц. 33 Почти на нет сходит такой естественный для природного ландшафта компонент, как тишина. На эпоху 1810 – 1830 гг. в литературе приходилось 19% упоминаний о тишине, на 1870 – 1890 гг. – только 14%, а на 1940 – 1960 гг. – всего 9%. Меняется и психологическое отношение к ней. Нынешние поколения дают тишине, как правило, негативную оценку: мрачная, гнетущая, смертельная, цепенящая, роковая, ужасная, унылая, нависшая, нескончаемая, болезненная, томительная, безысходная, застывшая, щемящая, пугающая [387, с. 8]. Наиболее значительными темпами меняется антропогенный комплекс звуков. В ходе технического прогресса звуки граммофона и патефона уступили место звучанию современной цифровой техники. Традиционной и неотъемлемой частью звуковых ландшафтов городов и фабричных поселков примерно с конца XIX века и до 60-х годов ХХ века был фабричный гудок, безвозвратно ушедший в прошлое. О том, как фабричный гудок каждый день дрожал и ревел над рабочей слободкой, упоминает М. Горький в романе «Мать». Играя сигнальную роль в организации труда, гудок становился частью духовной жизни человека, что отразилось в известной песне: «Он звал меня издалека, / Когда порой бывало туго. / И голос этого гудка / Я узнавал, как голос друга» [149, с. 38-40]. Антропогенные звуки также можно классифицировать по их постоянству и периодичности. К периодическим следует отнести бой городских часов, полуденный выстрел пушки, колокольный звон, перекличку часовых – эти звуки повторяются через определенный промежуток времени. По признаку периодичности отличаются и звуковые комплексы – полифония праздничных или будничных дней. К числу постоянных антропогенных звуков можно отнести классическую музыку. Постоянные природные звуки – это, например, звуки времен года. Как отметил А.А. Фет, характерное многозвучие весны слышит каждое новое поколение людей: «…К ним с весною низойдут / Те же звуки» [343, с. 243]. 34 Постоянные звуки и звуковые комплексы, к которым можно отнести, в частности, музыкальное произведение, служат основой партитуры конкретного звукового ландшафта. О том, каковы возможности музыки в изображении пейзажа, можно судить по опыту, проведенному Н.А. Римским-Корсаковым. Он впервые исполнил на рояле друзьям фрагмент своего нового сочинения вступление к опере «Ночь перед Рождеством» и попросил охарактеризовать его. Все они увидели картину звездной, снежной, морозной ночи, то есть то, что и задумывал композитор. В ряду постоянных звуков можно обнаружить звуковые доминанты – характерные, значимые звуки, придающие звуковому ландшафту ярко индивидуальные черты. Изменения в культурном ландшафте влекут за собой смену звуковых доминант, и в результате меняется весь звуковой ландшафт, даже если остаются неизменными какие-либо другие звуки. Например, звуковой ландшафт византийской столицы г. Константинополя после его завоевания турками в XV веке претерпел значительную трансформацию: звон православного колокола сменился на возгласы муэдзина, сзывающего мусульман на молитву. Используя буквально несколько доминантных звуков, композитор или писатель легко могут воссоздать образ какой-либо определенной местности. Воображение читателя/слушателя, исходящего из своего жизненного опыта и биологической памяти, установит семантическую связь между звуками и их источниками и с помощью звуковых ассоциаций дорисует все недостающие компоненты этой местности. Зрительные, слуховые, обонятельные, тактильные и другие ощущения и представления помогут воссоздать ее целостный, живой образ. Вышесказанное дает повод утверждать, что именно звуки являются наиболее важными материальными и духовными составляющими ландшафтов. В.Ф. Одоевский отмечал, что в напеве отражается такое сопряжение чувств и мыслей, которое не может быть выражено словом. Если человек, находясь вдали 35 от Отечества, слышит родной напев, то душа его приходит в сильнейшее волнение. Он вспоминает семью, друзей, домашний очаг, молодость, детство [246, с. 462]. Духовный (идеальный) слой культурного ландшафта – уникальное сочетание этнических, конфессиональных, лингвистических, исторических, экономико-культурных, политико-культурных слоев, к которому можно отнести поведенческие населяющих императивы определенную и архетипы территорию. ценностного Искусство сознания выступает людей, значимым ландшафтообразующим фактором. Одни его виды формируют отношение человека к ландшафту (музыка, литература, живопись), другие непосредственно связаны с его преобразованием и развитием (градостроительство, архитектура, ландшафтное строительство) [332, с. 24]. Во множестве символов, запечатленных в искусстве, отражается образ определенной территории. К звукам духовного слоя относятся, прежде всего, музыка, речь, пение, молитва, являющиеся звуками-маркерами этноса. Одни из этих звуков-маркеров, как, например, речь, идут с древних времен, с начала формирования этноса, а некоторые – в частности музыка, возникают позже, в силу определенных факторов. Наличие общих звуковых признаков, объединяющих ту или иную территорию, как, например, русская песня для России, не исключает и существование определенных отличий в звуковом облике данной территории. С помощью метода сужающихся концентрических кругов мы обнаружим, что у конкретных русских регионов звуковой ландшафт, не меняясь принципиально, будет дополняться характерными только для данных регионов звуками. Еще более узкий круг исследований покажет, что каждый район, населенный пункт в конкретном регионе имеют свои звуковые особенности, как правило, это – речевые, интонационные предпочтения. 36 Язык является одним из главных этнических звуков-маркеров, средств соединения «своих» и отграничения от «чужих», знаковая система для «своих». Речь на родном языке – это процесс непрерывной актуализации национальной или этнической идентичности. Каждый язык имеет индивидуальную фонетическую систему, характерные интонации, физиологические особенности звукоизвлечения, ритмико-мелодическую орнаментику, так называемую музыку речи. Здесь многое имеет значение: тембр, возможности голосовых связок, слуховой порог, психическое состояние человека. В. Гумбольдт подчеркивал, что у каждого народа создается необходимое количество членораздельных звуков, отношения между которыми строятся в соответствии с потребностями данной языковой системы [89, с. 86]. Существуют языки, в которых интонация имеет значение для определения смысла, как, например, в японском и китайском языках. В определенной степени и для индоевропейских языков интонация имеет значение для уточнения смысловой нагрузки и степени экспрессии. Так, речь американца и русского, близкая по грамотности и правильности произношения к эталонной, воспринимается по-разному: у американца она более энергичная, поскольку ее диапазон превышает диапазон нашей речи на терцию/кварту. Звуки голоса меняются не только в пространстве, но и во времени. Особенно отчетливо это заметно на примере радио или кино. Старейший диктор Рижской студии документальных фильмов Б.К. Подниекс вспоминает, что в 50-е годы он равнялся, в частности, на манеру чтения Ю.Б. Левитана – тяжелую, торжественную, важную, пафосную. В 60-е он перешел «на восторженное, с бархатными нотками воркование, разукрашивал каждое слово, подслащивал медом». В 70-е годы манера его речи уже была простой, разговорной, как у И.М. Смоктуновского и Е.З. Копеляна. Менялись идеологические модели нашего общества – менялся и голос эпохи [377, с. 51]. 37 И. Гердер отмечал важность понимания и усвоения звуков, относящихся к духовной сфере, в целях изучения культуры конкретного народа: любимая народом музыка помогает нам раскрыть его душу «глубже и вернее, чем любое самое длинное описание всего внешнего, случайного» [76, с. 198]. Звуковой ландшафт может выступать не только в роли инструмента познания конкретной культуры, этноса, народа, но и в качестве определенной структурной позиция постижения мира. Проблематика звукового ландшафта тесным образом сопряжена с пространством и временем – философскими категориями, с помощью которых обозначаются формы бытия вещей и явлений, отражающих их сосуществование в пространстве и процессы смены их друг другом во времени. К числу таких вещей и явлений можно отнести и звуки. Звук – «есть чистая неразличимость облечения бесконечного в конечное, это нечто живое, для себя сущее» [389, с. 192]. Пространство и время могут быть восприняты и стать ощущаемыми именно через звуковой ландшафт, создающий своего рода «рамку знания» для их функционирования: звук, будучи энергетическим импульсом, преодолевает определенный промежуток в пространстве и звучит определенный отрезок времени. В свою очередь пространство и время могут влиять на смысл и значение звука. Слово «ландшафт» у нас ассоциируется, прежде всего, не со звуковыми образами, а с визуальной картиной природы, неким пейзажем. Б.М. Гаспаров объясняет подобное явление тем, что представление, пробуждаемое соответствующим языковым выражением, имеет чаще всего зрительный характер. Это правило является верным даже в той ситуации, когда на первый план выдвигаются звуковые аспекты предмета. Мы и в этом случае воспринимаем их с помощью зрительного образа. Так, выражение «рев водопада» вызывает у нас картину низвергающейся массы воды, а сам звук при этом практически не ощущается, в сознании остается лишь «отдаленное ―эхо‖ этой картины» [73, с. 201]. При этом следует видеть различие перцептивных механизмов, действующих 38 в музыке и языке. Для музыки звуковое представление является первичной и исходной данностью, из которой вторично могут возникать неслуховые отображения. Независимо от того, что память человека имеет преимущественно визуальный характер, очевидно, что мы воспринимаем одновременно и слышимое, и видимое – весь аудиовизуальный ландшафт, окружающий нас. Совмещая аудиовизуальные данные, наш мозг обеспечивает познавательный процесс [425, с. 2]. Таким образом, не следует недооценивать слышимое при восприятии того или иного ландшафта. Особенно, если учесть, что слух более самодостаточен: ему, в отличие от зрения, не нужен посредник – свет. Слух у человека – это второй (после зрения) по значимости канал восприятия информации. Академик И.П. Павлов относил слышимое наряду с видимым к первой сигнальной системе человека. Соглашаясь с тем, что мир дан нам в непосредственных ощущениях, в том числе в цветах и звуках, Э. Кассирер отмечает, что изолированное ощущение является абстракцией: при восприятии мир не распадается для нас на многообразие чувственных впечатлений. Восприятие, считает он, дано нам как целостное переживание, которое каким-то образом дифференцировано, однако это расчленение никак не содержит в себе обособленных чувственных элементов. Вместе с тем разграничение восприятия на отдельные ощущения, в том числе слуховые, вполне возможны и оправданны, считает Э. Кассирер, если восприятие подвергается анализу. Если смотреть на восприятие с позиции его происхождения, то оно разлагается на различные сферы, и в результате каждому органу чувств «приписывается самостоятельный мир воспринимаемых содержаний» [139, с. 31]. Примерно эту же мысль мы находим у М. Хайдеггера: чтобы услышать чистый шум, нам уже приходится отворачиваться в слухе от вещей, отвлекать от них свой слух, слушать абстрактно [360, с. 101]. 39 На актуальные особенности слышимого с философско-антропологической точки зрения обращает внимание П.А. Флоренский. Зримое – преимущественно объективно, слышимое же, напротив, – субъективно. Зримое воспринимается как нечто внешнее, а потому «нуждающееся в переработке во внутреннее: этою переработкою оно и превращается, переплавляется в звук, в наш на зримое отголосок». Звук, нами посылаемый, как и вообще звук, – обнаружение самости, самость бытия, страстен, – легко может оказаться страстным. Вот почему легко иметь чистые глаза, но почти невозможно – чистые уста. П.А. Флоренский указывает также на то, что объективность зрительных впечатлений и субъективность слуховых учитывается религиозными складами и настроями души. Там, где наиболее возвышенным считается внешнее, основным в религиозной жизни провозглашается зрение, и, наоборот, где наиболее оцениваются волнения человеческого духа, там верховенство утверждается за слухом и речью [351, с. 34-37]. Звуковой ландшафт не является некой константой, он представляет собой бесконечный процесс и результат семиозиса. При этом не менее важным знаковым элементом звукового ландшафта можно считать тишину. Сообщение той или иной культуры мы получаем благодаря постижению не только явных, но и скрытых, метафизических элементов звукового ландшафта. Звуки и тишина – это те «нити ощущений» (И. Гердер), которые помогают нам понять не только смысл той или иной выделенной территории, но и в целом ткань бытия. С тишиной связана загадка восточной философии: хлопок обеими руками слышал всякий. А как звучит хлопок ладонью одной руки? По легенде, последователь дзен-буддизма, в поисках ответа на этот вопрос, изучил все звуки, но безрезультатно. И тогда он понял, что это – звучание тишины [375, с. 2-3]. Таким образом, в числе основных структурных элементов культурного ландшафта можно вычленить комплекс звуков, маркирующих данную местность, являющихся одновременно и неотъемлемой частью культурного ландшафта и его 40 скрепами. При этом культурные составляющие ландшафта, в том числе звуки, обладают онтологической двойственностью, являя собой как реальный, так и мир духовный. Такому пониманию ландшафта, как единства земного и семантического пространства, наиболее всего соответствует определение, сформулированное О.А. Лавреновой, в котором культурный ландшафт представляет собой «кластер геокультурного пространства и феномен культуры – систему матриц и кодов культуры, выражающихся в знаках и символах, непосредственно связанных с территорией и/или имеющих на территории свое материальное выражение» [176, с. 19]. В культурный код цивилизации входят наиболее значимые компоненты звукового ландшафта – и прежде всего, звуки-символы, наделенные глубиной образа и тесно связанные с мифом, с непредметным миром смыслов, транслирующие принятую в данной цивилизации модель мира. В совокупности они образуют звуковой код культуры той или иной цивилизации. Соответственно, звуковой ландшафт можно определить следующим образом – это пространственно-временной комплекс природных и (или) антропогенных звуков, являющихся материально-духовными знаками определенной территории и создающих звуковой образ данной территории. 1.2. Онтология «звучащего/молчащего» в архаических культурах 1.2.1. Мифология и богословие звука Музыкальную культуру мира можно рассматривать в качестве глобальной семиотической системы, в которой все элементы функционально взаимосвязаны. 41 Эти идеи развиваются сотрудниками научно-творческого центра «Музыкальные культуры мира» Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в рамках научно-музыковедческой школы Дживани Михайлова [231]. Дж. К. Михайлов рассматривал звук как «явление, воплощающее в себе глобально-культурные, цивилизационные и этнонациональные особенности» [136, с. 107]. Сравнительно-типологический анализ звуковой семиосферы разных народов мира дает возможность, по мнению представителей этой школы, сделать вывод о наличии некой универсальной инвариантной музыкальной структуры – матрицы, порождающей музыкальный мультикультурализм. Суть еще одного направления в исследовании музыкально-культурного пространства Земли, предлагаемого Е.В. Васильченко, заключается в типологическом сопоставлении целостных «звуковых портретов» региональных цивилизаций и отдельных явлений мировой музыкальной культуры, которые являются символами своих музыкальных культур. Звук в этом случае предлагается рассматривать в качестве равноправного по отношению к музыке самодостаточного феномена культуры. В осмыслении звуковой и музыкальной геопанорамы Евразийского пространства как единства культурной традиции в ее регионально-этнокультурном многообразии значимое место занимают исследования в области семиотики культуры провинции и ее локальных текстов [75; 101; 316]. В архаических традициях звук имел сакральный семиотический статус. Его онтологическое значение раскрывается в мифологиях, религиозно-философских учениях древности и Средневековья. Размышляя об истоках всего сущего, многие религиозные мыслители главную роль отводили звуку. Так, в древнеиндийской философии звук – причина всего, весь мир наполнен звуком. Высшее мировое начало – Брахман – проявляется как Нада-Брахман, где Нада – это звук, поток, вибрация. Такое представление о звуке как проявлении высшего мирового творческого начала является определяющим в индийской музыке, в которой чисто физические характеристики 42 звука – лишь внешность, скрывающая его онтологическую сущность, равно как и эмоциональную насыщенность [154, с. 63]. Данная точка зрения согласуется с современными научными представлениями о том, что гармонические звуковые волны, имеющие постоянную частоту колебаний, сыграли значительную роль в формировании Вселенной. Ее звучание может представлять собой своего рода эхо Большого взрыва – начала расширения Вселенной. Согласно религиозно-философской системе индуизма Бог представлен, прежде всего, сакральным слогом, положившим начало чувственному миру, «ОМ» («АУМ»), что обозначает суть индуизма, единение с Богом, слияние физического тела с духом. Сакральный слог «ОМ» – первый звук, изданный Всемогущим, который явил начало всем остальным звукам в речи или музыке. В этом слове скрыто прошлое, настоящее и будущее и даже все то, что выходит за рамки времени [338, с. 44]. Три его фонетических элемента (АА-УУ-ММ) символизируют Брахму, Вишну и Шиву и представляемый ими цикл бытия: созидание, поддержку и разрушение. Согласно традиции, звуки этого священного слова, мантры, имеют магическую силу, направленную на концентрацию созидательной энергии. Мантра, как полагают верующие, помогает им попасть в унисон с вибрацией космоса. По индуистской традиции звук есть не что иное, как вибрация космической энергии. Согласно легенде о происхождении мира, Кришна играл на флейте, и от звуков этого музыкального инструмента космос пришел в движение – так началось миросозидание. Флейта Кришны призывает нас навсегда оставить мирские обязанности и следовать за Ним [414, с. 79]. Жители Древней Индии считали, что весь мир, состоящий из неживых предметов и живых существ, наполнен звуком, который разделяется на проявленный и непроявленный. Внутри каждого звука (посередине его) есть маленькая дверь, и за ней святилище, где обитает Бог, покровитель этого звука. 43 Звук имеет пространственную характеристику (как бы переднюю и заднюю стороны). То есть звуки поворачиваются, двигаются вперед, выгибаются дугой, показывая различные свои стороны [103, с. 12-13]. Различия между пением и чтением не было. Распевное чтение Вед, включавших в себя знания человека того времени о богах, демонах, космосе, ритуале, социальном устройстве, этических ценностях и другие важные сведения, велось на трех тонах – основном и двух соседних. В создании гимна Ригведы (веды гимнов), посвященному одному из богов, большое значение уделялось звукописи. Можно играть падежами его имени, располагая их в определенном ритме, или, наоборот, не называть имя бога – разделить его на звуки и повторять их в разных словах. Благодаря этому приему, семантизируемая звуковая ткань гимна может содержать сведения об имени бога, автора гимна, а также о главной теме гимна, если она не совпадает с восхвалением Бога. Ригведы наполнены звуком: раскаты грома, грохот колесниц, треск деревьев, барабанный бой, пение божественных гимнов [293; 294]. Сходное представление о космической, небесной, сущности звуковой материи свойственно древней китайской цивилизации. Отличие заключается в том, что звучание вселенной проявляется в реальном звучании ее восьми основных элементов, из которых изготавливались музыкальные инструменты: камень, земля, дерево, кожа, металл, бамбук, тыква и шелк. В китайской цивилизации к отдельному звуку и их системе сложилось отношение как к своеобразному коду, содержащему информацию от космоса до микрокосма. Музыкальный звук представляет собой своеобразную микромодель мира. Музыка являет собой гармонию Неба и Земли. Все природные явления на Земле и в космосе, «действия сверхъестественных сил Света и Тьмы – ян и инь – и духов тесно связаны с земными делами людей, с музыкой» [311, с. 21]. В соответствии с философией древних китайцев на Небе формируются небесные тела, на Земле образуется рельеф, а в обрядах отражаются различия 44 Неба и Земли. Земные пары всегда поднимаются вверх, небесные пары всегда спускаются вниз, силы Темного и Светлого начал взаимодействуют друг с другом. Небо и Земля воздействуют друг на друга… Раз так, то и музыка отражает гармонию, существующую между Небом и Землей. Мудрецы создавали музыку, чтобы откликнуться на предначертания Неба. Когда обряды и музыка поднимаются к Небу или обвивают Землю, когда они действуют в согласии с Темным и Светлым началами и сносятся с духами людей и небесными духами, когда они доходят до крайних высот и отдаленнейших далей или проникают в глубины и толщи, значит, музыка соответствует Великому началу мира, а обряды соответствуют миру сотворенных вещей [311, с. 79]. В древнеегиптской «Книге мертвых» можно найти подтверждение тому, что в Древнем Египте сознавали сакральное значение звука и звуковой стороны слова: звучащее слово, как некая заданная вибрация, является модуляцией космического дыхания. Произнести слово таким, каким оно было, впитав разнообразные ритмы космоса, означает восстановить его первоначальную энергию. В «Гимне хвалы Ра, когда он поднимается над горизонтом и когда он садится в стране (вечной) жизни» богу Ра воздается хвала за то, что он «выслал вперед Слово, когда земля была погружена в молчание (затоплена молчанием)» [98, с. 171]. Важная роль в мироздании придается звуку в буддизме. Все впечатления, согласно этой религии, хранятся в сознании в виде следов, семян, которые при определенных условиях могут оказывать влияние на поступки, мысли, внешние объекты. Семя звука воздействует через мантры, слова, крик, вызывая боль, смех и даже сход горных лавин. Звук (шабда) в буддийском учении относится ко вторичным формам материи, то есть к субстанциям, происходящим от первоэлементов. Согласно тибетским и ламаистским представлениям запрещается прикасаться к телу умершего, чтобы не помешать нормальному отделению потока сознания, который покидает тело умершего через отверстие Брамы (находится в 45 темени). В ином случае поток сознания может выйти через какое-нибудь другое отверстие, что повлечет за собой новое рождение уже не в образе человека. Так, если выход потока сознания произошел через ухо, то умерший родится в мире гандхарвов (небесных музыкантов) и в этом мире он будет существовать в виде звука в музыке или песне [323, с. 35]. Тибетская «Книга мертвых» предупреждает человека, что при переходе в потусторонний мир, в момент, когда сознание отделяется от тела, он увидит Сияние Чистой Истины и услышит звук реальности, похожий на мощные раскаты грома. «Это естественный звук твоего подлинного «я». Не пугайся его, не страшись, не ужасайся» [323, с. 56]. В христианстве, согласно Библии, звук также имеет Божественный, творящий смысл: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть» [41, с. 1127]. Особое место в звуковой семиосфере христианского мира занимает богослужебное пение – певец с помощью тончайших вибраций должен передать «неизреченные глаголы Духа Святого» [290], а также колокольные звоны. Они сопровождают христианское богослужение и являются «вещественными» образами, в которых отразился мир «невещественный» [207, с. 27]. По мнению П.А. Флоренского, у наиболее крупных течений в христианстве – православия, католицизма и протестантизма – можно обнаружить различное отношение представителей этих течений к видимому и слышимому. Католиков он относит к людям зрительного типа, а протестантов – слухового. Православие же, с его точки зрения, являет собой гармонию этих двух типов и поэтому в православной вере «пение столь же совершенно онтологично, как и искусство изобразительное – иконопись» [351, с. 38]. Концепция первичности звука как высшего мирового начала присутствует и в Коране, где сказано: «Он Зиждетель небес и земли, и когда определит быть чему, только скажет тому: «будь!» и оно получает бытие» [153, с. 33]. Звук 46 поразит безбожников, когда наступит конец этого мира: однократный клик захватит их в то время, когда они будут спорить между собой. Звук является также приметой воскрешения умерших: «Раздастся звук трубы, и вот, они поспешат из своих гробов ко Господу своему» [153, с. 831]. Основой всей мусульманской музыки служит человеческий голос, распевное чтение Корана (в переводе с арабского это слово означает «распевное чтение»), как в православной музыке – Евангелия, а в индийской – Вед. Большое значение музыке придается в суфизме – мистико-аскетическом течении в исламе. Она позволяет человеку привести себя в состояние божественного восторга, отказаться от двойственности, приблизиться к Богу, прикоснуться к нему. Суфий постигает жизнь и знает тайну вселенной, если он обладает тайной звука. Звук абстрактного существует вокруг и внутри нас, но мы его не воспринимаем потому, что наше сознание слишком сосредоточено на материальном. Согласно суфийской притче Бог создал статую из глины по своему подобию и попросил душу войти в нее. Однако душа не хотела отказываться от свободы. Бог попросил ангелов сыграть душе их музыку, и когда ангелы заиграли, душа была приведена в экстаз, и через этот экстаз, для того, чтобы сделать музыку более ясной для себя, она вошла в это тело [364, с. 138]. Большую роль играет звук в иудаизме, и главным образом – это звук шофара (бараньего рога), символизирующего связь между человеком и Всевышним. Шофар пробуждает у верующих сознание того, что настанет день, когда людям придется предстать перед небесным судом и дать отчет обо всем, что они ни делали в своей жизни. Из шофара извлекают три звука. Первый – ткиа (плавный, непрерывный звук) – заставляет вспомнить о Всевышнем и долге перед Ним. Второй – труа (прерывистый звук) – напоминает сигнал тревоги, позволяющий человеку осознать, как он далек от божьего предназначения. Третий звук – еще раз ткиа – призывает человека исправить и улучшить свою жизнь в соответствии с верой. 47 Таким образом, мы видим, что в древних религиозно-философских учениях звук рассматривается в качестве онтологически самодостаточной субстанции, организующей мировое пространство и время. С помощью звука – звуковых вибраций, слова, музыки – происходит общение человека с Богом. Его нельзя увидеть, но можно услышать. И Он может услышать человека. Не случайно на Востоке к певцам и музыкантам относились с большим уважением – как к связующему звену между миром людей и божественным миром. В сокровенном знании Древности и Средневековья особое значение придается священным звукам, предназначенным для диалога с Богом. Сочетание этих звуков в пространственно-временном континууме образуют сакральный звукомузыкальный ландшафт Земли, сохраняющий в неприкосновенности и неизменности свое традиционное сокровенное Наследие Предков. Оно принадлежит к чувственной, слышимой реальности и вместе с тем представляет собой проекцию, воплощение неслышимой сакральной «музыки сфер», относящейся к внечувственному миру, реальности высшего типа. Человек согласно религиозно-философским представлениям является связующим звеном между Землей и Небом, между слышимым и неслышимым мирами. Можно сказать, что в семиотиках религий мира звуки и музыка (феномен звучащего) играют роль системы знаков, с помощью которой человек может общаться с Богом, слышать его и познавать мир. Всевышний преподнес музыку в дар человеку, «чтобы сноситься с ним, подобно тому, как тень отражает формы тела, как эхо отражает звуки» [312, с. 92-93]. И человек возвращает «Богу Богово» в том числе посредством звуков и музыки: «звуком трубным», «на псалтири и гуслях», «с тимпаном», «на струнах и органе», «на кимвалах громогласных» [41, с. 595]. 48 1.2.2. Музыка как число В философских системах античного мира, как и в восточной философии, феномену музыки придается космологическое значение: музыка представляется как модель мироздания. В основе представлений о музыке как модели мира лежит число, понимаемое как первая сущность, определяющая все многообразные внутрикосмические связи мира, основанного на числе и мере, гармонии и соразмерности. Учение о числовых соотношениях между планетами, связи музыки и космоса возникло в странах Древнего Востока: Вавилоне, Древнем Египте, Китае и Индии. Пифагор и его последователи – пифагорейцы – перенесли идеи древневосточных мыслителей в Европу. Согласно их концепции, планеты, движущиеся в космосе, через определѐнные гармонически упорядоченные интервалы издают звуки. Однако мы не слышим эту гармонию (музыку) сфер, по красоте значительно превосходящую земную музыку: проявляется она лишь сразу после рождения и на этой стадии еще неотличима от тишины. Звучащую Вселенную – «песнь Богов» – человек слышит тогда, когда открывает в себе скрытую частицу божественного. Божественная любовь совершенна и чиста, она же есть космическое число. Земная лира является точным отображением небесных законов, игра на ней – приобщение к гармонии Вселенной [13, с. 18-19]. Сократ говорил, что музыкант – это тот, кто от чувственно воспринятых гармоний переходит к гармониям сверхчувственным, умопостигаемым и к их пропорциям. Древние греки полагали, что небесные тела удалены друг от друга на дистанции с интервалами семи- или восьмитоновой гаммы. Существовало два направления относительно соответствия высоты тона расположению планет. Первоначально наиболее отдаленные небесные тела обозначались самым 49 маленьким числом, и с ними были связаны наиболее низкие ступени звукоряда. Позже большая скорость движения отдаленных небесных тел позволила соотнести их с большими числовыми величинами и высокими ступенями звукоряда. Идеи о космическом значении музыки, о соответствии небесных тел музыкальным интервалам в Греции были первоначально введены в теологической концепции, под которую впоследствии подвели фундамент физико-акустических теорий. Вслед за пифагорейцами учение о космическом значении музыкальной гармонии излагает Платон. По его словам, отношение между семью небесными планетами соответствует отношениям, которые лежат в основе музыкальных интервалов. Платон развивает идеалистическое представление о музыкальной гармонии как о гармонии вообще. Музыкальная гармония хоть и состоит из смешения физических элементов, природа ее является не физической, поэтому она не умирает со смертью этих элементов. Например, лира является образцом воплощенной гармонии, звуки ее бессмертны, однако сам этот музыкальный инструмент – корпус и струны – имеет физическую, смертную природу. Согласно Платону, воспроизведшему взаимосвязь космоса, и музыки дополнившему и души концепцию связана с пифагорейцев, переселением души: воплотившись в человеческое тело, она как бы пытается вспомнить и воспроизвести услышанное ею на астральном уровне. Однако Платон полагал, что сложная и богатая сфера музыкального искусства далеко не ограничивается количественными отношениями. По его мнению, музыка основана «не на размере, но на упражнении чуткости; такова же и вся часть музыки, относящаяся к кефаристике, потому что она ищет меру всякой проводимой струны по догадке…» [272, с. 80]. В этом состоит отличие музыки от всего, что связано с вычислением. 50 Музыкальной при определенных условиях может быть и речь человека. Когда говорящий и его речь соответствуют друг другу, такой человек представляется Платону «совершенным мастером музыки, создавшим прекраснейшую гармонию…» [269, с. 233]. Учение о гармонии (музыке) сфер развили неопифагорейцы и неоплатоники эллинистического и римского периодов. Гармония сфер стала одной из центральных тем их трудов. Согласно учению древних греков понятия меры и соразмерности, симметрии, гармонии и порядка лежат в основе технэ – термина, обычно переводимого как искусство. Для Аристотеля этот термин наряду с музыкой и поэзией означал, в частности, архитектуру, которая, по одному из образных определений, является застывшей музыкой. В музыке чередование акцентов, пауз, звуковысотное движение рождают мелодию. В архитектуре ритм и пропорция рождают красоту, и это касается не только многочисленных шедевров античности. Звучащий космос отразился, например, в деревянном зодчестве Русского Севера, что позволило доктору философских наук, проф. Ю.В. Линнику говорить о «северном пифагореизме». «Перед нами какая-то особая форма синестезии: архитектура воспринимается музыкально – тогда как музыка видится архитектурно...», – пишет он, анализируя особенности строения северных церквей, числовую гармонию их архитектурных объемов и пропорций. Так, с точки зрения Ю.В. Линника, в композиции Троицкой церкви Елгомского погоста «звучит» кварта (4:3). Большая терция (5:4) организует архитектонику Преображенской церкви из села Спас Вежи [184]. В Средние века заключенная в музыке таинственная связь познания и наслаждения заявляла о себе все громче, подкрепляясь расцветом композиторского творчества и музыкальной теорией. Из всех искусств музыка стала первой обладательницей пропуска в сферу философского знания, так как именно она с 51 наибольшей очевидностью задавала неразрешимую загадку дуализма разума и чувства [355, с. 206]. Вопросы восприятия музыки как числа в эту эпоху нашли отражение в трудах известных философов Августина и Боэция. В шестой книге о музыке Августин развивает учение о пяти видах чисел. Он задумывается о числах звуков, о том, сколько видов их существует и может ли существовать один вид без другого. С его точки зрения, первый вид чисел (sonantes) находится в самом звуке, независимо от того, слышат его или нет; второй (occursores) – в ощущении слышащего. Третий вид чисел (progressores) – в акте произносящего, это числа движущиеся, воспроизводимые воображением тогда, когда нет ни реальных звуков, ни слухового ощущения. Четвертый вид чисел (numeri recordabiles) – в памяти числа, хранимые памятью и тогда, когда мы о них не вспоминаем. Пятый вид чисел (judiciales) – в естественном суждении ощущающей способности, тот эстетический критерий, которым мы бессознательно оцениваем все другие числа, называя их приятными или неприятными. По Августину музыка должна основываться на числовых соотношениях, без знания которых невозможно чувство ритма и метра. Таким образом, музыка в первую очередь – это наука, основанная на числовых отношениях. Число – сущность и природа музыки, основа красоты, которая воспринимается с помощью слуха и зрения. Красота присуща всему тому, в чем есть симметрия и пропорция [392, с. 93-94]. Августин по-своему трактовал пифагорейское учение в духе своеобразной числовой мистики, где «единица» символизирует Бога – соответствует музыке как целому. Число «два» не вполне совершенно, поскольку воплощает как небесную, так и человеческую музыку. Число «три» совершенно, потому что связано с Троицей. «Четыре» ассоциируется с четырьмя евангелистами и четырьмя периодами в жизни Иисуса Христа. Число «семь» отображает связь музыки с Вселенной: семь тонов, семь струн, семь дней недели, семь планет. 52 Боэций, опираясь на труды Августина, возвращается к традициям античности как в философии, так и в музыке. В «Наставлениях к музыке» он выдвинул идею деления музыки на три вида: мировую, человеческую и инструментальную. На числовой закономерности построена мировая музыка, которая проявляется, в частности, в движении небесных сфер. В эпоху Возрождения тема звучащего космоса не утратила своей значимости, найдя свое отражение в искусстве. Так, Шекспир, находясь под влиянием неопифагорейцев и неоплатоников, вкладывает в уста одного из героев своей комедии возвышенную речь: «Взгляни на небосвод / Весь выложен кружками золотыми; / И самый малый, если посмотреть, / Поет в своем движенье, точно ангел. / И вторит юнооким херувимам. / Гармония подобная живет / В бессмертных душах; но пока она / Земною, грязной оболочкой праха / Прикрыта грубо, мы ее не слышим» [388, с. 133]. В XVII веке учение о мировой гармонии развил Иоганн Кеплер – астроном, философ, математик и физик. Его главное философское произведение «Гармония мира» включает пять книг. В третьей из них содержится описание гармонических пропорций, которые свойственны музыке. Шесть планет, вращаясь вокруг Солнца, образуют между собой отношения, выражающиеся гармонической пропорцией. То есть каждая планета соответствует определенному музыкальному ладу и определенным тембрам человеческого голоса. Сатурн и Юпитер, с его точки зрения, обладают свойствами баса, Земля и Венера – альта, Меркурий – дисканта. Музыкальная гармония господствует не только во Вселенной, но и в душе человека. В ней как бы запечатлевается образ мировой гармонии. Гармония дана человеку от природы или Богом. Познание гармонии вызывает в человеке радость и наслаждение. Много позже, в середине ХХ века, идеями Кеплера проникся немецкий композитор Пауль Хиндемит. В центре его оперы «Гармония мира» (1957) – Иоганн Кеплер. Композитор проникся идеями ученого и пришел к тому же 53 выводу: законы построения музыкального произведения и устройства Вселенной подобны друг другу. Немецкий ученый Лейбниц в своих философских трудах изложил свои представления о музыке. В их основе лежит идея о том, что природа музыкальных созвучий основывается на числовых пропорциях. Лейбниц в значительной степени сводит музыку к арифметике: музыка подчинена арифметике, и если знаешь несколько основных построений созвучий и диссонансов, то все остальные общие правила зависят от чисел. Однако при этом ученый дает ясно понять, что математических способностей для создания музыкальных произведений недостаточно. Красота, считает он, состоит не только в соотношениях чисел – необходимы еще талант и «живое воображение слуха» [182, с. 475]. Музыка сфер входила в эстетическую картину мира романтизма. У Гете мы читаем: «В пространстве, хором сфер объятом, / Свой голос солнце подает, / Свершая с громовым раскатом / Предписанный круговорот» [78, с. 41]. Новалис в «Гимнах ночи» пишет: «…тончайшей жизненной стихией одушевлена великая гармония небесных тел…» [241, с. 146]. Мысль о гармонии Вселенной в эту же эпоху встречается в поэтических произведениях М.В. Ломоносова: «Да движутся светила стройно / В предписанных себе кругах» [189, с. 215], «Целуйтесь, громы, с тишиною, / Упейся, молния, росою, / Стань, ряд планет, в счастливый знак» [190, с. 108]. В XIX веке о близости математики и музыки размышлял В.Ф. Одоевский, называвший музыку дочерью математики. Взаимное сопряжение музыкальных звуков, считал он, – это не что иное, как ряд измеряемых и вычисляемых величин. Слушая музыку, мы не задумываемся над тем, какие именно числа здесь выражаются, тем не менее эти числа существуют, и без них музыка не мыслима [246, с. 460-461]. Тема звучащего мироздания находит отражение в творчестве современника В.Ф. Одоевского поэта К.Н. Батюшкова: «О, Музы! сельских дней 54 утеха и краса! / Научите ль меня небесных тел теченью? / Светил блистающих несчетны имена / Узнаю ли от вас?» [25, с. 296], «У грека старец вопросил / С усмешкой хитрою; и так, прошу садиться / И слушать пенье Сфер» [25, с. 312]. Классик не только немецкой, но и мировой философии XIX века Артур Шопенгауэр, размышляя о музыке, отмечает, что ее форму можно свести к «определенным правилам, выражаемым числами, и она не может уклониться от этих правил, не перестав совсем быть музыкой» [395, с. 223]. Э. Ганслик, противопоставлявший музыку всем другим видам искусства, попытался объединить «эстетику числа» и «эстетику чувства» и создать «эстетику чувства числа». В целом музыкальная эстетика XIX века исходила из представления о мире как неизменном порядке. Музыка как подобная космосу грань бытия «предполагает извечную эквивалентность этого бытия самому себе» [380, с. 20]. В начале XX века идея числа, музыки Вселенной отражается в творчестве русских поэтов серебряного века. Георгий Иванов считал поэтом того, кто воспринимает космическую музыку. «Глядя на огонь или дремля / В опьяненьи полусонном – / Слышишь, как летит земля / С бесконечным, легким звоном» [119, с. 256]. У А. Блока в стихотворении «Ищу спасенья» «торжественно звучит на небе звездный хор» [43, с. 69]. В. Хлебников пишет: «Я всматриваюсь в вас, о числа… / Вы даруете единство между змееобразным движением / Хребта вселенной и пляской коромысла, / Вы позволяете понимать века...» [366, с. 79]. Музыка сфер волновала и П.А. Флоренского: «Как назвать реющие и сплетающиеся, звенящие и порхающие звуки ночи, которыми жили Тютчев и, в особенности, Фет? Солнце, нисходя в свои брачные покои, звучит неизъяснимо торжественною хвалою. И звездные лучи, сталкиваясь в мировых пространствах, звенят, как ломающийся ноябрьский ледок» [351, с. 167]. В новейшее время о неразрывной связи музыки и математики размышлял А.Ф. Лосев. Исследовав античный космос в контексте числа, он пришел к собственным выводам о том, что в основе математики и музыки лежит число. 55 Музыка идеальна, считает он, и этим она отличается от всех других вещей, «чувственных и сверхчувственных», и в этом она сходна с математикой. Однако если математика говорит о числе с точки зрения логики, то музыка говорит о числе с помощью чувств. Она представляет такую сущность числа, которая соотнесена с чувственным Ничто и «которая тем самым превратилась из чисто смысловой сущности в символическую» [195, с. 285]. Музыка, с его точки зрения, является искусством времени. Время же предполагает предельную категорию недлящегося – число. «Время есть длительность и становление числа»; «время течет, число неподвижно»; «двойка всегда есть двойка» [195, с. 310-311]. Таким образом, представления древних философов о существовании мировой гармонии, которая определяет собой как строение мира, так и законы музыки, продолжали развиваться и совершенствоваться в дальнейшем. При этом неизменной остается идея о том, что в основе музыки лежит число, которое несет в себе идею порядка и эстетической оформленности: все в мире живет по законам гармонии, которую можно выразить физико-математическим и музыкальным способом. Данная идея весьма близка ландшафтной концепции. Например, волны как двигающиеся элементы морского ландшафта находятся в определенных численных соотношениях друг с другом, а значит, можно предположить, что им соответствует свой музыкальный тон. И это не беспорядочный грохот и шум морского прибоя, а, прежде всего, стройная и величавая мелодия водяных валов, строго следующих один за другим от самого горизонта до берега. Своей музыкой, продиктованной творческой идеей ландшафтного дизайнера, обладает, например, усадебный ландшафт, все компоненты которого строго выверены и просчитаны. И если учесть, что даже самый дикий уголок природы является частичкой окружающей нас мировой гармонии, то логично предположить, что и он вносит свой тон или составляющую тона в неслышимую музыку Космоса. 56 1.3. Интермедиальные отношения музыки и звукового универсума Одним из значимых компонентов духовного слоя звукового ландшафта является музыка, феномен которой занимал лучшие умы человечества. Этот компонент формируется благодаря деятельности ярких личностей в сфере музыкального и мифопоэтического творчества – композиторов, музыкантов, певцов, сказителей, творцов из народа, остающихся в безвестности. Музыка – это искусство интонации, художественное отражение действительности в звучании [233, с. 359], или, по определению М.Ш. Бонфельда, «организованная композитором звучащая материя». Наименьшей составляющей частью музыкального произведения является музыкальный звук. На многозначность смысла и объемность музыкального звука указывал В.А. Гаврилин на примере свиридовских произведений: такой звук стоит иногда целой симфонии. Размышляя о феномене звука, он отмечает, что звуком нельзя обмануть, как это можно сделать словом. Поэтому мы слушаем не столько слово, сколько его интонацию. Музыка может являться звуковым маркером определенного этноса. Она, как отмечал М.Ш. Бонфельд, в силу своей природы близка к ядру национальной культуры, где индивидуальное и социальное соединяются в наибольшей степени [47, с. 291]. Так, звучание типичного русского ландшафта наряду с русской речью и колокольным звоном включает в себя народные песни. У Н.В. Гоголя Русь ассоциируется, прежде всего, с «тоскливой» народной песней, несущейся по всей длине и ширине страны, раскинувшейся от моря до моря. В музыкальных произведениях – в их интонационной составляющей, в найденных композитором художественных образах, творческом воплощении идеи – прослеживается интермедиальная связь со звуковыми и культурными ландшафтами исторических эпох и территорий, отражаются их семантические 57 особенности, характер и специфические черты. Музыкальный критик А.Н. Серов видел в «Волшебной флейте» Моцарта прославление таинств масонских лож, в опере Сонтини – блестящую напыщенность первой французской империи, в симфониях Бетховена – дух великих народных переворотов, дух Шиллера и Байрона [303, с. 1036]. Что касается звукомузыкального ландшафта России, то в XVII веке для него свойственна смена одноголосного знаменного распева на новый стиль церковной музыки – партесный концерт, который является воплощением стилевых признаков барокко в русской музыке. Этому времени также присущ тип светского домашнего музицирования, который станет типичным в русской музыке. Городской и усадебный ландшафты Петровской эпохи представлены жанрами европейской танцевальной музыки: менуэтами, контрдансами, полонезами, церемониальной и охотничьей музыкой, кантамививатами. Различные типы звуковысотной и ритмической организации мелоса, свойственные различным эпохам, во многом определяются движением (танец), наррацией (эпос), мелодической кантиленой (лирика) и «музыкально-речевыми» канонами социальной регуляции жизнедеятельности (обряд) [105, с. 397]. Звукомузыкальное сопровождение религиозных ритуалов и обрядов наряду с музыкой следует отнести к звукам-маркерам, позволяющим отделить конкретную этническую культуру от других. В различных мировых религиях молитвы произносятся по-разному (ритмо-интонационный строй), используются «родные» музыкальные инструменты (в одних странах – это струнные, во вторых – ударные, в третьих – духовые деревянные или роговые, в четвертых – духовые металлические). В музыкальной практике народов мира прежде всего выделяются различные звуковысотные системы. Их характеризует, в частности, количество ступеней и интервальный состав в звукоряде. Многое, что может дать представление о конкретной культуре, заключено в ладу: интонационное своеобразие, 58 самобытность, характерная эмоциональная составляющая, особые представления о духовных ценностях. Разные народы отличают ладовые предпочтения, артикуляция, те или иные приемы пения, динамика и т.д. На эту закономерность обращал внимание В.П. Семенов-Тян-Шанский: разные народы, расы и племена, находящиеся в различных климатических условиях, обладают неодинаковой музыкальной одаренностью, соотношением людей, имеющих высокие, средние и низкие регистры голосов. Отличаются также диапазон и преобладающие тембры голосов, интонационная природа речи. Ученый-географ указывал на то, что характер народного музыкального творчества зависит, в частности, от географического пейзажа, под настроением которого оно проявляется [301, с. 231232]. В свою очередь звук (музыка) может формировать и структурировать пространство: в результате восприятия музыки меняется эмоциональное состояние человека, а вследствие этого – его поведение, которое способно влиять на преобразование окружающего ландшафта. В звуковом пространстве музыкального искусства музыковеды выделяют две сферы звучаний: близкую к музыкальному искусству (центр) и далекую от него (периферия). В центре находятся традиционные музыкальные звучания (с определенной, фиксированной высотой звучания, обладающими четкими тембровыми, динамическими, временными параметрами), а на периферии – немузыкальные звуки, т.е. лишенные перечисленных свойств (стуки, шумы, гулы, скрипы и т.п.) [47, с. 78]. Немузыкальные звуки используются, в частности, представителями авангардистских течений в музыке. В программном манифесте «Искусство шумов» (1913) итальянский композитор-футурист Л. Руссоло сформулировал свои новаторские идеи. Музыкальное искусство, по его мнению, первоначально искало прозрачной чистоты и сладкости звука, а затем смешивало разные звуки, чтобы услаждать наш слух нежными гармониями. В начале XX века музыкальная жизнь ознаменована поиском иной звуковой палитры, соответствующей эпохе индустриализации, новой звуковой реальности. В 59 результате этих поисков смешиваются звуки наиболее диссонирующие, наиболее странные и резкие, близкие к звукошуму. Слух человека требовал обширных акустических восприятий. «Мы будем варьировать удовольствие нашего чувствования, различая бульканье воды, воздуха и газа в металлических трубах, урчанье и хрип моторов ... грохот клапанов, движение поршней, пронзительные крики металлических пил, звучное скольжение трамвая по рельсам, щелканье бичей, полоскание флагов. Мы будем забавляться, мысленно оркеструя хлопанье входных дверей магазинов, гул толпы, различные гаммы вокзалов, кузниц, прядилен, типографий, электрозаводов, подземных железных дорог», – провозглашал в своем программном манифесте Л. Руссоло. Он делит шумы на шесть основных категорий, среди которых, в частности, следующие звуки: грохот, взрыв, шум падающей воды, шум ныряния, рычание; свист, храп, сопение; ропот, ворчание, шорох, хрюканье, бульканье; шипенье, треск, жужжание, треньканье; шум битья по металлу, дереву, камню, коже, жженой глине и прочим поверхностям; голоса людей и животных, крик, смех, вой, стон, хрип, стенанье. Все остальные шумы, с точки зрения Руссоло, представляют собой комбинацию основных шумов [426, с. 5-10]. С древних времен было замечено много общего между музыкой и социально-политической ситуацией в государстве. Например, в Древнем Китае считалось, что если в обществе налажено гармоничное управление, то музыкальные звуки там мирные, приносят гражданам радость. Наоборот, в обществе, где нет порядка, где управление не налажено, музыкальные звуки агрессивны и вызывают у людей соответствующие чувства. В разрушающемся же государстве звуки музыки вызывают грусть и подавленное настроение [187, с. 116]. Считалось также, что музыка влияет на нравственное состояние общества. Плутарх полагал, что звук не обладает точным значением, поэтому ему необходимо слово: на ритм и мелодию следует «смотреть как на своего рода приправу, не предназначенную к тому, чтобы лакомиться ею самой по себе» [273, 60 с. 131]. Платон в своих рассуждениях об идеальном государстве и воспитании «безупречного человека» большое внимание обращает на воздействие музыкальных инструментов, выделяя из них в качестве положительных только лиру и кифару. Все многострунные инструменты изгонялись как способствующие разрушению единой гармонии и развитию распущенности. На этом же основании из государства изгоняется флейта, обостренное звучание которой не отвечало классическим канонам. Следует заметить, что вся инструментальная музыка вне мысли-слова кажется Платону вообще опасной, выходящей за рамки контроля государства. По вышеуказанным причинам флейту, по мнению Платона, допустимо оставить только за городской чертой – для пастухов. На связь между шумовой музыкой и будущим общества обращает внимание Ж. Аттали. Шум в музыке, считает он, является предвестником социальных изменений. Любая власть стремится уменьшить шум, произведенный другими, и добавить свой звук в превентивных целях. Слушание становится одним из важнейших средств надзора и общественного контроля. На то, как важно иметь возможность налагать собственный шум и заставить других замолчать, указывал Гитлер в 1938 году: «Без громкоговорителя мы бы никогда не покорили Германию» [412, с. 87]. В военное время в немецких городах сирены стали представлять собой способ дисциплинарного контроля, в то время как церковные колокола продолжали соответствовать своей религиозной символике и обосновывать роль Германии в войне [413, с. 102]. К промежуточному положению между центром и периферией, вероятно, следует отнести так называемую атональную музыку, которая является ярким проявлением современной тенденции к разрушению ладовой системы. Джон Кейдж, еще в сороковых годах ХХ столетия предвидевший эту тенденцию, писал, что если в прошлом различали диссонансы и консонансы, то в ближайшем будущем граница пройдет между шумом и музыкальными звуками. При этом он 61 подчеркивал, что шумы так же полезны для новой музыки, как и музыкальные тоны, так как они есть звуки. Существует также музыка, для которой создан специальный термин «musicry» (П. Вайс,1961). Это так называемая телефонная, или ужин-музыка, которая служит в качестве фонового шума, сопровождающего разговор за столом или моменты ожидания. Musicry не обращает на себя особого внимания, в отличие от эстетической музыки, которую необходимо слушать [415, с. 208]. Рамки звукомузыкального пространства – от самых истоков до современности – постепенно расширяются. Так, звучание европейской музыки на первоначальном этапе было связано с человеческим голосом. С течением времени к этому звучанию присоединился широкий круг музыкальных инструментов, в том числе – электрических. Что касается современного периода, то «в настоящее время нет таких проявлений звучания/тишины в окружающей реальности, нет таких искусственных или естественных звуков, которые в той или иной форме не могли бы оказаться компонентами музыкальной речи. И, следовательно, принципиальной границы между музыкальным и внемузыкальным в рамках самой звуковой атмосферы не существует» [47, с. 77]. Шум останется неблагоприятным для нашего слуха звуком в том случае, если он не вписан в идею какого-либо музыкального произведения. Так, мы сколько угодно можем рисовать черный квадрат, но он никогда не встанет вровень с одной из вершин авангардистского искусства – «Черным квадратом» К. Малевича, потому что эта картина была вписана в определенную концепцию. О том, что представляет собой язык, на котором музыка передает нам свои сообщения об окружающем мире, задумывались многие ученые. Например, В.Ф. Одоевский считал, что он наиболее близок к внутреннему языку, свойством которого является неопределенность, и «на котором есть выражение для идей, посему музыка есть высшая наука и искусство» [245, с. 37]. Б.В. Асафьев рассматривал музыку как «искусство интонируемого смысла». Основной 62 значащей единицей (аналогом слова) языка музыки, считал он, является не отдельный музыкальный звук, а интонация. Ю.М. Лотман обращал внимание на то, что музыка имеет отличие от естественных языков, поскольку в ней отсутствуют обязательные семантические связи. Для К. Леви-Стросса музыкальное произведение – это особый тип повествования и специфический вид логического построения. Т. Адорно полагал, что музыка похожа на язык как артикулированная во времени последовательность звуков, несущих определенный смысл [411, с. 401]. Л.А. Мазель для изучения музыки использовал так называемый метод «целостного анализа», позволявший расшифровывать музыкальные знаковые системы в их философско-эстетической конкретности и обобщѐнности. Какого-то единого, общего определения музыкального языка к настоящему времени пока еще не сформулировано, но семиотические исследования в этом направлении продолжаются и чаще всего с опорой на типологию знаков Ч. Пирса, считавшего, что знак может быть либо иконой, либо индексом, либо символом. Как отмечает Н.Б. Мечковская, наиболее характерными для музыки являются знаки-копии (иконические знаки), основанные на подобии означаемого и означающего; они отражают диапазон психоэмоционального напряжения человека. Звучание знаков-индексов передает зрительную предметность мира. Знаки-символы – это, например, узнаваемые цитаты, вызывающие у аудитории определенные художественные ассоциации. По мнению В.Н. Холоповой, музыкальное содержание может иметь три стороны: эмоцию (икона), изобразительность (индекс) и символику (символ). Все эти стороны неравны между собой. Что касается музыкальной эмоции, то она обязательна, а вот изобразительность и символика могут и не присутствовать. Ряд ученых рассматривает в качестве исходной модели в семиотике музыки знак вербального языка с его атрибутами: повторяемостью в разных текстах, относительно стабильным значением, устойчивостью внешней формы (И.С. Волкова, Б.М. Гаспаров, О.Б. Никитенко, Л.Н. Шаймухаметова). О том, что 63 семиотика музыки не теряет своей актуальности, свидетельствуют постепенно складывающиеся исследовательские направления. В России это, например, Л.Н Шаймухаметова (Уфа – направление исследования музыкальной семантики), В.Н. Холопова (Москва – развитие идей Пирса в музыкальной семиотике). Благодаря энергичным усилиям Е. Тарасти и его учеников несколько десятилетий активно развивается финская семиотическая школа [93, с. 26-28]. Быстрая эволюция семиотики в Финляндии, с точки зрения отдельных исследователей, может быть объяснена тем, что семиотический подход лежит в основе финно-угорского менталитета [429]. Музыка не только отражает культурные особенности определенной территории, философского эпохи, этноса, познания но и мироздания, является важнейшим музыкальной инструментом гносеологией. Она представляет собой интуитивно-образный эквивалент философии и математики, открывающий сокровенную сущность мира [217, с. 314]. С точки зрения Э. Ганслика, музыкальная эстетика соответствует стандартам естественных наук, таких как математика, химия и физиология, и при этом сопряжена с великим миром природы, с ее творчеством: все музыкальные звуки находятся в гармонии друг с другом, соответствующей законам природы, «в тайных связях и элективных сходствах» [416, с. 26]. Научная картина мира создается благодаря знаниям о мире, которые могут быть выражены не только в понятийно-теоретической форме, но и в образной, чувственно-конкретной – музыкальной, в частности. В.И. Вернадский указывал, что аппарат разума не охватывает всего знания человека о реальности. Большое влияние на ее научное понимание оказывает «мир художественных построений», не сводимых в некоторых видах искусства, например, в музыке, сколько-нибудь значительно к словесным представлениям [62, с. 413-414]. Опыт постижения человеком мира звуков включает не только аудиальный, но и интуитивный тип восприятия. По верной мысли Хайдеггера, орган слуха не 64 является достаточным условием для способности человека слышать. То есть слышимое человеком не ограничивается тем, что воспринимают его органы слуха. Аналогичного мнения придерживался Ж. Деррида: «Человек – это собственное бытия, которое из самой близи говорит ему на ухо…» [95, с. 164]. Слышание тишины окружающей природы, восприятие ее как музыкального текста есть не что иное, как способность испытывать экзистенциональное ландшафтное переживание, характерная для творчески одаренных людей, умеющих внимать голосу духа. П.И. Чайковский эту способность охарактеризовал следующим образом: «…в отсутствии звуков среди ночной тишины слышать все-таки какой-то звук, точно будто земля, несясь по небесному пространству, тянет какую-то низкую, басовую ноту» [351, с. 167]. На существование «духовного слуха» как органа восприятия, который позволяет проникнуть в метафизические сферы, сферы духа, обращает внимание Д.Л. Андреев в «Розе мира» [8, с. 56]. О том, что представляет собой сфера духа, пишет архимандрит Рафаил (Карелин): это не пустота и не статика, а движение вечных энергий, невыражаемых в каких-либо физических параметрах, как, например, звуковые волны. «Внимать голосу духа – значит уметь слушать безмолвие, где нет ни звуков, ни ритмов, ни мелодий, а всенаполняющая тишина» [291, с. 56]. С точки зрения современной музыкальной культурологии, тишина предстает как противоположность звуку, а музыка – это способ организации тишины и шума. Проблема соединения в звуке оппозиционной пары «звучания»/«незвучания» в смысле «звука» и «тишины» представлена, в частности, концепцией американского композитора и теоретика Джона Кейджа. По его словам, все, что воспринимается ухом, может быть музыкальным, даже тишина (напряженное ожидание рисует воображение, вызывая ритмическую вибрацию души) [150, с. 340]. Без тишины невозможно выделить звук как явление, так как она представляет собой антитезу звуку. Музыка связана с 65 тишиной – источником звука, частью музыкальной речи. Пауза в музыкальном произведении представляет собой не просто перерыв в звучании, а значимый художественно-эмоциональный момент. В.А. Гаврилин считал, что тишина – это лучшая музыка [68, с. 222]. На коммуникативную роль молчания, которое может быть гораздо красноречивее, чем слово, указывали многие мыслители. Если смотреть на музыку с метафизической точки зрения, то можно обнаружить, что она позволяет человеку ощутить сильнейшие эмоциональночувственные состояния, погрузиться в глубины своего духа, почувствовать ту особую, независимую от тела нематериальную субстанцию, которую принято называть душой. Платон полагал, что «звук через уши поражает мозг и кровь и доходит до самой души» [267, с. 458]. При звуках проникновенной мелодии человеческая душа, образно говоря, то замирает, сжимаясь, то, наоборот, расширяясь, воспаряет ввысь, она плачет и смеется. Из всех видов искусств музыка является самым чувственным искусством. По сравнению с другими видами искусства она в наибольшей степени воздействует на подсознание человека, который как никто другой из представителей живой природы способен ощущать «благогласие» звуков. На эту особенность человека обращал внимание русский писатель, философ А.Н. Радищев: «Птица поет, извлекает звуки из гортани своей, но ощущает ли она, как человек, все страсти, которые он един токмо на земле удобен ощущать при размерном сложении звуков?» [286, с. 444]. О близости музыки к иной реальности свидетельствует ее вневременной характер, на который указывал А.Ф. Лосев: любое музыкальное произведение, пока оно звучит, – это сплошное настоящее [195, с. 239]. Н. Гартман также считал, что музыка приводит к единому целому то, что растянуто во времени [72, с. 154]. Музыка может быть представлена как некая социальная реальность, созданная человеком в условиях определенных пространственно-временных отношений. Звукомузыкальные символы культур различных эпох позволяют лучше понять пространственно-временной аспект картины мира в целом, создают 66 образ географического пространства как некий континуум. Этот образ, с одной стороны, связан с конкретными географическими объектами, а с другой стороны обладает определенной автономностью от них. Он воспринимается как некое «облако смыслов», связанное с определенной местностью. С точки зрения К. Леви-Стросса, музыка наряду с мифом строится на взаимодействии внешнего и внутреннего континуумов звуков. Одну часть звуков музыка и миф берут из внешнего континуума (природы или исторических событий), а другую часть – из внутреннего, то есть «психофизиологического времени» слушателей [253, с. 341]. В.А. Подорога, анализируя метафизические «миры-ландшафты» Кьеркегора, Ницше и Хайдеггера, дает следующее определение «ландшафтному переживанию»: «…это такого рода видение, которое определяется как "зримое становление незримого"» [275, с. 27]. Аналогичным образом, с нашей точки зрения, можно определить метафизический аспект звукомузыкального ландшафтного переживания – это слышимое становление неслышимого. Музыка представляет собой не просто организованные композитором звуковые колебания, воздействующие определенным образом на центральную нервную систему слушателя и вызывающие у него какие-то образы, чувства и настроения, а нечто большее. Для изучения всего спектра звукомузыкального ландшафта и расшифровки смыслов, заложенных в его элементах, важно иметь представление о метафизической стороне музыки. Т.В. Чередниченко отмечает, что музыковед (как и рядовой слушатель) слышит в музыке преимущественно то, что он о ней знает, однако это знание становится препятствием к узнаванию конкретного бытия и смысла музыки, музыкального произведения. Надо уметь слушать ее, не загораживая смысл музыки заранее заготовленными словами [223, с. 185]. Феноменологическую уникальность музыки и ее исключительное место в иерархии искусств обосновал А. Шопенгауэр в поле своей философской концепции бытия, в основе которой лежат воззрения И. Канта о «вещи в себе», 67 платоновские идеи и древние Веды. Центральным понятием этой концепции является воля, которая, с точки зрения философа, находит проявление как в слепых природных силах, так и в рациональных действиях человека: «различие между ними касается только степени проявления, но не сущности того, что проявляется» [394, с. 107]. В целом, как следует из учения А. Шопенгауэра, под волей он понимает единое метафизическое начало мира, высший космический принцип, лежащий в основе мироздания, некую силу, творящую все вещи и процессы. А. Шопенгауэр, исследуя философию музыки, выдвигает и доказывает следующий тезис: музыка стоит совершенно особняком от всех других видов искусств. Она, по мнению философа, отображает не адекватную объектность воли, а непосредственно саму волю, показывая метафизическое для всего физического в мире, для всех явлений, – «вещь в себе». Воздействие музыки гораздо мощнее и глубже действия других искусств, поскольку последние говорят только о тени, музыка же – о существе. Музыку А. Шопенгауэр считал самым первым, самым царственным искусством. Сделаться подобным музыке – цель всякого иного вида искусства. Другие виды искусства отображают нам только явления воли, музыка же – саму волю. Музыка не показывает чье-то субъективное чувство, она выражает это чувство, будь то радость или печаль, как таковое, передает его сущность. Отсюда и происходит то, что наша фантазия так легко возбуждается музыкой и пробует оформить, облечь в плоть и кровь этот непосредственно говорящий нам, незримый и притом столь оживленный мир духов, т. е. старается воплотить его в аналогичном примере. Однако точка соприкосновения между музыкой и миром, то отношение, в силу которого она является подражанием миру или его воспроизведением, таится очень глубоко. Подобающая какому-либо действию музыка раскрывает скрытый смысл этого действия и является адекватным комментарием к нему. Музыка 68 повышает значение любой картины и сцены действительной жизни – тем сильнее, чем аналогичнее ее мелодия внутреннему духу данного явления [395, с. 227-228]. Когда композитору удается выразить те волевые движения, которые составляют зерно какого-либо события, тогда мелодия песни или музыка оперы очень выразительны. Но эта найденная композитором аналогия должна проистекать бессознательно для его разума из непосредственного познания сущности мира и не должна быть сознательно-преднамеренным подражанием с помощью понятий. В противном случае музыка не выражает внутреннюю сущность, саму волю, а лишь неудовлетворительно копирует ее явление, как это и бывает во всей собственно подражательной музыке. Изобрести мелодию, раскрыть в ней все глубочайшие тайны человеческого желания и ощущения – это дело гения. Философ предлагает новую позицию в космологической интерпретации музыки. Музыка есть онтологическая идея, подобно тому, как в концепции Платона онтологичным было Благо. Будучи совершенно независимой от мира явлений, музыка, по мнению Шопенгауэра, могла бы до известной степени существовать, даже если бы мира не было вовсе, чего о других искусствах сказать нельзя. Она так сильно влияет на душу человека и так глубоко понимается им в качестве всеобщего языка, что мы должны видеть в ней нечто большее, чем то, что стоит за ее лейбницевским определением: бессознательное арифметическое упражнение души, не ведающей, что она считает. Значение музыки касается внутренней сущности мира и нашего «я». Мир можно назвать как воплощенной музыкой, так и воплощенной волей. Можно сказать, музыка находится над миром или вне его и поэтому она выше других искусств: «они говорят о тени, музыка о сущности» [395, с. 224]. Язык музыки – единственно всеобщий, универсальный. Однако философ принимает как подлинные «чистые» инструментальновокальные формы – симфонию и мессу. Вместе с тем он подвергает сомнению оперу и балет, негативно относится к водевилю, предлагая его запретить. Исходя 69 из этого более глубокого понимания музыки, Шопенгауэр позволяет себе воспроизвести приведенное выше выражение Лейбница несколько иначе: музыка – бессознательное метафизическое упражнение души, не ведающей, что она философствует. А. Шопенгауэр подвергает общему рассмотрению те средства, с помощью которых музыка воздействует на наш дух, раскрывает связь метафизики и физики. Эта связь основывается на том, что противостоящее нашему восприятию иррациональное становится соответствующим символом всего того, что противостоит воле человека. Рациональное же, напротив, без всякого сопротивления уступая восприятию человека, становится образом удовлетворения воли. Благодаря наличию рационального и иррационального, музыка является материалом, с помощью которого можно безошибочно запечатлеть все движения человеческой души. Это воспроизведение эмоций в музыке происходит в силу того, что композитор открывает соответствующую мелодию. По мнению философа, произведения искусства, чтобы не причинять нам боли, должны возбуждать в душе не реальное страдание и наслаждение, а лишь образы этих чувств. Когда действительность вызывает у человека настоящие страдания, тогда он сам превращается в вибрирующую струну [393, с. 378-379]. Музыка выражает движения «воли», которые знакомы каждому из нас, в этом и состоит причина ее антропологической универсальности и надчеловеческой сущности. Так, двум основным настроениям любого человека – веселости или подавленности – соответствуют две музыкальные тональности – мажор и минор. Вместе с тем конкретная тональность может преобладать в характере определенных народов. В качестве примера того, насколько глубоко в сущности вещей и человека заложено основание музыки, философ приводит северные народы. Их жизнь протекает в тяжких условиях, в результате для музыки этих народов характерен минор. В частности, у русских, отмечает А. Шопенгауэр, минор господствует даже в церковной музыке. 70 В своих воззрениях на искусство и музыку к А. Шопенгауэру ближе всего примыкает Ф. Ницше. Вместе с тем Ф. Ницше предлагает иное понимание природы искусства: как выражение бессознательных влечений, заложенных в нас природой, а не как воли в форме идей. В искусстве, с его точки зрения, проявляется метафизическое единство всех существ, оно создает прекрасные образы, которые могут отвлечь человека от страданий и полюбить жизнь. Музыка, согласно учению Ницше, «не есть по своей сущности воля, так как воля есть нечто само по себе не эстетическое, она только является, как воля» [81, с. 50]. Ф. Ницше дополняет мысли А. Шопенгауэра новыми понятиями – «аполлоническое» и «дионисическое», обозначающими первоначальные принципы искусства и культуры. Он считает, что европейское искусство, культивируя аполлонические образы, утратило дионисическое начало, которое возвратил Р. Вагнер. Вагнер признавал учение Шопенгауэра о музыке единственно верным. Книга А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» имела для него, по собственному признанию композитора, «громадное значение». В течение многих лет Р. Вагнер не выпускал этой книги из рук, она оказала значительное влияние на мировоззрение композитора. Все его статьи, написанные по вопросам искусства, всегда носили печать влияния философии А. Шопенгауэра. Первоначально композитор согласился не со всеми его идеями: «Мне стало жутко, когда я выяснил себе, что нравственная философия А. Шопенгауэра сводится к умерщвлению воли жизни». Однако в дальнейшем, после неоднократного прочтения трудов философа, сомнения композитора рассеялись: «Меня совершенно удовлетворяла его эстетика, в которой я особенно поражался его глубокомысленным взглядам на музыку» [52, с. 596-597]. Р. Вагнер посвятил А. Шопенгауэру свой оперный цикл «Кольцо Нибелунга», во многом созвучный идеям философа. На приверженности композитора философии Шопенгауэра основана также концепция оперы «Тристан и Изольда». 71 Иной точки зрения на музыку, с позиции собственной онтологической концепции («новой онтологии»), придерживался Н. Гартман. Музыкальная аудитория, по его мнению, слышит гораздо больше, чем может слышать ухо. Аудитория слышит все произведение. Хотя реально человек может слышать только настоящее: прошлое уже отзвучало, а будущего еще нет. Слушатель связывает в одно целое то, что фактически разделено во времени. В этом построении, пишет философ, господствует иная размерность, чем временная друг за другом; в нем связывается то, что в совместном бытии музыкально противоречило бы. Не мгновенный звук, а только целое в единстве его продолжительности составляет музыкальный образ – образ некоего музыкального построения. И только от всего этого целого включенная деталь получает чувственно слышимое вместе. Гартман различает в музыке два плана – передний (чувственно-реальный, акустический) и задний (ирреальный). При этом задний план может иметь три слоя. Первый слой – непосредственного созвучного отклика (Mitschwingen) слушателя. Его воздействие есть воздействие призыва и влечения, которое может доходить до страстного увлечения. Второй слой – в котором слушатель, глубоко проникая в композицию, захватывается ею до самых сокровенных своих глубин. Он присущ не всякой музыке, а лишь произведениям определенной силы и глубины. Этот слой будоражит душу, приносит откровение, обнажает скрытые тайники в темных глубинах личности слушателя. В его орбите движется почти вся серьезная музыка. Третий слой – последних сущностей, можно сказать, метафизический слой, нечто подобное тому, что А. Шопенгауэр понимал под явлением мировой воли. Он не обязательно должен быть тождествен именно этому явлению, но, пожалуй, всегда имеет какое-то соприкосновение со смутноощущаемыми роковыми силами [72, с. 265-266]. 72 Размышляя о метафизике музыкального звука, мы не можем не обратиться к наследию таких мыслителей ХХ века, как А.Ф. Лосев и немецкий философ, социолог, композитор, теоретик музыки Т. Адорно. Одна из ранних работ А.Ф. Лосева – «Музыка как предмет логики» – посвящена «феноменологии музыкального бытия». Вопрос о сущности музыкального бытия осмысливается философом с точки зрения эйдетического бытия и места музыкального бытия в этой системе. А.Ф. Лосев основывает свои взгляды на учении Платона об «эйдосе», но при этом использует феноменологический подход, что позволяет ему размышлять о сущности музыкального бытия, используя строгие философские методы. С его точки зрения, феноменологическая ценность музыки восходит к ее смысловой структуре: вне-пространственность, хаотичность и бесформенность, нерасчленимость воссоединенно-множественного единства, сплошная процессуальность и динамизм музыкального бытия, его непрерывное изменение, неустойчивость. Т. Адорно полагал, что настоящая музыка является правдой об обществе, выраженной косвенным образом. Она несет социально значимый смысл, кодирование которого происходит с помощью музыкальной технологии. При этом правда – это не то, что художник намерен сказать о бытии, а то, что закодировано в приемах и технике его искусства и будет существовать как «вещь в себе», как некий код. Так, истина или ложь в произведениях А. Шѐнберга или И. Стравинского обнаруживаются не с помощью таких понятий, как атональность, двенадцатитоновая техника, а благодаря «конкретной кристаллизации таких категорий в структуре музыки как таковой» [6, с. 44]. В целом идеи Т. Адорно во многом сходны с идеями А.Ф. Лосева, хотя их философские концепции развивались независимо друг от друга. На этот факт указывает М.С. Уваров, сравнивший творческий почерк двух философов-современников. Т. Адорно и А.Ф. Лосев были близки в понимании философии музыки, они сходились «в точке единения «логоса» и «мелоса», «танатоса» и «эроса», и всех других 73 возможных категориальных обобщений, которые в музыке возникают» [337, с. 203]. Современные культурологи и музыковеды, исследуя проблему метафизического в сфере музыкального, приходят к выводу, что эту сферу можно трактовать в двух смыслах: во-первых, в качестве «универсального принципа отношения культурного делания к асемантически организованной звучащей структуре», а во-вторых, как «свойство звучащей структуры в отношении порождения смысловых комбинаций» [45, с. 168]. Музыка в культурном пространстве представляет собой скорее процесс интеллектуальной, духовной, деятельности, нежели некое ремесленное производство. Можно также сказать, что музыка, с одной стороны, является выражением объективных законов бытия, а с другой – высказыванием, самоизображением человеческой души. «Метафизика музыки – модус философии, как и сама музыка – форма бессознательного философствования» [13, с. 139]. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что музыка выявляет имманентные свойства звукового универсума, художественно репрезентует эмоциональную картину мира человека с помощью интермедиальной творческой стратегии композитора. Она также представляет собой интуитивно воспринимаемую неслышимую часть бытия, инобытийный немотствующий модус, отражающий «дух» или «образ» места сего. Неслышимые компоненты звукомузыкального ландшафта способны уникальным образом воздействовать на человека помимо его сознания, затрагивая глубинные пласты личности, связанные с культурными архетипами, конкретной местностью и эпохой, расширяя коммуникативно-познавательные возможности человечества. Звуки музыки и тишина в совокупности могут являть собой звукомузыкальный ландшафт – пространственно-временной комплекс музыкальных звуков и интонаций, художественно отражающих культурные особенности определенной территории в конкретный исторический период времени. Звукомузыкальный 74 ландшафт, представляя собой часть архетипической структуры души населения, его этничности, является фактором, в определенной степени формирующим и структурирующим окружающую среду. 75 Глава II. Звукомузыкальный ландшафт Русского Севера 2.1. Полифония северного геопространства Русский Север представляет собой заповедную территорию, на которой с древнейших времен существовали славянская, финно-угорская и скандинавская культуры. Архаика Севера обнаруживается, в частности, в среде старообрядцев Поморья, которые сохранили систему произнесения и пропевания текста (хомонию), характерную для древнерусского певческого искусства. Знаменная нотация, используемая старообрядцами, имеет тысячелетнюю историю. Значительную роль в сбережении архаического мелоса и логоса Русского Севера играли скоморохи, своеобразные хранители северной шаманской традиции. Русский национальный былинный эпос, распространяемый скоморохами, вошел в народную крестьянскую среду и сохранился преимущественно на Севере [66, с. 18]. Особая востребованность былинного эпоса на Севере, возможно, объясняется тем, что величавый склад эпического стиха и элементы героического эпоса как бы совпадали с суровыми реалиями жизни северян, поддерживали и вдохновляли их [236, с. 15]. Уникальное звучание северному пению, с его древними формами подголосочной полифонии (гетерофонии), придает северное наречие русского языка. Сохранилась также традиция женского хорового исполнительства, не свойственная общерусскому народному исполнительству, где мужские и женские голоса абсолютно равноправны. Русский Север является хранилищем чистого русского языка. Здесь его звучание, составляющее немаловажную часть звукового ландшафта, избежало влияния западных и южных окраин. Е.И. Замятин отмечал, что подлинный и чистый русский язык сохранился только в среднерусской провинции и на севере 76 России – в Архангельском крае, в частности. Только здесь, считал писатель, можно учиться русскому языку [102, с. 195]. Ф.А. Абрамов называл Север заповедником русского слова. Он восхищался удивительной красотой русской северной речи, напевной, неторопливой, меткой и образной, радовался, что слово северное «не замутнено жаргоном газет, телевидения, радио» [171, с. 339]. В звуковом ландшафте Русского Севера находят отражение этнокультурные архетипы, представляющие собой константы не только севернорусской субкультуры, но и в целом русской национальной духовности. По словам Д.С. Лихачева, самое главное, чем Север не может не тронуть сердце, – это тем, что он «самый русский». И одно из основных достоинств Севера, по мнению Д.С. Лихачева, состоит в том, что он сыграл выдающуюся роль в русской культуре. В частности, Север спас для нас от забвения русские былины, русскую музыкальную культуру, русскую великую лирическую стихию – песенную, словесную [186, с. 410]. Глубинные, сокровенные «голоса» Севера были хорошо слышны людям, наделенным даром слышания и видения неслышимых и невидимых сфер мироздания. «Север (Арктика) – строгий, светлый огромнейший кафедрал. Простор напоен стройным песнопением. Свет полный, без теней. Мир только что создан. Для меня Арктика – утро Земли. Жизнь на Земле только что начинается. Там теряется мысль о благах обычных, так загораживающих наше мышление. Если в Арктике быть одному и далеко от жилья – хорошо слушать святую тишину» [266, с. 210], – писал патриарх северной литературы Степан Писахов. Бескрайнее акустическое пространство Севера скрывает звук и возвращает нас к состоянию, предшествовавшему творению, – некой лишенной формы и порядка первоматерии. «На Севере только возможна такая безжизненность, потому что мертва тамошняя природа» [61, с. 78]. В экзистенциональном смысле тишина противопоставляется звуку как хаос космосу и смерть жизни. Она содержит опасность перехода в иной мир и в модели мира соответствует оппозиции жизнь/смерть [376, с. 149-150]. Смерть, 77 интерпретируемая в христианстве как начало воскресения и вечной жизни, являлась постоянным спутником жизни поморов. И прежде всего в силу того, что главный их промысел – добыча рыбы и морского зверя – был неразрывно связан со стихией северных морей, а значит, с неминуемым риском для жизни. Часто подвергаясь опасностям на море, весьма естественно, что помор ждет и надеется спасения только от Бога, ибо он один всемогущ. Справедливо говорит пословица: «Кто на море не бывал, тот Богу не маливался». В мифологии восточных славян «образ моря (даже этимологически) непосредственно соотнесен с областью смерти… Если море – мертвое царство, то любое передвижение в этом локусе религиозно-мифологического пространства равносильно реальному переживанию смерти, точнее, испытанию морем-смертью» [318, с. 8]. Вслед за Н.М. Бахтиным, утверждавшим, что зрение – это мудрая слепота, которой я ограждаю себя от хаоса [26, с. 58], можно сказать, что поморы с помощью живого звука ограждали себя, свой мир от хаоса (смерти, тишины) арктической безмерности. Звукомузыкальный ландшафт Поморья, будучи живой формой бытия, по сути, являл собою тонкую границу двух антагонистических начал, а в случаях взаимодействия с потусторонними силами имел, безусловно, сакральный характер. Мелос и логос «северного мiра» как микрокосма воспроизводили в земном плане бытия звучащую музыкально-поэтическую гармонию семи небесных сфер и главным образом были направлены на обуздание морской стихии на «утишение» океана-моря. Поэтому в составе поморской артели всегда был особый человек – сказитель-баюн, наделенный даром словесного творчества. Одним из таких поэтов на корабле был шергинский герой Пафнутий Осипович Анкудинов: «Смолоду сказками да песнями душу питаю. Поморы слушают – как мед пьют… Артели в море пойдут – мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора – знай пой да говори…» [390, с. 41]. 78 Наиболее полно мифологический образ Поэта на корабле разработан в трудах Н.М. Теребихина, который, исследуя морские былины «Садко» и «Соловей Будимирович», отмечал, что главный герой былины – Садко (гусляр и певец), подобно своему греческому собрату Орфею, ритмом своего музыкальнопоэтического искусства организует морскую стихию, упорядочивает ее, управляет ею. Поэт как носитель обожествленной памяти, как монопольный знаток пространственно-временной организации вселенной является главным хранителем морского знания и водителем поморов по смертным просторам моряокеана. Поэт на корабле выполняет роль кормщика – лоцмана-вожа. Сама былина может рассматриваться как своеобразная мифо-поэтическая лоция, в которой описывается не реальный ландшафт моря, а мифо-географическое пространство Лукоморья [316, с. 8-17]. Наряду со словом средством гармонизации хаоса служили и музыкальные инструменты, которые наделялись сверхъестественными способностями реинкарнации, подобно шаманскому бубну, который мог превращаться в транспортные средства, переносившие шамана по всем сферам мироздания. «…А ты ладь гусли-ти. Если не на корабле, дак на песне твоей поедем» [390, с. 79], – говорит поморский староста баюну в период вынужденной зимовки на острове Новая Земля. Одним из важнейших звуков для жителей побережья Студеного Дышащего моря-океана был звук ветра, от силы и направления которого во многом зависела их жизнь и судьба. «Ветер и гудит, и воет – все выдержишь, а как засвистит – пооберегайся вдвое: то полуношник, шалой, свистун» [74, с. 142]. Дуновение ветра связывалось с открытием уст богов. Соответственно звучание духовых инструментов (рожка, дудки, сопелки-свирели) наделялось сакральным статусом, так как звуки из них извлекались с помощью струи воздуха. В скандинавской ритуально-мифологической традиции скандинавских народов – ближайших соседей русских поморов – музыкальные инструменты и музыка также имели сакральный характер. Например, в сказочной исландской 79 «Саге о Боси» XIV века герой саги, музыкант Сигурд, играл так, что в пляс пускались не только люди, но и окружающие их вещи. В «Саге о Вѐлсунгах» конунг Гуннар попал в Царство змей. Змей было много, а руки Гуннара были связаны. Сестра Гуннара послала ему арфу. Гуннар заиграл на арфе, околдовал своей игрой змей, и они заснули [87, с. 9-10]. Из всех фольклорных жанров особым уважением у поморов пользовались старины, которые выполняли функции своеобразной морской лоции, указующей спасительный путь людям, оказавшимся в снежном плену или в «относе морском», влекли они за собой и промысловую удачу. Былины, старины, эпические песни по своему сакральному положению практически ставились в один ряд с христианскими молитвами. В христианский пост наряду со многими аскетическими ограничениями регламентировалось, в частности, пение, и из всех музыкально-фольклорных жанров только старины и духовные стихи можно было исполнять, так как они не являлись выразителями живой, жизненной энергии, а воспринимались как своего рода «язык общения» с «чужим» миром и средство творения нового [148, с. 282]. Длительное пребывание в изолированных замкнутых пространствах неминуемо вело к истощению психофизиологических резервов организма. Спасение от смертной тоски и уныния поморы-зимовщики обретали в мелосе праздника, сопровождающегося воскресительными звуками музыкальных инструментов. Например, популярный в Древнем Новгороде гудок, упоминаемый в былине «Вавило и скоморохи», гусли, сопелки-свирели, сделанные из коровьих рогов. Под эти инструменты учинялся «топот-хлопот, скаканье-плясанье» [390, с. 80-81]. Величественной можно назвать картину хорового пения поморов, представляющую собой гармоничное единение человека и природы – как будто душа у них общая. «Выйдет к океану человек сорок этаких бородачей, повалятся на утес, заложат руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую» [390, с. 61]. 80 В.И. Вернадский отмечал, что организмы живы только до тех пор, пока не прекращается материальный и энергетический обмен между ними и окружающей их биосферой. В условиях Арктического Севера поморам позволяли выживать музыка и песни, служившие своего рода источником жизненной, духовной энергии. В картине мира поморов на их мифогеографических картах-лоциях Дышащего Моря-Океана острова наделялись двойственной сакральной семантикой. С одной стороны, они воплощали в себе образы пространства смерти, с другой – преображенные земли «острова спасения». Опасным в поморской среде считался остров Грумант (Шпицберген), который представлялся страной мрака и холода, скал, льдов и снега, где не может жить человек. Европейцам этот остров казался ужасным, преступники-смертники даже за помилование не соглашались перезимовать там одну зиму. В мифологической географии поморской ойкумены Грумант находился под властью «старухи-цинги» и «одиннадцати ее сестер», которые показываются иногда людям во время «погод», когда ветер свистит в каменных утесах Шпицбергена. Хозяйки поют под завывание ветра: «Здесь нет петья церковного, ни звона колокольного: здесь все наше…» [243, с. 5-8]. Хтоническая инобытийность Груманта акцентируется отсутствием там спасительного православного мелоса (церковного пения и колокольного звона). Духовной осью «северного мiра», находящегося в эсхатологических пределах «последнего моря», являлось православие. Глашатаями и вестниками христианской веры были странствующие иноки, подвизавшиеся в иноверческих и инородческих пустынях Края Земли. Подвижники-монахи, ищущие уединения в северной глуши, освящали молитвенными песнопениями еще недавно языческую территорию. Православный колокол возвещал о бессмертии души, звал к праведной жизни. Верилось и в то, что православное слово – правое слово – могло творить чудеса, как, например, в 1854 году – в дни обстрела Соловецкого 81 монастыря с британских кораблей «Бриск» и «Миранда». Чем громче были выстрелы орудий, тем сильнее молились монахи, считавшие, что Бог не может не услышать эти молитвы. Так оно и случилось. Вражеские корабли снялись с якоря и скрылись. Ни одно плавание в море не обходилось без православных молитв, которые произносились в определенных случаях. Так, перед приемом пищи обязательно произносилось громко и нараспев: «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас! Хозяин с работниками хлеба-соли ест!» В.П. Верещагин отмечает, что это правило соблюдается на всех поморских ладьях перед обедом, полдником и ужином, даже если экипаж судна состоит всего из двух человек [61, с. 140-141]. Важное место в музыкальной партитуре Севера занимает старообрядческий мелос. На Русском Севере «старая вера» распространилась особенно широко, так как на этой территории до XVIII века каждый приход представлял собой независимую и сильную церковную и административную единицу и выполнял почти все функции местного самоуправления [111, с. 22]. За «старую веру» старообрядцы были готовы идти на смерть, вплоть до самосожжения. Один из вождей старообрядчества неистовый Аввакум пятнадцать лет провел в Пустозерске в земляной тюрьме и был сожжен там в деревянном срубе вместе со своими подвижниками. В тюрьме они поддерживали свой дух молитвенным пением: «Мы же, здесь и везде сидящии в темницах, поем перед владыкою Христом, сыном Божиим, Песни Песням…» [1, с. 62]. Староверы сохраняли культурные традиции, которыми обладала Русь середины XVII в. Они пели по крюкам, не используя более прогрессивную пятилинейную нотацию, сохраняя древние традиции монодического пения и русских распевов – знаменного, демественного, путевого, пения на подобны и самогласны, старинного церковнославянского чтения нараспев священных текстов. Сохраняемое старообрядцами древнерусское пение с его монументаль- 82 ностью и величием имело особое свойство, которое П.А. Флоренский назвал «касанием Вечности» [330, с. 102]. Особый интерес для исследования звукового и музыкального ландшафта Поморья представляют старообрядцы-беспоповцы, проживавшие в Архангельской губернии практически в каждом уезде и имевшие свои культовые центры. Если у старообрядцев-поповцев певческая традиция – истинноречная, то у беспоповцев – раздельноречная (хомония). Ее особенность – строгое исполнение старого обряда, сохранение старых певческих текстов ХV – XVI веков, в которых оглашаются твердые и мягкие знаки как в середине, так и в конце слов. У беспоповцев, как и во многих старообрядческих общинах, сохраняется особое архаическое древнерусское произношение при чтении церковных текстов, так же как при пении – архаическое интонирование. У старообрядцев бытует множество духовных стихов (как у поповцев, так и у беспоповцев). Их литературное и музыкальное содержание разнообразно. Старообрядцы любят проводить свой досуг за пением этих душеспасительных песен. Певцы старообрядческого хора поют без дирижера. Темп, высоту и характер звучания исполнению задает головщик. Головщик – это певец (чаще всего бас), имеющий достаточный певческий опыт, – его вступление подхватывается хором. «Ревнители древлего благочестия» стремились оставаться в лоне старорусской церковной традиции, и при этом они, как пишет С.И. Дмитриева в «Очерках этнокультурной истории Архангельского Поморья», стали хранителями и носителями дохристианского предания. Много старообрядцев было среди сказителей былин, исполнителей свадебных и похоронных причитаний, являющихся наиболее сложными и древними видами народной поэзии [97, с. 37]. Древлее благочестие получило на Севере статус истинной святой веры, в которую креститься можно было лишь на смертном одре. В старообрядческом религиозном социуме существовала ритуальная практика «перекрещивания» или 83 перехода из новой «антихристовой» никонианской веры в старое святое и истинное исповедание. Многие венчались и крестили детей только для того, чтобы не считаться в незаконном сожительстве и иметь законных детей, но в более зрелом возрасте многие принимали старообрядческую веру – «для замаливания грехов православия» [60, с. 29]. Старообрядческое крюковое пение сохранилось в Поморье и в ХХ веке. Так, в одной из своих фольклорных экспедиций на реку Пинегу искусствовед Т.Ф. Владышевская в селе Нюхча Архангельской области сделала записи от староверки-скрытницы. В 1968 году этой женщине было уже 80 лет, но она не утратила красивый тембр голоса и мастерски владела крюковым пением [64, с. 259]. Особое место в звуковом ландшафте Севера составляло также скоморошество как религиозно-культурный феномен, уходящий своими корнями в шаманистскую архаику славяно-финского мира. Большинство исследователей связывают скоморохов с областью ритуального символического антиповедения, со смеховым миром. Сакральная география скоморошества соотносится с Новгородом, его северными землями и пределами. Как отмечает в своей работе «Скоморохи на Севере» А.А. Морозов, русские скоморохи по своему происхождению являлись как бы видоизменившимися волхвами. Волхвы появлялись и особенно были заметны в северо-восточной части Руси, по соседству с финскими племенами. Кишмя кишели волхвы в Новгороде, как бы утвердившись на берегах родного Волхова [226, с. 213]. Скоморохи, пришедшие на Север, нашли там тех же новгородцев, веками их слушавших, ценивших и воспринимавших их искусство, не менее охочих до него, нежели у себя на родине. Многие из оседлых жителей Севера были сами естественными хранителями скоморошества. За отсутствием подлинных скоморохов – профессионалов, редко забиравшихся в глухие места, всегда находились их добровольные подражатели – скоморошествующие дружки на свадьбах, доморощенные исполнители скоморошьего репертуара, принесенного из Новгорода, как 84 привнесены были оттуда вышивки, резьба по дереву, уборы и узоры, обрядовые песни и игры… Весь этот процесс не был односторонним. Скоморохи сами учились у народа, подхватывали возникавшие присловия и прибаутки, меткие и выразительные речения. Сам народ непрестанно создавал словесные художественные ценности, которые и питали творчество скоморохов, в свою очередь разносивших их по Руси [226, с. 243-244]. По мнению А.А. Морозова, богатый и разнообразный репертуар скоморохов стал достоянием нашего Севера как часть старинной новгородской культуры. Скоморохи не только исполняли серьезные старины, прославлявшие подвиги русских богатырей, но и потешали своих слушателей веселыми и забавными песнями. Известный собиратель фольклора А.Д. Григорьев, обнаруживший на Пинеге следы искусства скоморохов, отмечал, что в Пинежском районе, кроме старин о богатырях, есть большое количество «шутовых» старин. Это результат влияния скоморохов, широко распространившихся по реке Пинеге. Существуют старины, назначение которых состоит в том, чтобы рассмешить слушателей: «Терентий-муж», «Ловля филина», «Кострюк», «Усища грабят крестьянина», «Вдова и три дочери», «Дурень-валень», «Проделки Васьки-Шишка», «Старина о льдине и бое женщин» и др. Особое внимание собиратель обращает на былину «Путешествие Вавилы со скоморохами» и заключает: «Одиннадцать сюжетов принадлежат к числу скоморошьих, что указывает на значительное влияние на здешний эпос скоморохов» [66, с. 132]. Однако главной чертой деятельности скоморохов считается устройство «позоров и глумов» с пением и пляской. Скоморошеский мир – это мир, вывернутый наизнанку, ландшафт которого был наполнен необычайным шумом, производимым скоморохами с помощью различных музыкальных инструментов: бубнов, трещоток, сопелей, гуслей, гудков со смыками, сурн, волынок, труб, домр и др. С точки зрения семиотики, этот шум можно истолковать как некое сообщение с провокационной целью разрушения существующего миропорядка. 85 Исследователи отмечают, что скоморошеское зрелище представляет собой эпицентр разрушения. Возможно, поэтому православные священники видели в скоморохах нарушителей предустановленной Богом гармонии, порядка и благопристойности и относили их к «бесовскому» миру» [408, с. 47]. Не случайно в связи с этим было появление указа «Памяти» 1657 года ростовского и ярославского митрополита Ионы приставу Матвею Лобанову о запрете скоморохам и медвежьим поводчикам промышлять играми. В случае ослушания рекомендовалось беспощадное наказание и отлучение от церкви, причем не только виновных, но и тех жителей, которые оказали нарушителям гостеприимство или хранили их музыкальные инструменты [66, с. 16]. Очевидно, что Север, воспринимаемый как метафизическая граница жизни и смерти, космоса и хаоса, является рубежной вехой и для мира звуков. Здесь одновременно звучат и взаимодействуют «серьезная» и «смеховая» области сакрального фундамента традиционной культуры Русского Севера, мелос и логос которой превратили звучащий ландшафт в священный хорал и «памятник отечественной и мировой культуры» (Д.С. Лихачев и В.Л. Янин). С семиотической точки зрения, звуковой ландшафт Русского Севера предстает перед нами как определенный культурный код, выражающийся в звуках-символах, непосредственно связанных с данной территорией, которые могут быть интерпретированы как текст в культурологическом значении. Например, слышимые в лесу звуки воспринимаются как знаки присутствия «духов» природы, которые стремятся к коммуникативному взаимодействию. Духи хотят с помощью звуков передать человеку какую-то информацию или вступить с ним в контакт. По свидетельству жителей северных деревень, леший «в лесу кричит, хлопает в ладоши, хохочет» [222, с. 34]. Домового никто никогда не видел, но «звуки от него слыхали, вой» [222, с. 82]. Невидимые демонические силы воспринимаются человеком не только как объекты веры, но и как реалии жизни. С этими силами можно общаться тоже с помощью звуков. Обычные слова 86 в этом случае получают новое значение, приобретают магическую силу – это звуки, которые способны воспринять духи. Стоило внучке сказать: «Понеси, лешак, нашу бабушку с голиком», как бабушку тут же унес леший [222, с. 53]. Чтобы попасть к водяному в гости, в невидимый мир, мало надеть рубаху наизнанку и сесть на мельничное колесо – обязательно надо еще три раза свистнуть. Переход из невидимого мира в видимый также сопровождается звуком, у которого существует свой канал проникновения из одной реальности в другую. Жители одной из деревень рассказывают, как однажды умерла пожилая женщина, ее увезли на кладбище. Ночью, когда все легли спать, послышалась тихая музыка, шаги по мостовой – это та бабушка шла и пела. Она вошла в свой дом, села на кровать к дочери и даже как будто заговорила с ней. Немного посидела, а потом поднялась и так же с музыкой ушла [222, с. 174]. Самоеды, проживавшие на севере Архангельской губернии, до принятия христианства были последователями шаманства. Их особый жрец, тадебей, носил при себе бубен из оленьей кожи с побрякушками. Резкие звуки, издаваемые этим инструментом, постепенно привлекали к нему внимание тадебциев (злых духов), постоянно погруженных в сон. Желая начать разговор с ними, тадебей начинал тихо ударять деревянною палочкою в свой бубен и затем, подогрев кожу на огне, отчего она сильнее натягивалась и звучала более резко, постепенно усиливал удары, производя сильные, резкие звуки и сопровождая их тихою протяжною песнею. Когда, по его расчету, тадебции должны были уже явиться, он умолкал и начинал мнимый разговор с ними, а затем сообщал слушателям решение духов [404, с. 232]. Под звуковое сопровождение исполнялись и магические обряды по исцелению больных: звуки способствовали активизации физических и психических сил заболевшего человека. Вера в нечто сверхъестественное, в охранительную силу звука и тишины проявлялась в повседневной жизни человека, накладывая свой отпечаток на 87 звуковой ландшафт местности. Особенно это касалось ограниченных пространств, в которых считался возможным контакт с потусторонними силами: море, озеро, река, лесная или рыбацкая избушка, мельница и др. Во избежание разного рода несчастий к домовому нужно обращаться вежливо. Если приходишь в лесную избушку, в дверь надо постучаться: «Хозяин, пусти переночевать, извини, что без спроса». Деревенские жители также рассказывают, что если в избушку войти и не поздороваться, то леший выгонит: «Углы начнут трещать». С рекой тоже надо общаться доброжелательно: «Здравствуй, речка». Из устья реки выедешь: «Спасибо, речка» [222, с. 86]. В рыбацкой избушке уставшие за день артельщики вечером пели старины, которым придавалась охранительная и магическая функции. С помощью ритмично звучащего слова, имеющего древнюю силу, энергию предков, они как бы защищали «свое» пространство. Между сказителем и существами из «чужого» мира обозначалась невидимая граница. В окружающий мир направлялся энергетический импульс, упорядочивающий пространство, устанавливающий вокруг то же спокойствие, которое несет за собой особая эпическая интонация. В хаос тьмы и неизвестности шло сообщение о силе посюстороннего мира, его непобедимых богатырях, по силе и мощи равным богам. Женщины Поморья, ожидающие отцов, мужей и сыновей с морского промысла, никогда не порицали моря: «Отзовешься неладно, рассвирепеет». Они выходили на берег, вглядывались в морскую даль и делились друг с другом своими переживаниями. Так складывался еще один вид устного народного творчества Русского Севера – «ожиданьица». В этих сказываниях был страх за судьбу близких и заклинание враждебного бурного моря, супротивного ветра, коварных подводных камней и наносных песчаных кошек: «Уймись ты, море Белое, студеное, / Почитаем тебя за кормильца нашего. / Жизни нашей нету без тебя. / Отвори ты, море Белое, дорогу мужикам да сынам нашим. / Утешение дай 88 нам, ожидающим» [74, с. 132]. Исполнялись они речитативом, с певучим растягиванием тех слов предложения, на которых следовало сделать смысловой акцент. Дети рыбаков-поморов своим криком пытались помочь отцам, прибывшим из «Норвеги» в Архангельск и распродавшим свой товар на осенней ярмарке, достичь родных деревень целыми и невредимыми. На конечном отрезке морского пути ожидалось еще немало опасностей: предзимние жестокие штормы, снеговые тучи. До самого последнего момента нельзя было расслабляться не только тем, кто плыл на судне, но и тем, кто с нетерпением ожидал их на берегу. Как только задует ветер с моря («морянка»), матери посылали ребятишек на колокольню, чтобы отследить появление ладьи. Увидев ее, дети громко кричали: «Матушка, лодейка чап-чап-чап чебанит!». Эти возгласы не умолкали до тех пор, пока судно не пристанет к берегу. Повторяя одну и ту же фразу как заклинание-оберег, они словно пытались довести ладью до безопасного берега. На этом шумная часть встречи заканчивалась, сменяясь тишиной. Граница с потусторонним миром проницаема в обе стороны. Помору нельзя было шумом или громкой речью выдавать свое местонахождение демонам, оборотням и другим сверхъестественным существам, иначе они могли бы помешать ему добраться до дома. Рыбак, помолившись, сходит на берег и спешит домой, однако идет не прямо по улице, а по суеверному обычаю, чтобы не быть замеченным, крадется задними дворами [61, с. 221-222]. Тишина требовалась также в момент починки и изготовления рыбацких сетей. Этот процесс часто совершался у икон, в красном углу, и любые действия при этом приобретали магическое значение: нельзя было разговаривать, шуметь и ругаться (чтобы не спугнуть будущий хороший улов). Между тем пение старин в это время было разрешено и приветствовалось [170, с. 34-35]. Образно говоря, во время пения в сеть вплеталась хоть и невидимая, но самая крепкая «волшебная» нить – сотканная из слов духовных песен, героического эпоса о чудесах и богатырской силе. Магические свойства сетей усиливались не просто 89 музыкально-фольклорной составляющей, но и живой энергетикой родной избы, образком в красном углу, молитвами, картинами окрестных ландшафтов, мыслями и чаяниями рыбацких жен и мам, бабушек и дочек… В свою очередь однообразное плетение чисто ритмически помогало сказительницам и певицам плести словесные произведения, вспоминая и сохраняя то, что веками пели при исполнении этого ремесла их бабушки, прибавляя к тексту что-то свое, сокровенное [148, с. 283]. Мифологическому сознанию свойственна вера в волшебную силу, заключенную в определенных орудиях труда, инструментах или оружии. Эта вера распространена по всему миру, отмечает Э. Кассирер. Деятельность, осуществляемая с помощью подобных орудий и инструментов, нуждается в определенной магической поддержке, и без нее она не может быть полностью успешной. Когда женщины индейцев зуни опускаются перед своей каменной зернотеркой, чтобы приготовить муку, они затягивают песню, в которой подражают звукам, издаваемым камнем, растирающим зерно, полагая, что так это орудие будет лучше служить им [138, с. 218]. Сочетание природных и антропогенных звуков ландшафта конкретной местности может находиться как в дисгармонии (ярмарочный шум), так и в гармонии («Петухи недавно в третий раз пропели, с колокольни плавно звуки пролетели») [343, с. 174]. Для человека очень важно существовать в гармонии с миром, в привычной звуковой среде, маркирующей «свое» пространство, отделяющей от «чужого». Окружающие звуки дают человеку возможность выбрать правильное поведение, понять, что ему делать можно, а что нельзя (например, в зависимости оттого, где ты находишься – у себя дома, под защитой родных стен, или нет). С помощью звука человек осваивает территорию: куда доносится его звук, там и он сам, там его территория. Чрезмерно громкая речь, смех «чужака» могут восприниматься как покушение на эту территорию. «Свои» 90 места там, где есть «свои» звуки, глухие места – немые, то есть те, которые молчат. Одним из проявлений гармонии является соответствие места и звука. Василий Белов обращал внимание на то, что даже оглушительные морозные выстрелы в крещенскую ночь не влияли на душевный мир крестьянина. Они только слегка прерывали его дрему, словно напоминая о том, что все идет своим чередом. А громкое пение петуха не будило, а лишь закрепляло ощущение ночного спокойствия [29, с. 366]. Беспокойство человека может быть вызвано резким изменением привычной звуковой среды. Вот как описывает свои впечатления от ночевки в деревенской избе современный северный писатель В. Личутин: «Кто-то пробежал по полу, резко стуча когтистыми лапами, стукнуло в раму и задребезжало стекло, завозились на чердаке, запищало в сенях, всхлопало в запечье, застонало в трубе. И постепенно ты переполняешься тем завораживающим ужасом уже неспокойной души, которая и сотворила когда-то, вылепила невидимый нами и непознанный мир» [188, с. 10]. Чужие звуки, таящие неизвестный смысл, означают для человека опасность, вызывают чувство страха и тревоги, иногда воспринимаются как агрессия. Особенно отчетливо это ощущается на Севере, где на бескрайних безлюдных пространствах, чаще всего почти непригодных для жизни, царствует практически абсолютная тишина. Не желая ее нарушить, люди иногда вполголоса говорят друг с другом. Громкий голос эхом отдается вдали, рождая суеверный страх перед потусторонними силами. «Если эта тишина нарушена чем-либо громким, а тем паче резким, – это уже кощунство» [301, с. 269]. В.П. Верещагин в «Очерках Архангельской губернии», изданной в Санкт-Петербурге в 1849 г., описывает, как лопарка реагирует на внезапный громкий звук. Испугавшись, она вдруг вскакивает, кричит, бегает, хватается за различные предметы... До завершения этого панического приступа женщина минут пять кашляет [61, с. 94-95]. 91 Следует заметить, что звукомузыкальная сторона отношения к миру у лопарей, коренных жителей, населявших Кольский уезд Архангельской губернии, имеет очень важный для традиционной этнической культуры характер. Например, у них, как и у других коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, существовала так называемая личная песня, служившая своеобразным паспортом человека – одним из сакральных элементов его идентификации. Личные песни можно обнаружить также в других традиционных культурах – в частности, у латиноамериканских индейцев. В некоторых случаях звуки могут приобретать значение пространственновременных координат. Практически у каждого населенного пункта можно обнаружить индивидуальный хронотоп, определяемый звуками. Так, М. Шейфер, исследуя звуковое пространство горной деревушки Чембра (Северная Италия), пришел к выводу, что в ее жизни можно обнаружить акустические «вехи» – годовые и сезонные циклы празднеств и других важных явлений и событий. В эти дни – в каждый по-разному – звучит колокольный звон, на площади производятся выстрелы из маленьких пушек (мортаретти); звук пастушеского рожка означает, что стада овец отправляются на выпас и т.д. [387, с. 6]. Норвежский фольклор сохранил так называемые зазывные песни. С помощью этих песен-зовов норвежские пастухи в определенное время дня призывали скот с высокогорных пастбищ. Зазывная песня начинается с крика «О, стакар!». Это – глубокий закрытый горловой звук, похожий на мычание коровы, который не поддается точной нотации [87, с. 36]. Аналогичный комплекс звуков, определяющий пространственно-временные координаты в определенные исторические отрезки времени, можно обнаружить и на Русском Севере. Жизнь в северной деревне начиналась с густого звука пастушеского рожка, представляющего из себя длинную, двухметровую, обвитую берестяной лентой трубу. В Архангельске весной раздавались пушечные выстрелы, означавшие начало паводка: окраинные улицы города заливало водой 92 из Северной Двины. Еще одна звуковая примета весны в дореволюционном Архангельске – свистки из рябины. Дети начинали их мастерить после первой весенней грозы. На реках Поморья период нереста семги отмечался непривычной тишиной – в это время лов семги запрещался. Даже уключины вѐсел обматывали тряпкой, чтобы не тревожить рыб. По этой же причине отменяли звон колоколов [156, с. 51]. Природная звуковая среда различных территорий, расположенных на той же географической широте, с той же фауной и флорой, может в большой степени совпадать. Их жизнь подчиняется той же смене времен года. Зимой мы услышим завывание вьюги, а летом – шум тайги и жужжание насекомых. Антропогенная бытовая звуковая среда также может быть очень похожей (пароходный гудок, ружейный выстрел), и элементы звуковой среды означают для населения примерно одно и то же: наступление зимы или лета, навигации, охотничьего сезона и т.д. Однако на уровне духовной звуковой среды между этими регионами может возникнуть значительное различие. Несмотря на географическое соседство и сходство природных условий, им свойственна ярко выраженная этнокультурная специфика. Культурный ландшафт является результатом преемственной связи многих поколений, передающих друг другу накопленные материальные и духовные ценности. В свою очередь созданное культурное пространство оказывает духовное влияние на формирование общества. Для Русского Севера, например, характерны звуки православного колокола, имеющие высокий семиотический статус, а также распевная мелодика русской северной речи и такие специфические жанры, как причеты, плачи, частушки, протяжные лирические и рекрутские песни. Кроме того, у разных народов свои особенности «кормящего ландшафта» (Л. Гумилев), иные методы ведения хозяйства и сохранения жизни, различны условия их существования, свой менталитет, разнообразны и возникающие в связи с этим художественные образы. Мир в их творчестве отражается по- 93 разному. В результате художественный облик конкретной территории формируется как комплекс свойственных именно для нее знаков и символов. Исследователи народной культуры территории Русского Севера отмечают в поморском фольклоре присутствие неземледельческой промыслово-морской специфики этого региона. Т.А. Бернштам пишет, что тема моря отразилась в таких жанрах как былина, историческая песня, сказка, лирическая протяжная песня и других. Многие из этих произведений наполнены деталями промыслов и быта, в них содержатся особенности поморских верований и обычаев [38, с. 217]. Белое море воспринималось как нечто живое: «Оно было собеседником, непроизвольно руководившим ходом наших мыслей и направленностью наших чувств» [236, с. 79]. Картины Белого моря нашли отражение в «Поморских былях и сказаниях» Б.В. Шергина: «Гандвик – Студеное море, / Светлое, печальное раздолье, / Солнышко в море уходит. / Вечерняя заря догорает» [391, с. 129]. В севернорусской былине встречается характерный для этой местности болотистый пейзаж. «Когда сказитель поет, что добрый конь богатырский «Мхи болота перескакивал, / Мелкие озера промеж ног пущал», то он рисует картину, которая составилась на месте» [79, с. 41]. Природные ландшафты, окружающая среда, время накладывали свой отпечаток на форму былин – членение их на части, сжатость, сдержанность. Так, краткость и компактность былин в приморских районах бывшей Архангельской губернии, по сравнению с былинами на Онежском озере, можно объяснить более оживленным темпом жизни – благодаря близости к Белому морю и Северной Двине [236, с. 9]. Поэтические и музыкальные образы, созданные северянами, несут отпечаток природных ландшафтов Русского Севера и дают возможность изучать пространственный аспект народного творчества. Так, в известном мини-сказании Марфы Крюковой о женщине, обернувшейся сорокой, присутствуют вполне конкретные объекты местности: дом, сарай, баня, участок земли… 94 Н. Рубцов в рецензии на творчество поэтессы О. Фокиной отмечает, что «леса, болота, плѐсы, снега – все эти черты и приметы так называемого мокрого угла (Архангельская, Вологодская области и близлежащие местности) органично и красочно вошли в лучшие стихи Ольги Фокиной» [295, с. 4]. Дополним, что все эти элементы ландшафта естественным образом включают природные звуки: «Простые звуки Родины моей: / Реки неугомонной бормотанье / Да гулкое лесное кукованье / Под шорох созревающих полей» [353, с. 49]. Связь песенного творчества с географическим ландшафтом отмечает В.Н. Калуцков. К примеру, народная песня «Сыроелью река протекла» распространена только в культурных ландшафтах Поморья. Песня «У меня батюшка грозный был» характеризует Каргопольский региональный культурный ландшафт, а песня «На Осанове вороны» представляет субрегиональный сурский ландшафт Пинежья [130, с. 395]. Отражение ландшафтов Каргополья (д. Сорокина Каргопольского рна) можно найти также в частушке «А в Сорокину идти / В подгору и гору. / Побываешь там, и дома / Много разговору» [327, с. 206]. В частушечном репертуаре находят отображение села и деревени: «Верхняя Тойма, Верхняя Тойма / Верхняя Тойма на горе. / В Верхней Тойме жить невесело – / Всѐ дроля на уме». (Село расположено на высоком берегу Северной Двины). Нашло отражение в частушке и преобладание песчаной почвы в этом районе: «Как в Калиниху идти – / Все пески да ямки, / Все ребята – грызуны, / Девки – обезьянки» [129, с. 31]. В начале ХХ века на Архангельском Севере практически в каждой деревне популярна была кадриль, но называли и танцевали ее в каждой местности поразному. Так, в селе Лешуконь предпочитали кадриль «Сени». Нюхченская кадриль приобрела свое название от села Нюхча. Матигорочка – кадриль Холмогорского уезда, получила название от деревни Матигоры [356, с. 34-35]. Получается, что по одним только особенностям танца и песен, под которые кадрили исполнялись, можно было определить, на какой именно территории ты находишься. Звуковой подсказкой служили также особенности речи жителей той 95 или иной местности – различия в ее темпо-ритме и интонации. Так, медленную, тягучую, распевную манеру разговора вилегжан не спутаешь с частоговоркой лешуконцев. Сохранению этих различий способствовала значительная по площади территория Архангельской области (больше, чем Франция), а также низкая плотность населения в сельской местности, удаленность друг от друга сел и деревень, плохая «попажа» из одного населенного пункта в другой из-за непроходимых болот и лесов. «Свои» песни, говор и другие звуки-маркеры играли объединяющую роль для местных сообществ, помогали им почувствовать и сохранить локальные культурные ценности от «чужого» влияния. В целом мелодическая линия северных песен, их ритмический рисунок характеризуют ту среду, в которой проживали создатели народного творчества. Распевы пинежской песни так вьются возле основной мелодии, как лесная тропинка, идя по которой пинежанин никогда не заблудится, как никогда не заблудится и пинежская певунья в своем голосоведении [257, с. 4]. Можно сравнить северную песню и с извилистой северной речкой. А. Синявский (А. Терц) в своем эссе о Русском Севере отмечает, что в России реки связаны с песней, а песня тяготеет к воде, к реке. «Само определение река, на русский слух, предполагает речь, которая текуча, певуча» [322, с. 233]. Особое звучание присуще и северной речи. Б.В. Асафьев удивлялся ее музыкальностью и былинной напевностью, мерностью и полнозвучием. Услышанные Асафьевым от одного архангельского морехода сказки поразили его «―интонационною композицею‖, синтезом слова и мелоса, тембром речи, логичностью движения ее линий, динамическим развитием и при всем том эпически спокойным и мерным тоном самого рассказа, несмотря на то, что в нем плещется жизнь и искрится меткая ирония» [18, с. 172]. Важнейшими сферами проявления логоса и мелоса Русского Севера, обуславливающими узнаваемость звукомузыкального облика этого региона, 96 являются северный диалект русского языка, так называемая «поморьска говоря», и пение. Для коренных северян характерны, например, следующие отступления от фонетических норм современного русского литературного языка: звуки «а», «о» после твердых согласных отчетливо различаются во всех безударных слогах (пароход, самолѐт), замена звука «е» на «ѐ» (не горе – а горѐ, не сине – а синѐ, не жена – а жѐна), «цѐканье» (доцька, собираюця) и др. Поморская распевная речь «с частоговорочкой» придавала особую, неповторимую музыкальность не только обыденной речи, но и древним былинам, старинам, песням и сказкам, звучавшим на Русском Севере. Корни поморского говора следует, видимо, искать в истории освоения русскими территории, называемой в настоящее время Русским Севером, которое началось в XII веке (по мнению некоторых историков, возможно, еще и в конце XI века) и шедшего ранее всего с Новгородской территории. С точки зрения процессов образования диалектных групп, в данном случае речь шла о расширении распространения новгородского диалекта [104, с. 230]. В формировании говоров Поморской группы северного наречия сказался также ростовосуздальский диалект, что связано с потоком "низовской" (ростово-суздальской) колонизации Севера [67, с. 109]. В результате междиалектного взаимодействия происходило сложение нового территориального диалекта, в котором отмечаются заимствования из финно-угорских и скандинавских языков. Историю языка этих мест можно изучать по местной топонимике. Звуки, означающие многие топосы Белого моря, сохранились здесь уникальным образом с древнейших времен. Преемственность топонимии в этом краю объясняется, вопервых, некоторой замедленностью исторических процессов на Севере, а вовторых, мирным характером смены миграционных волн. Эти реликты являются уникальными явлениями, свидетелями прошлого, хотя в течение веков и утратили свой изначальный смысл, который вкладывался в них народами, некогда проживавшими здесь: пранасельниками этих мест, чьи языки уже прекратили свое 97 существование, а также финно-угорскими аборигенами – саамами, карелами, финнами, вепсами. Например, река Нюхча в переводе с финно-угорского означает «лебединая», поселок Пертоминск – «избяной», поселок Лапоминка – «плоская» (или от финских «lappi» – саамы и «niemi» – мыс), Кегостров – «болезненный, подверженный разрушению»... [280, с. 49]. Топонимическая стратиграфия Беломорского побережья выглядит следующим образом: 1) древнейшее переселение из Западной Сибири и Урала в Х-IХ тысячелетиях до н.э. с пратопонимическим пластом (топонимы с окончаниями на -га, -ма, -ша, -кса, -та, -да и пр.); 2) движение неолитических племен с юга в середине III тысячелетия до н.э.; этнос не восстанавливается; 3) саамский топонимический пласт; 4) прибалтийско-финский топонимический пласт; время – конец I – начало II тысячелетия до н.э.; 5) русский топонимический пласт, с ХIII века (новгородская и верхневолжская «колонизация») [175, с. 19]. Из обстоятельств, повлиявших на неповторимое звучание речи на Русском Севере, нельзя не учитывать и особенности географического ландшафта и климата этого региона – в течение эволюции и в результате смены многих поколений северян средовые факторы вносили свою лепту в процесс звукообразования. В.И. Хаснулин, в качестве предположения, указывает на антропо-биологический аспект этого процесса: переселение человека в новые регионы сопровождалось «приспособительной перестройкой функциональной активности отдельных центров головного мозга и изменением асимметрии деятельности межполушарных структур, приводило к изменению особенностей распределения напряжения на мышцы лица, шеи, гортани и, соответственно, некоторым изменениям функционирования голосовых связок». Вследствие данного процесса произношение некоторых слов менялось и в результате уподоблялось голографической картине окружающей среды, возникшей в мозгу человека. Этим, по мнению В.И. Хаснулина, можно объяснить наличие в одной нации множества диалектов [365, с. 49-50]. 98 Как считают психологи, родной язык с закреплѐнной в нем информацией формирует определенную картину мира, которая, например, будет отличаться у поморов, ненцев, саамов, осваивающих аналогичные природные ландшафты [156, с. 48]. Различное видение мира находит отражение в самобытном творчестве народов, населяющих Север, которое может быть в чем-то схожим вследствие похожей ландшафтной среды. В.П. Семенов-Тян-Шанский отмечает, что холод и лесная стихия приучили северянина к безмолвию на воздухе. В результате говорит он мало и однообразно, скупо по интонации, поет редко и негромко. В жилище северянин, наоборот, разговорчив, и именно здесь у него раскрываются способности к устному творчеству – к былинам и сказкам, произносимым распевно, но достаточно однообразно. Эти особенности характерны, отмечает ученый, и для скандинавских народов [301, с. 270]. Исследователи фольклора отмечают такую отличительную черту традиционного женского хорового исполнительства на Русском Севере, как мягкий, некрикливый звук. По мнению некоторых из них, своеобразие этого звука объясняется тем, что суровые климатические условия вынуждают женщин петь только в помещении. В связи с этим северное пение так и называется – избяное. Певицы соизмеряли силу своего голоса с учетом ограниченного акустического пространства. С точки зрения физики, традиционный северный дом, со всеми его архитектурными особенностями и деталями интерьера, играл роль своеобразного резонатора для голосов участниц хора, как корпус для струнного инструмента. Распространение звуковых волн в помещениях дома, отражение и поглощение их поверхностями стен, скорость затухания звука, влияние отражѐнных волн на слышимость пения – все это во многом определяло неповторимое звучание песен, исполняемых в крестьянском доме. На избяное пение можно посмотреть и с философской точки зрения. Дом, будучи символом упорядоченности пространства, в момент пения являл собою гармонию космоса со звучащим 99 микрокосмом человека и уже не был противопоставлен окружающему миру как нечто закрытое, внутреннее. Можно также считать, что мягкое звукоизвлечение является следствием так называемого кодекса требований внешней благопристойности. «Прежде головойто не вертели», – рассказывают женщины. Матери напутствовали своих дочерей: «Ходи да помни, чтобы худа-то слава наперед тебя не пришла». Требование внешней благопристойности влияло даже на певческую манеру: рот при пении старались открывать как можно меньше. Об этой манере так сильно сказано в одной из величальных припевок, записанных в Шатогорке: «…Александрушкаголубушка, да / Говорит она полуротком, да / Как глядит она полуглазком…» [257, с. 4]. К.П. Гемп пишет: «…поведение девушки и в хороводе, и на кружанье связывалось с песней, определялось ее характером» [74, с. 67]. Северные певуньи стараются внешне не выдавать своих эмоций, проявляя сдержанность и умеренность в чувствах. То же самое мы видим и в танцевальных движениях – например, они не поднимают руки выше пояса. Хороводы отличаются плавностью, неторопливостью. Девушка в хороводе должна ходить, как «стопочка», как «пава». Следует заметить, что подобная манера пения и танца соответствует психологии коренных жителей Севера, для которых характерна эмоциональная устойчивость и уравновешенность. Для северного пения характерен гетерофонный склад – это простейшая форма многоголосья, когда песни исполняются унисонно в октаву, образуя таким образом два контрастных по тембру регистра – нижний (альтовый) и высокий (сопрановый) женских голосов. Гетерофонный склад также сохранился в традиционной культуре Индии, Индонезии, Шри-Ланки, Африки, Океании... Возможно, гетерофония принадлежит еще более архаическим типам голосоведения, которые связаны с естественной интонацией речи и естественными особенностями голоса человека. 100 С точки зрения П.А. Флоренского, гетерофония – это полная свобода всех голосов, «сочинение» их друг с другом, в противоположность подчинению. Тут нет раз и навсегда закрепленных, неизмененных хоровых «партий». При каждом из повторений напева, на новые слова, появляются новые варианты, как у запевалы, так и у певцов хора. Мало того, нередко хор при повторениях вступает не на том месте, как ранее, и вступает не сразу, как там, – вразбивку; а то и вовсе не умолкает во время одного или нескольких запевов. Единство достигается внутренним взаимопониманием исполнителей, а не внешними рамками. Каждый более-менее импровизирует, но тем не разлагает целого, напротив, связывает прочней, ибо общее дело вяжется каждым исполнителем, – многократно и многообразно. За хором сохраняется полная свобода переходить от унисона, частичного или общего, к осуществленному многоголосию. Так, народная музыка охватывает неиссякаемый океан возникающих чувств в противоположность застывшей в выкристаллизовавшейся готике стиля контрапунктического. Иначе русская песня и есть осуществление того «хорового начала», на которое думали опереть русскую общественность славянофилы [351, с. 30-31]. Наиболее сложные и развитые полифонические формы получаются в женском двухъярусном хоре при разветвлении основного напева в обоих регистрах на подголоски, варьируемые несколькими одаренными исполнителями. В этих случаях обе мелодические линии – и вверху, и внизу – оплетаются затейливыми узорами, напоминающими вязь замечательных северных кружев. Такое же впечатление остается при взгляде на нотную запись подобных песен. Получается очень причудливая звуковая ткань, образующая с основным голосом подчас диссонирующие интервалы. Композитор П.Ф. Кольцов вспоминает о сложности записи «баских» песен у пинежской фольклорной группы при Северном хоре, в которую входили семь талантливых песенниц, владеющих мастерством импровизации. Строфы обильно украшались различными комбинациями попевок. Каждый голос, каждая партия 101 ярко отражали творческую индивидуальность исполнительницы [151, с. 23]. Сколько певцов – столько и партий. При каждом исполнении – новый вариант, неожиданный результат для самих исполнительниц. Характерные черты: хоровое восходящее глиссандирование внутри песни (Шенкурский район Архангельской области) и ниспадающее – в окончании музыкальных фраз (Пинежский, Устьянский районы Архангельской области). Художник В. Верещагин, путешествовавший в XIX веке по Северной Двине, отмечает эту же особенность услышанных им здесь старинных песен: почти все услышанные им старые песни пелись в пределах квинты, с нисходящим окончанием мелодии, которое он слышал в народных песнях средней Индии [60, с. 34]. Мелодическое развитие северных песен плавное, узорчатое. Здесь мы не услышим размашистых интонационных ходов, часто встречающихся в песнях средней полосы России. Особенностью протяжных песен является непрерывность движения напева. Достигается эта непрерывность так называемым цепным дыханием, когда исполнители берут дыхание по очереди «цепочкой» где-нибудь в середине фразы или строфы, избегая промежуточных, между строфами, цезур. Структура этих песен словно бы не знает границ, как и гигантские просторы, окружающие исполнительниц северных песен, формирующие душу жителей Русского Севера, их мироощущение и характер. Музыковед Т.В. Чередниченко отмечает, что «раздетые» народы в большей степени проявляют ритмическую одаренность, а «одетые» – мелодическую [379, с. 128], что мы и видим на примере народного творчества жителей Русского Севера. Б.В. Асафьев считал, что русская протяжная песня, будучи светской сестрой знаменного распева, стоит намного выше протестантского хорала. Протяжная песня – это высший полюс философичности, благоговейного погружения в гармонию души. Если для народной западноевропейской музыки характерна 102 четкая метричность, то для русской протяжной песни свойственно ее преодоление – своего рода ритмо-метрическая текучесть, существующая как бы вне времени и пространства. Эта особенность подчеркивает созерцательность и самоуглубленность северной традиции. Распевание слов является признаком, объединяющим традиционную протяжную лирику с древнерусской певческой традицией и знаменным распевом. Особенно это проявляется в северной певческой традиции, где народные песни исполняются монодийно – в один голос, как и знаменные распевы (В.В. Медушевский). В многоголосии народной жизни Русского Севера слышались и отзвуки древних языческих заклинаний, причетов. Причет, например, является необходимой частью традиционного свадебного обряда. Скорбные слова, надрыв в голосе – все это помогало сильнее выразить чувство отчаяния. Хоровой причет был широко распространен в Пинежском районе. Невеста причитала не под свадебные песни, а под пение специальных голошельниц, или вопленниц, исполнявших свою «партию» низкими голосами. Драматизм диалога невесты и группы голошельниц усиливался с помощью трагического выкрика (в высоком регистре) невесты. После выкрика вокальная партия затухает в последующем нисходящем движении и подхватывается бесстрастными голосами причетниц. Таким образом достигался высокий эмоциональный градус хорового причета. Ф.М. Истомин, участвовавший в 1884 году в этнографической экспедиции по Северу от Русского географического общества, обращает внимание на своеобразное отношение северных крестьян к песне. При записи песни потребовалось повторить ее сначала. Недоумевающие певцы переспросили: «Ту же песню с конца заводить?». В дальнейшем стало понятно, что «заводить с конца» означает спеть сначала. Песня для них – это некий предмет, имеющий два конца – передний и задний, начало у него отсутствует [125, с. 168]. В сказке «Морожены песни» Степан Писахов подмечает это же отношение поморов к песне, как к вещи. Замороженную песню, предназначенную для отправки в 103 «заморску страну», архангелогородцы «уложат да обозначат, которо – перед, которо – зад, чтобы с другого конца не начать» [266, с. 30]. То есть мы видим отношение к песне как к материальному продукту труда. Нельзя было песню начать и с середины, поскольку она представлялась чем-то высеченным из цельного куска, неделимым на части – строфы. Не случайно певцы и певицы слыли мастерами и мастерицами. Исполнить песню зачастую означало сделать ее. Для северных крестьян пение песен не было каким-то пустым времяпрепровождением. К песенному творчеству они относились со всей серьезностью, как к общему делу, и со свойственной им основательностью [125, с. 168-169]. Аналогичное отношение к песне, как к искусно сделанной вещи, можно найти в архаических культурах других стран и континентов. «Я сделал песню; теперь приходите и пойте ее» [283, с. 165], – можно услышать от коренного жителя Новой Гвинеи. На эту же особенность обращает внимание П. Зюмтор в исследованиях семиологической системы средневековой поэзии: создание поэтических текстов приравнивалось к изготовлению предметов быта, имело ремесленную природу [113, с. 108]. «Окультуривая» окружающие ландшафты, промышляя рыбу и зверя, возделывая скудную землю, занимаясь строительством и прочими хозяйственными делами, северяне одновременно обустраивали и духовный слой культурного ландшафта, «пропевали» и озвучивали свою жизнь, не делая особого различия между физическими и духовными направлениями деятельности. При этом, как отмечал Б. Шергин, для создания продукта творческого труда – как материальной вещи, так и песни – требовался определенный душевный настрой: северяне считали, что началом всякому делу должна быть радость, внутренний пафос. Например, плотник может сказать: «Крыльцо сегодня рубить не буду, радости нету, несоразмерно выйдет». Вопленица, которую приглашали на поминки, отвечала: «Что-то радости нету. Какой уж плач!» [398, с. 195]. 104 Источником яркого творческого мироощущения северян, их богатого воображения и глубокой духовной жизни являлась природа Русского Севера – хрупкость и величие ее красоты. Современные научные исследования помогают обнаружить и другие причины образного мировосприятия северян. На физиологическую связь между экстремальными условиями жизни на Крайнем Севере и образным мышлением, формировавшимся у жителей Севера в течение многих сотен лет, обращает внимание В.И. Хаснулин. Для северян творческое мировосприятие – это одно из важнейших адаптивных защитных механизмов. Полноценная адаптация к экстремальным климато-географическим условиям среды, по мнению В.И. Хаснулина, возможна лишь при достаточно высокой функциональной активности правого полушария мозга в случае не сниженной функции левого полушария [365, с. 45-46]. Правовое полушарие мозга, как известно, специализируется на обработке информации, которая выражается не в словах, а в символах и образах. Таким образом, способность к образному восприятию мира северян, проявляющаяся, в частности, в пении и музыке, была не только требованием души человека, но и непременным условием физического выживания. Народное творчество северян, жизненный уклад, традиции, религия, особенности восприятия окружающего мира, песенное и музыкальное творчество – все это способствовало тому, чтобы образное восприятие мира развивалось у человека с самого детства. Это позволяло не только выстоять в экстремальных природных условиях, но и обеспечить полноценную духовную жизнь многим поколениям северян. С малолетства дети слушали созданные их предками сказки и сказания, были и старины, эпические песни и духовные стихи, получая при этом не только эстетическое удовольствие, но и приобретая для себя морально-нравственные ориентиры, определяя для себя норму поведения, что было очень важно для сохранения и торжества традиционного миропорядка. 105 2.2. Колокол как звучащий центр «cеверного мiра» Колокол – это древнейший ударный самозвучащий инструмент, основными средствами выразительности которого являются ритм и тембр. Богатство его звучания, насыщенность обертонами во многом обеспечивается сложными сплавами входящих в него металлов и искусством колокольного литья [374, с. 71]. В звуковой семиосфере православного мира колокол занимает центральное, «осевое» место – как звучащий центр мироздания. Колокольный звон является лейтмотивом Русской Судьбы. В сознании русского народа за ним закрепились символы славы и торжества, умиротворения и покаяния, тревоги и предзнаменования. Важнейшее свойство колокольного звона – соборность, способность объединять множество людей в молитве и духовном порыве. Как явление бесписьменной культуры колокольный звон издревле воспроизводился звонарями «по преданию», в рамках храмовой традиции, и достиг вершин искусства церковного призыва. Во многих культурах мира колокол являлся одновременно как музыкальным инструментом, так и культовым символом. Колокольный звон призывал и человека, и представителей потустороннего мира. В Древнем Китае было известно много сказаний о колоколах, которые, например, могли летать по воздуху, а высотой своего звучания предсказывали счастье или несчастье. Слово «колокол» (чжунь) значит то же самое, что и «преодолеть испытания (экзамены)», отсюда картинки с изображениями колокольчиков по символичной игре слов понимаются в духе пожеланий продвижения по службе. В позднекитайской мифологии божество Ба-Чжа, уничтожающее саранчу, родилось от колокола. По одной из легенд, его туловище ниже пояса напоминает колокол. В Японии бронзовые колокола (дотаку) известны примерно с 300 года. Такие колокола развешиваются у входов в святыни синто, и звонят в них с помощью особой 106 оснастки; верующие жертвуют при этом небольшую монетку, дважды хлопают в ладоши и проговаривают пожелание, осуществление которого предпочтительнее всего. В эпоху раннего христианства в римских катакомбах также использовались колокола (чаще всего из серебра) для сбора дароприношений. Во многих сказаниях говорится о том, что колокола своим звоном принуждают сменить место обитания сверхъестественных существ, например карликов, или препятствуют дьяволу похитить желанное для него дитя человеческое, что они обладают способностью предотвращать грозу (т.е. сковывают ведьм погоды) [42, с.121-122]. В заговорах славян отсутствие звуков, принадлежащих человеку, в том числе колокольного звона, указывает на зону небытия: там не кричат петухи и молчат колокола. Колокольный звон разделяет «чистое» и «нечистое» время. По некоторым поверьям, нечистая сила показывается людям лишь тогда, когда отзвонит колокол. На Страстной неделе звучат скорбные перезвоны: единичные удары от большого колокола постепенно переходят к малым колоколам. Звук угасает, как бы теряет силу, символизируя «умаление», истощение физических сил спасителя на Кресте. Это время «говения» и «скорби» в связи со страданием и смертью Иисуса Христа. В Страстную пятницу – день мученической смерти Христа – наступает момент, когда колокола замолкают, лишаются голоса, поскольку и сам Спаситель был лишен голоса. Кроме голоса (языка) колокол наделяется и другими антропоморфными чертами. Он имеет голову, плечо, шейку, уши, губу, тулово – самозвучащее тело. По форме колокол представляет собой символ женского начала и небесного свода. Он, как и человек, получает собственное имя, его крестят, наказывают, ссылают в ссылку. Каждый город имел свой главный колокол со своим ярко индивидуальным тембром. Власть над городскими колоколами символизировала власть над городом. Снятие, разрушение, насильственный перевоз колокола был 107 равнозначен уничтожению культурного ландшафта города, превращения его в безмолвную пустошь, в пепелище народного плача. Главное предназначение колокола – богослужебное. Он выполняет функцию своеобразной ритуальной речи, усиливает и дополняет смысл богослужебного слова. Это глас проповедника, глас церкви, глас Божий, призывающий к молитве, освящающий воздух и прочие стихии природы. В чине освящения колоколов содержится молитва о ниспослании небесного благословения «яко да вси слышащии звенение его или во дни или в нощи, возбудятся к славословию имене Святаго Твоего» и «о еже гласом звенения Его утолитися и утшитися и престати всем ветром зельним, бурям же, громом и молниям, и всем вредным безведриям, и злорастворенным воздухом» [341, с. 36]. Звон представляет собой своеобразную преграду, отделяющую профанную звуковую среду от сакральной, как бы затворяющую двери храма во время богослужения. По сути, колокол является материальным символом духовного бытия, дающим человеку возможность познать свою божественную природу. Различают несколько видов звона: благовест, возвещающий о предстоящем начале богослужения, – одиночные удары в большой колокол; трезвон, обозначающий ту или иную службу суточного круга богослужения, – несколько одновременно звонящих колоколов; перезвон, подчеркивающий важность предстоящей службы, – поочерѐдные удары от большого к малым (от одного до семи в каждый колокол); перебор (погребальный звон) – по одному удару в каждый колокол от малого к большому. Вот как писал о погребальном звоне А. Фет: «И звуки те прозрачнее, и чище, / И радостнее всех голосов земли; / И чувствую – на дальнее кладбище / Меня под них, качая, понесли. / В груди восторг и сдавленная мука, / Хочу привстать, хоть раз еще вздохнуть / И, на волне ликующего звука / Умчася вдаль, во мраке потонуть» [343, с. 354]. При христианском богослужении колокола, так же как и била, стали использоваться в качестве замены древнего обычая применять при богослужении 108 трубы. Бог повелел сделать Моисею две серебряные трубы для сбора народа к скинии на богослужение, в случае войны и в другие важные моменты. Трубные звуки, по ветхозаветному тексту, должны были напоминать Богу о его сынах: «И в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших; и это будет напоминанием о вас перед Богом вашим…» (Числ. 10:10). Звук трубы, вероятнее всего, является метафорическим. На Руси колокола, заимствованные у Запада, известны с XI века. Они использовались наряду с билами по крайней мере до середины XVI века, когда колокольный звон уже прочно вошел в богослужебную практику. Из призыва к началу богослужения звон постепенно стал частью церковного обряда, превратившись к XVII веку в особое художественное явление. Колокольный звон структурировал пространственно – временной континуум, являлся камертоном сакрального хронотопа: порядок звонов, а также характер их звучания (способ звукоизвлечения и выбор колоколов) регулировались церковным уставом. Вся православная жизнь направлена в самое сердце литургической службы – на Евхаристию, в неделе все устремлено к воскресной службе, а в году – к Пасхе, Воскресению Христову. В православной культуре колокол – единственно возможный музыкальный инструмент. Со времени становления христианской церкви у нее сложилось отрицательное ассоциировались отношение с к музыкальным языческими инструментам, («сатанинскими») так игрищами. как они Климент Александрийский, один из образованнейших греческих христианских писателей эпохи «апологетов», положивший начало работе над философским оформлением церковной идеологии, писал, что свирель следует оставить пастухам, а флейту – суеверным людям, которые идут на идолослужение. Более того – этих музыкальных инструментов не должно быть даже на трезвом пиру: «они приличны скорее скоту, чем людям». Своим коварным искусством они развращают нравы, 109 постепенно вовлекая душу в низменные страсти. Человек подобен мирному музыкальному инструменту, а все другие инструменты – воинственны: они разжигают желания, распаляют похоть, раздувают свирепый гнев. На войне этруски используют трубу, аркадяне – свирель, сицилийцы – пектиды, критяне – лиру, лакедемоняне – флейту, фракийцы – рог, египтяне – тимпан, арабы – кимвал. У человека же только один инструмент – слово мира, посредством которого воздается слава Богу [232, с. 96]. В христианской традиции музыка, по преданию, являлась средством в потомстве Каина для пробуждения низменных чувств и желаний в период языческих, оргиастических праздников. Поэтому музыкальные инструменты понемногу вытеснялись из богослужебной практики: чувственное не должно вторгаться в духовную сферу. На Западе сделали исключение для колоколов, а затем и для органов. На Востоке право применяться при богослужении вместо ветхозаветных труб получили била. Они воспринимались в качестве священного предмета, а не как музыкальные инструменты. По словам П.А. Флоренского, звуки инструментальной музыки, даже звуки органа, «непереносны» в православном богослужении. Это не вяжется в сознании со всем богослужебным стилем, нарушает замкнутое единство богослужения. Эти звуки далеки от четкости, от «разумности», от умного богослужения. Звук органа слишком сочен и тягуч, слишком чужд прозрачности и кристалличности, чтобы быть использованным в православии [346, с. 89]. Непохожесть православной музыкальной семиосферы на западную проявляется не только в отсутствии в ней органа, но и в различном звучании колоколов. Так, русский философ В.Н. Ильин в своей работе «Эстетический и литургический смысл колокольного звона» выделяет два стиля колокольного звона, которые существенно отличаются друг от друга. Первый, западноевропейский, заключается в использовании колоколов, выстроенных по темперированному хроматическому строю. На первый план выдвигается 110 мелодический рисунок, а ритм играет второстепенную роль. Главный недостаток западного стиля, по мнению Ильина, состоит в том, что колоколам поручается не соответствующая им задача, с которой бы лучше справился человеческий голос и музыкальные инструменты. Философ полагает, что мелодия, исполненная на колоколах, рождает ощущение чего-то неуместного, надуманного и ненастоящего. То есть западноевропейские звоны, нацеленные, как и светская музыка, на воссоздание чистых гармоний и мелодической основы, приобретали карикатурную приземленность, снижали сакральное предназначение колоколов. Второй стиль, который следует отнести к русскому, можно назвать ритмотембровым, или ритмо-обертонным. Именно этот стиль стал родным для русского человека, любовь которого к колокольному звону издавна известна. Этой любовью можно объяснить то, что церковный звон получил в России развитие, не встречаемое в других странах, в том числе христианских. В основе этого стиля лежат тембр, ритм и темп. Мелодия либо уходит на второй план, либо вообще отсутствует. «Вместо мелодий и гармоний в собственном смысле появляется ритмически звучащий, специфический тембр колокола. Обертонно диссонирующие гармонии, возникающие от ударов в нетемперированно настроенные колокола, создают характерные биения, «внушительные колебания и раскаты звука» [122, с. 228-229]. Именно по отношению к такому колокольному звону следует, видимо, говорить о нисхождении невещественного звука, подобного голосу Всевышнего. Не имеющий точной пространственной ориентации, идущий словно из ниоткуда колокольный звон наделяется внеземным, трансцендентным смыслом. Может быть, благодаря этому качеству колокольный звон способен соединять времена и эпохи. Его звучание неизменно во все времена. Колокольный звон имеет высокое сакральное значение и находится как бы вне времени, в вечности, как и душа человека. 111 Русские колокольные звоны сформировались в системе народной музыкальной традиции, в тесной связи с богатейшим многоголосием русской народной песни. Примерно со второй половины XV – XVI веков на Руси начали формироваться местные стили колокольного исполнительства, которые затем менялись и смешивались с другими. В этих процессах важно было сохранить традиционно-канонической систему. Самобытность звонов зависела прежде всего от инструментального фактора, частных звонарских практик и местных музыкальных традиций. Так, колокольные звоны Русского Поморья основывались на законах местной северной певческой традиции, которой была свойственна особая эстетика многоголосия. В лирических и протяжных песнях Севера привычные нашему слуху мажор и минор в чистом виде встречаются не часто. Голосоведение тоже имеет свои особенности: голоса то сходятся в унисон, то расходятся, переплетаясь друг с другом, образовывая по вертикали сложные интервальные сочетания, иногда принимаемые за фальшь. Каждый участник хора имел право видоизменять свою партию и импровизировать непосредственно во время исполнения, вследствие чего одна и та же песня всегда звучала в различных вариантах. Конечный результат мог быть неожиданным как для слушателей, так и для самих исполнителей. «Нет в свете более своевольного, неправильного и вместе с тем гармонического соединения звуков, как в русских напевах» [247, с. 129]. Импровизационная составляющая была свойственна и колокольному искусству. Причем в большей степени она проявлялась на Севере, где преимущественно возводились одноярусные колокольни, на которых устанавливались легкие колокола. Они управлялись одним или двумя звонарями, имевшими возможность в полной мере проявить свой импровизационный талант, свойственный северной русской фольклорной традиции. Северные звоны, впитавшие местные хоровые традиции, отличались широтой, текучестью и плавностью мелодической линии, замысловатой 112 узорчатостью голосоведения, а также гибкой метро-ритмической организацией. «В Москве более привычны плясовые, подвижные ритмы, здесь манера народного пения и колокольный звон – более просты, прямолинейны» [205, с. 22].. Особое отношение к звонам существовало в старообрядческой Церкви. У старообрядцев Поморья более популярны были не колокола, а била. Во-первых, ревнители древлего благочестия – староверы не могли себе позволить дорогостоящие колокола. Во-вторых, в этом можно увидеть некий компромисс старообрядческого мира с никонианским. Звук била слышен был только вблизи. Старообрядцам это давало ощущение спокойствия: власть их не услышит, а значит, богослужению никто не помешает. В жизненных реалиях колокольный звон всегда занимал самое значительное положение как в аудиальном пространстве (по массиву звучания), так и в визуальном (колокольня являлась доминантой в окружающей среде, монументальной формой единого архитектурного организма). Колокольни и церкви на Севере часто, как и везде, строились на возвышенности – чтобы их было видно издалека. Это было нужно и для того, чтобы колокольный звон слышался как можно дальше, поскольку его звучанием определялись пределы христианской ойкумены. Одним из главных критериев в выборе места для церкви и колокольни была не только его высота. В книге А.В. Ополовникова «Сокровища Русского Севера» отмечается, что сила красоты северных церквей состоит не только в их архитектуре, но и в их гармонической связи с окружающим ландшафтом. В качестве примера он приводит одну из церквей в селе Поча Вологодской области. Эта церковь стоит далеко от леса и от жилья, не в центре местности и не на ее краю, не на возвышенности, но и не в низине. Она размещена в той единственно верной точке, которая обеспечивает пространственную целостность среды. Среда «превращается в микровселенную, где всему есть место – и человеку, и природе, 113 и их связующему звену – искусству…» [251, с. 225]. И в том числе – искусству колокольного звона. Монашеское звукотворчество начиналось с поиска места для монастыря. Оно определялось по «велению Божьему» (часто по мистическому слышанию Божественного гласа), по образу и подобию Небесного града, в соответствующей окружающей среде. Так, Антониево-Сийский монастырь (Архангельская область) был основан на месте, которое народная молва определила под монастырь еще за многие годы до его строительства. Край здесь был глухой, безлюдный, «но окрестные жители, приходя сюда на промыслы, часто слышали здесь звон колоколов, пение иноков и даже видали, что иноки «лес секут» [262, с. 77]. Особую роль колоколу на Русском Севере придавало и то, что, по образному определению Н.М. Теребихина, «Поморье является северным «Термином» пространства Русской культуры, ее предельным значением. Поморье есть тот священный пограничный знак, который выступает в качестве источника Русской культуры и ее конечной цели, альфа и омега священного космоса русской жизни» [318, с. 42]. На Севере сходятся начала и концы русской идеи – это духовный форпост нашего Отечества. Колокольный звон являлся своего рода маркером «русскости» территории. Если здесь звучит колокол, значит – это своя земля, свой мир. В настоящее время самый северный храм в мире – святителя Николая Чудотворца – расположен на Земле Франца-Иосифа (Архангельская область). На огромных малонаселенных территориях звон колокола соединял разомкнутые пространства, избавляя человека от чувства одиночества, особенно острого в экстремальных условиях Севера, давая ему ощущение единства в православной вере. Ощущение единства особенно актуально для русского человека, менталитету которого свойственна соборность. Сама природа на Севере способствовала «всепроницаемости» колокола, его медиативности и коммуникативности. Бескрайняя, в основном равнинная 114 местность, отражающая способность водных пространств, холодный большую часть года воздух – все это играло роль естественного резонатора, создавало благоприятную акустическую среду, распространяя звук колокола на многие километры. В сильные морозы колокол становится хрупким, его легко можно расколоть, поэтому северный звонарь начинает звонить осторожно, как бы разогревая колокол, а потом все сильнее и сильнее, но все равно звонит не в полную силу. Колокольный звон Русского Севера, его восприятие, иногда шутливое, находило отражение в творчестве северян. В сказке С. Писахова «Уйма в город на свадьбу пошла» большой колокол рявкнул: «По-чем треска? По-чем треска?» «Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной! Две ко-пей-ки с по-ло-ви-ной!» – затараторили ему в ответ малые колокола. Их поправили колоколишки Никольской церкви у рынка: «Врешь, врешь – полторы! Врешь, врешь – полторы!» «Большой колокол языком болтнул, о край размахнулся: Пусть молчат! / Не кричат! / Их убрать! / Их убрать!» [266, с. 34]. Наряду с колокольными звонами другим важнейшим элементом звучащей семиосферы православного мира являются церковные песнопения, которые в отличие от колокольного звона имеют меньшие региональные отличия. Православная церковь видимо и невидимо воздействует на духовную природу и чувственные органы человека. Так, зрение воспитывается с помощью иконописи, вкус – с помощью пшеницы и вина, обоняние – с помощью елея и ладана, осязание – с помощью рукоположения, слух – с помощью пения и колокольного звона [237, с. 24]. При этом пение и колокольный звон не находятся в ритмическом взаимодействии, они существуют автономно, в собственном ритме, даже если пение совершается вне храма. Церковные песнопения – это распетые молитвы. Византийские богословы Иоанн Златоуст и Василий Великий отмечали, что песнь священная укрепляет дух, отрешает его от земли, наполняет любовью к мудрости и равнодушием к 115 житейским делам. Согласно религиозным воззрениям история богослужебного пения берет свое начало на Небе, так как в первый раз воспели славу Всевышнему в ангельском мире, созданном Богом до мира материального. То есть истоки церковного песнопения лежат в не земном, а в духовном мире. По представлению А.Ф. Лосева (монаха Андроника), из всех видов искусств только музыка ближе всех к умной молитве, и «выше музыки – только молитва» [197, с. 908]. В музыке и молитве он видел два типа восторга, две формы проникновения сознания в сверхмыслимое, два проявления божественного. При этом молитвенный восторг Лосев ставит выше музыкального. Посредством музыки мы говорим с Богом, как и молитва, она ниспослана нам свыше. Она сильнее слов, но не вся музыка может возвышать наш дух и очищать душу. Образ колокола нельзя отрывать от звуковой семиосферы церковной жизни. Произнесение молитв, церковное пение, колокольный звон – все это взаимосвязано. «Священство – дух, народ, хор – душа, колокола – тело» [122, с. 230]. П.А. Флоренский обращает внимание, что синтез храмового действа, в который наряду с пением и поэзией вовлечены еще изобразительные искусства, является музыкальной драмой. В этой драме все направлено на достижение одной главной цели – катарсиса, все существует как единый организм. Церковным уставом определены правила росписи иконостаса и стен церкви как единой композиции. Если эти правила исполняются, то дом Бога на земле «действительно звучит неумолкающею музыкою, ритмическим реянием невидимых крил, которое наполняет все пространство» [350, с. 227]. Звучания храмового богослужения также следует рассматривать как единое целое с естественным звучанием окружающей среды вне и внутри монастырских стен, с акустикой храмов. «Священный фимиам – благодать вырывается в открытые окна храма, разносится ветром, равно как и звуки священных песнопений и возгласов» [347, с. 311]. Взятые в совокупности эти звучания являют собой единый звуковой ландшафт. Он включает в себя литургическое 116 время, ритм богослужебных действий и распорядок ежедневного быта монастыря и неразрывно связан с ритмом естественного времени и движения солнца – ночь, рассвет, полдень, закат и снова ночь. Конкретный звуковой ландшафт монастыря – византийского – анализируется И.А. Чудиновой. В течение суток в установленное время здесь, как и во всех православных храмах, но с некоторыми особенностями, произносятся богослужебные тексты, звучит хоровое пение... В результате «аудиальное пространство византийского монастыря созидается как звуковая «икона» этого космического славословия» [381, с. 8]. У того же автора находим описание звукового ландшафта Афона. Стук била и звон колокола оповещают братию о времени суток, призывают к очередному этапу церковной службы, соотнесенной с солнечным светом и ночной тьмой, или означают определенные моменты в богослужении. Подобно всему живому, окружающему монастырь, он «начинает «звучать» с появлением солнечного света, а ночью, в темноте, умолкает, погружается в молчание» [381, с. 19]. Звучание православного храма является творческим результатом многовековой практики православной культуры и во многом сохраняет свои общие черты, практически независимо от места и времени. Так, звуковой ландшафт Холмогорского Успенского женского монастыря ХIХ века похож на упомянутые выше византийский и афонский. В пять утра колокольный звон означает начало трудового дня инокинь. Звучат полунощная, а затем утренняя службы. В полумраке слышится чтение псалмов, иногда дополняемое пением. В восьмом часу начинается литургия. К одиннадцати часам насельницы по звону колокола направляются на трапезу, сопровождающуюся молитвенным чтением. После вечерней службы, которая начинается в пять часов вечера, читаются каноны и акафисты, поминаются все живые и усопшие сестры и благотворители обители. Около восьми вечера начинается вечерняя трапеза. После нее жизнь в монастыре затихает: его ворота закрываются на ночь до следующего утра [345, с. 553]. 117 Вместе с тем существует и отличие в звучании северного храма, если взять во внимание окружающую его среду, представляющую собой продолжение храма. Самой характерной чертой звукового облика этой среды является тишина. Именно тишина и молчание просторов Русского Севера влекли сюда монахов-отшельников. Здесь они находили очень важные для себя покой и молитвенное уединение. Заснеженные просторы были как будто проникнуты глубоким религиозным чувством, а долгая зима испытывала крепость веры, рождала христианскую надежду. Особой притягательной силой обладала Соловецкая обитель, называемая еще русским северным Афоном, морским Синаем. До XV века Соловецкие острова были безлюдны и пусты. Большую часть года они находились в плену плавающих льдов и примерно полгода являли собой снежную пустыню. Все это в значительной степени соответствовало мировоззрению монахов-затворников, и не случайно здесь оказался первый из них – инок Савватий. Через несколько веков на Соловках вырос большой монастырь, однако монастырской жизни попрежнему присущи тишина, безмолвие и молитвенная исихия. Соловецкие храмы кажутся застывшим богодухновенным, ангелогласным пением. В христианской традиции сознательное обоснование преимуществ молчания связано с зарождением монашества, то есть своеобразным погребением заживо. Вследствие символической смерти монах становился ближе к Богу. Молчание позволяло ему быть одному среди многочисленной братии. На латыни слова «тишина» и «тайна» имеют общую форму – taciturn, а одно из значений слова silens – «посвященные в сакральное», давшие обет молчания. Сакральное значение молчанию придавалось в исихазме. Необходимым условием откровения в исихазме является радикальный отказ как от чувственных впечатлений, так и от рассудочной деятельности: необходимо достичь святости «оставив позади себя все Божественные озарения, все небесные звуки и слова» [198, с. 23]. Человек молчащий преодолевает расстояние от слова внешнего к 118 слову внутреннему, к «умному безмолвию», от звучащей молитвы к бессловесному осознанию ее зова. В результате этого преодоления молчащий ум обретает покой. Ставя преграду сказанному, молчание предохраняет его от профанации, которая способна «в силу магической или действительной эффективности слова нанести вред как говорящему, так и его окружению» [44, с. 50-51]. В существующей трактовке таких категорий, как абсолютное Ничто или абсолютная Пустота, молчание представляет собой «эпистемологический признак виртуального вакуума, экспликат античеловеческого и антибытийного, своего рода окно в Не-мир» [44, с. 64]. Колокольный звон и церковные песнопения представляли собой неотъемлемую часть среды, в которой русский человек жил с момента рождения, впитывая ее «излучения» бесчисленными путями. Одна из тех радостей, которую человек может встретить в храме, заключается в понимании того, что он соприкасается с тем слышимым и видимым миром, который создали его предки. Интерпретируя мир согласно традиционной для своей культуры вере, люди опираются, в конечном счете, на свою систему символов. Эта система исключает перевод на какой-либо другой язык и не может сравниваться именно потому, что символ – это уникальный способ указать на скрывающийся за ним смысл. Сообщения из «своей» культуры открывают перед нами прямой доступ к скрытым в них символическим смыслам. Окружающий мир влияет на человека, на его интеллект, воспитывает определенным образом. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что представителям иных культур и религиозных конфессий не всегда понятен сакральный смысл колокольного звона. Причина заключается в том, что все цивилизации «звучат» по-своему уже на уровнях отдельного тона. У каждой из них в течение времени сформировался «уникальный ряд физико-акустических и этико-эстетических 119 норм звука», в результате чего у них возникло свое, субъективное, представление о благозвучии, красоте и правильности звука. Колокольный звон входит в русский культурный код. Он дает возможность русскому человеку ощутить и сохранить свою идентичность на фоне профанической цивилизации. Колокол, являясь промежуточным звеном между музыкальной гармонией неба и звучащей семиосферой земного культурноприродного ландшафта, помогает нам ощутить связь с самыми высокими духовными сферами, Космосом, Абсолютом, Богом, чтобы жить в соответствии с космическим миропорядком. 2.3. Музыкальная рефлексия звукового ландшафта отчего края в творчестве В.А. Гаврилина Понятие «звуковой ландшафт» может быть рассмотрено в разных аспектах, в том числе музыковедческом. Каждое место может иметь свой музыкальный «портрет», который проявляется прежде всего в народном творчестве, в фольклоре и произведениях национальных композиторов. Одним из таких национальных композиторов является Валерий Александрович Гаврилин – самобытный северный композитор минувшего столетия, последователь Г. Свиридова. В.А. Гаврилин – автор около трехсот самобытных произведений различных жанров, в том числе симфонических и хоровых, а также песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам, народный артист РСФСР. Г. Свиридов высоко отзывался о В. Гаврилине, считая, что уровень народности его творчества можно поставить в один ряд с такими именами, как Пушкин, Некрасов, Есенин. 120 Музыка В. Гаврилина вобрала в себя всю чистоту и душевное целомудрие отчего края. По сути, она представляет собой полифонию музыкального ландшафта души Русского Севера, звучащую семиосферу «северного мiра» (земли «земства»), воспроизводящую музыкальную гармонию небесных сфер. «В музыке русских композиторов надо мне подслушать, нет ли там мною любимого – тонко-тусклого, сребро-прозрачного неба, голых весенних веточек…» [390, с. 514], – писал, находясь вдалеке от родных мест и тоскуя по отчему краю, северный сказитель Б. Шергин. В произведениях В. Гаврилина Шергин как раз и мог бы услышать то, что хотел, ту музыку Русского Севера, которой когда-то он внимал в ночной тиши: «Сидишь на плотике и боишься комара сгонить, чтобы не упустить какой ноты чудесной северной ночи…» [390, с. 521]. Валерий Александрович родился и провел юные годы в Вологодской области – древней русской земле, знаменитой своими церквами и монастырями. Достаточно упомянуть Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Спасо-Прилуцкий монастыри. Отсюда произошло примерно две трети пантеона русских святых. Православная культура, определявшая духовные начала культурного ландшафта Вологодчины, не могла не повлиять на становление В.А. Гаврилина как художника. Английская писательница, переводчица, автор многочисленных эссе об искусстве Вернон Ли, размышлявшая о таком явлении, как Genius loci, считала, что местность может воздействовать на человека как живое существо, с которым он вступает в дружбу [12, с. 16]. Понятие «гений места», известное еще древним, связывает интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. П. Вайль в своей книге «Гений места» писал, что «гений» имеет к «месту» непосредственное биографическое отношение: в точке пересечения художника с местом его жизни и творчества возникает новая, неведомая прежде реальность. Рационально это совершенно необъяснимо, но очевидно, что наличие культурных феноменов, с которыми мы взаимодействуем с самого рождения, не 121 может не способствовать развитию личности. Образ культурного ландшафта воспринимается нами как некий эталон гармоничного существования. Человек навсегда связан с первым ощущением родины. Деревья, животные, дома – все это изначально формирует вкус, привычки, этикет. И никакие экзотические перемены не заставят нас полюбить пальмы или небоскребы [54, с. 66]. Вологодской земле, ее особому культурному ландшафту, имеющему неповторимую сакральную атмосферу, способному передать свою духовную силу и энергию, обязаны своим появлением на свет и многие другие знаменитые представители искусства и культуры. Например, поэт Н. Клюев, творчество которого, как отмечал Е. Замятин, отличалось «крепким, верным северным языком», севернорусской фольклорностью, использованием старообрядческих, духовных стихов [102, с. 197]. В этом же ряду – Константин Батюшков, Василий Красов, Василий Белов, Александр Яшин, Варлам Шаламов... Отдельно следует назвать причисленного к лику святых епископа Игнатия (Брянчанинова), чьи литературные (богословские) труды, созданные в XIX веке, до сих пор не теряют своей актуальности. У П.А. Флоренского есть стихотворные строки, посвященные влиянию гения места на ребенка: «Мест гений, сокровенный дух, / Как мудрый дядька, как пастух, / Вступил с ребенком в разговор. / Язык вещей, явлений, гор, / Ручьев и рек, дерев, цветов / Ребенок слушать был готов. / Он с замираньем над собой / Часов природы слушал бой». Чуткая душа ребенка воспринимает все слышимые вокруг звуки особенно остро: «И звук вещей — не просто звук, / Но их волненье, их испуг, / Смятенных чувств открытый крик / Их растревоженный язык» [349, с. 444-445]. Лирический поэт Николай Рубцов, также во многом обязанный своим талантом вологодской земле, удивительно точно выразил отношение человека к родным местам: «С каждою избою и тучей, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь» [296, с. 128]. Еще одна цитата: «Но моя 122 родимая землица / Надо мной удерживает власть – / Память возвращается, как птица, / В то гнездо, в котором родилась» [296, с. 163]. К Н. Рубцову вполне можно применить слова академика В.Н. Топорова о предназначении поэта – это «голос» места его, его мысль, сознание и самосознание, наконец, ярчайший образ персонификации пространства» [326, с. 5]. Федор Абрамов видел в стихах Н. Рубцова проявление святости, одухотворенности, молитвенного отношения к миру. Незадолго до смерти В.А. Гаврилин в одном из телевизионных интервью признался, что его долг – написать сочинение в честь Николая Рубцова. К сожалению, композитор не успел этого сделать. По признанию В. Гаврилина, композитором он стал лишь благодаря малой родине. В своих воспоминаниях он пишет, что однажды в период творческих исканий он почувствовал, как из памяти стали появляться мелодии, звуки и краски отчего края, родной Вологодчины. Посиделки, старинные обряды и песни – все это для него не отвлеченные понятия, а картины из детства. Эти картины внезапно ожили, и он понял, что прочно стоит на вологодской земле, как дерево с крепкими корнями. Музыкальный ландшафт Русского Севера, имеющий богатую звуковую палитру, формировался длительное время. В его создании принимали участие прежде всего те, кто пел или играл на тех или иных музыкальных инструментах. Однако свою лепту в процесс ландшафтообразования внесли и другие члены социума, принимающие участие в обрядах, ритуалах и праздниках, имеющих звукомузыкальное оформление. То есть это практически все земляки Гаврилина, о которых он всегда отзывался очень тепло – как о братьях. Ощущение братства, делился он сокровенным, с одной стороны, согревало его, а с другой стороны, вызывало мучительное страдание, потому что душа болит за народ. «Я низко кланяюсь своим землякам за то, что все-таки такой дар они мне дали» [313, с. 190]. 123 Тема Родины – большой и малой – красной нитью проходит как в музыкальном творчестве композитора, так и в его литературных трудах. В сборнике статей, эссе и интервью В.А. Гаврилина «Слушая сердцем» прослеживается его позиция, утверждающая высокую миссию искусства в сохранении культурной традиции, духовности и нравственности народа. Творческое кредо композитора выражено в книге «О музыке и не только…», представляющей собой сборник записей композитора, сделанных в течение жизни. Главная задача национального композитора, пишет он, состоит в объяснении в любви к Родине. Национальный художник, по его мнению, должен оставить нации, в подтверждение этой любви, «произведение, становящееся любимым украшением нации, душой нации, талисманом» [68, с. 259]. В.А. Гаврилин принадлежал к представителям так называемой «новой фольклорной волны» (Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, С.М. Слонимский и др.). В литературе Русского Севера это направление представляли Ф.А. Абрамов, В.И. Белов, Н.К. Жернаков – писатели, которых объединяла преданность национальной тематике. Суть «новой фольклорной волны» состояла не только в пробуждении национальных чувств, поисках своих исторических корней, но и в определенном протесте против официальных клише. Гаврилин как представитель этого направления дал в своем творчестве в целом «убедительное воплощение движущегося национального» [373, с. 218]. Многие коллеги В.А. Гаврилина в те годы стали использовать вошедшие в моду приемы композиторской техники, еще не так давно находившиеся под запретом. В композиторской среде Валерий Александрович выглядел, возможно, не вполне современно. Однако это лишь выделяло цельность его художественной натуры. Возможно, мысленно полемизируя со своими оппонентами в музыкальном искусстве, он напишет: «Для вас отечество – костюм, а для меня – кожа» [68, с. 258]. Его почвенническую позицию можно охарактеризовать как онтологическую, направленную на постижение глубин народного духа. 124 В.А. Гаврилин четко отличал национальное и этническое в искусстве. Говорить о первом – значит говорить о развитии русской классической музыкальной традиции, в том числе об усвоении ею всевозможных достижений всей мировой музыкальной культуры, считал он. Говорить же об этническом – значит говорить о присутствии в музыкальных композициях языковых оборотов, свойственных фольклору. Одним из основных элементов звукового ландшафта местности является фольклор, который несет на себе отпечаток культуры своей эпохи и местности. В.А. Гаврилин называл фольклор «детищем» морали и веры – без них фольклор не может существовать. Духовное и чувственное начала в фольклоре объединены. Люди поют о том, что связано с окружающей средой, с конкретной ситуацией, с природным ландшафтом, погодой и т.д. Народная музыка для В.А. Гаврилина – это образ Родины. «Я собираю музыку вокруг себя», – пишет он. Для него имеет значение не сам фольклор как таковой, а та полученная от него эмоция, дающая творческую, созидательную энергию для рождения нового произведения. Композитор считал, что надо учиться у фольклора – его чуткости, современности. Фольклорную проблематику он считал одновременно и сложной, и простой. Не следует подражать фольклору – композитор должен сам говорить этим языком. Если он имеет национальный темперамент, если язык его родины действительно является родным, то фольклорное начало обязательно проявит себя – «с цитатами или без них, более заметно или менее заметно» [70, с. 267]. В.А. Гаврилину как раз не нужно было быть нарочно фольклорным. Вершины фольклорного творчества Русского Севера были для него знаками родной, «своей» территории. Фольклор – это так же естественно, как деревья, которые растут там, где они растут, делился своими мыслями композитор. Если хочешь знать, зачем все эти песни существуют, зачем они поются, зачем они нужны людям, надо постоянно общаться с этими людьми – вот тогда можно 125 понять эту музыку, суть ее. Фольклор живет. Трудно представить, как «именное искусство», как бы велико оно ни было, обеспечивало бы потребности массы народа в удовлетворении насущных отправлений организма человеческого – выплакаться, высмеяться и т.д., если бы люди не творили сами – каждую минуту, самым простым языком, в самой доходчивой и подвижной форме. К использованию фольклора в искусстве В.А. Гаврилин относился очень требовательно, считал, что этот жанр существует «не на погляденье». Тот, кто был воспитан на фольклоре, получил своего рода иммунитет от пошлости и бездуховности. Ключевыми произведениями композитора, которые вобрали в себя звуковые комплексы, характерные для музыкального ландшафта Русского Севера, являются прежде всего «Русская тетрадь» и «Перезвоны». И то, и другое произведения – вокальные, связанные с русскими народными песнями, знакомыми ему с детства, пришедшегося на военное время. Песни того времени были связаны с проводами мужчин на фронт: женщины плакали, и их рыдания переходили в пение-причитание. С той поры музыка и глубина человеческих страданий стали для него связанными понятиями. По признанию самого Гаврилина, город помог ему получить образование, но в музыке он остался деревенским. Он подчеркивал, что его любовь к пению, в котором показывалась глубина душевных переживаний, берет начало из деревни. Подходя к народным песням творчески, Гаврилин сохранял верность их подтексту, смыслу и духу. Вокальная музыка, по меткому выражению композитора, представляет собой «кратчайший путь до души человека» [70, с. 311]. «Русская тетрадь» – вокальный цикл, состоящий из восьми песен. В их основе лежат народные тексты «Над рекой стоит калина», «Что, девчоночки, стоите» и «Ах, милый мой, пусти домой!», «Ой, зима, зима моя! Зима морозная», «Сею-вею молоденькая цветов маленько», «Дело было на гулянке», «Ой, не знаю, да ой, не знаю, милые, отчего за любовью гонятся», «В прекраснейшем месяце 126 мае», собранные композитором в фольклорных экспедициях, в том числе по Вологодской области. Гаврилин относился к тем немногим композиторам, которые не пытались путем использования приемов стилизации максимально приблизить свой собственный музыкальный материал к народной музыкальной речи, а создавали свою музыку, которая воспринималась как подлинно народная. «Русский народный музыкальный и поэтический язык – мой родной от рождения. На нем я говорю легче всего» [70, с. 153-154]. И это его качество в полной мере проявилось в «Русской тетради», за которую автор получил Государственную премию РСФСР имени М.И. Глинки. Более высокой награды, Государственной премии СССР, В.А. Гаврилин был удостоен за хоровую симфонию-действо «Перезвоны», которую можно назвать энциклопедией национального стиля, северного фольклора. Уже само название сочинения вызывает ассоциации, связанные с миром русской истории, в том числе Русского Севера, словно наполненной перезвоном колоколов. Колокольность являлась корневой национальной темой для целой плеяды русских композиторов: М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина. Сочинение В.А. Гаврилина, таким образом, соответствует традициям народной жизни и отечественного искусства. «Перезвоны» – эпическое произведение. Время в «Перезвонах» растекается по всему сочинению, присутствуют развернутые масштабы, картинность, колористичность, контрастность. Основной персонаж произведения связан с объективными образами и не идентифицируется с автором. Взаимодействие между картинами минимально, слушателю дана возможность для объективного и пристального их «разглядывания». По содержанию «Перезвоны» также являются эпическим полотном, в котором повествуется о судьбе человека, прослеживается эволюция человеческой души, у истоков которой лежит языческий ритуал, а на пути к высшей духовности личности происходит ее молитвенное преображение. 127 Собственно, вся земля русская, в том числе Вологодчина, тоже прошла этот трудный путь – от язычества к христианству. Общеизвестно, что Вологда – «запасная столица» православной Руси, однако, по одной из наиболее популярных в науке версий, в более древние времена являлась языческим центром финноугорских племен. Д.Л. Спивак указывает на наличие в этом краю крупнейшего языческого сакрального центра – Арсы [308, с. 43]. Композитор отбирает определенные звукоизобразительные приемы, чтобы вызвать в воображении слушателей ту или иную картину. Так, соло гобоя символизирует дудочку – инструмент, характерный для музыкального ландшафта северной глубинки. «Рожок или дудка веками печально звенели в русском лесу сквозь его отрешенно-широкий шум» [29, с. 51], – замечает земляк композитора Василий Белов в книге очерков о народной эстетике «Лад». С дудочкой ассоциируются родные для композитора северные пейзажи, светлые картины детства, безвозвратно ушедшая молодость. Иную символическую нагрузку несут ударные. Под барабанный бой по дороге в ад, где «негасимы печи» горят, идет толпа грешников, утративших свое «я», слившихся в некое безликое «мы». И эти звуки, следует заметить, тоже посвоему близки родине композитора. На Север, в том числе в Вологодскую губернию, не одно столетие ссылали преступников. Через эту землю шли каторжники в Сибирь. Как мы знаем, и мать Гаврилина не избежала печальной судьбы многих своих сограждан. В период сталинщины по ложному доносу она оказалась в тюрьме, а сын – в детдоме. Многие другие произведения В.А. Гаврилина также с полным правом можно отнести к национальным духовным ценностям: «Скоморохи, представление и песенки из старой русской жизни» для мужского хора, солиста, симфонического оркестра и балета; «Военные письма», вокально-симфоническая поэма для солистов, детского и смешанного хоров и симфонического оркестра; 128 вокальные циклы «Вечерок» и «Времена года»... И в каждом из этих сочинений – сокровенное звучание Вологодчины, Русского Севера. Проникновение в поэтику произведений В.А. Гаврилина, его самобытного музыкального языка – актуальная задача музыкальных исследований. Одним из важных направлений изучения творчества композитора, позволяющим выявить глубинные структуры звукового ландшафта Русского Севера и его многоуровневую музыкальную семиосферу, является исследование его произведений через призму дуальности. На примере ключевого произведения В.А. Гаврилина «Перезвоны» проведем анализ роли дуальных моделей в музыкальной культуре Русского Севера [204]. В работе «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше дал философское истолкование культурологической концепции Шеллинга, полагающей выделение в составе культуры двух начал – аполлонического и дионисийского. Данные начала абсолютно конгениальны расколотому космосу русской души, запечатленной в трудах Н.А. Бердяева: «Два противоположных начала легли в основу формации русской души: природная, языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие» [37, с. 30-31]. Аполлоническое и дионисийское начала обозначают основные глубинные принципы искусства и культуры, диаметрально противоположные по характеру. Вместе с тем явившиеся их истоком древнегреческие божества Аполлон и Дионис очень близки друг другу: даже если глубока трещина между ними, то всѐ же еще глубже, где-то на самом дне, корни их тесно переплетаются. Дионисийскоеоргиастически-иррациональное, экстатически-страстное, темное, выраженное в мифе. Наиболее полно оно отражается, в частности, в музыке. Аполлоническое – рациональное, светлое, суть которого в упорядоченности. Это «полное чувство меры, самоограничение, свобода от диких порывов, мудрый покой Бога» [239, с. 61]. В античных искусствах оба этих начала находятся в постоянном диалоге, ведут борьбу друг с другом и достигают гармонии только в аттической трагедии. 129 В их гармоническом единстве усматривается культурный идеал, однако в реальности в любой культуре всегда преобладает что-то одно. Так, современная Ф. Ницше культура страдала, по его мнению, ослаблением дионисийского духа, и философ приветствовал пробуждение этого духа, проявившееся, в частности, в творчестве немецкого композитора Р. Вагнера. «Перезвоны» обозначены В.А. Гаврилиным как симфония-действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных. В самом синтетическом жанре произведения, задуманного в качестве театрального представления по типу народной драмы, присутствует как аполлоническое (симфония), так и дионисийское (действо). Панорамный по форме жанр симфонии способствует философскому постижению действительности во всей ее сложности, дает возможность поднять важные общечеловеческие и национальные проблемы смысла человеческой жизни, добра и зла. Термин «действо» подчеркивает связь произведения с теургией, всеединством «храмового действа как синтеза искусств» (П.А. Флоренский), а также с уходящей в глубь веков традицией народных театрализованных представлений. Тот же дуализм прослеживается и в использовании композитором средств выразительности: музыкальных инструментов и голоса. С одной стороны, выбранные В.А. Гаврилиным музыкальные инструменты – гобой и ударные, занимают прочное место в симфоническом оркестре и представляют, таким образом, аполлоническое начало. С другой стороны, им фактически определена дионисийская функция. Так, гобою отведена роль одинокой пастушеской дудочки, которая вызывает ассоциации со свирелью козлоногого бога Пана, входившего в свиту Диониса. Почему композитор не воспользовался народными инструментами – свирелью или жалейкой? Можно предположить, что партия дудочки, подобно ритму шаманского бубна, выполняет медитативные функции и связывает воедино разные миры и времена: реальное («Дорога») и фантастическое 130 («Страшенная баба»), прошлое («Вечерняя музыка») и настоящее («Весело на душе»), лирическое («Посиделки») и драматическое («Молитва»). Дудочка вместе с тем является выразителем индивидуального, а значит, и аполлонического начала. Используемая в качестве солирующего инструмента в «интермедиях», она перемежается с хоровыми номерами. Хор, олицетворяющий народную массу, «хор-народ», коллективную дионисическую природу, «разряжается аполлоновским миром образов» [239, с. 86]. Хор представляется композитору моделью братского общества, братских взаимоотношений между людьми, где они «чутко слушают друг друга, не выскакивая один перед другим, а как-то выравниваясь на один лад» [70, с. 302]. Хоровое искусство – это своего рода индикатор, барометр состояния общества. Как только наступает кризис в обществе, так наступает кризис и в хоровом искусстве. Органично включенная в хоровую ткань произведения группа ударных инструментов усиливает стихийное и разрушительное шумовое начало, позволяет нам увидеть глубинную связь этих инструментов с дионисиями, проходившими, в том числе, под звуки барабанов и бубнов. В то же время колокольный звон (имитируемый ударными инструментами и хором), насквозь пронизывающий всю структуру сочинения, несет в себе аполлоническую энергетику вселенского ритма. Колокол является одним из символов русской культуры. Его звон сопровождал все торжественные и печальные события в жизни народа, служил выражением радости и грусти. У православных он пробуждал светлое и мирное настроение, а у грешников – чувство беспокойства и душевного томления. Вместе с тем колокол упорядочивает время, дает людям знать о каждом часе (времени богослужения) и одновременно напоминает о вечности, когда времени не будет. В творении В.А. Гаврилина слышатся отзвуки народных праздников, деревенских посиделок, старинных былин, церковных песнопений – это звучащее бытие русской деревни. Используя различные фольклорные жанры – частушку, 131 причет, прибаутку, на пьедестал он поднимает только один – народную песню. Тем самым композитор возвращает жанру симфонии ее изначальные свойства большого народно-эпического песенного полотна. Эту идею он обосновывал тем, что все «серьезные» музыкальные формы, включая и симфонию, – это песни. «Слово о полку Игореве», «Песня о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», гомеровские поэмы – все это не что иное, как песни, пусть и своебразные. Голос, считает композитор, подарил миру и нынешнюю, и «прошлую» симфонии [70, с. 189]. По Ницше, именно народная песня суть не что иное, как «perpetuum vestigium» – вечный след, соединяющий аполлоническое и дионисийское. Она является «музыкальным зеркалом мира». Ее распространение свидетельствует о том, насколько могущественно двойственное художественное стремление природы, оставляющее в народной песне следы, аналогичные тем, которые подмечаются в музыке народа, увековечивающей его оргиастические волнения [239, с. 76]. В основе сюжета «Перезвонов» лежит народная песня о смерти благородного разбойника, роль которого исполняют и чтец, и солист – тенор. «Разбойничек – люду бедному заступничек». Благодаря подзаголовку к «Перезвонам» – «По прочтении В. Шукшина», за его метафорическим образом угадываются черты, прежде всего, Степана Разина – обуреваемого страстями народного разбойника-бунтаря. Эпоха Разина сильнейшим образом была волнуема дионисийскими течениями, на которые, как указывал Ницше, «необходимо всегда смотреть как на подпочву и предпосылку народной песни» [239, с. 76]. По мнению философа, музыка и трагический миф в одинаковой мере являются выражением дионисийской способности народа и неотделимы друг от друга. Не удивительно, что С. Разин стал героем большого пласта русских народных песен. Есть что-то в образе персонажа «Перезвонов» и от героя русских сказок Ивана-дурака, который зачастую поступал вопреки здравому смыслу, 132 однако всегда добивался успеха. По словам В.М. Шукшина, герой нашего времени – это всегда «дурачок», в образе которого живет его время, и правда этого времени [397, с. 54]. Оба этих героя являются главными персонажами шукшинских произведений – романа «Я пришел дать вам волю» и повести «До третьих петухов», во многом повлиявших на В.А. Гаврилина при создании эмоционально-образного строя симфонии-действа. Композитор ценил В. Шукшина прежде всего за его внимание к «неблагополучным» характерам, за неприглаженность чувств, обнаженную, как рана, совестливость, не дающую покоя. Все эти ощущения от творчества писателя Гаврилин постарался отразить в «Перезвонах». С. Разин и Иван-дурак – это не «уходящая натура», а вечные персоны вывернутого наизнанку семиотического переворотного алгоритма русского исторического бытия. Их вполне можно назвать дионисийскими, к которым, кстати, Ф. Ницше причислял и себя, и к которым вполне относимы слова философа «нужно носить еще в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду» [240, с. 11]. В.А. Гаврилин, аполлонический художественный дар которого несомненен, придает дионисийскому образу разбойника, тоскующего «по волюшке», высшую значительность, архетипичность «героя». Через его трагическую судьбу, словно растворенную в коллективном бессознательном народа, через песни и хоры, в «Перезвонах», по словам Г. Свиридова, «встает вольная перезвонная Русь» [405, с. 8]. Сам В.А. Гаврилин отмечал, что замысел сочинения состоял в том, чтобы передать душевную жизнь народа через судьбу одного его представителя – от рождения до смерти. Творчество композитора характеризуется обращением к феномену архетипического. Одним из главных архетипических образов в «Перезвонах» является архетип «пути-дороги», по которому поколение за поколением идут люди. Образ дороги традиционно соотносится с мифопоэтикой мировой оси, 133 инобытия, перехода, переправы, свадьбы, смерти и т.д., считается символом всяческой перекресток дезорганизации («росстань», и беспорядка. «распутье») «В славяно-русском наделялся нечистой, язычестве хтонической семантикой и связывался с представлениями об ином мире, о границе, разделяющей мир живых и мир мертвых» [320, с. 59]. На обочинах дорог, у развилок и перекрестков часто хоронили умерших в пути нищих, бездомных, самоубийц, пьяниц. У перекрестка просит себя схоронить и гаврилинский разбойник в номере «Смерть разбойника»: «Ой да схороните меня, братцы разбойнички, ой да между трех дорог, в перекресточке» [69, с. 30]. По музыкальному воплощению этот номер близок лирической протяжной крестьянской песне. Поскольку «Перезвоны» начинаются и заканчиваются образом дороги, то в результате возникает замкнутый круг – круг стихийных дионисийских сил, вырваться из которого человек не может. «Для возможности жить потребовалась бы какая-нибудь дивная иллюзия, набрасывающая перед ним покров красоты на собственное его существо», – полагал Ницше, связывая иллюзию прекрасного с Аполлоном и так называемым «покрывалом Майи» [239, с. 156]. В.А. Гаврилин дает нам надежду вырваться из ужасающей, полной страданий стороны мира, и эта надежда тоже прямо или косвенно связана с аполлоническим – необходимостью самоограничения, отказом от диких порывов, со смирением, высокой нравственностью. Однако композитор не считает эту надежду бесполезной иллюзией и приводит главного героя к очищению, к Всевышнему: «Боже! И зачем бы тебе не простить меня, не снять с меня проклятья своего? Ибо вот я лягу во мраке, завтра поищешь меня, а меня нет» [69, с. 31]. Предпоследняя часть произведения «Молитва» является, пожалуй, апогеем эмоционального, духовного накала в симфонии-действе. Текст «Молитвы» составлен из фрагментов «Поучения Владимира Мономаха» (в переводе академика Д.С. Лихачева) и канонических песнопений. Их подлинность и 134 древность придает «Молитве» особую силу, воздействующую на глубинное подсознание русского человека. «Вера наших отцов в нас в корнях наших сидит. И как бы мы ни хотели забыть это, заругать это, затоптать – ничего не сделаешь – это наш корень» [70, с. 312]. Образ мудреца, который угадывается за молитвой, – еще один архетип, к которому обращается автор. Мудрец знает истину и представляет собой социализированность, знание ограничений, норм и правил; олицетворяет образ учителя. Фоном для монолога чтеца служат удары большого колокола и хоровое пение без слов, с закрытым ртом, что по интонации родственно знаменному пению. Надежда связывается не только с принятием Бога, но и признанием власти над собой других высших сил. Отсюда в номере «Матка-река» (текст этого номера до слов «потерял-потерял» написан поэтессой А. Шульгиной, сотрудничавшей с композитором) – обращение к реке как к пути-дороге, ведущей в мир мертвых: «Матка-река! Не гаси свечу!». Почему река называется «маткой»? У древних славян образ реки связывался с идеей рода, поэтому их ритуальный символизм был связан с Праматерью. В ее власти укротить гибельную волну. Сказанная над водой «речь-Слово космизирует, упорядочивает хаос водной стихии» [320, с. 70]. С точки зрения мифического сознания, это было вполне возможно. А. Лосев считал, что миф – это подлинная реальность, в нем нет ничего выдуманного или фантастического [191, с. 24]. В священной географии народов Севера река также является универсальным символом, «развертывающим всю гамму «речных» мифологических сюжетов, мотивов и образов: мировая (космическая) шаманская река; ось вселенной; небесная и подземная реки; дорога в мир мертвых; граница; запирание вод; потоп; наводнение; космический поединок; окаменение вод; иссечение вод и т.д.» [319, с. 51-52]. Свеча в произведении является символом света, жизни, духовности. 135 Соло дисканта в «Матке-реке» воспринимается как воспоминание о детстве находящегося на смертном одре «разбойника». Жизнь проходит перед ним как кинолента. Душа его становится открытой для правды, добра, истины, когда он вспоминает домашний очаг, деревенские праздники, первую любовь, а самое главное – тепло матери. Образ матери является архетипом, олицетворяющим альтруистические начала в личности, чувство единения с природой, растворение в ней вплоть до потери собственного «пространства» [328, с. 117]. Исследуя дионисийский образ дороги, следует заметить, что он находится в оппозиции к аполлоническому символу жизни – Дому, означающему упорядоченность, стабильность, защищенность, рождение. Дом и все, что с ним связано, выражено чередой светлых хоров. Это и есть тот свет, о котором говорил композитор в одном из своих интервью. В начале и в конце симфонии-действа – трудная дорога, а в середине ее – свет. «И всегда будет любо выйти на простор, взглянуть, как велика и прекрасна русская земля. И как бы ни менялся мир, есть в нем красота, совесть, надежда» [70, с. 291]. Явно прослеживается связь этой радостной музыки со светозарным Аполлоном, богом Света, родиной которого, по преданию, являлась Гиперборея, что указывает на метафизическую со«временность» и со-«пространнственность» северной симфонии-действа В. Гаврилина с нордической природой культа Аполлона. Возникающий в произведении благодаря закольцованной композиции образ круга является архетипом, вмещающим в себя все – Единое, вневременное бытие, и воспринимается как объективный смысл сущего. Наше восприятие представленной композитором всей системы архетипов – дитя, герой, мать, мудрец, путь-дорога, круг – основывается не на разборе музыкального языка, а на подсознательном постижении семантико-звуковой формулы «Перезвонов» – его «протоинтонации» (В.В. Медушевский). «Именно протоинтонация и есть носитель архетипического паттерна переживаний, глубинного опыта сознания, транслирующегося в будущее» [328, с. 121]. 136 В «Перезвонах» обращают на себя внимание лаконизм, краткость текста, что указывает на большую требовательность автора к выразительным средствам. Гаврилинский минимализм может найти объяснение и с философской точки зрения. Согласно Ницше, в слове невозможно исчерпывающим образом передать символику музыки: «Она символизирует сферу, стоящую превыше всех явлений и предшествующую всякому явлению» [239, с. 78]. Язык как орган и символ явлений не может обнажить перед нами внутреннюю сторону музыки: ее сокровенный смысл, несмотря на все лирическое красноречие, не становится нам ближе. Здесь философ размышляет в рамках шопенгауэровского учения о музыке, которая, как писал А. Шопенгауэр, отображает не адекватную объектность воли (явления), а саму волю, показывает метафизическое для всего физического в мире, для всех явлений – вещь в себе [395, с. 228]. На первом плане восприятия – музыка. Слово же лишь обнаруживает глубинную связь музыки с архаической картиной мира и архетипическими образами, проявляющимися в устном фольклоре. В номере «Ти-ри-ри» текст построен на таких словосочетаниях, как «Туды-сюды», «Ягода-года» или «Дробы, робы-робы рабрай». Номер «Ерунда» наполнен небольшими фразами из поговорок, прибауток и потешек: «Та-ра-ми, та-ра-ми, шла коза с товарами. А за ней десять пуд на тарелочках несут», «Тпру-ну-ны, тпру-ну-ны носит Марьюшка штаны, а Иван, а Иван носит красный сарафан», «Тин-тин-длин, тин-тин-длин, зародился в печке блин. На тот блин надо рот шире Иверских ворот». В этот же ряд можно поставить различные звукоподражания, встречающиеся в произведении: «Му», «Карр», «Кис», «Мяу», а также кукареканье и кукованье. Применение автором слов, кажущихся наивным детским лепетом, бессмыслицей, тарабарщиной, на самом деле имеет глубокое значение. Они берут корни из древних магических заговоров, форма слов в которых намеренно искажалась в целях сокрытия истинного смысла. 137 Заслуживает внимания тональный план партитуры «Перезвонов». Хоры, связанные с воспоминаниями героя о детстве и молодости, то есть с аполлоническим, имеют мажорное наклонение. Однако в целом в произведении преобладают минорные тональности. Безусловно, это объясняется трагической судьбой героя. Но следует учитывать и то, что минорная тональность, как отмечал А. Шопенгауэр, вообще свойственна характеру северных народов. В частности, у русских минор, «знак скорби», господствует даже в церковной музыке, пишет философ [393, с. 382-383]. Это качество может быть объяснимо тем, что на характере лирики тех стран, где она творится, отражаются особенности географического ландшафта. Русская лирика, наравне с народной песней, отличается в общем очень широким, но несколько меланхолическим размахом нашей равнины, отмечает В.П. Семенов-Тян-Шанский. А вот в родной для Ф. Ницше германской лирике, с точки зрения ученого-географа, слышится уютная теснота и миловидность средне-германских невысоких гор [301, с. 286]. По Ф. Ницше, «поступательное движение искусства связано с двойственностью аполлонического и дионисийского начал, подобным же образом, как рождение стоит в зависимости от двойственности полов» [239, с. 59]. Диалог и столкновение этих двух начал порождают образцы высокого искусства. К таким образцам, без сомнения, следует отнести и «Перезвоны», в которых самым ярким образом обнаруживается диалектическое взаимодействие, столкновение и переплетение апполонического и дионисийского. К финалу симфонии-действа, когда происходит значительное усиление трагедийно-философских мотивов, оба начала стремятся к идеальному балансу. Этот бинарный бриколаж придает «Перезвонам» уникальную художественную силу и подтверждает то, что в данном произведении явлена истинная гармония правды, добра и красоты северного русского мира. 138 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В диссертационной работе проведен анализ научных проблем и обозначены направления поиска решения культурологических задач, связанных с исследованием звукового ландшафта Русского Севера и его музыкальной рефлексии. Основные научные выводы, полученные в результате исследования, и практические рекомендации по диссертации можно сформулировать следующим образом. Наряду с природными ландшафтами, рельефами местности, реками, озерами и лесами, климатическими явлениями по географическому признаку могут распределяться и проявления духовной деятельности человека, имеющие свои отличительные особенности и образующие в комплексе культурные ландшафты тех или иных территорий. Локальные сообщества этих территорий, взаимодействуя с окружающим их географическим ландшафтом, накапливают, хранят и передают по наследству свою культуру как «совокупность ненаследственной поведенческой информации» (Ю. Лотман, М.Петров), без которой невозможно существование общества. Культурный ландшафт представляет собой кластер геокультурного пространства и феномен культуры – систему матриц и кодов культуры, выражающихся в знаках и символах, непосредственно связанных с территорией и/или имеющих на территории свое материальное выражение (О.А. Лавренова). Возможно, в силу того, что современная культура стала преимущественно визуальной, исследователи не всегда отмечают следующий факт: знаки и символы могут быть представлены не только видимым, но и слышимым. Зримое, с точки зрения П. Флоренского, всегда воспринимается как внешнее, а потому нуждается в переработке во внутреннее, переплавке в звук – наш отголосок на зримое. Чтобы иметь полное представление о мире, нам необходимо не только его видеть, 139 но и слышать. Звуковые образы несут за собой не менее важные социальные последствия, чем визуальные. Отграничение слуховых ощущений от общего потока восприятия человеком реальной действительности дает возможность обнаружить нечто очень важное – самостоятельный мир звуков, взаимосвязанных друг с другом в пространстве и времени. Этот мир существует по своим внутренним законам, в котором как в капле воды отражается мир видимый – с особенностями его географического ландшафта, истории и культуры, представлениями людей об окружающей среде, их мировидении, ценностных ориентирах и идеалах. Системный анализ слышимого мира позволяет выявить пространственно-временной комплекс природных и антропогенных звуков, являющихся материально-духовными знаками определенной территории и создающих ее звуковой образ. За каждым звуком, составляющим этот образ, стоит определенный смысл, некое знание, имевшее большое значение для наших предков, являвшееся условием существования, а иногда и выживания. Духовные ценности звукового мира, созданные в период становления русского этноса, передавались из поколения в поколение в качестве нравственного императива и прирастали новыми творческими приобретениями. Особое место в звуковом ландшафте занимает музыка. Она представляет собой не только слышимую часть бытия, но и его исихию, отражающую «дух» или «образ» места, состоящий из спектра символов. Неслышимые компоненты звукомузыкального ландшафта способны уникальным образом воздействовать на человека помимо его сознания, затрагивая глубинные пласты личности, связанные с культурными традициями конкретной местности, расширяя коммуникативнопознавательные возможности человечества. Значимым компонентом звукового ландшафта, наделенным определенным значением, является слово, в частности топоним, позволяющий идентифицировать конкретную местность и семиотически структурировать географическое 140 пространство в целом. Получая имя, становясь социокультурным знаком, топос приобретает духовное содержание, и прежде всего речевую реальность в звучащем слове, которое «независимо от его смысла, подобно музыке, настраивает известным образом душу» (П.А. Флоренский). Благодаря топониму возникают невидимые границы эксклюзивного звукового ландшафта, разграничивающие «свое» и «чужое» культурное пространство, а местность обретает уникальное звучание, свой звукомузыкальный образ, передающий как внешний характер местности, так и ее скрытую сущность. (По Платону наименование – это подражание сущности вещи.) Разным народам присущ свой характер, различны реалии их жизни (этнические, конфессиональные, лингвистические, политико-исторические, экономико-культурные), разнообразны и возникающие в связи с этими реалиями и менталитетом художественные ассоциации, образы, метафоры. А значит, и мир в их творчестве, в том числе музыкальном – традиционном народном и композиторском – отражается и осмысливается по-разному. В результате звукомузыкальный ландшафт конкретной местности формируется как уникальный комплекс музыкальных звуков и интонаций, художественно отражающих культурные особенности данной местности в конкретную эпоху, являющихся частью «культурного кода» исторического сообщества людей. Звуковой ландшафт Русского Севера представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих звуковых (музыкальных) знаков, символов и архетипов, уникальность которого обусловлена особенностями географического и культурного ландшафта данной территории. Узнаваемость звукового (музыкального) облика Русского Севера обусловлена, прежде всего, «поморьской говорей», придающей звучащей речи напевный, «округлый» характер. Неповторимый колорит в звуковой ландшафт вносят топонимы – слова-реликты, имеющие более чем тысячелетнюю историю и представляющие собой звуковой след племен и народностей, проживавших здесь тысячелетия 141 назад. Важную роль также играют сохранившиеся архаические формы коллективного и индивидуального музицирования. В песенных жанрах используются древнейшие типы взаимодействия голосов в музыкальной ткани – гетерофония и монодия. Имеющий ранневизантийские корни знаменный распев, запись которого относится к так называемой безлинейной нотации, осуществляется крюками (знаменами), сохранился в виде хомонии или наонного пения в среде старообрядчества Поморья. Еще одна грань самобытного звукового ландшафта Русского Севера – сохранившееся здесь в силу исторических причин эпическое творчество Древней Руси (былины, старины, духовные стихи, скоморошины), а также особенно развитая на Русском Севере традиция плачей, причетов – отзвуки древних языческих обрядов. Окружающая природная среда отразилась не только в содержании произведений музыкального и устного творчества, но и на их форме. Плавная, текучая мелодическая линия, сглаженный ритмический рисунок, отсутствие больших интервальных скачков, мягкий, прикрытый звук голоса, непрерывность движения напева протяжных песен, структура которых словно не имеет конца – все это сродни гигантским просторам Севера, с его плоским, равнинным ландшафтом. В сдержанной манере исполнения произведений отпечаталась суровая природа края, характер и мировоззрение проживающего здесь населения с его эстетическими и этическими нормами и идеалами. Весь этот многогранный звуковой мир берет свое начало из тишины Севера и несет ее сакральные родовые черты. Тишина – это не просто некий перерыв в звучании, не пустота. Это антитеза звуку, его обратная сторона. Как в музыкальном произведении пауза представляет собой значимый художественноэмоциональный компонент произведения, так и на Севере тишина является знаком, несущим скрытые, метафизические смыслы, влияющие на мироощущение и мировидение человека, задает «сдержанный, степенный» алгоритм его поведения. Север как бы задает формат звукового общения, диалога с ним – 142 молчание. Для него, как монаха-исихаста, умершего для суетного мира и ищущего молитвенного уединения, безмолвие – это полное совершенство. Чем ближе к Северу, тем меньше звуков живой природы – до абсолютной, звенящей тишины, которая в экзистенциальном смысле тождественна хаосу, смерти. Звучание живого слова здесь – нарушение некоего закона, установленного высшими силами, вызов им, факт отрицания смерти. Вместе с тем для христианства смерть – это условие воскресения и вечной жизни. Тишина может быть нарушена во имя жизни, которая дарована другой высшей силой, Богом. Протопоп Аввакум, пятнадцать лет просидевший на хлебе и воде в земляной тюрьме в Пустозѐрске (ныне территория Ненецкого автономного округа), выживал, поддерживая свой дух молитвенным пением. По сакральному положению практически в один ряд с христианскими молитвами поморы ставили былины, старины, эпические песни. Наряду со словом средством гармонизации хаоса являлись также народные музыкальные инструменты, которые наделялись сверхъестественной силой. В целом поморские мелос и логос воспроизводили на Земле звучащую музыкально-поэтическую гармонию семи небесных сфер и были направлены на выживание человека в суровых условиях Севера – метафизической границы жизни и смерти, космоса и хаоса. Явлением звукового мира, направленным на разрушение этой гармонии, является скоморошество, занимающее особое место в сакральном фундаменте традиционной культуры Поморья и отражающее такую характерную черту русского народа, как двоеверие: соединение язычества с православной верой. Звуковой доминантой Русского Севера является колокольный звон. Этот звон объединяет огромные, мало освоенные человеком пространства, словно накрывая их одним общим сакральным куполом. Колокольные звоны Русского Поморья основывались на законах местной северной певческой традиции, которой была свойственна особая эстетика многоголосия, в том числе присущая ей импровизационность. Импровизационная составляющая колокольного звона 143 была обусловлена также тем, что на Севере были распространены одноярусные колокольни с легкими колоколами. Управлялись эти колокола одним или двумя звонарями, которые импровизационный имели талант. хорошую Сама возможность природа на Севере проявить свой способствовала «всепроницаемости» колокола: равнинная местность, отражающая способность водных пространств, холодный воздух – все это играло роль естественного резонатора, создавало благоприятную акустическую среду, распространяя звук колокола на многие и многие километры. Без колокола немыслимо создание полноценных образов Родины, русского человека. Это хорошо осознавал композитор В.А. Гаврилин – создатель симфонии-действа «Перезвоны», являющейся звучащей моделью «северного мiра». Художественное полотно «Перезвонов» развернуто от современности до корневых архетипических пластов народной жизни. Колокол, имитируемый хором и ударными инструментами, пронизывает всю структуру этого сочинения, объединяет все ее части духом соборности, присущей русскому православному миру. Вместе с тем произведение наполнено отзвуками народных праздников, деревенских посиделок, старинных былин, церковных песнопений – звуковой аурой русской деревни. Используя различные фольклорные жанры – частушку, причет, прибаутку, автор делает акцент на народной песне, которая, по Ницше, является «музыкальным зеркалом мира». В «Перезвонах» композитору удалось воплотить дуальную природу русской души: языческую дионисическую стихию и аскетически-монашеское православие. «Озоновый слой» смыслов, связанных со звуками и музыкой, характерными для Русского Севера, защищает культуру этой территории от «радиации» негативных образцов западной культуры, помогает сохранить культурнорелигиозную идентичность. Вместе с тем процессы глобализации продолжают размывать связь между географическим местом и его культурной идентичностью, разрушают преемственность традиций. Объясняется это тем, что внутреннее 144 пространство звуковой семиосферы не может не взаимодействовать с пространством внешним, располагающимся за ее пределами. В результате этого процесса возникает ситуация не только обмена, взаимодействия и трансформации, но и деформации внутренней структуры звуковой семиосферы. Значительная часть духовной жизни многих поколений северян может быть безвозвратно утеряна, если мы, во-первых, не предпримем усилия по сохранению звукового ландшафта Русского Севера, а во-вторых, утратим его верную интерпретацию в контексте соответствующего культурного ландшафта. Разрушению звукомузыкальных символов территории предшествует их обесценивание, превращение в заурядные знаки. Символы утрачивают свою смысловую и эмоциональную нагрузку, в результате чего мы теряем способность пользоваться звукомузыкальным кодом своей территории. На опасность этой тенденции указывал Ф.А. Абрамов, подчеркивавший важность сохранения лучших вековых традиций и признававший большую трудность противостояния шумовому дурману и ложным призывам. Он предостерегал об опасности повального нашествия новомодных западных наркотических ритмов, отравляющих душу, доводящих человека до исступления, сокрушался, что новая песня с ее оглушительными диссонансами и однообразием утратила глубину душевных переживаний. В целях сохранения звукового ландшафта Русского Севера как ценностносмысловой составляющей региональной идентичности необходимо дальнейшее его изучение. Размышляя о сохранении культурной идентичности Европы, П. Вагнер (профессор политологии и социальной теории Европейского университетского института во Флоренции) предлагает рассматривать Европу в условиях глобализации культуры как место, от которого может исходить «предложение о создании мира, опирающегося на собственный опыт и на этом опыте основывающегося» [433, с. 511]. Аналогичное предложение может исходить и от многонациональной России, в мультикультурном пространстве которой 145 важное место занимает культура Русского Севера и, в частности, такая специфическая категория объектов его культурного наследия, как звук и музыка. 146 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 1. Аввакум (протопоп). Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Аввакум. – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1990. – 351 с. 2. Августин, Аврелий. Исповедь / Аврелий Августин. Абеляр, Петр. История моих бедствий / Петр Абеляр. – М.: Республика, 1992. – 335 с. 3. Аверинцев, С.С. Поэтика ранневизантийской литературы / С.С. Аверинцев. – М.: Coda, 1997. – 343 с. 4. Агапкина, Т.А. Вещь, образ, символ: колокол и колокольный звон в традиционной культуре славян / Т.А. Агапкина // Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. – М.: Индрик, 1999. – С. 210 – 282. 5. Агапкина, Т.А. Мать пресвятая Богородица, колокол святой: Какие звоны раздавались над Россией / Т.А. Агапкина // Родина. – 1997. – № 1. – С. 94 – 97; № 2 – С. 86 – 88. 6. Адорно, Т. Философия новой музыки / Т. Адорно. – М.: Логос, 2001. – 352 с. 7. Адорно, Т. Эстетическая теория / Т. Адорно. – М.: Республика, 2001. – 527 с. 8. Андреев, Д. Роза мира. Метафилософия истории / Д. Андреев. – М.: Руссико, 1991. – 288 с. 9. Андреева, Е.Д. Звуковой ландшафт как реальный объект и исследовательская проблема / Е.Д. Андреева // Экология культуры. – М.: Институт Наследия, 2000. – С. 76 – 85. 10. Андреева, Е.Д. О звуковом маркировании культурного ландшафта и пространства этнокультуры / Е.Д. Андреева // Культурный ландшафт как объект наследия. – М.: Институт наследия; СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – С. 105 – 115. 147 11. Античная музыкальная эстетика / авт. вступит. очерка, сост. А.Ф. Лосев; авт. предисл. В.П. Шестаков. – М.: Музгиз, 1960. – 304 с. 12. Анциферов, Н.П. «Непостижимый город…»: Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Петербург Пушкина / Н.П. Анциферов. – СПб.: Лениздат, 1991. – 335 с. 13. Апинян, Т.А. Музыка в контексте истории философии: между универсумом и человеком. Метафизические размышления о музыке / Т.А. Апинян. – СПб.: Изд-во С. – Петерб. ун-та, 2008. – 143 с. 14. Арановский М.Г. Музыка и мышление / М.Г. Арановский // Музыка как форма интеллектуальной деятельности / ред.-сост. М.Г. Арановский. – М.: КомКнига, 2007. – С. 10 – 43. 15. Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии: исследование / М.Г. Арановский. – М.: Музыка,1991. – 320 с. 16. Аристотель. Метафизика / Аристотель. – М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. – 232 с. 17. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс / Б.В. Асафьев. – М.: Музыка, 1971. – 376 с. 18. Асафьев, Б.В. На русском Севере / Б.В. Асафьев // Песни Заонежья в записях 1880 – 1980 годов / под ред. Е.В. Гиппиуса. – Л.: Советский композитор, 1987. – С. 171 – 173. 19. Астахова, А.М. и др. Русский фольклор. Специфика фольклорных жанров / А.М. Астахова и др.– М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1966. – Т.X. – 357 с. 20. Байбурин, А.К. Семиотический статус вещей и мифология / А.К. Байбурин // Материальная культура и мифология: Сб. МАЭ. Т. ХХХVII. – Л., 1981. – С. 215 – 226. 21. Балашов, Д.М., Марченко, Ю.И. Русская свадьба / Д.М. Балашов, Ю.И. Марченко. – М.: Современник, 1985. – 394 с. 148 22. Барсукова, Т. В. Феномен тишины в живописи: сравнительный анализ: автореф. дис. … канд. искусствоведения: 24.00.01 / Барсукова Татьяна Владимировна. – Челябинск, 2011. – 23 с. 23. Барт, К. Послание к Римлянам / К. Барт. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. – 580 с. 24. Барт, Р. Нулевая степень письма / К. Барт. – М.: Академический Проект, 2008. – 431 с. 25. Батюшков, К.Н. Опыты в стихах и прозе / К.Н. Батюшков. – М.: Наука, 1977. – 607 с. 26. Бахтин, Н.М. Четыре фрагмента / Н.М. Бахтин // Философия как живой опыт. Избранные статьи. – М.: Лабиринт, 2008. – С. 56 – 61. 27. Башляр, Г. Избранное: Поэтика пространства / Г. Башляр. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 376 с. 28. Белкин, А.А. Русские скоморохи / А.А. Белкин. – М.: Наука, 1975. – 193 с. 29. Белов, В.И. Лад: Очерки о народной эстетике / В.И. Белов. – М.: Мол. гвардия, 1989. – 420 с. 30. Белова, О., Белов, Г. Хоровая симфония-действо / О. Белова, Г. Белов // Советская музыка. – 1988. – № 1. – С. 24 – 28. 31. Белова, О.В. Валерий Гаврилин / О.В. Белова // Композиторы Российской Федерации. Вып. 3. – М.: Советский композитор, 1983. – С. 3 – 38. 32. Белова, О.В. Этот необычайный музыкальный мир Гаврилина / О.В. Белова // Музыкальная жизнь. – 1988. – № 23. – С. 11 – 12. 33. Беломорье / сост. Д. Ушаков. – М.: Современник, 1984. – 503 с. 34. Белоненко, А.С. Правда жизни / А.С. Белоненко // Правда. – 1984. – 7 апр. 35. Беляев, И.Д. О скоморохах / И.Д. Беляев // Временник императорского Московского общества истории и древностей российских. Кн. 20. – Москва, 1854. – С. 69 – 92. 149 36. Берг, Л.С. Предмет и задачи географии / Л.С. Берг // Изв. ИРГО, 1915. – Т. 51. – Вып. 9. – С. 463 – 475. 37. Бердяев, Н.А., Русская идея / Н.А. Бердяев. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 320 с. 38. Бернштам, Т.А. Народная культура Поморья / Т.А. Бернштам. – М.: Москва, 2008. – 432 с. 39. Бернштам, Т.А. Поморы / Т.А. Бернштам; под ред. К.Р. Чистова. – Л.: Наука, 1978. – 176 с. 40. Бибихин, В.В. Язык философии / В.В. Бибихин. – М. Прогресс, 1993. – 403 с. 41. Библия. М.: Российское библейское общество, 2006. – 1346 с. 42. Бидерманн, Г. Энциклопедия символов / Г. Бидерманн; под общ. ред. И.С. Свенцицкой. – М.: Республика, 1996. – 335 с. 43. Блок, А.А. Стихотворения. Поэмы. Пьесы / А.А. Блок. – М.: Эксмо, 2008. – 448 с. 44. Богданов, К.А. Очерки по антропологии молчания. Homo Tacens / К.А. Богданов. – СПб.: РХГИ, 1998. – 352 c. 45. Богомолов, А.Г. Метафизика звука в западноевропейской культуре: дис. …канд. филос. наук: 09.00.13 / Богомолов Андрей Георгиевич. – М., 2008. – 189 с. 46. Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока. – М.: Наука, 1993. – 224 с. 47. Бонфельд, М.Ш. Музыка: Язык. Речь. Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства / М. Ш. Бонфельд. – СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2006. – 648 с. 48. Бонхоффер, Д. Сопротивление и покорность / Д. Бонхоффер. – М.: Прогресс, 1994. – 344 с. 150 49. Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты / Боэций. – М.: Наука, 1990. – 413 с. 50. Былины / сост. В.И. Калугин. – М.: Современник, 1986. – 559 с. 51. Бялик, М. «Русская тетрадь» Валерия Гаврилина / М. Бялик // Музыкальная жизнь. – 1968. – № 1. – С. 2 – 4. 52. Вагнер, Р. Моя жизнь / Р. Вагнер. – М.: Эксмо; СПб.: TerraFantastica, 2003. – 864 с. 53. Вайль, П. Гений места / П. Вайль. – М.: Астрель: Corpus, 2011. – 448 с. 54. Вайль, П., Генис, А. Сказки о Германии / П. Вайль, А. Генис // Родник. – 1989. – № 11 (35), ноябрь. – С. 66 – 71. 55. Варава, В.В. Митрополит Евгений (Болховитинов) и «Философия Отчего края» / В.В. Варава // Москва. – 2005, февраль. – С.186 – 204. 56. Васильченко, Е.В. История и теория музыки: звук/музыка в системе культуры / Е.В. Васильченко. – М.: Изд-во РУДН, 2006. – 126 с. 57. Веденин, Ю.А. Основы географического подхода к изучению и сохранению культурного наследия / Ю.А. Веденин // Наследие и современность: информационный сборник. Вып.12. – М.: Институт наследия, 2004. – С. 3 – 21. 58. Веденин, Ю.А. Очерки по географии искусства / Ю.А. Веденин. – М.: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия, 1997. – 224 с. 59. Веденин, Ю.А., Кулешова, М.С. Культурный ландшафт как объект культурного и природного наследия / Ю.А. Веденин, М.С. Кулешова // Известия РАН. Сер. геогр. – 2001. – № 1. – С. 7 – 14. 60. Верещагин, В.В. На Северной Двине. По деревянным церквам / В.В. Верещагин. – М.: Типо-литография т-ва И.Н. Кушнерев и К., 1896. – 121 с. 61. Верещагин, В.П. Очерки Архангельской губернии / В.П. Верещагин. – Санкт-Петербург: тип. Якова Трея, 1849. – 408 с. 151 62. Вернадский, В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский // Биосфера и ноосфера. – М.: Айрис-пресс, 2004. – С. 242 – 469. 63. Витгенштейн, Л. Логико-философский трактат / Л. Витгенштейн // Философские работы. Ч.1. – М.:Гнозис,1994. – С.1– 73. 64. Владышевская, Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси / Т.Ф. Владышевская. – М.: Знак, 2006. – 472 с. 65. Владышевская, Т.Ф. О старообрядческих певцах Поморья / Т.Ф. Владышевская // Семиотика культуры. – Архангельск, 1988. – С. 93 – 96. 66. Власова, З.И. Скоморохи и фольклор / З.И. Власова. – СПб.: Алтейя, 2001. – 524 с. 67. Власова, И.В. Этнографические группы русского народа. Группы русских северной зоны / И.В. Власова // Русские. Монография Института этнологии и антропологии РАН / под ред. В.А. Александрова, И.В. Власовой и Н.С. Полищук. – М.: Наука, 1999. – 828 с. 68. Гаврилин, В. О музыке и не только…Записи разных лет / В. Гаврилин; сост. Н.Е. Гаврилина и В.Г. Максимов. – СПб.: Композитор, 2003. – 344 с. 69. Гаврилин, В.А. Перезвоны. Партитура / В.А. Гаврилин. – Л.: Советский композитор, 1985. – 163 с. 70. Гаврилин, Валерий. Слушая сердцем…Статьи. Выступления. Интервью / Валерий Гаврилин. – СПб.: Композитор. 2005. – 456 с. 71. Гартман, Н. Систематическая философия в собственном изложении / Н. Гартман // Фауст и Заратустра. – СПб.: Азбука, 2001. – 320 с. 72. Гартман, Н. Эстетика / Н. Гартман. – Киев: «Ника-Центр», 2004. – 639 с. 73. Гаспаров, Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования / Б.М. Гаспаров. – М.: Новое литературное обозрение, 1996. – 352 с. 74. Гемп, К.П. Сказ о Беломорье / К.П. Гемп. – М., 2008. – 224 с. 152 75. Геопанорама русской культуры: провинция и ее локальные тексты / сост. В.В. Абашев, А.Ф. Белоусов, Т.В. Цивьян. – М.: Языки славянских культур, 2004. – 673 с. 76. Гердер, И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер. – М.: Наука, 1997. – 705 с. 77. Гердер, И.Г. Трактат о происхождении языка / И.Г. Гердер // Избранные сочинения. – М.-Л.: Государственное изд-во художественной литературы, 1959. – С. 133 – 154. 78. Гете, И. Фауст / И. Гете. – М.: Художественная литература, 1969. – 510 с. 79. Гильфердинг, А.Ф. Онежские былины, записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 г. / А.Ф. Гильфердинг; сост. А.И. Баландина. – Архангельск: Сев.-Зап. кн:. изд-во, 1983. – 337 с. 80. Гиппиус, Е.В. Музыкальный быт Заонежья / Е.В. Гиппиус // Музыка и революция. – 1927. – № 5 – 6. – С. 16 – 20. 81. Г-кен, А. Бетховен. Жизнь. Личность. Творчество. / А. Г-кен. – СПб.: Тип. А.В. Орлова, 1910. – Ч. 3. – 231 с. 82. Гладкова, О.И. Валерий Гаврилин и его хоровая симфония-действо «Перезвоны» / О.И. Гладкова. – СПб.: Издательство СПбГУКИ, 2002. – 32 с. 83. Голос в культуре: Ритмы и голоса природы в музыке: сборник статей / под ред. И.А. Чудинова, А.А. Тимошенко. Вып.3 – СПб.: Российский институт истории искусств, 2011. – 180 с. 84. Горький, М. Мать. Собрание сочинений: в 16 т. Т.4. / М. Горький. – М.: Правда,1979. – 398 с. 85. Григорьев, А.Д. Архангельские былины и исторические песни, собранные А.Д. Григорьевым в 1899-1901 гг.: с напевами, записанными посредством фонографа, Т. 1, Ч. 1. Поморье. Ч. 2. Пинега / А.Д. Григорьев. – М.: Изд. Император. Акад., 1904. – 705 с. 153 86. Григорьева, Е.А. Идея единства математики, музыки и космологии в философии А.Ф. Лосева: автореф. дис. … канд. филос. наук: 09.00.13 / Григорьева Елена Алексеевна. – Курск, 2011. – 21 с. 87. Гриндэ, Н. История норвежской музыки / Н. Гриндэ. – Л.: Музыка, 1982. – 191 с. 88. Грицанов, А.А. Ландшафт / А.А. Грицанов // Новейший философский словарь; сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – С. 542. 89. Гумбольдт, В. Избранные труды по языкознанию / В. Гумбольдт. – М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2000. – 400 с. 90. Гумбольдт, В. Язык и философия культуры / В. Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1985. – 451 с. 91. Гусева, А.Н. Русский колокол как музыкальный феномен: автореф. дис. … докт. искусствоведения: 17.00.02 / Гусева Анна Николаевна. – М., 2011. – 44 с. 92. Давыдов, А.Н. Колокола на Русском Севере / А.Н. Давыдов // Колокола: история и современность. – М.: Наука, 1985. С. 149 – 161. 93. Денисов, А. Музыкальная семиотика: краткий экскурс в историю развития / А. Денисов // Musicus. – № 2, март-апрель. – 2009. – С. 1 – 68. 94. Деррида, Ж. Голос и феномен / Ж. Деррида. – СПб.: Издательство «Алетейя», 1999. – 208 с. 95. Деррида, Ж. Концы человека / Ж. Деррида // После философии. – М.: Академический Проект, 2010. – С. 139 – 168. 96. Дивакова, Н.А. Художественно-ассоциативный культурный ландшафт как предмет исследования / Н.А. Дивакова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2011. – № 7. Ч. 3. – С. 66 – 69. 154 97. Дмитриева, С.И. Очерк этнокультурной истории Архангельского Поморья / С. И. Дмитриева // Мировоззрение и культура севернорусского населения. – М., 2006. – С. 3 – 68. 98. Древнеегипетская книга мертвых: Слово Устремленного к Свету / сост. А. К. Шапошников. – М.: Эксмо, 2011. – 368 с. 99. Евразийское пространство: звук, слово, образ / сост. В.В. Иванов. – М.: Языки славянских культур, 2003. – 584 с. 100. Загитова, Л.Ч. Феномен музыки в контексте бытия человека: опыт философского анализа: дис. … канд. филос. наук: 09.00.01 / Загитова Лилия Чулпановна. – Сибай, 2006. – 135 с. 101. Замятин, Д.Н. Гуманитарная география: пространство, воображение и взаимодействие современных гуманитарных наук / Д.Н. Замятин // Социологическое обозрение. – 2010. – № 3. – С.29 – 50. 102. Замятин, Е.И. Север / Е.И. Замятин. – М.: Москва, 2009. – 288 с. 103. Зарубина, Л.П. Философия и музыка / Л.П. Зарубина. – Челябинск: ЧГАКИ, 2002. – 250 с. 104. Захарова, К.Ф. Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров / К.Ф. Захарова, В.Г. Орлова, А.И. Сологуб, Т.Ю. Строганова; отв. ред. В.Г. Орлова. – М.: Наука, 1970. – 456 с. 105. Земцовский, И.И. Звучащее пространство Евразии / И.И. Земцовский // Евразийское пространство: Звук, слово, образ / отв. ред. Вяч. Вс. Иванов; сост. Л.О. Зайонц, Т.В. Цивьян. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – С. 397 – 408. 106. Земцовский, И.И. Русское в «Русской тетради» / И.И. Земцовский // Советская музыка. – 1966. – № 12. – С. 31 – 38. 107. Земцовский, И.И. Фольклор и композитор / И.И. Земцовский. – М.: Советский композитор, 1977. – 176 с. 155 108. Земцовский, И.И. Фольклор и композитор сегодня / И.И. Земцовский // Советская музыка. – 1977. – №1. – С. 34 – 35. 109. Зеньковский, В.В. Христианская философия / В.В. Зеньковский; под ред. О.А. Платонова. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – 1072 с. 110. Зеньковский, В.В. Христианское учение о познании / В.В. Зеньковский // Христианская философия. – М.: Институт русской цивилизации, 2010. – С. 12 – 147. 111. Зеньковский, С.А. Русское старообрядчество: в 2 т. / С.А. Зеньковский; сост. Г.М. Прохоров. – М.: Институт ДИ-ДИК, Квадрига, 2009. – 668 с. 112. Золтай, Д. Этос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля / Д. Золтай. – М.: Прогресс, 1977. – 370 с. 113. Зюмтор, П. Опыт построения средневековой поэтики / П. Зюмтор. – СПб.: Алетейя, 2003. – 544 с. 114. Иван Данилов – мастер колокольного звона / сост. Е. Дорофеева. – Архангельск: Правда Севера, 2007. – 224 с. 115. Иванилова, Т.В. Нравственно-философская концепция творчества В.А. Гаврилина: автореф. дис. … канд. искусствоведения:17.00.02 / Иванилова Татьяна Валерьевна. – СПб, 2011. – 23 с. 116. Иванов, В.В. Искусство как средство выражения этнической идентичности: дис. … канд. филос. наук: 09.00.13 / Иванов Вадим Викторович. – Ставрополь, 2006. – 157 с. 117. Иванова, А.А., Калуцков, В.Н. и др. Святые места в культурном ландшафте Пинежья / А. А. Иванова, В.Н. Калуцков, Л.В. Фадеева. – М.: Москва, 2009. – 512 с. 118. Иванов, Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему / Вяч. Вс. Иванов. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 208 с. 119. Иванов, Г.В. Стихотворения: в 3 т. / Г.В. Иванов. – М.: Согласие, 1993. – Т.1. – 656 с. 156 120. Иванов, С.А. Блаженные похабы: культурная история юродства / С.А. Иванов. – М.: Языки славянских культур, 2005. – 448 с. 121. Иевлева, И.Е. Традиционная народная песенная культура – основа музыкальной идентичности Архангельского Севера / И.Е. Иевлева // Экология культуры. – Архангельск, 2005. – № 1(35). – С. 150 – 157. 122. Ильин, В.Н. Эстетический и богословско-литургический смысл колокольного звона / В.Н. Ильин // Музыка колоколов. Вып.2; сост. А.Б. Никоноров. – СПб.: РИИИ, 1999. – С. 228 – 232. 123. Исаченко, А.Г. О двух трактовках понятия «культурный ландшафт» / А.Г. Исаченко // Известия РГО. – 2003. Т. 135. – №1. – С. 5 – 16. 124. Исаченко, А.Г. Развитие географических идей / А.Г. Исаченко. – М.: Мысль, 1971. – 416 с. 125. Истомин, Ф.М. Об экспедиции на Север / Ф.М. Истомин // Песни Заонежья в записях 1880 – 1980 годов; под ред. Е.В. Гиппиуса. – Л.: Советский композитор,1987. – С. 165 – 170. 126. Каган, М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб., ТОО ТК «Петрополис», 1996. – 416 с. 127. Каганский, В.Л. Культурный ландшафт: основные концепции в Российской географии / В.Л. Каганский // Обсерватория культуры: журналобозрение. – 2009. – № 1. – С. 62 – 70. 128. Кайуа, Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Р. Кайуа. – М.: ОГИ, 2003. – 296 с. 129. Калачникова, Н.В., Нехлебаева, Н.А. Северная природа в верхнетоемских частушках / Н.В. Калачникова, Н.А. Нехлебаева // Живое слово Севера: сб. научн. трудов / под ред. Н.В. Хохлова, Н.В. Осколкова. – Архангельск, 2009. – С. 25 – 31. 130. Калуцков, В.Н. Географические городские песни России / В.Н. Калуцков // Антропологический форум. – 2008. – № 8. – С. 393 – 401. 157 131. Калуцков, В.Н. Геоконцепты в географии / В.Н. Калуцков // Культурная и гуманитарная география. Т. 1. – 2012. – № 1. – С. 27 – 36. 132. Калуцков, В.Н., Иванова, А.А. Географические песни в традиционном культурном ландшафте России / В.Н. Калуцков, А.А. Иванова. – М.: Изд-во ПФОП, 2006. – 212 с. 133. Калуцков, В.Н. Основы этнокультурного ландшафтоведения / В.Н. Калуцков. – М.: Изд-во Моск. ун-та. 2000. – 96 с. 134. Калуцков, В.Н. Топологическая организация традиционного культурного ландшафта / В.Н. Калуцков // Культурный ландшафт как объект наследия. – М.: Институт наследия, СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – С. 116 – 142. 135. Калуцков, В.Н. Этнокультурное ландшафтоведение // Вестн. Моск. ун-та. Сер. География. – 2006. – № 2. – С. 6 – 12. 136. Каратыгина, М.И. Теория музыкальных культур мира в творчестве Дж.К. Михайлова / М.И. Каратыгина // Вопросы философии. – 1999. – № 9. – С. 106 – 109. 137. Кассирер, Э. Философия символических форм. Т. 1: Язык / Э. Кассирер. – М.; СПб.: Университетская книга, 2002. – 272 с. 138. Кассирер, Э. Философия символических форм. Т. 2: Мифологическое мышление / Э. Кассирер. – М.; СПб.: Университетская книга, 2002. – 280 с. 139. Кассирер, Э. Философия символических форм. Т. 3: Феноменология познания / Э. Кассирер. – М.; СПб.: Университетская книга, 2002. – 398 с. 140. Кейдж, Дж. Будущее музыки: Credo / Дж. Кейдж // Музыкальная академия. – 1997. – № 2. – С. 210 – 211. 141. Кейдж, Дж. История экспериментальной музыки в США / Дж. Кейдж // Музыкальная академия. – 1997. – № 2. – С. 205 – 210. 142. Клюев, А.С. Музыкальное искусство в человеческом «измерении» / А.С. Клюев // Философский век. Вып. 22. Науки о человеке в современном мире. Материалы международной конференции, 19 – 21 декабря 2002 г., Санкт- 158 Петербург. Ч. 2. – СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2002. – С. 269 – 281. 143. Клюев, А.С. Музыкальное искусство как звуковое явление / А.С. Клюев // Философский век. Альманах. Вып. 7. Между физикой и метафизикой: наука и философия. – СПб., 1998. – С. 390 – 405. 144. Клюев, А.С. Онтология музыки в контексте философской рефлексии XVII – XVIII веков / А.С. Клюев // Философский век. Альманах. Вып. 3: Христиан Вольф и русское вольфианство. – СПб., 1998. – С. 124 – 130. 145. Клюев, А.С. Философия музыки в синергетическом ключе / А.С. Клюев // Философские науки. – 2010. – № 6. – С. 114 – 128. 146. Клюев, Н.А. Белая Индия: Стихотворения и поэмы / Н.А. Клюев. – М.: Издательский дом «Летопись», 2000. – 447 с. 147. Ковалив, В.В. Раздайся, благовестный звон (колокола в истории культуры) / В.В. Ковалив. – Мн.: Православное Братство во имя Архистратига Михаила, 2003. – 158 c. 148. Ковыршина, Ю.И. Старина в традиционной культуре Русского Севера: кризисное время и пограничное пространство / Ю.И. Ковыршина // Проблемы духовной культуры народов Европейского Севера и Сибири. Сб. стат. памяти Ю.Ю. Сурхаско. Гуманитарные исследования. Вып. 2; под ред. А.П. Конкка. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2009. – С. 279 – 286. 149. Колмановский, Э. Поговорим с тобою, сын… / Э. Колмановский. – М.: Советский композитор, 1976. – 95 с. 150. Коломиец, Г.Г. Ценность музыки: философский аспект / Г.Г. Коломиец. – М.: Книжный дом «Либроком», 2012. – 532 с. 151. Кольцов, П.Ф. Особенности фольклора Архангельской области и связь его с хоровым пением / П.Ф. Кольцов // Фольклор и современность. Материалы 159 первой Архангельской научно-практической фольклорной конференции. – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1972. – С. 3 – 25. 152. Кон, Ю.Г. К вопросу о понятии «музыкальный язык» / Ю.Г. Кон // От Люлли до наших дней. – М.: Музыка, 1977. – С. 93 – 104. 153. Коран: репринт. воспроизведение в 2 томах. – М.: СП «Дом Бируни», 1990. – 1178 с. 154. Коченда, М.В. Природа и основания медитативной музыки как феномена культуры / М.В. Коченда // Вестник Челябинского государственного университета. Вып. 18. – 2010. – № 20 (201). – С. 60 – 65. 155. Кошмина, И.В. Русская духовная музыка: в 2 кн. Кн. 1: История, стили, жанры / И.В. Кошмина. – М.: Владос, 2001. – 224 с. 156. Красовская, Т.М. Экологические корреляционные связи в поморском культурном ландшафте / Т.М. Красовская // Культурная и гуманитарная география. Т.1. – 2012. – №1. – С. 46 – 53. 157. Краткое историческое описание монастырей Архангельской Епархии. – Архангельск: Издательство Архангельской Епархиальной церковно- археологической комиссии, 1902 (Типо-литогр. наследников Д. Горяйного). – 592 с. 158. Крехалева, Е.А. В. Гаврилин: музыкальные краски Севера / Е.А. Крехалева // Традиционная и современная культура: история, актуальное положение, перспективы: материалы международной научно-практической конференции 20-21 сентября 2011 г. – Пенза – Москва – Минск, 2011. – С. 115 – 118. 159. Крехалева, Е.А. Дуальная модель в музыкальной культуре Русского Севера / Е.А. Крехалева // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – Архангельск, 2013. – № 3. – С. 115 – 119. 160 160. Крехалева, Е.А. Звуковой ландшафт Родины В. Гаврилина / Е.А. Крехалева // Михайловские чтения – 2011: сборник статей научно-практической конференции. – Архангельск, 2012. – С. 33 – 37. 161. Крехалева, Е.А. Колокол как звучащий центр мироздания / Е.А. Крехалева // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып.6: Геоисторические и геоэтнокультурные образы и символы освоения арктического пространства. – Архангельск, 2011. – С. 364 – 371. 162. Крехалева, Е.А. Колокольные звоны в контексте семиотики звучащее/ молчащее / Е.А. Крехалева // Вестник Поморского университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – Архангельск, 2011. – № 6. – С.118 – 121. 163. Крехалева, Е.А. Мелос и логос Севера / Е.А. Крехалева // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – Архангельск, 2012. – № 3. – С. 122 – 125. 164. Крехалева, Е.А. Музыка как число: от пифагорейцев до А.Ф. Лосева / Е.А. Крехалева // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып.7: Север в сакральном и геоэтнокультурном пространстве России. – Архангельск, 2013. – С. 112 – 117. 165. Крехалева, Е.А. Музыка небесных сфер в архаических мифологиях и религиозно-философских учениях / Е.А. Крехалева // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – Архангельск, 2012. – № 6. – С. 125 – 128. 166. Крехалева, Е.А. Роль и значение шума в звуковом пространстве музыкального искусства / Е.А. Крехалева // Контроль и оценка компетенций обучающихся как условие повышения качества образования: материалы XVII межрегиональных педагогических чтений 24-25 февраля 2015 г. – Архангельск, 2015. – С. 158 – 162. 161 167. Крехалева, Е.А. Русский Север: музыкально-поэтическая гармония / Е.А. Крехалева // Народы Евразии. История, культура и проблемы взаимодействия: материалы II международной научно-практической конференции 5-6 апреля 2012 г. – Пенза – Баку – Белосток, 2012. – С. 73 – 77. 168. Крехалева, Е.А. Семиозис звукового ландшафта Севера / Е.А. Крехалева // Гуманитарные науки в XXI веке: материалы X Международной научнопрактической конференции (10.10.2012). Москва, 2012. – С. 64 – 70. 169. Крехалева, Е.А. Топология звукового ландшафта Русского Севера / Е.А. Крехалева // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2012. – № 12 (26) 2012: в 3-х ч.Ч. II. – С. 106 – 109. 170. Криничная, Н.А. Он стал чинить сетки, ловушки и другие рыболовные снасти… / Н.А. Криничная // Живая старина. – 1995. – № 4 (8). – С. 34 – 37. 171. Крутикова-Абрамова, Л.В. Федор Абрамов и Север / Л.В. КрутиковаАбрамова // Жива Россия: Федор Абрамов: его книги, прозрения и предостережения. – СПб.: Атон, 2003. С. 337 – 341. 172. Кулешова, М.Е. Всемирное наследие и место в нѐм культурных ландшафтов / М.Е. Кулешова // Наследие и современность. Вып.15. – М.: Институт Наследия, 2007. – С. 21 – 46 173. Культура и пространство. Славянский мир / отв. ред. И.И. Свирида. – М.: Издательство «Логос», 2004. – 287 с. 174. Культура русских поморов: Опыт системного исследования / сост. Э.Л. Базарова, Н.В. Бицадзе, А.В. Окорокова, Е.Н. Селезнева, П. Ю. Черносвитов. – М.: Научный мир, 2005. – 400 с. 175. Куратов, А.А. Северная ономастика / А.А. Куратов // Вопросы топонимики Подвинья и Поморья. – Архангельск, 1991. – С. 12 – 23. 176. Лавренова, О.А. Семантика культурного ландшафта: дис. … докт. филос. наук:24.00.01 / Лавренова Ольга Александровна. – М., 2010. – 334 с. 162 177. Лавренова, О.А. Семиотика культурного ландшафта / О.А. Лавренова // Гуманитарная география. Вып.2. – М.: Институт Наследия, 2005. – С. 370 – 371. 178. Ландшафты культуры. Славянский мир / отв. ред. И.И. Свирида. – Москва.: Прогресс – Традиция, 2007. – 350 с. 179. Леви-Стросс, К. Мифологики: в 4-х т. Т.1: Сырое и приготовленное / К. Леви-Стросс. – М.; СПб.: Университетская книга, 1999. – 406 с. 180. Левкиевская, Е.Е. Голос и звук в славянской апотропеической магии / Е.Е. Левкиевская // Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. – М., 1999. – С. 51 – 72. 181. Лейбниц, Г.-В. Начала природы и благодати, основанные на разуме / Г.-В. Лейбниц // Сочинения: в 4 т. / под ред. В.В. Соколова. – М.: Мысль, 1982. – Т. I. – С. 404 – 412. 182. Лейбниц, Г.-В. Некоторые соображения о развитии наук и искусстве открытия / Г.-В. Лейбниц // Сочинения: в 4 т. / под ред. Г.Г. Майорова и А. Л. Субботина. – М.: Мысль, 1984. – Т. 3. – С. 461 – 479. 183. Леонтьев, Н.П. Печерские былины и песни / Н.П. Леонтьев. – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1979. – 354 с. 184. Линник, Ю. В. Этюды на темы В.А. Крохина [Электронный ресурс] / Ю.В. Линник // Сайт для любителей путешествий по Русскому Северу. – Режим доступа: http://www.kenozerje.17-71.com ru/linnik.htm. – Дата обращения: 22.08.1015. 185. Лихачев, Д.С. О национальном характере русского народа / Д.С. Лихачев // Вопросы философии. – 1991. – № 4. – С. 3 – 6. 186. Лихачев, Д.С. Русская культура / Д.С. Лихачев. – М.: Искусство, 2000. – 440 с. 187. Ли цзи // Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1973. – С. 99 – 140. 163 188. Личутин, В.В. Душа неизъяснимая. Размышления о русском народе / В.В. Личутин. – М.: Вече, 2012. – 608 с. 189. Ломоносов, М.В. Ода на день восшествия на престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1748 года / М.В. Ломоносов // Полное собрание сочинений. Т. 8: Поэзия. Ораторская проза. Надписи. – М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 215 – 226. 190. Ломоносов, М.В. Ода на день тезоименитства его императорского высочества государя великого князя Петра Федоровича 1743 года / М.В. Ломоносов // Полное собрание сочинений. Т. 8: Поэзия. Ораторская проза. Надписи. – М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 103 – 110. 191. Лосев, А.Ф. Диалектика мифа / А.Ф. Лосев // Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – С. 21 – 186. 192. Лосев, А.Ф. Из ранних произведений / А.Ф. Лосев. – М.: Издательство «Правда», 1990. – 665 с. 193. Лосев, А.Ф. История античной философии в конспективном изложении / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1989. – 204 с. 194. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Последние века / А.Ф. Лосев. – М.: Искусство,1988. – 447 с. 195. Лосев, А.Ф. Музыка как предмет логики / А.Ф. Лосев // Из ранних произведений. – М.: Издательство «Правда» 1990. – С. 195 – 390. 196. Лосев, А.Ф. Философия имени / А.Ф. Лосев // Из ранних произведений. – М.: Правда, 1990. – С. 9 – 192. 197. Лосев, А.Ф. Форма – Стиль – Выражение / А.Ф. Лосев; сост. А.А. ТахоГоди; общ. ред. А.А. Тахо-Годи и И.И. Маханькова. – М.: Мысль, 1995. – 944 с. 198. Лосский, Н.О. Очерки мистического богословия Восточной Церкви / Н.О. Лосский. – М.: Центр «СЭМ», 1991. – 288 с. 164 199. Лосский, Н.О. Условия абсолютного добра: Основы этики; Характер русского народа / Н.О. Лосский. – М.: Политиздат, 1991. – С. 238 – 260. 200. Лотман, Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство – СПб, 2000. – 704 с. 201. Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю.М. Лотман. – СПб.: Академический проект, 2002. – 544 с. 202. Лотман, Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. – М.: Искусство, 1970. – 384 с. 203. Лотман, Ю.М. Текст и функция / Ю.М. Лотман // Статьи по семиотике культуры и искусства. – СПб.: Академический проект, 2002. – С. 24 – 37. 204. Лотман, Ю.М., Успенский, Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) / Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский // История и типология русской культуры. – СПб.: Искусство – СПб., 2002. – С. 88 – 116. 205. Лоханский, В.В. Русские колокольные звоны / В.В. Лоханский // Колокола: история и современность. – М.: Наука,1985. – С. 18 – 24. 206. Мазель, Л.А. О мелодии / Л.А. Мазель. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1952. – 300 с. 207. Макарова, С.Е. Трубы, била и колокола как сакральные музыкальные инструменты / С.Е. Макарова // Музыка колоколов: сборник исследований и материалов. Вып.2. – СПб.: РИИИ, 1999. – С. 11 – 31. 208. Мальцев, С.М. Если конкретизировать споры / С.М. Мальцев // Советская музыка. – 1980. – № 9. – С. 39 – 50. 209. Марков, А.В. Беломорские былины, записанные А. Марковым / А.В. Марков. – М.: Т-во скоропечати А.Г. Левенсона, 1901. – 632 с. 210. Медушевский, В.В. Интонационная форма музыки / В.В. Медушевский. – М.: Композитор, 1993. – 262 с. 165 211. Медушевский, В.В. Стиль как семиотический объект / В.В. Медушевский // Советская музыка. – 1979. – № 3. – С. 31 – 32. 212. Мелос и Логос: Диалог в истории: материалы Третьей Международной конференции «Метафизика искусства», 19-20 ноября 2004 г. / под ред. М.С. Уварова. Вып.2. – СПб.: Барс, 2005. – 180 с. 213. Меркулов, П.И. Концепция культурного ландшафта и становление представлений об этнокультурном ландшафтоведении / П.И. Меркулов // Актуальные проблемы географии и геоэкологии (электронное научное периодическое издание). – 2008. – Вып. 1(3). – 8 с. 214. Меркулов, П.И., Меркулова и др. Взаимодействие мордовского этноса и ландшафтов в контексте устойчивого развития (на примере локальных территорий Республики Мордовия) / П.И. Меркулов, С.В. Меркулова, А.В. Кривов. – Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 340 с. 215. Мерло-Понти, М. Око и дух / М. Мерло-Понти. – М.: Искусство, 1992. – 63 с. 216. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. – СПб.: Ювента; Наука, 1999. – 606 с. 217. Мечковская, Н.Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура / Н.Б. Мечковская. – М.: Академия, 2007. – 432 с. 218. Мечковская, Н.Б. Язык и религия / Н.Б. Мечковская. – М.: ФАИР, 1998. – 352 с. 219. Мещерякова, Н.А. «Иоанн Дамаскин» Танеева и «Перезвоны» Гаврилина: диалог на расстоянии века / Н.А. Мещерякова // Музыкальная академия. – 2000. – № 1. – С.190 – 195. 220. Мильков, Ф.Н. Человек и ландшафты: очерки антропогенного ландшафтоведения / Ф.Н. Мильков. – М.: Мысль, 1973. – 224 с. 166 221. Мировоззрение и культура севернорусского населения / отв. ред. И.В. Власова; институт этнологии и антропологии РАН. – М.: Наука, 2006. – 388 с. 222. Мифологические рассказы Архангельской области / сост. Н.В. Дранникова, И. А. Разумова. – М., 2008. – 304 с. 223. Михайлов, А.В., Чередниченко, Т.В. Тенденция современной западной музыкальной эстетики / А.В. Михайлов, Т.В. Чередниченко // Вопросы философии. – 1991. – № 3. – С.185 – 186. 224. Михайлов, А. Неумолкнувший голос / А. Михайлов // Вера. – 2011. – Вып. 24 (№ 650). – С. 17 – 19. 225. Михайлов, Дж.К. О возможности и необходимости универсальной терминологии в музыке / Дж.К. Михайлов // Вопросы философии. – 1999. – № 9. – С. 109 – 120. 226. Морозов, А.А. Скоморохи на севере / А.А. Морозов // Север: Альманах. Архангельск, 1946. – С. 193 – 245. 227. Моррис, Ч.У. Основания теории знаков / Ч.У. Моррис // Семиотика / под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 2002. – С. 45 – 96. 228. Мудрецы Китая. Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы. – СПб.: Издательство «Петербург – XXI век»; ТОО «Лань», 1994. – 416 с. 229. Музыка как форма интеллектуальной деятельности / ред.-сост. М.Г. Арановский. – М.: КомКнига, 2007. – 240 с. 230. Музыка колоколов: сборник исследований и материалов. Вып.2. – СПб, 1999. – 272 с. 231. Музыкальные культуры мира [Электронный ресурс] // Официальный сайт научно-творческого центра Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Режим доступа: http://www.worldmusiccenter.ru. – Дата обращения: 22.12.2014. 232. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения / сост. В.П. Шестаков. – М.: Музыка, 1966. – 574 с. 167 233. Музыкальный энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Келдыша. – М: Советская энциклопедия, 1990. – 672 с. 234. Назайкинский, Е. В. Звуковой мир музыки / Е.В. Назайкинский. – М.: Музыка, 1988. – 254 с. 235. Наследие Бориса Шергина: сборник статей / сост. и отв. ред. Е.Ш. Галимова. – Архангельск: Помор. ун-т, 2004. – 108 с. 236. Нелаева, Е.М. Здравствуй, морюшко Белое! Сказители Крюковы из Зимней Золотицы / Е.М. Нелаева. – Архангельск: Поморский государственный университет, 2001. – 232 с. 237. Николаев, Б. Значение колокольного звона в богослужении / Б. Николаев // Колокола и колокольни. М., 1994. – С. 24 – 28. 238. Николаев, В.А. Культурный ландшафт – геоэкологическая система / В.А. Николаев // Вестник МГУ. Сер. География. – Москва, 2000. – № 6. – С. 3 – 8. 239. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к Рихарду Вагнеру / Ф. Ницше // Сочинения: в 2 т. / сост. К.А. Свасьян. – М.: Мысль, 1990. – Т.1. – С. 57 – 156. 240. Ницше, Ф. Так говорил Заратустра / Ф. Ницше // Сочинения: в 2 т. / сост. К.А. Свасьян. – М.: Мысль, 1990. – Т. 2. – С. 5 – 169. 241. Новалис. Гимны к ночи / Новалис // Генрих фон Офтердингер. – М.: Ладомир: Наука, 2003. – С. 146 – 155. 242. Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001. – 1280 с. 243. Обручев, С.В. Русские поморы на Шпицбергене / С.В. Обручев. – М.: Наука, 1964. – 143 с. 244. Овчинникова, Т.К. Хоровой театр в современной отечественной музыкальной культуре: автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02 / Овчинникова Татьяна Константиновна. – Ростов-на-Дону, 2009. – 29 с. 168 245. Одоевский, В.Ф. Из записной книжки. Поэзия и философия / В.Ф. Одоевский // О литературе и искусстве. – М.: Современник, 1982. – С. 33 – 38. 246. Одоевский, В.Ф. Какая польза от музыки / В.Ф. Одоевский // Музыкальнолитературное наследие. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1956. – С. 459 – 463. 247. Одоевский, В.Ф. Новая русская опера: Иван Сусанин / В.Ф. Одоевский // Музыкально-литературное наследие. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1956. – С. 126 – 130. 248. Одоевский, В.Ф. О литературе и искусстве / В.Ф. Одоевский. – М.: Современник, 1982. – 223 с. 249. Озаровская, О.Э. Пятиречие / О.Э. Озаровская / сост. Л.В. Федорова. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1989. – 336 с. 250. Ончуков, Н.Е. Северные сказки: в 2 т. / Н.Е. Ончуков. – СПб.: Тропа Троянова, 2006. – Т. 2. – 476 с. 251. Ополовников, А.В. Сокровища Русского Севера / А.В. Ополовников. – М.: Стройиздат, 1989. – 367 с. 252. Орлов, Г. Древо музыки / Г. Орлов. – Вашингтон – СПб.:, Н.А. Frager&Co, Советский композитор, 1992. – 404 с. 253. Орлова, Э.А. История антропологических учений / Э.А. Орлова. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2010. – 621 с. 254. Осипова, Н.О. Структурно-семиотический подход как аспект методологии гуманитарного знания [Электронный ресурс] / Н.О. Осипова // Культурологический журнал. – 2011/3(5). – Режим доступа: http://www.cr- journal.ru/rus/journals/79.html&j_id=7. – Дата обращения: 10.08.2015. 255. Павлов, И.П. Условный рефлекс // Полн. собр. соч.: в 6 т. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1951. – Т. 3, кн. 2. – С. 320 – 343. 169 256. Панченко, А.М. О русской истории и культуре / А.М. Панченко. – СПб.; Азбука, 2000. – 464 с. 257. Пашкова, З.Г. Песни Пинеги / З.Г. Пашкова. – Архангельск: Правда Севера, 1999. – 62 с. 258. Пашкова, З.Г. Пинежская свадьба / З.Г. Пашкова. – Архангельск: ОАО «ИПП Правда Севера», 2006. – 104 с. 259. Пермиловская, А.Б. Крестьянский дом в культуре Русского Севера (XIX – начало XX века) /А.Б. Пермиловская. – Архангельск: Правда Севера, 2005. – 312 с. 260. Пермиловская, А.Б. Русский Север как особая территория наследия / А.Б. Пермиловская. – Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера»; Екатеринбург: УрО РАН, 2010. – 552 с. 261. Пермиловская, А.Б. Северный дом / А.Б. Пермиловская. – Петрозаводск: ПетроПресс, 2000. – 224 с. 262. Перовский, В. Антониево-Сийский монастырь / В. Перовский // Краткое историческое описание монастырей Архангельской Епархии. – Архангельск: Издательство Архангельской Епархиальной церковно-археологической комиссии, 1902 (Типо-литогр.Наследников Д. Горяйного). – С. 77 – 204. 263. Песни русского народа: собраны в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 году / записали: сл. Ф.М. Истомин, напевы Г.О. Дютш. – СанктПетербург: издано Императорским Русским географическим обществом, 1894. – XXVI. – 244 с. 264. Песни, собранные П.Н. Рыбниковым: в 3 т. Т. 3. Песни, причитания, сказки и другие жанры / под ред. Б.Н. Путилова. – Петрозаводск: Карелия. 1991. – 365 с. 265. Пирс, Ч. Начала прагматизма / Ч. Пирс. – СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. – 352 с. 170 266. Писахов, С.Г. Сказки. Очерки. Письма / С.Г. Писахов; сост. И.Б. Пономарева. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1985. – 367 с. 267. Платон. Альбин / Платон // Диалоги. – М.: Мысль, 1986. С. 437 – 475. 268. Платон. Кратил // Сочинения: в 4 т. / под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд-во Олега Абышко», 2006. – Т.1. – С. 421 – 502. 269. Платон. Лахет / Платон // Диалоги. М.: – Мысль, 1986. – С. 223 – 249. 270. Платон. Сочинения: в 4 т. / под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд-во Олега Абышко», 2006. – Т. 1. – 632 с. 271. Платон. Федон / Платон // Сочинения: в 4 т. / под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та: «Изд-во Олега Абышко», 2007. – Т. 2. – С.11 – 96. 272. Платон. Филеб / Платон // Сочинения: в 4 т. / под общ. ред. А.Ф. Лосева и В.Ф. Асмуса. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; «Изд-во Олега Абышко», 2007. – Т. 3. Ч. 1 – С. 11 – 96. 273. Плутарх. Застольные беседы / Плутарх. – Л.: Наука, 1990. – 592 с. 274. Плутарх. Сочинения / Плутарх. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 384 с. 275. Подорога, В.А. Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии / В.А. Подорога. – М.: AdMarginem, 1995. – 427 с. 276. Подорога, В.А. Метафизика ландшафта / В.А. Подорога. – М.: Наука, 1993. – 320 с. 277. Поморская сага: образ Русского Севера / сост. В. Бондаренко. – М.: Сов. Россия, 1984. – 560 с. 278. Поморская энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. Н.П. Лаверова. Т. I: История Архангельского Севера / гл. ред. В.Н. Булатов. – Архангельск: Поморский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 2001. – 483 с. 171 279. Попков, Ю.В., Тюгашев, Е.А. Философия Севера: коренные малочисленные народы Севера в сценариях мироустройства / Ю.В. Попков, Е.А. Тюгашев. – Салехард; Новосибирск: Сибирское научное издательства, 2006. – 376 с. 280. Попов, С.В. Топонимия Белого моря / С.В. Попов // Вопросы топонимики Подвинья и Поморья. – Архангельск, 1991. – С. 45 – 54. 281. Попова, Л.Д. Зодчество Архангельска: художественный образ, стиль, традиция / Л.Д. Попова. – Архангельск: Правда Севера, 2010. – 359 с. 282. Пропп, В.Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре / В.Я. Пропп. – М.: Лабиринт, 2006. – 256 с. 283. Путилов, Б.Н. Миф – обряд – песня Новой Гвинеи / Б.Н. Путилов. – М.: Москва, 1980. – 383 с. 284. Раабен, Л.Н. О духовном ренессансе в русской музыке 1960-80-х годов / Л. Н. Раабен. – СПб.: Бланка Бояныч, 1998. – 350 с. 285. Рагулина, М.В. Культурная география: теории, методы, региональный синтез / М.В. Рагулина. – Иркутск: Изд-во ИГ СО РАН, 2004. – 173 с. 286. Радищев, А.Н. О человеке, о его смертности и бессмертии / А.Н. Радищев // Сочинения. – М.: Художественная литература, 1988. – С. 428 – 554. 287. Раппопорт, С.Х. Природа искусства и специфика музыки / С.Х. Раппопорт // Эстетические очерки. – М.: Музыка, 1980. – С. 63 – 102. 288. Ратцель, Ф. Народоведение: в 2 т. / Ф. Ратцель. – СПб.: Издательство типографии книгоиздательского товарищества «Просвещение», 1902. – Т.1. – 764 с. 289. Ратцель, Ф. Народоведение: в 2 т. / Ф. Ратцель. – СПб.: Издательство типографии книгоиздательского товарищества «Просвещение», 1902. – Т. 2. – 877 с. 290. Рафаил (Карелин; архимандрит). О музыке и церковном пении [Электронный ресурс] / Архимандрит Рафаил Карелин // Официальный сайт 172 архимандрита Рафаила Карелина. – Режим доступа: http://www.karelinr.ru/iskuss/12/2.html. – Дата обращения: 22.12.2014. 291. Рафаил (Карелин; архимандрит). Церковь и мир на пороге Апокалипсиса / Архимандрит Рафаил Карелин. – М.: Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1999. – 132 с. 292. Рафикова, А.Р. Семантика музыкального текста: философский анализ: дис. … канд. филос. наук: 09.00.01 / Рафикова Альбина Раилевна. – Чебоксары, 2006. – 121 с. 293. Ригведа. Мандалы: I-IV. – М.: Наука, 1999. – 767 c. 294. Ригведа. Мандалы: V-VIII. – М.: Наука, 1999. – 743 с. 295. Рубцов, Н.М. Подснежники Ольги Фокиной / Н.М. Рубцов // Вологодский комсомолец. – 1966. – 2 февраля. 296. Рубцов, Н.М. Последняя осень: cтихотворения, письма, воспоминания современников / Н.М. Рубцов. – М.: Эксмо-Пресс, 2005. – 608 с. 297. Ручьевская, Е.А. Мелодия сквозь призму жанра / Е.А. Ручьевская // Критика и музыкознание. Вып. 2. – Л.: Музыка, 1980. – С. 35 – 53. 298. Самсонова, Т.П. Феномен человека в отечественной музыкальной культуре: автореф. … докт. филос. наук: 09.00.13 / Самсонова Татьяна Петровна. – СПб, 2008. – 45 с. 299. Свирида, И.И. Ландшафт в культуре как пространство, образ и метафора / И.И. Свирида // Ландшафты культуры. Славянский мир. – Москва.: Прогресс -Традиция, 2007. – С. 4 – 25. 300. Святого Аврелия Августина епископа иппонийского шесть книг о музыке // Муз. академия. – 1995. – № 1. – С. 131 – 139. 301. Семенов-Тян-Шанский, В.П. Район и страна / В.П. Семенов-Тян-Шанский. – М., Л.: Государственное издательство, 1928. – 311 с. 302. Семенов-Тян-Шанский, П.П. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная дорожная книга для русских людей / П.П. 173 Семенов-Тян-Шанский; под ред. В.П. Семенова.– СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1903. – Т. 7. – 518 с. 303. Серов, А.Н. Критические статьи: в 2 т. / А.Н. Серов. – СПб.: Типография Департамента Уделов, 1892. – 1215 с. 304. Слесарев, В.В. Антонина Яковлевна Колотилова. Страницы жизни / В.В. Слесарев. – Архангельск: Правда Севера, 2008. – 328 с. 305. Соссюр, Ф. де. Труды по языкознанию / Ф. де Соссюр. – М.: Прогресс, 1977. – 695 с. 306. Сохор, А.Н. Две «тетради» В. Гаврилина / А.Н. Сохор // Советская музыка. – 1965. – № 11. – С. 21 – 26. 307. Сохор, А.Н. Эстетическая природа жанра в музыке / А.Н. Сохор. – М.: Музыка, 1968. – 103 с. 308. Спивак, Д.Л. Финский субстрат в метафизике Петербурга / Д.Л. Спивак // Метафизика Петербурга / гл. ред. Л. Морева. Вып.1. – СПб.: СанктПетербург МСМХСIII, 1993. – C. 38 – 46. 309. Спирова, Э.М. Символ как понятие философской антропологии: автореф. … докт. филос. наук: 09.00.13 / Спирова Эльвира Маратовна. – М., 2011. – 44 с. 310. Супоницкая, К.А. Вокальные циклы В. Гаврилина: особенности стиля: автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02 / Супоницкая Ксения Аркадьевна. – М., 2011. – 25 с. 311. Сыма Цянь. Исторические записки (Ши Цзы) / Сыма Цянь. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1986. – Т. 4. – 453 с. 312. Сыма Цянь. Юэ Шу «Трактат о музыке» / Сыма Цянь // Исторические записки (Ши Цзы). – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1986. – Т.4. – С. 70 – 96. 313. Тевосян, А.Т. Концерт в трѐх частях памяти В. Гаврилина… / А.Т. Тевосян // Музыкальная академия. – 2000. – № 1. – С. 184 – 190. 174 314. Тевосян, А.Т. Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина / А.Т. Тевосян. – СПб.: Композитор, 2009. – 618 с. 315. Теребихин, Н.М. Геософия и сакральная география как проектноориентированное направление исследований в области этнокультурологии народов Северной Евразии / Н.М. Теребихин // Вестник С(А)ФУ. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – Архангельск, 2012. – № 1. – С. 80 – 87. 316. Теребихин, Н.М. Геософия Поморья / Н.М. Теребихин // Вестник Поморского университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – Архангельск, 2001. – № 1. – С. 8 – 17. 317. Теребихин, Н.М. Лукоморье: очерки религиозной геософии и маринистики Северной России / Н.М. Теребихин. – Архангельск: Изд-во Помор. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 1999. – 204 с. 318. Теребихин, Н.М. Метафизика Севера / Н.М. Теребихин. – Архангельск: Поморский университет, 2004. – 275 с. 319. Теребихин, Н.М. Образы и символы реки в священной географии Северной Фенноскандии (Лапландии) / Н.М. Теребихин // Вестник Поморского университета. – Архангельск, 2010. – № 4. – С. 51 – 55. 320. Теребихин, Н.М. Сакральная география Русского Севера (религиозномифологическое пространство северорусской культуры / Н.М. Теребихин. – Архангельск: Изд-во Помор. междунар. пед. ун-та, 1993. – 220 с. 321. Теребихин, Н.М. Север в пространстве русской культурной традиции / Н. М. Теребихин // Вестник Поморского университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. – Архангельск, 2003. – №2 (4). – С. 24 – 35. 322. Терц, А. Река и песня / А. Терц // Дружба народов. – 1990. – № 10. – С. 233 – 241. 323. Тибетская книга мертвых. – СПб.: Издательство Чернышева, 1992. – 225 с. 175 324. Толстая, С.М. Звуковой код традиционной народной культуры / С.М. Толстая // Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. – М.: Индрик,1999. – С. 9 – 16. 325. Толстой, Н. И. Избранные труды. Т.1: славянская лексикология и семасиология / Н. И. Толстой. – М.: Языки русской культуры. 1997. – 520 с. 326. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ / В.Н. Топоров. – М.: Издательский центр «Прогресс» – «Культура», 1995. – 625 с. 327. Тормосова, Н.И. Каргополье: история исчезнувших волостей / Н.И. Тормосова. – Каргополь: Каргопольский музей, 2011. – 711 с. 328.Торопова, А.В. Музыкальные архетипы как «агенты» спонтанной и целенаправленной терапии общества и «внутреннего делания» человека / А. В. Тормосова // Музыкальная психология и психотерапия. –2010. – № 2 (17) март-апрель. – С. 114 – 121. 329.Тосин, С.Г. Колокольный звон в России: традиция и современность: автореф. дис. … докт. искусствоведения: 17.00.02 / Тосин Сергей Геннадьевич. – Новосибирск, 2010. – 44 с. 330. Трубачев, С. Музыкальный мир Г.А. Флоренского / С. Трубачев // Советская музыка. – 1988. – № 9. – С. 99 – 102. 331. Тулупов, Н.В., Шестаков, П.И. Белое море и поморы / Н.В. Тулупов, П.И. Шестаков. – М.: тип. И.Д. Сытина, 1913. – 64 с. 332. Туровский, Р.Ф. Культурные ландшафты России / Р.Ф. Туровский. – М.: Рос. НИИ культур. и природ. наследия,1998. – 208 с. 333. Уваров, М.С. Алексей Толстой и Теодор Адорно: два образа метафизики искусства / М.С. Уваров // Метафизика искусства. Мировая и петербургская традиции реалистической философии: материалы межд. конференций. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. филос. об-ва, 2004. – С. 6 – 13. 334. Уваров, М.С. Архитектоника исповедального слова / М.С. Уваров. – М.: Алетейя, 1998. – 256 с. 176 335. Уваров, М.С. Бинарный архетип / М.С. Уваров. – СПб.: Изд-во Балтийского госуд. технич. ун-та, 1996. – 214 с. 336. Уваров, М.С. Отзвуки музыки / М.С. Уваров // Звучащая философия. Сборник материалов конференции. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. – С. 201 – 207. 337. Уваров, М.С. Третья природа: размышления о культуре и цивилизации / М. С. Уваров. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – 252 с. 338. Ульциферов, О.Г. Культурное наследие Индии / О.Г. Ульциферов. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. – 880 с. 339. Успенский, Г.И. Власть земли / Г.И. Успенский. – М.: Сов. Россия, 1988. – 400 с. 340. Успенский, Б.А. Избранные труды. Т. I: Семиотика истории. Семиотика культуры / Б.А. Успенский. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 608 с. 341. Устав церковного звона. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005. – 80 с. 342. Фаминцин, А.С. Скоморохи на Руси / А.С. Фаминцин. – СПб.: тип. Э. Арнгольда, 1889. – 191 с. 343. Фет, А. Стихотворения / А. Фет. – Петрозаводск: Карелия,1987. – 477 с. 344. Финдейзен, Н. Очерки по истории музыки в России / Н. Финдейзен. – М. – Л. – Т.1. – 1928. – 236 с. 345. Фирсов, А. Холмогорский Успенский женский монастырь / А. Фирсов // Краткое историческое описание монастырей Архангельской Епархии. – Архангельск: Издательство Архангельской Епархиальной церковно- археологической комиссии (Типо-литогр. наследников Д. Горяйного), 1902. – С. 518 – 562. 346. Флоренский, П.А. Иконостас: избранные труды по искусству / П.А. Флоренский. – СПб.: Мифрил, Русская книга, 1993. – 366 с. 177 347. Флоренский, П.Α. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной антроподицеи) / П.А. Флоренский; сост. и ред. игумен Андроник (А.С. Трубачев). – М.: Мысль, 2004. – 685 с. 348. Флоренский, П.Α. Сочинения: в 4 т. Τ. 3. ч.1. У водоразделов мысли / П.А. Флоренский; сост. и ред. игумен Андроник (А.С. Трубачев), П.В. Флоренский, М.С. Трубачева. – М.: Мысль, 2000. – 621 с. 349. Флоренский, П.Α. Сочинения: в 4 т. Τ. 4. Письма с Дальнего Востока и Соловков / П.А. Флоренский; сост. и ред. игумен Андроник (А.С. Трубачев), П.В. Флоренский, М.С Трубачева. – М.: Мысль, 1998. – 795 с. 350. Флоренский, П.Α. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии / П.А. Флоренский; сост. и ред. игумен Андроник (А.С. Трубачев). – М.: Мысль, 2000. – 446 с. 351. Флоренский, П.А. У водоразделов мысли: сборник статей / П.А. Флоренский. – М.: Издательство «Правда», 1990. – 446 с. 352. Флоровский, Г. Пути русского богословия / Г. Флоровский. – Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2006. – 607 с. 353. Фокина, О.А. Стихи / О.А. Фокина. – Архангельск: Северо-Западное книжное издательство, 1969. – 158 с. 354. Фольклор и этнография Русского Севера / под ред. Б.Н. Путилова, К.В. Чистова. – Л.: Наука, 1973. – 279 с. 355. Францева-Дозорова, Е.Н. Философы и музыка. Ч. 1. От Пифагора до Кеплера / Е.Н. Францева-Дозорова. – М.: ООО «Луч», 2007. – 240 с. 356. Фролова, А.В. Русский праздник. Традиции и инновации в праздниках Архангельского Севера ХХ - начала ХХI века / А.В. Фролова; под ред. М.Ю. Мартыновой. – М.: Феория, 2010. – 152 с. 357. Фуко, М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук / М. Фуко. – М.: Прогресс, 1977. – 448 с. 178 358. Хадеева, Е.Н. Колокольная образность в русском музыкальном искусстве XIX – начале XX века: автореф. … канд. искусствоведения: 17.00.02 / Хадеева Елена Николаевна. – Казань, 2004. – 21 с. 359. Хайдеггер, М. Время и бытие / М. Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – 447 с. 360. Хайдеггер, М. Исток художественного творения / М. Хайдеггер. – М.: Академический Проект, 2008. – 528 с. 361. Хайдеггер, М. Положение об основании / М. Хайдеггер. – СПб.: Алтейя, 2000. – 290 с. 362. Хайдеггер, М. Путь к языку / М. Хайдеггер // Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993. – С. 259 – 273. 363. Хамель, П.М. Через музыку к себе. Как мы познаем и воспринимаем музыку / П.М. Хамель. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2007. – 248 с. 364. Хан, Х.И. Мистицизм звука / Х. И. Хан. – М.: Сфера, 1997. – 336 с. 365. Хаснулин, В.И. Этнические особенности психофизиологии коренных жителей севера как основа выживания в экстремальных природных условиях / В.И. Хаснулин // Проблемы сохранения здоровья в условиях Севера и Сибири: труды по медицинской антропологии. – М.: ОАО «Типография "Новости"», 2009. – С. 36 – 55. 366. Хлебников, В. Творения / В. Хлебников. – М.: Сов. писатель, 1987. – 736 с. 367. Холопов, Ю.Н. О сущности музыки / Ю.Н. Хлебников // Sator arepo tenet opera rotas. Ю.Н. Холопов и его научная школа. – М.: Музыка, 2003. – С. 6 – 17. 368. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства / В.Н. Холопова. – СПб.: Лань, 2000. – 320 с. 369. Холопова, В.Н. Область бессознательного в восприятии музыкального содержания / В.Н. Холопова. – М.: Преет, 2002. – 24 с. 179 370. Холопова, В.Н. Специальное и неспециальное музыкальное содержание / В.Н. Холопова. – М.: Преет, 2002. – 32 с. 371. Холопова, В.Н. Три стороны музыкального содержания [Электронный ресурс] / В.Н. Холопова // Музыкальное содержание: наука и педагогика. Материалы Первой Российской научно-практической конференции 4-5 декабря 2000 г., г. Москва. – Москва-Уфа: РИЦ УГИИ, 2002. – С. 55 – 76. Режим доступа: http://www.kholopova.ru/bibrus1.html. – Дата обращения: 22.12.2014. 372. Хоружий, С.С. К феноменологии аскезы / С.С. Хоружий. – М.: Издательство гуманитарной литературы. 1998. – 352 с. 373. Христиансен, Л.Л. Из наблюдений над творчеством композиторов «Новой фольклорной волны» / Л.Л. Христиансен // Проблемы музыкальной науки. Вып. 1. – М.: Советский композитор, 1972. – С. 198 – 218. 374. Цветаева, А.И., Сараджев, Н.К. Мастер волшебного звона / А.И. Цветаева, Н.К. Сараджев; общ. ред. В. Руденко. – М.: Музыка, 1988. – 110 с. 375. Цветов, В.Я. Пятнадцатый камень сада Реандзи / В.Я. Цветов. – М.: Политиздат, 1987. – 366 с. 376. Цивьян, Т.В. Отражение звукового пейзажа в языке и тексте / Т.В. Цивьян // Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. – М.: Индрик, 1999. – С. 149 – 178. 377. Цивьян, Ю., Лотман, Ю. Звук как элемент киноязыка / Ю. Цивьян, Ю. Лотман // Родник. – 1989. – № 5 (29). – С. 48 – 51. 378. Чередниченко, Т.В. Музыка в истории культуры: вып. 1. / Т.В. Чередниченко. – Долгопрудный: Аллегро-пресс, 1994. – 215 с. 379. Чередниченко, Т.В. Музыка в истории культуры: вып.2. / Т.В. Чередниченко. – Долгопрудный: Аллегро-пресс, 1994. – 174 с. 180 380. Чередниченко, Т.В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. К анализу методологических парадоксов науки о музыке / Т.В. Чередниченко. – М.: Музыка, 1989. – 223 с. 381. Чудинова, И.А. Звуковой ландшафт византийского монастыря / И.А. Чудинова // Голос в культуре: Ритмы и голоса природы в музыке. Вып.3 / ред.-сост. И.А. Чудинова, А.А. Тимошенко. – СПб.: Российский институт истории искусств, 2011. – С. 7 – 20. 382. Чудинова, И.А. Музыка в Соловецком типиконе / И.А. Чудинова // Духовное и историко-культурное наследие Соловецкого монастыря: XV – XX вв.: международная научная конференция: 13-19 сентября 2010 г., Соловки: стендовые доклады. – Соловки: Соловец. гос. ист.-архитектур. и природ. музей-заповедник, 2010. – 41 с. 383. Чудинова, И. А. Пение, звоны, ритуал. Топография церковно-музыкальной культуры Петербурга / И.А. Чудинова. – СПб: Изд-во "Ut", 1994. – 207 с. 384. Шаймухаметова, Л.Н. Мигрирующая интонационная формула и семантический контекст музыкальной темы / Л. Шаймухаметова. – М.: Издательство Государственного института искусствознания, 1999. – 311 с. 385. Шаймухаметова, Л.Н. Семантический анализ музыкальной темы / Л.Н. Шаймухаметова. – М.: Издательство РАМ им. Гнесиных, 1998. – 265 с. 386. Шейкин, Ю.И. Музыкальная культура народов Сибири: сравнительноисторическое исследование инструментов, звукоподражаний и песен: автореф. дис. … докт. искусствоведения: 17.00.02 / Шейкин Юрий Ильич. – СПб, 2002. – 50 с. 387. Шейфер, Мѐррей. Исследования современного звукового ландшафта / Мѐррей Шейфер // Курьер ЮНЕСКО. – 1976. – № 12. – С. 4 – 8. 388. Шекспир, У. Венецианский купец. Много шума из ничего / У. Шекспир. – М.: Издательство АСТ, 2001. – 320 с. 181 389. Шеллинг, Ф.В. Философия искусства / Ф. В. Шеллинг. – М.: Мысль, 1966. – 496 с. 390. Шергин, Б.В. Древние памяти: Поморские былины и сказания / Б.В. Шергин; сост. Л. Шульман. – М.: Худож. лит., 1989. – 558 с. 391. Шергин, Б.В. Поморские были и сказания / Б.В. Шергин. – М.: Государственное издательство детской литературы, 1957. – 271 с. 392. Шестаков, В.П. История музыкальной эстетики от Античности до XVIII века / В. П. Шестаков. – М.: Издательство ЛКИ, 2012. – 376 с. 393. Шопенгауэр, А. К метафизике музыки / А. Шопенгауэр // Мир как воля и представление: в 6 т. / под ред. А. Чанышева. – М.: Терра – Книжный клуб; Республика, 2001. – Т. 2. – С. 374 – 383. 394. Шопенгауэр, А. О мире как воле / А. Шопенгауэр // Мир как воля и представление: в 6 т. / под ред. А. Чанышева. – M.: TEPPA – Книжный клуб; Республика, 1999. – Т. 1. – С. 233 – 350. 395. Шопенгауэр, А. О мире как воле. Второе размышление: представление, независимое от закона основания: платоновская идея: объект искусства / А. Шопенгауэр // Мир как воля и представление: в 6 т. / под ред. А. Чанышева. – M.: TEPPA – Книжный клуб; Республика, 1999. – Т. 1. – С. 152 – 232. 396. Шопенгауэр, А. О мире как воле. Первое размышление: объективация воли / А. Шопенгауэр // Мир как воля и представление: в 6 т. / под ред. А. Чанышева. – M.: TEPPA – Книжный клуб; Республика, 1999. – Т. 1. – С. 94 – 151. 397. Шукшин, В.М. Вопросы к самому себе / В.М. Шукшин. – М.: Мол. гвардия, 1981. – 256 с. 398. Шульман, Ю.М. Запечатленная душа / Ю.М. Шульман. – М.: Фонд Бориса Шергина, 2003. – 288 с. 182 399. Щуров, В.М. Жанры русского музыкального фольклора. Ч. 1: История, бытование, музыкально-поэтические особенности / В.М. Щуров. – М.: Музыка, 2007. – 400 с. 400. Щуров, Г.С. Очерки истории культуры Русского Севера, 988 – 1917 / Г.С. Щуров. – Архангельск: Правда Севера, 2004. – 552 с. 401. Эко, У. Отсутствующая структура: введение в семиологию / У. Эко. – СПб.: Петро-полис, 1998. – 432 с. 402. Элиаде, М. Священное и мирское / М. Элиаде. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 144 с. 403. Элиаде, М. Шаманизм. Архаические техники экстаза / М. Элиаде. – Киев: «София», 2000. – 480 с. 404. Энгельгардт, А.П. Русский Север: путевые записки / А.П. Энгельгардт. – М.: ОГИ, 2009. – 256 с. 405. Этот удивительный Гаврилин / сост. Н.Е. Гаврилина. – СПб.: Издательство «Журнал Нева», 2002. – 304 с. 406. Юнг, К.-Г. Архетип и символ / К.-Г. Юнг. – М.: Ренессанс, 1991. – 304 с. 407. Юнг, К.-Г., фон Франц М.-Л. и др. Человек и его символы / К.-Г. Юнг, М.Л фон Франц, Дж. Л. Хендерсон, И. Якоби, А. Яффе. М.: Медков С.Б., «Серебряные нити», 2006. – 352 с. 408. Юрков, С.Е. Смеховая сторона антимира: скоморошество / С. Е. Юрков // Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI – нач.XX вв.). – СПб.: Летний сад, 2003. – 210 с. 409. Якобсон, Р.К вопросу о зрительных и слуховых знаках / Р. Якобсон // Искусствометрия: Методы точных наук и семиотики / сост. и ред. Ю.М. Лотман и В.М. Петров. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – С. 82 – 87. 410. Ярешко, А.С. Колокольные звоны России / А.С. Ярешко. – М.: «Глаголъ»: респ. центр.рус. фольклора, 1992. – 133 с. 183 411. Adorno, T., Gillespie, S. Music, Language and Composition / T. Adorno, S. Gillespie // The Musical Quarterly. Oxford University Press. Vol.77, No. 3 (Autumn, 1993), p. 401 – 414. 412. Attali, J. Noise: The Political Economy of Music (Theory and history of literature: Vоl. 16) / J. Attali. University of Minnesota Press Minneapolis / London, 2009. –179 р. 413. Birdsall, C. Nazi Soundscapes Sound. Technology and Urban Space in Germany, 1933-1945 / C. Birdsall. Amsterdam University Press, 2012. – 272 p. 414. Coomaraswamy, A. The dance of Siva. Fourteen indian essays / А. Coomaraswamy. – New York: Sunwise Turn, 1918. – 140 p. 415. Gorlèe D.A sketch of Peirce’s Firstness and its significance to art / D. Gorlèe // Sign Systems Studies 37(1/2), 2009. Р. 205 – 269. 416. Hanslick, E. Vom Musikalisch-Schönen / E. Hanslick. The University of Wisconsin Press, 2006. – 267 р. 417. Hedfors, P. Site Soundscapes: Landscape architecture in the light of sound / P. Hedfors. Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, 2003. – 91 p. 418. Judkins, J. Silence, sound, noise, and music / J. Judkins // The routledge companion to philosophy and music. – London and New York: Taylor & Francis, 2011. P. 14 – 23. 419. Jiaranek, J. Zu Grundfragen der musiksemiotik / J. Jiaranek. – Berlin: Verlag Neue Musik, 1985. – 225 s. 420. Кania, A. Definition / А. Кania // The routledge companion to philosophy and music. – London and New York: Taylor & Francis, 2011. P. 3 – 14. 421. Karbušicky, V. Grundriss der musikalischen Semantik / V. Karbušicky. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1986. – 316 s. 422. Miéville-Ott, V., Berrebi, Y. Landscape perceptions in alpine valleys of the Valais central – what landscape preservation? For whom? For what purpose? / V. Miéville-Ott, Y. Berrebi // Landscape Development in Mountain Regions. 184 Proceedings of the Forum Alpinum 2007, 18.–21. April, Engelberg / Switzerland. Vienna, Austrian Academy of Sciences Press. P. 70 – 71. 423. Nattiez, J. J. Music and Discourse: Toward a Semiology of Music / J. J. Nattiez. Princeton: Princeton Un. Pr., 1990. – 288 p. 424. Nettle, B. Theory and method in ethnomusicology / B. Nettle. – New York, 1964. – 248 р. 425. Raghuvanshi, N. Interactive Physically-based Sound Simulation / N. Raghuvanshi. Chapel Hill: University of North Carolina, 2010. – 169 p. 426. Russolo, L. The Art of Noise / L. Russolo. Ubuclassics, 2004. – 15 p. 427. Ruwet, N. Langage, musique, poesie / N. Ruwet. – Paris: Edition du Seuil, 1972. – 264 p. 428. Sauer, С. Morphology of Landscape / С. Sauer // University of California. Publications in Geography. – 1925. – Vol. II. – № 2. – P. 19 – 53. 429. Sign Systems Studies. Vol. 28. University of Tartu. 2000. – 430 p. 430. Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology. Vol. 3, № 1, July 2002. – 35 р. 431. Truax, B. The Inner and Outer Complexity of Music / B. Truax // Perspectives of New Music, Vol. 32, № 1 (Winter, 1994). P. 176 – 193. 432. Upton, D. Sound and Landscape / D. Upton // Landscape Journal. – 2007. – № 26 (1). – P. 6 – 12. 433. Wagner, P. Hat Europa eine kulturelle Identität? / Р. Wagner // Die kulturellen Werte Europas. – Frankfurt am Mein: Fischer Verlag, 2005. S. 494 – 511.