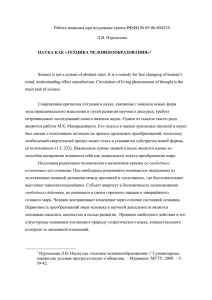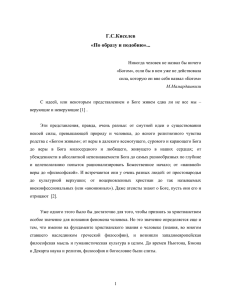Г.С.Киселeв Кризис нашего времени как проблема человека
реклама

Г.С.Киселeв Кризис нашего времени как проблема человека Вероятно, каждому поколению свойственно преувеличивать значение своей эпохи. Скорее невольно, чем преднамеренно, мы относимся ко времени, в котором живeм, как к некоему итогу всего предыдущего развития. При этом по понятным причинам нам трудно взглянуть на место нашей эпохи глазами будущих поколений, что, конечно, существенно помогло бы расставить всe на свои места. Тем не менее есть одно обстоятельство, которое заставляет нас особо выделять в жизни человечества эпоху, пришедшую на смену европейскому средневековью и получившую название «новая» (modern) или «индустриальная», т.е. ту эпоху, которая завершается на наших глазах. Дело в том, что это – первая эпоха, одной из определяющих черт которой является освобождение от религиозного взгляда на мир, отказ от теоцентризма, переход к антропоцентризму и в итоге секуляризация общества. Явно наметившийся кризис этой эпохи, кризис атеистического, антропоцентричного устроения мира, так называемый «кризис нашего времени» и определяет ситуацию современного человека. Примерно с середины ХХ столетия стали говорить о наступлении постиндустриального времени. И хотя появились такие уточняющие его определения, как, например, «эпоха научно-технической революции», или «информационное общество», в целом всe же преобладает характеристика от противного – postmodern. Это свидетельствует как о том, что содержание нашего времени ещe не осмыслено более или менее адекватно, так и о том, что оно со всеми своими новациями представляет собой всe же логическое продолжение новой истории. При этом различные сферы жизни человечeства с разной скоростью прощаются с прошлым. Так, если экономическая, социально-политическая и политическая сферы более или менее определeнно указывают на возникновение некоего нового качества, то в целом сохраняющийся антирелигиозный взгляд на мироздание пока свидетельствует лишь о глубоком кризисе Нового времени. В чeм же он проявляется? Какие последствия несeт? Первые критические наблюдения, предполагавшие возможность кризиса Нового времени, появились с концом Ренессанса. Ещe Паскаль предупреждал об опасностях неумеренного возвеличения человека. Позже Кант направил остриe своего критицизма против самомнения разума. У ХIХ веке Кьеркегор выступил против обезличивающей логики гегельянства, а у Достоевского мощно отразилась идея о противоречивости 1 человека, о тайных глубинах личности, идея глубоко враждебная «светлому» взгляду на человека, характерному для Нового времени. Марксу принадлежала идея о самоотчуждении применительно к социальности, cогласно которой человеку противостоит как враждебная ему сила результат его же собственной деятельности – капитал. Ницше с презрением говорил о духовном ничтожестве несостоявшегося человека и призывал «преодолеть его». У первой половине ХХ века разносторонней критике подверглось позднее индустриальное общество. Шазову лишь некоторых наиболее значительных исследователей «кризиса нашего времени». Ортега-и-Гассет, например, указывал на тенденцию варваризации общества как на результат описанного им «восстания масс», господства в социуме «массового человека». Гвардини отмечал противоположность результатов деятельности современного человека его подлинно человеческим целям. Он говорил о взбунтовавшейся против человека цивилизации (в частности, власти), о «некультурной культуре». Бердяев, видевший трагическую особенность всего Нового времени в «отпадении от христианства», по отношению к нашим дням более всего опасался чрезмерной веры в технику, т.е. безграничной власти над природой и человеком со стороны безличных социальных сил; безбрежной рационализации сознания человека и поэтому потери смысла человеческого существования. Можно сказать, что в целом он страшился полного преобладания цивилизации над культурой. Питирим Сорокин писал о «чувственной культуре» индустриальной эпохи, обреченной на гибель вследствие ценностного релятивизма, переходящего в нигилизм. Фромм и Вышеславцев обращали внимание на то, что в позднеиндустриальном обществе человеку противостоит колоссальная организационная система – государство плюс современная промышленность, которые, функционируя в собственных, часто весьма далеких от человека, а то и враждебных ему интересах, полностью превращают его в объект; происходит овещнение человека. «Человек, – писал Фромм , – ...охвачен беспокойством и подвержен соблазну отдать всю свою свободу всевозможным диктаторам – или потерять еe, превратившись в маленький винтик машины: не в свободного человека, а в хорошо накормленный и хорошо одетый автомат» /1/. Тиллих замечал, что «гарантии, которые предоставляют хорошо отлаженные механимы технического контроля над природой, изысканные методы психологического контроля над личностью и быстро развивающийся организационный контроль над обществом, - такие гарантии дорого стоят: человек, для которого всe это было изобретено в качестве средства, сам стал для этих средств вспомогательным средством»/2/. 2 В целом для «взбунтовавшейся» против культуры цивилизации характерны следующие социальные и духовные последствия: превращенный в элемент сложной организационной системы, «человек массы» чувствует себя бессильным и одиноким. Он склонен к простым и радикальным решениям, к насилию, к своего рода «идолопоклонству», когда на место подлинно человеческих ценностей выходят такие социальные феномены, как государство, нация, техника и даже мифы – кровь, например... масс-культура, прямо враждебная духовному началу в человеке, стереотипизирует сознание массового человека, его быт, потребности, поведение; происходит, по выражению Ортеги, «неумеренная специализация»: работник вынужденно становится специалистом в очень узкой области, что сужает его интеллектуальный и духовный уровень и увеличивает его зависимость от сложных организаций. Эта тенденция усиливается в эпоху господства идеальных производительных сил. Для современной науки часто характерны мелкотемье, надуманность исследовательских тем («в нашем неистовом желании знать “всe большее о всe меньшем” мы упускаем существено важные вещи», – подметил П.Сорокин /3/). Отсюда стремление к эмпирическому, принципиально атеоретичному знанию, самый пошлый позитивизм. Научно-технический прогресс обеспечил человеку, существу в нравственном отношении ещe весьма незрелому, невиданную мощь, вплоть до возможности уничтожения самого человечества; отсюда угроза жизни на земле (оружие массового уничтожения, экологическое варварство). Так называемая информационная революция привела к тому, что человек вынужден едва ли не большую часть своего времени разыскивать и обрабатывать нужную ему информацию. К тому же «человек чувствует себя ещe ничтожнее, когда ему противостоит не только система гигантских предприятий, но и целый почти самоуправляющийся мир компъютеров, думающих гораздо быстрее, а нередко и правильнее его» /4/ . В то же время он буквально завален информацией, не нужной, но навязываемой ему, часто имеющей ущербное с точки зрения нравственных критериев качество. Oбщим для оценки индустриальной эпохи является осознание того, что современное общество порождает разнообразные силы, враждебные прежде всего человеку как духовному существу. Что здесь имеется в виду? Сначала уточним исходные посылки. Когда спрашивают, «что такое современный человек», «что его ждет», прежде всего приходится признать, что ответить на так поставленные вопросы едва ли возможно. Не только потому, что прогнозировать будущее всегда рискованно, но и потому, что весьма сомнительна корректность самих вопросов. 3 Чаадаев спрашивал: «Когда философ произносит слово человек, всегда ли он хорошо знает, что он хочет сказать?» И отвечал кратко: «Не думаю» /5/. Сомнения мыслителя, которого по праву можно назвать первым русским философским антропологом, актуальны и для нас. Конечно, если забыть о том, что человек отнюдь не принадлежит целиком миру социальности, было бы позволительно ограничиться судьбами исключительно самой этой социальности. Тогда можно было бы говорить даже о близком «конце истории» /6/. Тому же, кто смотрит на дело шире – с позиций философского знания о человеке, ясно, что такие воззрения по меньшей мере поверхностны. И правда, за двести лет, прошедших с того момента, когда в учении Канта был предложен ответ на основной для христианской по происхождению мысли вопрос – «что такое человек», европейская философская мысль, хотя и грешившая порой позитивистскими вывихами, в целом прочно усвоила идею о несводимости человека к миру социальности. Если видеть смысл жизни человека в эмансипации прежде всего духовной, то мысль о каких-либо итогах истории покажется нелепой. Под судьбой человека нельзя понимать лишь судьбы социальности (сами по себе безусловно требующие глубокого научного познания); немыслимо представить себе это будущее без пристального всматривания в судьбу человека как носителя духа, т.е. личности. Каковы же смысл и перспективы существования в современном социуме человека именно как существа духовного? Чтобы ответить, нам придется обратиться к вопросам, которые можно смело назвать «последними». Особенность таких вопросов в том, что выбор того или иного их решения не может быть обоснован исключительно рационально. «Незнанием точной науки в этом случае очищено поле не только для сердечных верований, но и для метафизических предпочтений», – говорил о такой ситуации К.Леонтьев /7/. Другими словами, это – дело «последнего избрания», которое «предполагает свободу» /8/. Я строю свои рассуждения на «избрании», восходящем, в частности, к пониманию человека Кантом, а оно, в свою очередь, опирается на представление о человеке, общее для всей христианской традиции. Эти идеи сводятся к следующим известным посылкам: человек принадлежит одновременно двум мирам – природному и сверхприродному /9/. Сверхприродная сущность человека «воплощается», если можно так сказать, в его духе, т.е. прежде всего в сознании, которое раскрывается в имманентном человеку моральном законе /10/.) Вернее даже говорить о духе-интеллекте, так как интеллектуальное усилие являет собой важнейшую составляющую духовной работы. За этим кратким замечанием стоит большая философская проблема – проблема «оправдания» рационализма. Она 4 остается за кругом интересующих нас здесь вопросов; замечу лишь, что интеллектуальное усилие я считаю непременным условием жизни культуры, понимаемой как объективация духа. Мне близка философская позиция Мамардашвили, для которого категория «сознание» не сводится к рассудочной деятельности, а обозначает ту в действительности нерасчлененную сферу, которая охватывает все проявления человека как личности, т.е. как существа, принадлежащего двум мирам. Собственно, об этом говорили многие русские мыслители, начиная с Хомякова. Осуществлять акт сознания, по Мамардашвили, значит делать усилие, имеющее единую нравственно-интеллектуальную природу. Можно сказать, что сознание у Мамардашвили употребляется в значении, в каком обычно говорят о «духе». Вне усилия нет человека как личности. Быть человеком – значит быть моральным, значит жить постоянным усилием сознания (духа). Именно в этом смысле Мамардашвили говорит о «труде жизни», о том, что культура есть только «возможность еще большей культуры». Идея о врожденной способности человека различать добро и зло и о необходимости для него творить добро, чтобы и быть человеком, исходит из христианского понимания личности как самоценного автономного субъекта, способного по своей свободной воле приблизиться к божественому, или, как говорят православные, обожиться /11/. Поэтому истинным путем для человека может быть только путь постоянного усилия, самосоздания как богоподобного существа /12/. Цель человеческого существования – «состояться», «пребыть». Степень осознания человеком необходимости своего нравственного совершенствования, а также соответствующие этические нормы, которых он придерживается, как раз и свидетельствуют об уровне его духовного развития. При этом в каждый данный момент люди – в зависимости от степени своего усилия – значительно отличаются друг от друга. «Если я определяю жизнь человеческую как усилие во времени, – говорил Мамардашвили, – то тем самым я как бы утверждаю, что в жизни всегда, на каждый данный момент, будет какая-то иерархия. Кто меньшее усилие совершил, кто большее. И это не вопрос демократии, потому что демократия предполагает равенство исходных условий, а вопрос – роковой. Нельзя поровну делить то, чего нет, что только предстоит человеку познать и открыть своим испытанием. И в этом смысле есть какая-то справедливая и несправедливая иерархичность в каждый данный момент, потому что в каждый данный момент мы имеем итоговую жизнь» /13/. Простой жизненый опыт показывает, что лишь по отношению к единицам можно говорить о высоком уровне духовного развития /14/. Подавляющее же большинство людей неравномерно 5 распределяются между верхним и нижним пределами цивилизованного варварства, т.е. существования, в духовном отношении более или менее примитивного. Конечно, идея своеобразной «духовной элиты» имеет смысл только как крайняя абстракция, сконструированная для удобства спекулятивных рассуждений. Деление людей на «элиту» и «массы» относительно и условно, оно преднамеренно упрощает всю сложность жизни и отражает неспособность нашего сознания познать истину о человеке исключительно рационально. Тем не менее в основе моего понимания категорий «культура» и «цивилизация», необходимых для понимания сути «кризиса нашего времени», лежит в определенном смысле именно такое деление /15/. Нужно сказать, что оба эти понятия в высшей степени нестрого употребляются и в специальной и в широкой литературе. Стало уже традицией начинать едва ли не каждую работу, где речь идет о культуре и/или о цивилизации, с напоминания о том, что существует множество вкладываемых в них смыслов. Конечно, такие дисциплины, как история культуры, теоретическая культурология, история, социология, социальная (культурная) антропология, наконец, философия (в частности, философская антропология), нуждаются в различном смысловом содержании этих понятий. Беда в том, что из-за естественного взаимопроникновения методик понятиями, адекватными какой-либо одной из них, пользуются совсем в неподходящих случаях. Кроме того, часто под культурой вообще понимается все, что противостоит природе, включая и «собственно культуру» (как объективацию высших форм сознания), и цивилизацию (как форму социальности). Что касается философской антропологии, то ей, как мне кажется, наиболее адекватны именно те смыслы названных понятий, которыми предпочитаю пользоваться я (разумеется, не первый). Культура в этом понимании – объективированые формы духа как выражения сверхприродной сущности человека. Цивилизация же представляет собой способ воспроизводства человека как существа социального, т.е. фактически саму социальность в ее разнообразных исторических и локально-страновых формах. Конечно, при таком подходе неизбежны определенные методологические проблемы. Дело в том, что, как и прочие понятия этого круга, понятие «дух» также употребляется весьма неоднозначно. Основная трудность состоит здесь в том, что в «духе» видят как исключительно благодатные энергии, так и одновременно светлое и темное начала. На мой взгляд, первое предпочтительнее: коль скоро мы понимаем человека как существо, способное «пребыть» и стремящееся к этому, было бы логично видеть в «духе» 6 специфическую энергию, требующую и обеспечивающую осуществление именно этого стремления и только его. Но что же тогда порождает и объективирует всю ту массу зла, которая исходит от человека? Это – тоже энергии, но энергии человеческого сознания, как раз не оплодотворенного духом («злой», «больной дух»). Если это сознание интеллектуальное, мы имеем дело с псевдокультурой /16/, если это обыденное сознание, перед нами квазикультура (в форме масс-культуры). Именно эти последние во многом и определяют нравственную ситуацию в современном развитом мире. Господство квази- и псевдокультуры в первую очередь выражается в том, что они играют основную роль как в социализации человека, так и в дальнейшем формировании его как личности. Семья и школа в наше время – плохие воспитатели, им не под силу конкурировать с масс-культурой. Семья как социальный институт переживает острый кризис, о чем свидетельствует большое и все растущее число разводов, множество неполных семей, снижение авторитета родителей. Школа же явно недостаточно нравственно воспитывает молодежь, стремясь свести свои задачи к передаче некоей суммы знаний и не обращая внимания на единый смысловой стержень, без которого знания сами по себе не способствуют формированию личности. Масс-культура – вот основной источник ценностей (псевдоценностей!) социализирующегося поколения в нашу эпоху господства средств массовой информации, прежде всего телевидения, а также кино и массовой литературы. При этом вся бездна пошлости и насилия, совершенно неумеренное количество спортивной информации совсем не сводятся к проблеме злоупотребления индустрией развлечений. Дело, к несчастью, в том, что квазикультура занимает место, которое должно принадлежать культуре, принимая на себя ее функции по выработке у человека тех ценностей, с которыми ему предстоит жить среди других людей. «Поп-культура, – заметил Бродский, ограничивает человека пассивным восприятием, не поощряя к действию – этическому, культурному, тогда как культура кончается трансформацией сознания... Поп-культура это – le fait accompli, в то время как культура – это challenge. Поп-культура ограничивается потреблением» /17/. При этом мне кажется очень существенным, что то явление, которое я называю псевдокультурой, способно лишь усилить отрицательное воздействие масс-культуры. Лишенные по той или иной причине духовного содержания сугубо интеллектуальные искания в науке, политике, искусстве (я намеренно беру здесь наиболее достойную разновидность псевдокультуры, потому что не писать же, в самом деле, о прямом 7 хулиганстве и издевательстве, которые так удобно объявить, скажем, постмодернизмом в искусстве или революционным насилием в политике), способны, на мой взгляд, лишь скомпрометировать эти в высшей степени специфические занятия. Высшая школа же во многом воспроизводит пороки среднего обучения, прежде всего – отсутствие нравственного воспитания как важнейшего смысла приобретения знаний в целом. Есть здесь и своя специфика: университеты в развитых странах, в частности в Америке, нередко становятся оплотами псевдоинтеллектуального левачества со свойственным ему нигилистическим отношением к абсолютным ценностям. Главным итогом такого «воспитания» оказывается духовная пустота человека массы. Он – нравственно пуст и поэтому открыт силам зла. Его можно повернуть в любом направлении, вплоть до таких, которые ведут к нечеловеческим ужасам сталинских и гитлеровских лагерей. Такая пустота объясняется прежде всего тем, что человек не впитывает с молодых лет основное представление подлинной культуры – о том, что другой человек представляет собой равноправную, самоценную, автономную величину, которая ни в коем случае не должна рассматриваться как средство для достижения чуждых ей целей. Но господство суррогатов культуры вызвано не только этим. Нельзя не замечать и того, что в самой сфере религиозного сознания также действуют значительные антикультурные силы. Я говорю здесь не о секуляризации общества, не о навязывании атеизма и не об обмирщении (в частности, огосударствлении) церкви, которое, как известно, характерно и для западного, и для восточного христианства /18/. Меня интересует иной, более глубинный уровень – искажение (или подавление) религиозного сознания, когда человеку навязывается социальностью (в основном через историческую церковь) то понимание христианства, которое соответствует не столько смыслу самой Благой Вести, сколько исторически сложившимся верованиям. Эта тема совсем не нова для антропоцентрической традиции европейской философской и неортодоксальной христианской мысли – от Лютера и Канта до современной протестантской теологии, с одной стороны, и православной мысли, получившей свое высшее выражение в русской религиозной философии с ее учением об обожении, с другой. Именно в рамках этих традиций была сформулирована антиномия, которая вырисовывается как основная для наших рассуждений, – антиномия «трансцендентное – имманентное». Основная потому, что, как мне кажется, ее содержание 8 дает возможность провести различие между религиозностью человека культуры и человека массы. Только первая позволяет противостоять искажению личности. Хотя антиномия, о которой идет речь, казалось бы, снимается догматом о троичности, в представлениях исторического христианства происходит это лишь отчасти, так как трансцендентный Бог-отец, творец всего сущего, часто выступает здесь как фактически отдельная особая сущность, внешняя для человека. Из своего жизненного опыта мы хорошо знаем, что бытовая религиозность, характерная для масс, во многом сосредоточивается именно на этой, внешней для человека, ипостаси Божественного. Отсюда и основные атрибуты того, что Кант называл «богослужебной верой», – преимущественное внимание обрядовой стороне религии, «рабская» потребность умилостивления Бога, испрашивания у него защиты или вознаграждения, но совсем не целенаправленная духовная работа; фактический фатализм по отношению к проявлениям высшей силы, но не усилие нравственно ответственной личности /19/. Основная особенность такого уровня религиозного сознания – освобождение себя человеком (по крайней мере относительное) от необходимости ответственной оценки собственных поступков с позиций морального закона, перекладывание этой ответственности на внешний авторитет /20/. Человеку же – процитирую точные и простые слова Мамардашвили – «очень важно, чтобы счастье, как и несчастье, были результатом его собственных действий, а не выпадали ему из таинственной, мистической дали послушания. Важно сознание зависимости происходящего в мире – и в удаче, и в неудаче – от того, что сам человек мог бы сделать, а не от потусторонне «высшей» (анонимной или олицетворенной) игры, непостижимыми путями выбрасывающей ему дары и иждивение или, наоборот, злые наказания и немилости» /21/. (Кроме того, такая религиозность усматривает во всех событиях дольнего мира Божий промысел, а это порождает проблему теодиции.) Конечно, было бы нелепо выстраивать жесткую схему, по которой массам отводилась бы богослужебная религия, а «религия разума» (как ее называл Кант) составляла бы достояние исключительно «духовной элиты». Такой схеме противоречила бы жизненная реальность; одно из наглядных тому подтверждений – русская религиозная философия, виднейшие представители которой были искренними последователями конкретной исторической формы христианства, а именно православия (хотя по большей части не были, конечно, и ортодоксами). Вместе с тем не случайно и неприятие русской православной церковью русской религиозной философии: Бердяев в ее глазах был 9 несомненным инакомыслящим; Булгакова, опасно подошедшего к запретной сфере, где уже само размышление видится как сомнение, именно его священнство побудило оправдываться перед церковью. В массовом бытовом христианстве антиномия «трансцендентное – имманентное» по существу теряет свое изначальное напряжение; первое утверждается за счет второго. Эак обстоит дело в нетрадиционном религиозном сознании? Такое сознание испытывает явную потребность воспринимать сверхприродный мир независимо от представлений о трансцендентном начале как творце мира, существующем помимо, вне человека. Вот как это понимал Р. Бультман: «Мы не можем сказать: так как Бог правит миром, то Он и мой Господь; напротив, лишь если я понимаю себя как человека к которому Бог обратился в моем собственном существовании, лишь в этом случае для меня имеет смысл говорить о Боге как о Господе мира... Разговор о Боге, если бы он был возможен, всегда должен был бы становиться одновременно и разговором о нас. Так что на вопрос “Как можно говорить о Тоге?”, надо ответить: только говоря о нас» /22/. Мистический характер имеет, таким образом, сам акт трансцендирования, то, что «никогда человек не назвал бы ничего “Богом”, если бы в нeм уже не действовала сила, которую он вне себя назвал “Богом”» /23/. Чудо не в том, что имеет место трансцендентное, а в том, что есть трансцендирование. Если принять данную интерпретацию Божественного в качестве «последнего избрания», то следующая проблема, на которой нужно остановиться для уяснения себе природы религиозности человека культуры, будет иметь уже более (хотя и не вполне) умопостигаемый характер. Как «личный», по выражению Бердяева, Бог является в то же время и «общим»? Ясно, что нельзя понимать дело так, будто бы у каждого человека свой Бог. Кроме того, если Бог имманентен человеку, это значит, что его бытие имеет исторический характер: ведь появление подлинно человеческого сознания хронологически определимо... Мне кажется, что появление трансценденции, с одной стороны, исторично и единично, а с другой – открыто в бесконечность (пока существует человек) и всеобще. Трансцендендирование как явление истории можно осознать в русле идеи Ясперса об осевом времени /24/. В эту эпоху, полагает Ясперс, рефлексия человека впервые открыла ему подлинно человеческие его глубины. Постичь эти глубины был способен только особый человек, способный к преображению, человек – носитель духа. Речь, таким образом, идет о том, что в эпоху осевого времени человечество в лице отдельных людей 10 стало духовно зрелым, что оно открыло в себе Бога и познало его. Человек социальный впервые получил возможность стать также и человеком духовным, способным эсхатологически стать богочеловеком. Будучи открытым человеку, Бог уже не покидает человечество. Путь к нему открыт для всех, и дух тех, кто идет по этому пути, объективируясь, и творит то, что я понимаю под культурой. Сказанное ни в коей мере не посягает на представление о непознаваемости Бога, о возможности лишь такого его постижения, которое дается человеку в непосредственно в религиозном переживании. Идея о рождении Бога в сознании рода человеческого не только не противоречит, но, напротив, вполне созвучна христианскому догмату о троичной природе Божественного. Эта идея представляет собой отражение в сознании той сферы трансцендентного, которая только и доступна рациональному мышлению. Таким образом, нетрадиционное религиозное сознание нисколько не претендует на некое рациональное «объяснение» Бога. Трансцендентное во всей его полноте – как неподвластная постижению человеком вещь в себе – не может быть, не должно быть и не является объектом моих рассуждений. Я лишь хотел бы лишний раз недвусмысленно и решительно высказать: Бог открывается человечеству только через открытие (рождение) его отдельным человеком в себе самом. И в этом смысле все побуждения к принятию Бога, идущие извне, – религиозное воспитание, конфессиональная принадлежность с исполнением церковного обряда – суть лишь подпорки, леса для единственно подлинно значимого – внутреннего побуждения. Идея об имманентном человеку Боге вновь приводит к мысли о двойной природе самого человека – но на этот раз уже как существа духовного. Такая двойственность заключается в том, что, с одной стороны, человек являет собой индивидуальную экзистенцию, а с другой – он немыслим вне уже объективированных форм духа, т.е. вне культуры. Иначе говоря, мы не можем не видеть здесь некое антиномичное, но вполне органичное бытие. Перед нами парадокс: экзистенция, свобода, которая не может обойтись без несвободы, без объективации, т.е. без культуры как чего-то уже омертвленного /25/. Это – жизнь, которая не обходится без смерти. Историческая жизнь духа, диалог, – это коммуникация живого с живым через нечто омертвленное. Именно нетрадиционное религиозное сознание, обращая духовный взор человека на самого себя, апеллируя к его ответственности как автономного свободного существа, вынуждает его отвернуться от манящих соблазнов утопизма ради трагического, но 11 трезвого и достойного взгляда на мир и на свое место в нем. Именно этот тип религиозности противодействует искажению человеческой личности, которое едва ли не более всего не дает человеку пребыть, лишая его автономности и свободы /26/. Для наших рассуждений чрезвычайно важно, что сегодня складываются предпосылки кардинальных перемен в религиозном осмыслении человеком мироздания и своих места и роли в нем. В самом деле, любая религия представляет собой стремление человека выйти за собственные пределы, некоторое усилие к обретению нездешнего, «райского» существования, лишенного всех тягот, страданий и несправедливостей, имеющихся в этой жизни. И вот можно констатировать, что определенные пределы человеческого существования – теперь, в рамках западной цивилизации – оцениваются несколько по-иному. Многое из того, о чем поколения людей могли только мечтать и молить Бога, осуществлено в жизни. Пожалуй, позволительно уже говорить о разностороннем и достаточно далеко зашедшем освобождении – социальном, политическом, национальном и даже экономическом – не полном, конечно, но свидетельствующем тем не менее об эпохальном сдвиге в жизни человека на земле. Теперь дальнейшему – духовному – освобождению человека противоречит в основном его же социальная природа. Выход за собственные пределы означает в этих условиях преимущественно стремление к преодолению собственной ограниченности, замкнутости на себя как на исключительно социальное, т.е. несвободное существо. Это-то и говорит убедительнее всего об объективной необходимости возникновения нового религиозного сознания. В самом деле, возврат к средневековой религиозности невозможен: несколько веков богоборчества не смогут пройти бесследно. Исторически возникшие формы религиозности больше не способны удовлетворять потребности человека в его знании о себе и о мире: они противоречат историческому опыту сегодняшнего человека и всего человечества. С одной стороны, такой человек теперь уверен, что вполне может обойтись и без Бога: современная техника явно предпочтительнее для него в роли вершителя судеб, и в этой уверенности есть свои резоны. При чем здесь Бог, если десять водородных бомб могут взорвать планету? С другой стороны, если Бог все же есть, но он допустил на земле Освенцим и ГУЛАГ, то зачем нужен такой Бог? Кроме того, основное противоречие нашего времени – конфликт между культурой и цивилизацией – угрожает прежде всего личности человека, т.е. собственно человеческому в человеке. Из этого следует, что и сопротивляться давлению будет именно личность, не 12 могущая смириться в первую очередь с господством безличных сил, которые превращают человека в узкофункциональную машину. Это будет серьезная борьба, она потребует недюжинных сил: интеллектуальной смелости, высокого благородства целей, бесстрашной честности. И эта потребность породит, как это всегда бывало в истории, обладающих необходимыми качествами людей. Именно эти люди – а их будет, конечно, очень немного поначалу – первыми начнут возводить нравственную систему, основанную на абсолютных ценностях, на месте произведенных нигилизмом разрушений. Самое важное заключается в том, что система эта может быть построена только на новом религиозном сознании: прежнее религиозное сознание человека должно претерпеть трансформацию; необходимы, как выразился С.Лезов, «новое осмысление христианского», «потребность заново продумать [его] содержание, выйти за [его] пределы и самостоятельно, на собственный страх и риск, ответить на вопрос о христианском в христианстве» /27/. Человеку наших дней нужен – объективно! – иной Бог, такой, который дал бы ему силы осмысленно и достойно жить именно в нашем мире. Это станет возможным, если новое религиозное сознание окажется антропоцентричным, т.е. когда человек наконец не просто непосредственно свяжет религию с моралью, а поместит всю религию в моральный контекст, когда произойдет, по выражению И.Меца, «антропологическая революция» /28/. «Страшен Бог без морали», - говорил Кант. И «новый» Бог уже не сможет быть для человека лишь внешней по отношению к нему силой, понуждающей его к чему бы то ни было. Бог непременно будет осознаваться как сила, действующая в самом человеке, через человека и никак больше, т.е. именно как моральная сила, или, как сказал бы Кант, «моральный закон во мне». Другими словами, Бог будет восприниматься не как повелитель человека (и мира), а как его совесть. Человек таким образом окажется самостоятельным и ответственным, а не подчиненным и поэтому в сущности ни за что не отвечающим; ему придется не ждать милости готовых решений, а взваливать всю их ношу на себя. Роль тяжелая, но достойная! Таким образом, человечеству предстоит востребовать то содержание христианства, которое до сих пор оставалось в целом нераскрытым, хотя и составляет его истинную природу. Вот как писал об этом Кант: «Я полагаю, ...что в своей исторической части Новый Завет никогда не получит такого признания, при котором каждое его слово воспринималось бы с беспредельным доверием, – ведь тем самым было бы ослаблено внимание к единственно необходимому, к моральной вере Евангелия, наличие которой состоит в том, что она направляет все наши устремления на чистоту наших помыслов, нашей совести, на добродетельную жизнь» /29/ . О том же спустя сто лет говорил и Вл.Соловьев: «Христианство, хотя и безусловно-истинное само по себе, имело до сих пор 13 вследствие исторических условий лишь весьма одностороннее и недостаточное выражение. За исключением только избранных умов, для большинства христианство было лишь делом простой полусознательной веры и неопределенного чувства, но ничего не говорило разуму, не входило в разум. Вследствие этого оно должно быть заключено в несоответствующую ему, неразумную форму и загромождено всяким бессмысленным хламом. ...Теперь, когда разрушено христианство в любой форме, пришло время восстановить истинное» /30/. Исторические церкви предстают в свете сказанного необходимым, но далеко не достаточным условием религиозного становления человека. Необходимым, поскольку они выполняют задачи, так сказать, «начального обучения», когда человек лишь осваивает грамоту, получает общее представление о существе дела, но все еще весьма далек от уяснения его подлинного содержания. Недостаточным, поскольку они еще очень далеки от антропологического понимания религии. Далеко не случайно, что одним из основных направлений современного христианского «ревизионизма» (как протестантского, так и католического) является критика церкви за ее равнодушие к народам третьего мира, страдающим от бедности и сопутствующих ей язв, за самодовольство и успокоенность, т.е. в сущности за терпимое отношение к злу этого мира. (Отсюда, между прочим, и проблема «христианства после Освенцима» как невозможности существовать по-старому перед лицом неслыханных злодеяний, которые христиане не только не смогли предотвратить, но и старались не замечать.) Не трудно увидеть, таким образом, что проблематика «теологии освобождения» имеет самое непосредственное отношение к одному из важнейших вопросов христианства: каково в нем соотношение «внутреннего» и «внешнего», т.е. каков долг христианина в отношении не только самого себя, но и мира? Но проблема «христианина в мире, как выразился К. Барт, совсем не нова. Можно сказать, что она решена христианской мыслью вполне удовлетворительно. Долг христианина в мире, говоря словами Франка, состоит в том, чтобы всемерно содействовать уменьшению в нем зла. Христианин обязан противостоять политическому, социальному, национальному, экономическому и прочему злу мира, так сказать, «по статусу». И это, конечно, не должно противоречить его самопостроению как богоподобной личности. Собственно говоря, обе эти задачи неразрывно связаны, составляя две стороны единого процесса преображения бытия. Неизбежная сложность здесь в том, что предпочтение какой-либо одной из этих задач непременно будет означать, говоря языком теологов, «измену Христу». И правда: ни игнорирование зла мира со стороны христиан, ни, наоборот, социоцентричность их стремлений, оставляющая в 14 забвении необходимось их собственного самопостроения, не способны содействовать истинному преображению мира и человека. Убедительно сказал об этом Бонхеффер в своих размышлениях о «последнем» и «предпоследнем» /31/. То, что все это до сих пор приходится доказывать, что это не стало аксиомой для каждого, кто называет себя христианином, недвусмысленно свидетельствует о неадекватности традиционных вероучений потребностям сегодняшнего человечества и – более того – об их неспособности служить действительному преображению мира и человека. Протестантское богословие сделало ряд важных шагов в попытках пробиться к истинному ядру христианства. Другим христианским церквям лишь предстоит двинуться по такому пути. Само их будущее зависит от того, окажутся ли они способными на такой шаг. Православие, например, пока что остается глухим к весьма многообещающим исканиям русской религиозной философии – как исканиям в целом, так и «антропологическим» в частности. Неосуществленными остались и все попытки создать либеральную православную субкультуру /32/. Мне представляется также, что новое религиозное сознание неизбежно повлечет за собой и заметное усиление в христианстве экуменических тенденций. Это было бы вполне логичным: вероисповедные различия между основными направлениями христианства во многом потеряют свое значение при переходе от форм, ориентированных во вне, к формам, ориентированным на глубины самого человека. То, что разделяло христиан и во имя чего бушевали страсти, окажется несущественными историческими реалиями, своего рода музейными экспонатами и даже очевидными предрассудками неизжитого невежества перед открывающимися человеку возможностями соединения с Богом, которые будут зависеть исключительно от самого человека. Более того, после истребления европейского еврейства в годы войны, которое христиане не случайно оказались неспособными предотвратить, по-новому должна ставиться и проблема религиозного (конфессионального) плюрализма. Нельзя не согласиться с тем, что только новому религиозному сознанию, для которого будет характерна прежде всего идея о самоценности любого человека, носящего в себе образ Божий, окажется под силу преодолеть грубый христианоцентризм /33/. Говорить сегодня о возникновении нового религиозного сознания в теоретическом плане – значит признать, что антропоцентричной религии предстоит когда-то в 15 неопределенном будущем обрести новое качество, для которого будут характерны следующие основные признаки. Во-первых, религии придется отказаться от притязаний на решение каких бы то ни было проблем иначе чем через свободную волю человека, т.е. посредством внешних по отношению к нему средств. Это, помимо всего прочего, будет означать принципиальную невозможность любых форм омирщения церкви. Только ограничив исторически присущие ей формы выполнением определенных частных задач, церковь станет подлинным собором религиозных личностей, истинно духовной общиной. Во-вторых, антропоцентричная религия должна будет осознаваться людьми исключительно как ответственность, как бремя, которое они по доброй воле возложат на себя, если они будут стремиться состояться как люди. В-третьих, принцип антропоцентричности подразумевает всеобщность религиозного сознания. Насколько все это актуально? Хотелось бы убедиться, есть ли какие-нибудь реальные основания для эволюции религии в таком направлении или же все сказанное относится лишь к области желаемого. Для этого нужно всмотреться в сам феномен религии. Cущность исторических ее форм заключается в стремлении человека поставить под вопрос этот этот мир, прорваться в другой мир с помощью сил, внешних по отношению к нему. (Правда, аскеза, отражающая стремление человека именно к самоусовершенствованию, появляется вместе с самой религией. Но не аскеза определяет собой облик исторической религии в целом.) Основывая свои ценностные ориентиры на имманентном сознанию знанию добра и зла, человек преодолевает зло трансцендированием, выходом за пределы мира. Если смысл Нового времени состоял в отказе от религии как способа миропостижения в целом, то его кризис показал, что теперь речь идет об отказе от исторических форм религии, основанных на авторитете внешней по отношению к человеку силы. При этом задача трансцендирования, т.е. выхода в иную реальность, где правят другие законы, остается для человека столь же актуальной. Толее того, ему попрежнему необходима помощь – в том смысле, что перед его внутренним взором должен находиться Абсолют, существующий и вне его индивидуального сознания. В ходе переосмысления основ религии, начавшейся в европейской культуре в Новое время, 16 совершенно недвусмысленно проявились поиски Абсолюта внутри самой человеческой личности. Был поставлен вопрос об имманентности Божественного человеку; на повестку дня выдвинулась «антропологическая революция». Есть соображение, которое позволяет, с одной стороны, подтвердить всеобщность «антропологического» понимания религии, а с другой – несколько уточнить пределы нашей неспособности познать природу нравственного закона. В самом деле, говорить о рождении духом человека Бога и о появлении нравственного закона можно лишь по отношению к тому времени, когда человек оказывается способным к рефлексии. В то же время современной наукой установлено, что первичные представления о добре и зле зарождаются у человека в связи с необходимостью поддерживать устойчивое развитие популяции еще задолго до появления у него рефлектирующего сознания. Поскольку само событие сознания и его природа по-прежнему остаются для нас тайной – и сознание, и нравственный закон относятся к кантовским «вещам самим по себе», – мы не в состоянии судить о том, происходит ли этот закон от таких первичных представлений или же он совершенно автономен (причина самого себя). Мне представляется, что дело в следующем парадоксе: у нравственного закона было два рождения – в природе и в сознании. Рефлектирующее сознание породило (или выявило имманеный ему) нравственный закон, не узнав его в уже существующем в природе виде. И если мы не в состоянии установить обусловленность этого закона «протоморалью», то по крайней мере можем предполагать, что явления эти по меньшей мере родственны, ибо выдвигают как основную ценность жизнь человека во всей его сложной «двумирной» принадлежности. То, что нравственный закон имманентен человеку и как социальному, и как духовному существу, свидетельствует, что «антропологическая революция» подразумевает всеобщность религиозного сознания. * * * Многим из наиболее проницательных умов последнего столетия пути выхода из «кризиса нашего времени» виделись в той или иной форме возвращения к теоцентрическому устройству мироздания. Так, Бердяев предвидел наступление «нового средневековья» - теоцентрического мира, основанного на новом религиозном сознании. Питирим Сорокин, согласно своей теории цикличной смены типов культур, предупреждал о закономерной смене нашего социоцентрического («чувственного») мира, в котором ценностной релятивизм привел в конце концов к нигилизму и аморализму, мироустройством, которое этот мыслитель именовал «идеационным» (т.е. 17 теоцентрическим). Всe, сказанное выше, как мне кажется, даeт определeнные основания серьeзно прислушаться к таким идеям. В той степени, в которой они истинны, можно говорить о наступлении эпохи постмодерна и в сфере религиозного сознания, а следовательно, и об окончательном завершении Новой истории. Примечания 1. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989, № 3-4; Гвардини Р. Конец нового времени // Вопросы философии. 1990, № 4; Бердяев Н. Духовное состояние современного мира // Философия творчества, культуры и искусства. Т.1. М., 1994. С. 485 и сл.; Сорокин П. Кризис нашего времени // Человек, цивилизация, общество. М., 1992. С. 427. и сл.; Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С. 9. Cм. также: Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990; Вышеславцев В.П. Кризис индустриальной культуры. Париж, 1953. 2. Тиллих П. Мужество быть // Социально-политическое измерение христианства. Избранные теологические тексты ХХ века. M., 1994. С.132. «Именно это, – полагал он, – стоит за желаним большинства представителей философии жизни (и шире – зкзистенциализма как такового. – Г.К.) спасти жизнь от разрушительной силы самообъективации. Они боролись за сохранение личности, за самоутверждение Я, боролись в ситуации постепенного исчезновения Я в окружающем мире. Они пытались в условиях уничтожения Я и подмены его вещью указать путь к мужеству быть собой» (там же). 3. Сорокин П. Кризис нашего времени. С. 485. 4. Фромм Э. Бегство от свободы. С.10. 5. Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и писем. Т.1. М., 1991. С. 468. 6. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990, № 3. 7. Леонтьев К. Собрание сочинений. Т.8. М., 1912. С.267. 8. Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. Париж, 1951. С. 20. 18 9. М.Мамардашвили называл этот сверхприродный мир «неведомой страной», «невидимой тайной родиной всякого сознательного существа, и все мы – поскольку мы существа сознательные – имеем вторую родину, и как духовные существа, как люди являемся именно еe гражданами» (Мамардашвили М. Мысль под запретом. Беседы с А.Э. Эпельбуэн // Вопросы философии. 1992, № 5. С.105). 10. Эту основополагающую кантовскую категорию нужно, мне кажется, понимать cum grano salis – так, как это сделал Вл. Соловьeв, заметивший, что кроме совести и ума нужно ещe «вдохновение добра, или прямое и положительное действие самого доброго начала на нас и в нас» (Соловьeв Вл. Три разговора // Cмысл любви. М., 1991. С.393). 11. Мамардашвили удачно сформулировал идею о врождeнности морали: «чтобы стремиться к добру, нужно уже быть добрым – другой причины нет. Именно поэтому сенсуалистские, прагматические обоснования морали или еe обоснования на биологических теориях естественного отбора никогда не работали и не сработают. Первый признак морали и состоит в том, что моральные явления - причина самих себя. И тогда они моральны» (Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 78-79. См. также: Апресян С.А. Идея морали. M., 1995). 12. Не случайно, что у Юнга – психолога и мыслителя – сходное представление о человеке. Юнг свидетельствует, что человек в своей индивидуальности неповторим и уникален и что подлинная его задача – стать личностью, раскрыть в себе весь человеческий потенциал. Более того, среди архетипов бессознательного, которое, по Юнгу, в итоге определяет деятельность человека в мире, одно из важнейших мест занимает Христос и, следовательно, проведуемые им ценности – т.е. по существу мораль. 13. Мамардашвили М. Философия – это сознание вслух // Как я понимаю философию С.64. 14. Фромм считал решающей трудностью, стоящей перед нами, «значительное отставание развития человеческих эмоций от умственного развития человека. Человеческий мозг живeт в двадцатом веке; сердце большинства людей – всe ещe в каменном» (Фромм Э. Бегство от свободы. С.11). 15. Киселeв Г.С. Трагедия общества и человека. Попытка осмысления опыта советской истории.М., 1992. С. 9 – 15. 19 16. По существу именно проблема псевдокультуры – основная тема 17. Независимая газета. 23.07.1991. 18. Обмирщение церкви породило такие подавляющие человека явления, как квазирелигиозные по существу идеологии, содержание которых, в России, например, во многом сводится к охранительному квазипатриотизму, националистическому и имперскому синдромам. Это – заслуживающее внимания явление, особенно в наши дни, однако у меня нет возможности на нeм остановиться. 19. Толее того, нередко такая религиозность в сущности имеет очень мало общего с христианством. В России, озабочен священнник Г. Чистяков, «сегодня православие, действительно, на подъeме, но пока это православие не святых отцов, не преп. Сергия или св.Тихона Задонского – у нас сегодня это “православие” Розанова, Кузмина, Ремизова, Сологуба... Евангелие задвигается на второй план, обрядовая сторона веры становится чем-то самодовлеющим и самоценным» («Русская мысль». 27.03.1997). Вместе с тем то, что обряд имеет вполне самостоятельное духовное содержание, не вызывает сомнений. Отрицать его роль – весьма многостороннюю – было бы нелепо. 20. К тому же в этом мире авторитет представлен церковью, которая, «начав с диктата над совестью, c обуздания непосредственной первохристианской религиозности, ...кончает тем, что ставит на место веры в Бога веру в тех, кто достоверно знает Бога» (Соловьeв Э. Прошлое толкует нас. М., 1991. С. 87). Г.Федотов говорил о «древнем аскетическом и авторитарном отрицании свободы, которое гнездится во всех тeмных углах и закоулках старого христианского дома» (Федотов Г. Тяжба о России. С. 132). 21. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. С.62. 22. Цит. по: Лезов С.В. Теология Рудольфа Бультмана // Вопросы философии. 1992, № 11.С. 75. 23. Мамардашвили М. Как я понимаю философию. С.62. 24. Ясперс К. Истоки истории и еe цель. Вып.1-2. М., 1991. Вып.1. С. 28. и сл. 20 25. «Культуры, – писал Мамардашвили, – всегда сопротивляются трансценденции, это – условие их существования; они замыкают, сковывают человеческое бытие, ибо всякая культура тяготеет к порядку, к стабильности. человек же, напротив, тяготеет к трансценденции, и это необходимое условие человеческой истории» (Мамардашвили М. Мысль под запретом. С.106). 26. Подобное представление о трансцендентном даeт и возможность снять проблему теодицеи (не саму теодицею! Она, как показал Кант, неразрешима силой человеческого разума. См. Кант И. О неудаче все философских попыток теодицеи // Трактаты и письма. М., 1980. С. 60 и сл.). Для исторического христианства теодицея всегда оставалась ахиллесовой пятой. Сколько бы ни возвещало оно принцип свободной воли человека, людям невозможно примириться с мыслью о том, что Бог не вмешивается в царящий на земле кровавый кошмар. Представление же о божественном как имманентном человеку означает, что не божественный замысел определяет свободу человека, что свобода сама – его природа. Ше остаeтся оснований мыслить себе провидение как силу, сознательно правящую миром, как волевое начало. Щироздание предстаeт как дуальная система. У нeм действуют объективные закономерные силы природы, все эти силы являют собой рок, судьбу, стечение обстоятельств. 27. Лезов С.В. Введение (христианское в христианстве) // Социально-политическое измерение христианства. С. 5, 8. 28. Мец Б. Будущее христианства. По ту сторону буржуазной религии // философии. 1993, № 9. С. 108 и сл. Вопросы 29. Кант И. Письмо Лафатеру // Трактаты и письма. М., 1980. С. 539. 30. Соловьeв Вл. Письма. Т.3. Брюссель, 1977. С. 88. 31. Бонхeффер Д. О последнем и предпоследнем // Социально-политическое измерение христианства. С. 87 и сл. 32. См. Лезов С. Христианство после Освенцима // Иное. Т. 3. М., 1995, c.253 и сл. 33. Там же. 21