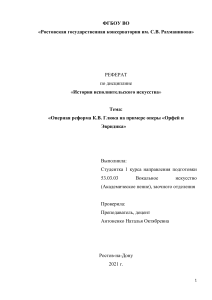вокальная стилистика хоровых сцен в поздних
реклама
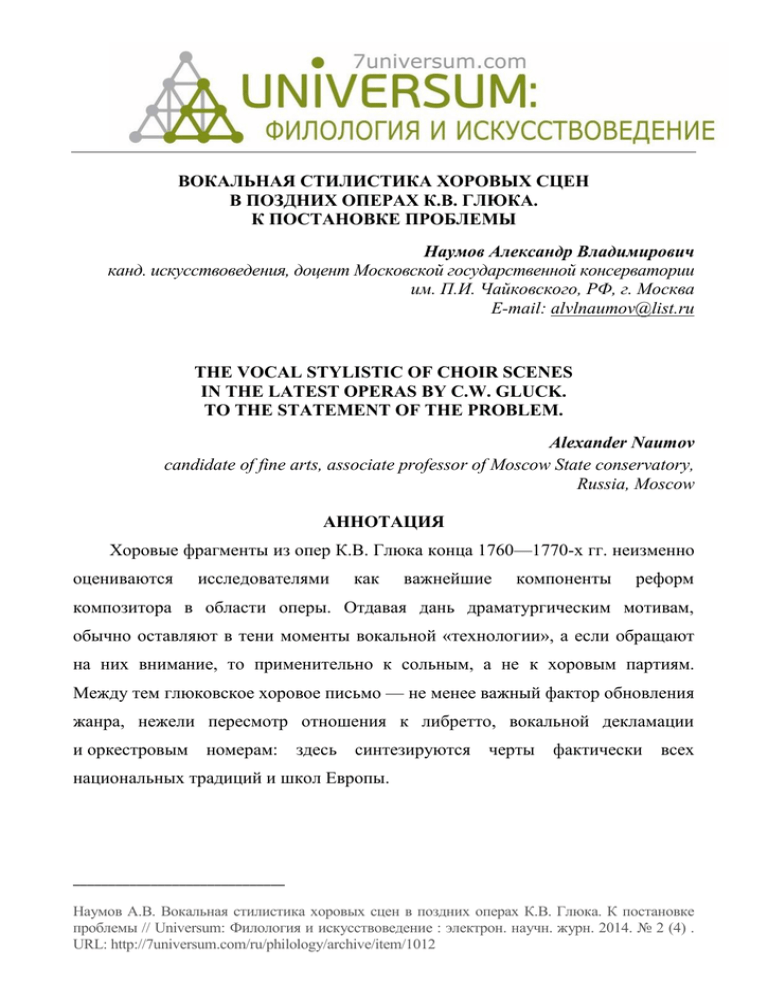
ВОКАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА ХОРОВЫХ СЦЕН В ПОЗДНИХ ОПЕРАХ К.В. ГЛЮКА. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ Наумов Александр Владимирович канд. искусствоведения, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, РФ, г. Москва Е-mail: [email protected] THE VOCAL STYLISTIC OF CHOIR SCENES IN THE LATEST OPERAS BY C.W. GLUCK. TO THE STATEMENT OF THE PROBLEM. Alexander Naumov candidate of fine arts, associate professor of Moscow State conservatory, Russia, Moscow АННОТАЦИЯ Хоровые фрагменты из опер К.В. Глюка конца 1760—1770-х гг. неизменно оцениваются исследователями как важнейшие компоненты реформ композитора в области оперы. Отдавая дань драматургическим мотивам, обычно оставляют в тени моменты вокальной «технологии», а если обращают на них внимание, то применительно к сольным, а не к хоровым партиям. Между тем глюковское хоровое письмо — не менее важный фактор обновления жанра, нежели пересмотр отношения к либретто, вокальной декламации и оркестровым номерам: здесь синтезируются черты фактически всех национальных традиций и школ Европы. ______________________________ Наумов А.В. Вокальная стилистика хоровых сцен в поздних операх К.В. Глюка. К постановке проблемы // Universum: Филология и искусствоведение : электрон. научн. журн. 2014. № 2 (4) . URL: http://7universum.com/ru/philology/archive/item/1012 ABSTRACT Choral episodes in Gluck’s operas of 1760—1770 are usually evaluated by any researchers as an important component in the opera reform of this composer. Paying attention mostly to the dramaturgical moments, scientists leave the vocal “technology” in shade, especially in use of choral, not only solo parts. Meanwhile, Gluck’s choral style is not less significant factor of the renovation, then libretto, declamation and orchestral changes. Here we can see the synthesis of almost all the musical traditions of Europe. Ключевые слова: Глюк, оперная реформа, хоровые сцены, вокальная школа. Keywords: Gluck, opera reform, vocal tradition, choral scenes. Проблема, вынесенная в заголовок настоящей работы, звучит отчасти парадоксально для отечественной, да и, насколько можно судить, для мировой науки. Все, что касается вокальной стилистики, обычно рассматривается на примере сольного или ансамблевого музицирования. Хоровое дело воспринимается как особый, иной по отношению к названным род музыки со своими стилевыми нормами и технологическими запросами [3]. Отчасти такое положение вещей обусловлено многолетней практикой, порожденной эстетическими закономерностями оперы и оратории XIX—XX вв. Фактически отвергнутая ныне на Западе, она во многом еще актуальна для современной России, где исторически информированное исполнительство лишь завоевывает позиции и в большинстве случаев хор — по-прежнему густо звучащая масса. Тот известный нам по записям тонкий, сложно организованный инструмент, подвластный различным стилевым модуляциям, с которым имеют дело выдающиеся дирижеры современности, — Дж.Э. Гардинер, У. Кристи и др. — пока еще такая же редкость на русских просторах, как, скажем, орган французской системы или ансамбль аутентичных духовых эпохи Ренессанса. Можно было бы возразить, что европейский инструментализм во многом так и остался чужд русскому национальному менталитету, но в том, что касается пения, аргументов оказывается недостаточно. Как ни странно, Россия, великая хоровая держава, демонстрирует в этом вопросе косность и ограниченность воззрений, и если отдельные концертные коллективы еще вырываются вперед, то хоры оперных театров по-прежнему остаются прибежищем рутины и шаблона. Производя впечатление там, где требуется мощь звучания и драматическая экспрессия, они пасуют перед изысками доромантической стилистики и геометрической точностью Новой музыки. Затронутые вопросы нечасто встречаются на пути музыковеда, вследствие чего они, как правило, лишь вскользь освещаются в научных трудах [2; 4; 8]. Автору данного текста приходится постоянно иметь дело с ними по долгу службы, вступая в диалоги со студентами на лекциях по Истории вокально-хоровых стилей, читаемых в Московской консерватории. Тема о Глюке остается при этом, как правило, в тени. Основные акценты связаны с композиторскими фигурами, на чьем примере можно более основательно выявить принципы и приметы национальных и эпохальных перемен в области эстетики и методологии сольного пения, а также проекций этих принципов на хоровое дело. Гении переходных десятилетий вынужденно упоминаются вскользь, наблюдения над их приемами накапливаются и образуют самостоятельные, никак в педагогическом плане не реализуемые запасы, взывающие к обнародованию. Между тем именно творчество Глюка, наряду с наследием его кумира Генделя, может служить одним из интереснейших примеров той стилевой драмы середины XVIII в., которая предопределила множественные «революции» вокального дела в последующие годы. Здесь обнажились многие противоречия, подчеркнувшие неизбежность окончательной кристаллизации принципов национальных певческих традиций Европы, альтернативных довлеющей эстетике «старого» итальянского bel canto. На примере генделевской биографии можно было наблюдать, как молодой немецкий музыкант, автор песен и двуязычной оперы «Альмира», испытал в 1700-х — 1710-х гг. искус итальянскими красотами, освоил в полной мере арсенал средств оперной кантилены и колоратуры, чтобы затем в зрелости обогатиться еще и достоянием британских традиций в антемах и ораториях. Три языка, три культуры сплелись в его поздней вокальной речи, ничто не было упущено, но ничто и не сохранялось в неизменности. Синтетическая природа зрелого стиля мастера заметна и в ходе анализа партитур, особенно интересного при прямом сопоставлении разноязыких опусов, но особое значение она приобретает для практики. Так, сравнение версий «Мессии» на языке оригинала и в переводах (существуют аудиозаписи на немецком и итальянском) дает парадоксальный вывод: в музыке высвечиваются различные, возможно, иногда далекие от аутентизма грани выразительности, но исполнительская идиоматичность материала не нарушается, он словно бы заранее рассчитан на иную лексику. Залогом подобной трансформационной легкости, несомненно, являлось уникальное личное чутье и гигантский опыт Генделя-капельмейстера и педагога; это особая тема, о ней немало сказано исследователями. Из всех мастеров последующего времени только Глюк демонстрировал аналогичную разносторонность. Он, как известно, писал на четырех языках: латинском и итальянском (духовная и оперная музыка), французском (оперы и оперы-балеты) и немецком (зингшпили и песни). Случай здесь еще интереснее генделевского, ибо лингвистические стихии не разведены четко по периодам, но смыкаются на грани 1760—1770-х гг. вплотную, а если действительно считать латынь духовных текстов вокально-фонетической разновидностью итальянского (или наоборот [6; 7]), то и полностью накладываются друг на друга по времени. Речь, разумеется, не идет только об использовании разных языков в разных произведениях. Для мастеров того времени фонетика слова влекла за собой широкий семантический шлейф, обязывая к соблюдению сложного музыкально-стилевого этикета. Эта традиция значительно сгладилась к концу романтического столетия (пример — французские оперы Дж. Верди), чтобы быть возрожденной в неоклассические времена ХХ в., но, кажется, именно Кавалер Глюк, сам того не ведая, заложил бомбу в ее основание. Общеизвестно, например, что при переработке венского (итальянского) «Орфея» для парижской сцены партия главного героя была основательно переделана, передана тенору и подчинена, особенно в речитативах, правилам французской орфоэпии. В то же самое время кантилена арий и ариозо «подмяла» под себя новое либретто, заставила его поддаться своему течению и удобству. А что произошло с текстами хоровых сцен? Что они представляли собой изначально и во что обратились? Некоторые документы свидетельствуют: для композитора этот пункт безразличен не был [1]. На подробное его рассмотрение у нас в рамках данной статье нет места, отметим только несколько деталей: в самом начале знаменитого траурного хора из 1 действия «Орфея» первая же строка вместо венского (итальянского) варианта текста Ah! Se intorno a quest urna funesta звучит по-французски как Ah dans ce bois tranquille et sombre. Смысл фразы несколько изменен, в исходном варианте речь сразу идет об «урне зловещей», во втором — похоронный мотив заменен упоминанием о «спокойном и темном лесе». Интересно, что фонетические краски фразы при этом остаются почти неизменны, т. е. колорит звучания слова, а вслед за ним и специфика работы вокального аппарата заботили композитора и поэта более, нежели верность букве первоначального либретто. Синтаксическая же структура фразы изменяется необратимо: цельное построение, дополненное фонетическим связыванием (liaison) заменяется на цезурованное (в русском языке после слова bois (лес) стояла бы запятая, выделяющая сложное определение). В данном контексте приобретает новое значение приготовленное задержание в мелодии: для итальянского слуха оно обозначало одну лишь риторическую фигуру lamento, для француза — типичное танцевальное «приседание» во втором такте. Иначе говоря, в венском «Орфее» звучала четырехтактная кантиленная фраза, а в парижском — две двутактные. Разумеется, пели по-разному. еще более ярко описанный принцип проявился в повторяющихся хорах из 2 действия, где деепричастно-сложноподчиненная конструкция французского языка Quel est l’auda crieux qui dans ces sombrer lieux ose porter ces pas et devant le tre pas ne fremit pas («Что там за яростный вопль, который исторг погруженный в мрачную недр глубину, где нога дерзновенных не ступит») подменяет сквозную сложносочиненную итальянскую фразу Chi mai dell’ Erebo fralle caligni sul orme d’Ercole e di Pirito con duce il pie («Кто и когда из людей мог в мрачное царство Эреба немощной плотью шагнуть и вслед за Гераклом Пирита духом своим превозмочь»), так что исходный единый 10-такт дробится на ясные двутакты, чем подчеркивается секвентногармоническая природа мелодики, но подрывается полетность движения: фурии не столько вьются вокруг Орфея, сколько наступают на него, скандируя слоги. наконец, во вставном парижском апофеозе использован «респонсорный» принцип: хоровые сопрано полностью повторяют за солисткой в партии Амура мелодию, дополненную гармоническим аккомпанементом остальных голосов; естественно, что все просодические, а также и вокальные особенности здесь сохраняются в неизменности. Итак, переделка «Орфея» для французской сцены заметно сказалась во всем облике оперы, не исключая и вокальную артикуляцию хорового материала. В парижской версии «Альцесты» перемены были еще более заметны, из них родились следующие шаги оперной реформы, затронувшей и массовые сцены. Как правило, в исследовательских работах подчеркивается драматургическая значимость хоров в поздних операх композитора и их разнообразие с точки зрения приемов письма, в том числе и по сравнению с более ранними сочинениями. Действительно, уже начальная сцена, например, «Ифигении в Тавриде» представляет собой уникальный сплав сольного и массового начал, немыслимое прежде наложение единства на множество; подобных приемов достаточно, и о них писали все, кто затрагивал творчество Глюка и его реформу. Хотелось бы в связи с упомянутым фрагментом обратить внимание на то, как возросли требования композитора к вокальному мастерству участников (в данном случае — участниц) хорового ансамбля, ведь партия сопрано здесь полностью дублирует сольные реплики, и это не самое сложное место подобного рода. Конечно, для профессиональных певцов церковных капелл, специализировавшихся на исполнении виртуозных фуг в итальянском стиле, подобные запросы не представляли препятствия, но глюковская реформа требовала повышения профессионализма именно театральных хористов, задачи которых дотоле были несколько иными, взывала к перестройке всего театрального организма. Как известно, о неуступчивость традиций она и споткнулась: еще добрых полвека композиторы боролись с устарелыми представлениями, чтобы к началу XIX в. получить возможность пользоваться массовыми эпизодами к максимальной пользе драматургического целого на уровне новых, уже «романтических» требований. Несмотря на заведомую гибельность намерения, Глюк неуклонно раз за разом разворачивал в своих партитурах целую панораму разностильных хоров, опираясь на опыт предшественников и трансформируя его по собственному усмотрению. Залог того, что впоследствии было реализовано у Мейербера и Вагнера, Дворжака и Глинки, Мусоргского и Бородина, несомненно, внесен этими бросками одиночки на неприступную крепость: даже Моцарт и Бетховен уступают Глюку в его дерзновенной, одержимой направленности на пересмотр всех сторон музыкально-театрального действа, важнейшим атрибутом которого являлись и являются массовые вкрапления. При детальном рассмотрении тема оказывается не такой уж локальной, и рамки ее вновь выходят за пределы допустимого к раскрытию в пределах статьи или доклада. Позволим себе только систематизировать основные стилевые разновидности хоров, используемых Глюком в операх, и обозначить на конкретных примерах черты синтеза, возникающего при «модуляции» из одного оперного жанра в другой на грани венского и парижского периодов биографии мастера. Наиболее распространен в ранних сочинениях тип итальянского хора — гомофонно-гармонического с ведущей ролью по складу, мелодического преимущественно верхнего голоса и аккордового, ограниченным использованием полифонических приемов. Голосоведение плавно, диапазоны партий невелики. Для современного музыканта-профессионала здесь много сходства с традиционными инструктивными задачами по гармонии; оперный хор в стилистике seria гораздо больше «хорал» на цепном дыхании, нежели собственно немецкое церковное песнопение, задавшее название фактурной форме: Рисунок 1. К.В. Глюк. Хор из оперы «Альцеста», 2 действие (фрагмент) Особая сложность неуместна — репертуар текуч, а театральные хористы не могут по ходу спектакля взять в руки ноты или пользоваться услугами суфлеров, все должно запоминаться слету, отсюда же и немногочисленность хоровых номеров. В большинстве случаев театры вообще не могут себе позволить содержать хор, и многоголосие озвучивают все занятые в спектакле, и без того не обделенные работой солисты. Есть, однако, и специфическое «неправильности» в сравнении со «школьными» нормами. Характерны высокие теноровые ноты, наложения и даже перекрещивания с альтами при явном допущении фальцета (он в те времена был, как известно, легитимен и для солистов): тенора, даже хоровые, занимают особое место в иерархии, любой из них может исполнить и сольную партию. Басовые партии, как уже можно было заметить, написаны также достаточно высоко, в малой и первой октавах, без профундовых эффектов (такие голоса составляли и составляют в Европе редкость). В целях достижения фактурного разнообразия чаще всего используется введение педальных тонов в разных голосах: можно считать эти долгие протянутые звуки, на фоне которых более рельефно проступают линии других слоев музыкальной ткани (особенно сольные партии), самыми яркими признаками итальянской «голосовой» эстетики. Вот еще один пример этого рода: Рисунок 2. К.В. Глюк. Хор из оперы «Альцеста», 2 действие (фрагмент) Мнимая простота «итальянских» хоров покоряет благородством звучания, крупной кантиленой, ассоциирующейся с образами возвышенными и торжественными — в этих семантических целях они, как правило, и вводятся. Вокальная природа в данном случае служит главной предпосылкой выразительного эффекта. Она же присуща и духовной музыке позднего Глюка на тексты латинских псалмов. Для хоров французского типа, если выражаться фигурально, большее значение имеет не протяжность, а расчлененность, цезурованность формы, имеющая двоякое происхождение. С одной стороны, сказывается влияние танцевальных жанров с их двутактными структурами, где каждый второй («тяжелый» такт) подразумевает паузу-вдох в конце, даже если таковая и не выписана. С другой — проявляются, хотя и в очень ограниченных пределах, черты типичной декламационности, заимствуемой из драматического театра и роднящей в опере партии солистов и хора. Все это можно наблюдать хотя бы на примере хора жриц из «Ифигении в Тавриде»: медленный темп не препятствует реализации описанных закономерностей, и даже наоборот, представляет их в наиболее явном, «дистиллированном» виде. Рисунок 3. К.В. Глюк. Хор из оперы «Ифигения в Тавриде», 1 действие (фрагмент) Двутактная цезуровка вначале прямо обозначена, затем проистекает из восклицательного знака в тексте и резкой смены регистра сопрано, затем нарочно обозначена авторской пометкой-апострофом. Фактурные решения решающей роли не играют, можно удовольствоваться даже унисонами (октавами мужских и женских голосов), они становятся особым стилевым знаком. Так или иначе, а в этом варианте письма с точки зрения певцов главенствует принцип «короткого дыхания» или «легкого перехвата», важнейшего выразительного средства, допускающего во многих случаях жертвование идеальной ровностью звука ради ярких сценических эффектов. Многочисленные цезуры позволяют также при необходимости быстро менять тембровые краски — в современных записях мы можем встретить выглядящие очень убедительно примеры подобных переходов: в итальянском контексте они звучали бы как настоящее варварство, но здесь уместны и даже предпочтительны. Немецкое проявляется в оперных массовых сценах относительно редко. Собственно, и Глюк не был в этой области особенно опытен, в отличие от тех композиторов XVIII в., кому приходилось иметь дело с жанрами кантаты или оратории. Исследователи расходятся во мнениях о том, следует ли вообще дифференцировать в творчестве этого композитора черты национальных влияний и, в частности, привязывать стилистику музыканта к месту его рождения. В монографии Л. Кириллиной связь поздних опер с эстетикой баховских Пассионов прослеживается достаточно прямолинейно [5, c. 114— 118, 205, 244], что не лишает позицию убедительности: будем считать ее последним словом, сказанным на данный момент по обсуждаемой проблеме. Камнем преткновения служит частое обращение мастера к неквадратности, нарушающей и гармоничность колебаний «итальянской Вселенной», и эластичную упругость французских танцевальных схем. Предопределенность музыкальной конструкции вербальной формой, германское «вначале было Слово» становится особенно значимым фактором и для хоровой эстетики, хотя, следует признать, несколько прячущимся за двумя упомянутыми выше. Только рассматривая хоровые фрагменты с точки зрения хормейстера-постановщика, можно обратить внимание на то, что без учета фразовой структуры, устремленности к главному слову музыкальный материал нередко выхолащивается. Вот крохотный фрагмент из «Ифигении в Авлиде», нотный текст которого даже выглядит как немецкий хорал или turbae из баховских Пассионов (сходство усиливает добавочная подтекстовка): Рисунок 4. К.В. Глюк. Хор из оперы «Ифигения в Авлиде», 1 действие (фрагмент) Подобно тому, как Дж.Э. Гардинер в ходе репетиций, до начала пения, проговаривает со своим хором тексты баховских кантат, определяя синтаксический и интонационный рисунок строки (см. документальный фильм ВВС о Кантате BWV 65), работа с любыми хорами Глюка может включать этот непременный для немецкой музыки этап освоения. В плане звукоизвлечения немецкая хоровая музыка обладает еще одним свойством, отчасти роднящим ее с итальянской, а отчасти и противопоставляющим последней, — вязкой кантиленой, свойства которой обусловлены фонетической структурой языка [5]. Почти спектральный ряд немецких гласных (их 17 против 7 итальянских) делает возможным «перетекание» фонем одной в другую, а функция разделителя перекладывается на обильные согласные, которые также «поются», по возможности наполняясь вокальным звуком, причем в процессе могут иногда участвовать даже шипящие. Особая гладкость линии, образующаяся при этом, породила подчеркнутое значение горизонтали в немецком хорале, обильное применение здесь проходящих и вспомогательных звуков (выше мы писали о том, что «итальянский» аккордовый склад — гораздо больше «хорал», чем немецкое песнопение). Та же специфика, возможно, обусловила и расцвет именно в Германии полифонии свободного стиля: при помощи национальных, укорененных в языке кантиленных приемов сложность интонационных оборотов приобретала более живой, одухотворенный облик. Находя подобные эпизоды в хоровых партитурах Глюка, мы можем уже с уверенностью говорить о его генетическом потенциале немецкого мастера, нашедшем реализацию в условиях, мало и скудно к тому располагавших: немецкая опера как самостоятельный феномен в те времена еще толком не состоялась. В заключение этого краткого обзора следует упомянуть еще об одном влиянии, проявления которого у Глюка опосредованы поклонением Генделю, — английской, т. н. «антемной» стилистике, связанной с акцентированным скандированием слова в аккордовых вертикалях большого хора, где главным выразительным элементом становится ритм, дублирующий просодические особенности фразы. У Генделя эти «рубленые» построения, как правило, дополнялись итальянизированными колоратурными вставками, хор приобретал ту самую синтетическую стилевую природу, о которой шла речь выше. Для Глюка подобное сглаживание резкостей смысла не имело. Наоборот, в качестве сильных акцентов они применялись демонстративно, хотя и не слишком часто, и это подчеркивает важнейшую составляющую его композиторской идеологии: ни одно средство не самоцельно, все они направлены на воплощение идеи спектакля. Вот пример типичного хораинтрады из «Альцесты»: Рисунок 5. К.В. Глюк. Хор из оперы «Альцеста», 1 действие При перенесении на чужую языковую почву разные вокально-хоровые стили отчасти теряли терпкость, подчинялись единству замысла. Свободное владение различными приемами вокально-хорового письма и знание их взаимоокрашивающих свойств позволило Глюку и здесь, наравне с сольными и оркестровыми номерами, вести революционную борьбу за новое искусство. Единственным возможным способом сопротивления инертной среде тогдашних музыкальных профессионалов был выбор их же оружия. Написав хоровые партии тем или иным образом, Глюк принуждал театр исполнить свою музыку в подчинении выразительной задаче текущего фрагмента действия. Во власти капельмейстеров оставалось только омрачить премьеру недостойной ее подготовкой, но подобные инциденты выходили за рамки представлений о чести и достоинстве, в те времена еще нерушимые. Список литературы: 1. Глюк К.В. Письмо к Б. Леблану дю Рулле // Кириллина Л.В. Реформаторские оперы К.В. Глюка. — М.: Классика-XXI, 2006. — С. 349. 2. Кириллина Л.В. Реформаторские оперы К.В. Глюка. — М.: Классика-XXI, 2006. — 384 с. 3. Никольская-Береговская К.Ф. Русская вокально-хоровая школа IX— XX веков. — М: Языки русской культуры, 1998. — 192 с. 4. Рыцарев С.А. Кристоф Виллибальд Глюк. — М.: Музыка, 1987. — 181 с. 5. Adler K. Phonetics and Diction in singing. — Minneapolis: University of Minnesota press, 1974. — 161 р. 6. Elliott M. Singing in Style. A Guide to Vocal Performance Practices. — N.-Y. & Lnd.:Yale Univercity Press, 2006. — 356 p. 7. Miller R. National Schools of Singing. — Lanham, Maryland & Oxford: Scarecrowpress Inc., 2002. — 237 p. 8. Müller-Blattau J., Gluck und die Sprache der europäischen Musiknationen / Von der Vielfalt der Musik. — Freiburg in Breisgau: Universitat press, 1968. — S. 45—61.