Жанна Свет Охота на ловца (окончание)
реклама
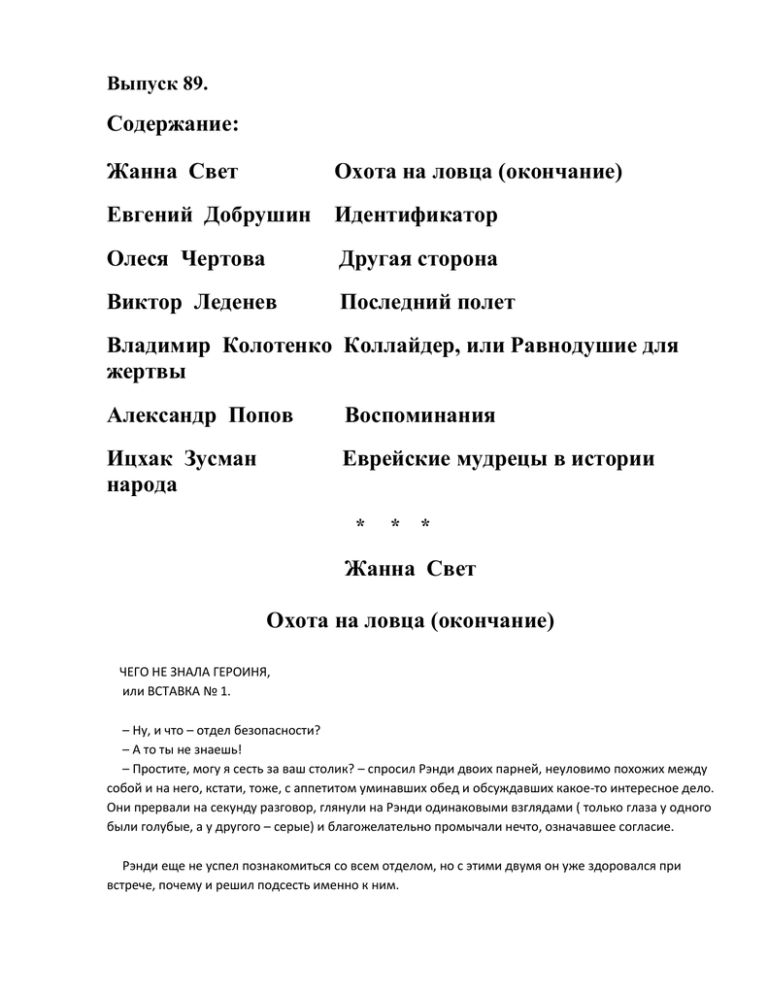
Выпуск 89. Содержание: Жанна Свет Охота на ловца (окончание) Евгений Добрушин Идентификатор Олеся Чертова Другая сторона Виктор Леденев Последний полет Владимир Колотенко Коллайдер, или Равнодушие для жертвы Александр Попов Воспоминания Ицхак Зусман народа Еврейские мудрецы в истории * * * Жанна Свет Охота на ловца (окончание) ЧЕГО НЕ ЗНАЛА ГЕРОИНЯ, или ВСТАВКА № 1. – Ну, и что – отдел безопасности? – А то ты не знаешь! – Простите, могу я сесть за ваш столик? – спросил Рэнди двоих парней, неуловимо похожих между собой и на него, кстати, тоже, с аппетитом уминавших обед и обсуждавших какое-то интересное дело. Они прервали на секунду разговор, глянули на Рэнди одинаковыми взглядами ( только глаза у одного были голубые, а у другого – серые) и благожелательно промычали нечто, означавшее согласие. Рэнди еще не успел познакомиться со всем отделом, но с этими двумя он уже здоровался при встрече, почему и решил подсесть именно к ним. Он жевал, глотал, запивал и слушал потрясающую историю о каком-то гениальном хакере, умудрившемся влезть в базы данных их конторы, и – возникло такое подозрение – скачавшему какието сверхсекретные сведения, что поставило на уши все руководство. Хакера ловят, но пока безуспешно, потому что он, судя по всему то и дело меняет компьютеры, видимо, работает из интернет-кафе. Собственно, засекли только один его визит, именно из кафе – это выявил отдел безопасности, отслеживая маршрут визитера. И сейчас вся компьютерная служба конторы работает над концепцией поиска и поимки наглеца. Парни доели, кивнули Рэнди и ушли, оставив его в страшном возбуждении. Уже два месяца прозябал он в этом гадюшнике, но к стоящим делам его близко не подступали, держали на всякой мелочевке, а ведь он не для этого пошел на смену личности и всей своей жизни! Он хотел сделать карьеру, вот чего он хотел. Уже два месяца за ним наблюдают и, видимо, сделали вывод, что толку от него не будет, но тягловые лошадки всегда нужны – вот и будут держать его в этой роли до скончания века. Рэнди не был согласен с такой жизненной перспективой, он искал возможности переломить ситуацию в свою пользу, отличиться, показать, что и он не лыком шит, и из него может получиться работник экстра-класса – и вот, кажется, такая возможность сама ему подвернулась, благодаря этим трепачам. Рэнди с пренебрежением подумал о не в меру разболтавшихся сослуживцах. Уж он-то никогда и нигде не станет распространяться на служебные темы, разве что на совещаниях и обсуждениях дел, а эти... Рэнди отнес грязную посуду и пошел в библиотеку: он мало что знал о хакерах и методах их поимки, нужно было поискать соответствующую литературу. Идея поймать хакера своими силами овладела Рэнди, подчинила его себе, он больше ни о чем не мог думать и даже был теперь рад, что ему поручают дела, не требующие абсолютного в них погружения. Он механически исполнял задание, стараясь отделаться от него как можно быстрее, а затем бежал в библиотеку изучать материалы, касающиеся компьютеров, Интернета, хакеров; изучал дела о поимке самых знаменитых из них и через недолгое время стал настоящим спецом-теоретиком в этом вопросе. Он самодовольно думал, что вполне мог бы читать лекции в Полицейской Академии, однако новоприобретенные знания не демонстрировал, помалкивал, да и вообще, старался не светиться – такую манеру поведения он взял на вооружение с первого дня работы на новом месте: нужно было сперва осмотреться, понять что к чему. Рэнди страшно бы удивился, если бы узнал, что о нем уже составили вполне благоприятное мнение и собираются привлечь к группе, которая должна была провернуть очень важную и серьезную операцию. Просто в этой конторе новичкам давали полгода на освоение, у него впереди было еще много времени. Тем более, что и операция еще не была спланирована полностью. Незадолго до того памятного дня, когда он услышал рассказ о неуловимом хакере, Рэнди познакомился с потрясающей девкой. Произошло это в приемном покое больницы. Рэнди привез туда своего дядю, одинокого холостяка, у которого прихватило спину, пришлось его на себе волочить. А девушка подвернула ногу на работе, сидела зареванная и несчастная, с тугой повязкой на ноге. Как понял Рэнди, она ждала подругу, которая должна была забрать ее домой. Дядюшку выпустили раньше, чем появилась подруга, Рэнди выпросил у девушки телефон и, мысленно чертыхаясь, увел дядю к машине. Буквально через неделю, когда они с Эвой – так звали его новую знакомую – ехали в его машине к друзьям Эвы, художникам, которых Эва считала гениями, она вдруг потребовала остановить машину и бросилась на шею какой-то серой мышке, которая шла упругим шагом по тротуару одним с ними курсом. «Грамотно идет!» – отметил про себя Рэнди и подумал, что никогда не видел у девушек такой походки. Даже парни-спортсмены не все умеют так ходить. Удивило его и то, что общались девушки, хоть и на равных, но Эва, явно, отчитывалась в чем-то перед мышкой, а та задумчиво смотрела на Рэнди, сидевшего в машине, и ему вдруг показалось, что она видит его насквозь. Ему стало неуютно. Эва подвела мышку к машине и сказала, что хочет их познакомить. Пришлось вылезать из-за руля, жать безучастную руку, бормотать какие-то дурацкие вежливые слова, а мышка все смотрела на него задумчиво и равнодушно одновременно, но Рэнди знал почему-то, что она все в нем поняла и разгадала. Он ощутил себя голым и поспешил укрыться за рулем, причем ему показалось, что мышка даже не заметила его бегства. Эва вернулась в машину, помахала мышке, та двинулась дальше, а Эва стала рассказывать Рэнди, что это та самая подруга, которая забрала ее из больницы, что она сирота, живет с Эвой в доме родителей Эвы, гениальный дизайнер, только-только устроилась в престижное бюро и уже подключена к дорогущему и секретнейшему проекту. Что компьютер знает лучше всех компьютерщиков, знакомых Эве, но что при всех своих потрясающих качествах, болезненно скромна и старается держаться в тени. Никак Эва не может ее ни с кем познакомить, просто безобразие – никакой личной жизни у человека! Рэнди было скучно слушать Эву, он только вежливо мычал в ответ, качал в нужных местах головой, а когда они приехали в мастерскую художников, и вовсе выбросил Мышку ( так он окрестил ее мысленно) из головы. Потом случился поход в столовую, памятный обед, часы в библиотеке, а еще через пару дней Рэнди, возвращаясь с работы, увидел Мышку, выходящей из интернет-кафе. В этом не было ничего необычного: мало ли людей посещают эти заведения! Но буквально накануне Эва рассказала ему, как Мышка на-раз починила ее комп, даже не садясь за него, потому что еще год назад она наладила у них домашнюю сеть, и теперь Эва может не бояться за свой компьютер и не тратить денег на техников со стороны. Таким образом, посещение Мышкой интернет-кафе было нелогичным и даже подозрительным. Рэнди нюхом чуял здесь какой-то подвох, рассказ о хакере гвоздем сидел в мозгу и жег воображение. Нужно было разобраться с этой подругой покороче, но как подобраться к ней, если, по словам Эвы, она ни с кем не хочет знакомиться, о себе ничего не рассказывает, и вообще, является вещью в себе. Рэнди понял, что его ждет напряженная серьезная работа: он должен был в одиночку разработать операцию, провести ее, не спугнув добычу – и вот тогда в конторе поймут, как несправедливы были к нему! КОНЕЦ ВСТАВКИ № 1. Как ни удивительно, но следующие несколько дней прошли совершенно спокойно. Ал не обращал на меня внимания, Эрик и вовсе исчез с горизонта. Прошли рождественские каникулы, встретили Новый год, работа над проектом набирала темп, хотя, казалось бы, еще интенсивнее работать было уже невозможно. Я съехала с виллы в свою квартирку, как всегда объяснив бегство нежеланием привыкать к излишне обустроенной жизни, тем более, что не я сама ее обустроила. Родители Эвы ворчали, говорили, что моя тяга к самостоятельности принимает параноидальный характер, я, как могла, отбивалась от обвинений в нелюбви и равнодушии к ним, а сама с ужасом чувствовала, что затишье в игре внушает мне еще большие страх и опасение за их жизни, и спешила убраться подальше как можно быстрее. Я продолжала вести поиск причин и целей охоты на меня, но пока ничего особенного не нарыла, кроме биографии Ала, вполне обычной биографии единственного сына состоятельных родителей. Еще мне стало известно, что его семья, главный дизайнер и приятель Эвы – Рэнди – входят в одну компанию, часто встречаются на различных приемах, ездят друг к другу в загородные дома...ну и что? Что мне это могло дать? Что главный дизайнер составил Алу протекцию при поступлении на работу? Оказалось, кроме того, что главный дизайнер был личным другом хозяина нашей фирмы. Они вместе учились в колледже, были там не разлей вода, несмотря на разное финансовое положение и на то, что наш главный был гораздо талантливее своего богатого друга. После окончания колледжа богатенький сынок получил от отца деньги на собственное дело, открыл бюро, а дальше проявил небывалую преданность студенческой дружбе: предложил приятелю стать тем, кем он сейчас и является. Да еще и компаньоном его сделал! Все эти сведения ничуть не приближали меня к решению задачи, нужно было копать дальше, но в каком направлении?! Ну, любили они карточную игру, были членами одного клуба...может быть, кто-то кому-то что-то проиграл? Какое отношение к этому проигрышу могу иметь я? Я читала одну русскую книгу, в ней было написано, что у русских преступников есть (или был ) обычай играть в карты на чью-нибудь жизнь: проигравший должен был убить первого встречного человека. Может быть, они меня проиграли? Если так, то я бы уже была на небесах, значит, моя жизнь им не нужна, несмотря на все угрозы Эрика. Что же им тогда нужно? В памяти моей сидела очередная заноза – нечто, в очередной раз не полностью забытое и не поддающееся вспоминанию, нечто, связанное с этой компанией или с кем-то одним из них. Я злилась на себя, мне казалось, что я деградирую и что уже никогда не буду мыслить так ясно, как мне удавалось до всей этой идиотской истории. Нужно было как-нибудь отвлечься, и я согласилась на предложение Триши пойти в кино. Господи! Я – в кино! Да я там с детства не бывала, уже даже и не помнила весь этот ритуал покупки билетов, поп-корна ( не понимаю, на фига он нужен, но Триша меня и спрашивать не стала – сунула ведро в руки и потащила меня в зал). Фильм был, наверное, интересный, если судить по тому, как Триша вся подалась вперед и окаменела, не спуская глаз с экрана, только поп-корн трещал в ее крепких зубах. Место рядом со мной пустовало, и я осторожно поставила на него свое ведро с поп-корном, села в кресле поудобнее и закрыла глаза. Итак, я выяснила, что в мою жизнь вторглись трое человек, связанные между собой давним знакомством, и нужно было определить, связаны ли они все с игрой в секретность проекта и с моим невольным участием в этой игре. Что Ал связан, я уже поняла. Теперь нужно было обдумать личность главного. Подозреваю я его или нет? Нельзя подозревать человека лишь потому, что он знаком с другим человеком, которого и подозревать не нужно – и так все ясно. Но все же лучше было бы подозревать, чтобы не оказаться простофилей, пропустившей мяч. Есть у меня что-то против главного? На первый взгляд – нет. Он отказался от взятки, когда ему предожили украсть проект, он сдал Смайлза полиции, не дал тому затянуть меня в историю с флешкой... Он не участвует в этой игре...не...участ-ву-ет...в иг-ре... А почему он пошел в тот день проверять столы? Он никогда этого не делал, полагался на Смайлза, да и не его это работа, тем более, что своей работы у него выше головы – некогда ему в Ната Пинкертона играть... Хм, да потому он пошел, что я ему после вечеринки письмо послала. Анонимное, конечно. Вы, наверное, помните, я рассказывала, что уехала с вечеринки одна, завернула в интернет-кафе и послала одно коротенькое письмо. Это я главному намекнула, что некто делает попытки украсть проект и что там-то и тогда-то можно будет найти постороннюю флешку с материалами. Вот он и отправился искать эту флешку. Как я понимаю, на всякий случай, но случай оказался не всякий, а именно тот самый. Но на вопрос, кто записал материалы на эту флешку, остался висеть надо мной во всей своей неразрешимости. Я вдруг почувствовала, что моя заноза произрастает именно отсюда: если я соображу, кто забрал флешку, записал на нее какие-то левые эскизы, похожие на наш проект, а потом подкинул ее в мой стол, я решу задачу. Тут я подумала, что ведь не обязательно один человек и забрал флешку, и записал на нее липу. Забрал кто-то, кто имеет возможность часто заходить в нашу комнату, а записал тот, у кого есть доступ к архиву. Я вскинулась и уставилась на Тришу. Она вся была во власти фильма и только мельком глянула на меня, отреагировав на мое внезапное резкое движение. Триша? Триша тоже в этом участвует?! У меня, точно, паранойя. Скоро мне будет казаться, что все бюро только тем и занято, что ищет способ извести меня и что его лишь с этой целью и открыли. Триша не могла записать флешку: у нее нет права записи файлов на внешние носители. Фууууу... я шумно перевела дух, и Триша согласно закивала головой: она решила, что это я так отреагировала на острый момент фильма. Хорошо, это не Триша. Это очень хорошо, что не Триша! Было бы грустно так ошибиться в человеке. Но я, видимо, не только в Трише ошиблась, я еще кого-то воспринимаю не таким, каков он ( она?) есть на самом деле. Кого? С экрана понеслась такая пальба, что, казалось, в зале все заволокло пороховым дымом, и под эту пальбу у меня, наконец, сложился пазл, и я от избытка чувств зааплодировала. Зал подхватил мои аплодисменты, Триша радостно толкала меня в плечо и вопила: – А я думала, ты заснула, не смотришь! Классный фильм, скажи! – Ага! – вполне искренне ответила ей я. Еще бы – не классный, когда я так здорово все поняла! Кроме одного: при чем же здесь Рэнди? Я еле дождалась конца сеанса, чмокнула Тришу в тугую гладкую щеку ( что вовсе не свойственно для меня), наспех что-то ей наврала о внезапно осенившей меня идее, которую необходимо зафиксировать, иначе я все забуду, и умчалась. Собственно, я ей даже не очень и врала: идея-то меня, в самом деле, осенила. А что идея эта не связана с моими прямыми обязанностями – какое Трише до этого дело! Я схватила такси и минут через пятнадцать уже сидела за компьютером в кафе, максимально удаленном от кинотеатра. Меня всю трясло от нетерпения, пока я лихорадочно рылась и шарила в Интернете в поисках доказательств своей догадки. Прямых доказательств я не нашла, только отзвуки некоего скандала, случившегося около года назад, но и эти скудные сведения убеждали, что я права. Собственно, я и не ждала, что найду открытую переписку скандального характера: все же это были не реднеки и даже не мужланы Смайлзы. В круге образованных и богатых людей не принято трясти грязным бельем очень уж явно. Сплетни, намеки, кивки, шепоток – это допустимо, но, конечно, не откровения с приятельницами в стиле беременной подружки Эрика. Итак, я обнаружила связь между главным дизайнером – вот в ком я, оказывается, ошибалась – и Алом Боровски, и связь эта заключалась не только в общей компании: между ними что-то произошло, что-то, что могло навредить кому-то из них и что делало другого хозяином положения. И это «что-то» каким-то образом связывало с ними Рэнди. Поиск следовало продолжить и заодно проверить, что творится на другом уровне – в стане Смайлзов. В общем, я застряла в этом кафе, хотя не следовало задерживаться на одном месте слишком долго, да и время было еще детское, мало ли кто мог меня увидеть. Но охотничий инстинкт не позволял оторваться от компьютера, и я пыталась успокоить себя мыслью, что не слишком часто я так надолго задерживаюсь на одном месте, что иногда можно себе позволить небольшую вольность. Вот сейчас еще тут посмотрю и уйду. Но мой азарт пропал втуне: Смайлзы безмолвствовали. Ни одной новой фотографии, ни одного письма. Они ни с кем не связывались ни по аське, ни по скайпу, мессенджер бездействовал. Вообще, никто из семьи не выходил в Интернет. Отчасти, их можно было понять: потеря работы, привод в полицию, грядущий суд – все это больно ушибло всю семью, не только жену и детей Смайлза-старшего. Но получалось, что все остальные разорвали с ним всяческие связи да и между собой тоже не общались – это меня встревожило. Что там у них происходит? Как я узнаю, если семейка эта перестала оставлять следы? Пузырьковая камера сломалась, электрон перестал быть виден, от эксперимента приходилось перейти к теоретическим рассуждениям, а это не обязательно делать в кафе. Я со вздохом выключила комп и вышла на улицу. Какой-то автомобиль, стоявший у кафе, в то же мгновение снялся с места и укатил в том же направлении, куда нужно было идти и мне. Меня почему-то царапнула эта деталь, и я, на всякий случай, повернула в другую сторону. Я привыкла доверять своей интуиции, не следовало и сегодня отказываться от этой привычки. Дойдя до ближайшего угла, я вошла в итальянский ресторанчик, где уже не раз ела и чьей кухне доверяла, и решила поужинать, раз уж так совпали время и место. Села так, чтобы мне была видна улица, но меня с улицы нельзя было заметить, и заказала равиоли с грибами. Ожидая заказа, я смотрела в окно на ярко освещенную улицу. И оказалось, что моей интуиции можно верить: автомобиль, так спешно удравший от кафе, вернулся и медленно двигался вдоль тротуара. Его тонированные окна мешали рассмотреть, кто сидит за рулем, но это было не важно: я знала, кто там внутри. Именно из этого «Форда» выскочила Эва в тот день, когда познакомила меня с Рэнди. ЧЕГО НЕ ЗНАЛА ГЕРОИНЯ, или ВСТАВКА № 2. Эрик раздраженно выключил сотовый и сдернул куртку с вешалки. Чего эта корова от него хочет?! «Срочно, чтобы через полчаса был на месте, не стоит меня раздражать...» Гадюка! Нужно же было связаться с такой стервой! Эрик закурил и, злобно сплюнув на тротуар, отправился на встречу с Уной. Он, конечно, свалял большого дурака. Секс без предохранения – это ведь не его стиль, как же он в тот раз-то обмишулился? Ну, пьян был, ясно, но эта-то коза куда смотрела?! Хотя и она тоже...Да все на той вечеринке перепились, никто ничего не соображал...может, это и не его ребенок вовсе – вокруг Уны всегда толпа мужиков толчется, а отдуваться будет он один. Он хотел пройти тест на отцовство, но она назвала его грязной скотиной и пригрозила заявить об изнасиловании. Ну, стерва! Женись или плати! Дрянь! Ни жениться, ни платить Эрику не хотелось, но жениться не хотелось сильнее, значит, придется платить, потому что сидеть за изнасилование ему тоже не хотелось. Даже если ей не удастся его оговорить, все равно придется таскаться в полицию, что-то объяснять, доказывать. Да и огласка ему тоже совершенно не нужна. Он попытался заикнуться только об аборте – получил по физиономии...Ну, что это такое, а?! В двадцать первом веке эта дурища вдруг вспомнила, что она – католичка! Ненормальная какая-то. А когда он сказал, что не верит, будто ребенок его, реветь стала. Она, видите ли, порядочная девушка, а он грязная свинья, горилла и скот. Эрик знал, что ребенок его. Он знал, что Уна – девчонка порядочная, не давалка, как другие девки из их компании. И знал, что она его любит. По чести говоря, он и сам от нее балдел, она классная девочка, но одно дело – балдеть от девчонки и совсем другое – жениться. Он не собирался жениться совсем, на фиг надо! Насмотрелся он на семейную жизнь – хоть его родителей, хоть старшего брата. Каторга, добровольная причем. Деньги отдай, время отдай, во всем дай отчет, душу выверни, мысли выложи – и укрыться от этого надзора некуда. Придешь к брату футбол вместе посмотреть – куда там! Пацан свою музыку включает на полную, девчонка – свою. Жена на кухне какой-то сериал мутный смотрит, тоже на полную, потому что музыкальная мешанина все заглушает, а на просьбы сделать тише деточки не реагируют. Да еще у каждого в комнате толпа дружков и подружек, все галдят – сумасшедший дом, честное слово! А стоит включить телевизор в гостиной, как жена начинает вопить, что их проклятый футбол мешает ей кино смотреть. А уж если банку пива откроешь... И ради чего все это?! Теперь не старое время, теперь баба в доме не обязательна, и без нее можно прожить в свое удовольствие. Это раньше мужику нужно было, чтобы кто-нибудь ему еду готовил и одежду стирал, а сейчас этих проблем нет. Понятно, после рабочего дня тащиться в супермаркет, волочь из него неразделанные мясо и овощи, потом дома чистить-резать, потом два часа ждать, когда приготовится, да стирка-глажка, уборка, грязная посуда...Никто такой жизни не выдержит – вот и женились, куда денешься! А сейчас зайдешь в магазин – там больше пятидесяти замороженных обедов! Почти два месяца каждый день можно что-то новое есть, никогда не приестся. Только и нужно, что забить морозилку – и все, ты ни от кого не зависишь. Салаты тоже готовые продаются, пироги любые, десерты...Даже кофе не обязательно самому варить: позвони в ближайшую забегаловку, и тебе на дом принесут, какой закажешь. То же и со стиркой: прачечные на что? Там и погладят, и пуговицу пришьют, и зашьют дыру, если нужно...химчистка, опять же...ну, за все платить нужно, конечно, но это все равно дешевле, чем содержать жену и детей. А что касается уборки, то мексиканки убить готовы за место уборщицы. Придет, когда хозяина дома нет, все вылижет, мелькать перед глазами не будет, скандалить, что она работает, а он на диване развалился, не будет; вернешься домой с работы – красота! Чисто, тихо, никто на психику не давит... И не нужно каждый день выслушивать, что Кэти нужно железки на зубы ставить, у Майка прохудились кроссовки, а самой мадам нужно новое пальто. Ага, как же! Он будет работать, горбатиться, а деньги у него заберут?! На фиг такое дело! Нееет, жениться Эрик не собирался. Значит, придется платить. Значит, нужно, чтобы дело с секретным проектом выгорело обязательно, потому что эта змея, Уна такую сумму заломила! Часть денег у него есть – на мотоцикл копил. Конечно, можно было бы в кредит купить, да не любил Эрик кредита, ловушка это все – кредиты, карточки, ссуды банковские. Берешь чужие и на время, а отдаешь-то свои и навсегда – жалко! Лучше потерпеть, накопить и не быть никому должным. Кстати, и дешевле получается: проценты-то не платишь! Эрик настолько отдался возмущенным мыслям, что не заметил, как пришел к месту встречи с Уной. Конечно же, ее еще не было, теперь придется ждать, невесть сколько, а время уже позднее, да и вечер мерзкий выдался, промозглый и какой-то гнилой. Сейчас бы завалиться в теплую постель, даже девчонки не нужно, очень уж спать хочется. А эта гадина нарочно опаздывает – хочет насладиться своей властью, так бы ей и врезал...черт, вот ведь непруха...убил бы ее, честное слово, если бы знал, что сумеет концы в воду... Тут его окликнули, он обернулся и увидел Уну. – Привет, любовничек! – ее насмешливый тон взбесил Эрика, но он взял себя в руки и спросил неприязненно: – Зачем звала? – Как это – «зачем»?! – картинно удивилась Уна. – Ты мне деньги должен, забыл? – Ни фига я тебе не должен. Просто я честный парень, вот ты и пользуешься. – Ты честный?! – удивление Уны не было наигранным. – Сделал мне ребенка, пытался слинять, проституткой назвал, заявил, что ребенок не твой – это все очень честно! Джентльмен с Юга, глаза болят – честность твоя слепит. Тварь ты, понял, кто ты есть? – Если ты будешь ругаться... – То что произойдет? Имей в виду – в общежитии все знают, куда и зачем я пошла, так что держи себя в руках. Если со мной что-нибудь случится – отвечать тебе. Эрик выругался вполголоса, достал сигарету и попытался закурить. Его трясло от злости, и он не сразу сумел добыть из зажигалки огонь – чиркал безрезультатно колесиком, распаляясь еще сильнее. Уна насмешливо смотрела на него. – Господи, ну, ты и поц! – воскликнула она. – Сигарету прикурить не можешь. Где были мои глаза?! Тут Эрик не выдержал и объяснил ей, максимально нецензурно, где именно были ее глаза. – Ага, ага, давай! Давай, ругайся,– почти невозмутимо ответила Уна, – ты ведь больше ничего не умеешь... – Уна, заткнись, наконец! – завопил Эрик. – Не доводи меня до крайности! Я-то, допустим, сяду, но ведь за то, что убью тебя, и поверь, что я не шучу! Кажется, Уна поверила ему, потому что вдруг побледнела, отшатнулась от Эрика и вскрикнула. – Говори, зачем звала, и вали к чертовой матери! Уна, все еще бледная, несколько раз глотнула воздух, отдышалась и уже совсем другим тоном сказала: – Деньги мне нужны. – Слыхал. Поновее ничего не скажешь? – Ты не понимаешь...Родителям кто-то написал, что я жду ребенка и не знаю, от кого. Отец приезжал... – она горестно поникла головой, – привез мне мои вещи, какие еще у них оставались, и сказал, чтобы больше на глаза им не показывалась и что денег больше присылать не будут. А работать я не могу: такой токсикоз, я почти целыми днями лежу – так мне плохо... – А где я тебе денег возьму?! Я их не печатаю. Сейчас одно дело пытаюсь провернуть, получится – будут деньги, а нет – извини. – Ты мне хоть сколько-нибудь дай, а то у меня только двадцать долларов осталось, а мне нужно лекарство, говорят, от тошноты помогает. – Да нет у меня денег! Брата уволили, а у него двое детей и жена без профессии, зато с воображением о себе. Я ему помогаю. – Что же мне делать? – А я откуда знаю?! – Эрик, но ведь это ты виноват! – Я один? – Конечно! – Почему же это? – Но ведь это ты не предохранялся. – А откуда я мог знать, что ты не пьешь таблетки, а? Все современные девушки на таблетках, как я мог догадаться, что ты – в стороне от общего движения? Уна подавленно молчала. Эрику даже немного жаль стало эту дурищу. – Оба мы с тобой виноваты, – сказал он примирительно, – но, клянусь, у меня сейчас с деньгами плохо, ничем не могу помочь. Тебе одолжить никто не может? – Кто? – Подруги...друзья, не знаю... – Ты знаешь моих подруг, а друг у меня был один – ты. Эти ее слова резанули Эрика по сердцу, но он просто не имел права раскисать, поэтому постарался задавить теплое чувство, чуть было не охватившее его душу, и повторил бесстрастно: – Денег у меня нет. Уна заплакала и пошла от него по пустой улице к станции метро. Эрик постоял, глядя ей вслед, докурил сигарету, бросил ее под ноги и пошел следом за ней, стараясь не спешить, чтобы она не подумала, что он ее догоняет. КОНЕЦ ВСТАВКИ № 2. Я сидела за столом в своей квартире и смотрела на лежащий передо мной листок с начерченной схемой. Кружки, стрелки, пояснительные надписи...Так мне легче было думать, я многие проблемы решила, благодаря схемам, а уж в в сыскном деле без схем трудно было бы найти ответ на многие вопросы, так что умение создавать схемы было мною доведено до совершенства – тут я сердито себя одернула: отвлекаться я не могла, время поджимало, а я все еще не поняла, как связаны между собой братья Смайлзы, Ал, главный дизайнер и Рэнди. И схема, начерченная мной, ничуть мне сегодня не помогла. Я чего-то не знала, мне не хватало данных, я строила умозаключения на дырявом фундаменте и не могла ожидать, что получится стройное здание. Но и узнать то, чего я не знала, я тоже не могла: этих сведений, явно, в Сети не было. Раздраженной я легла в постель, раздраженной пришла на следующий день на работу и даже не стала прятаться от Эрика – мне надоело, я решила дать ему отпор, если пристанет, но его, как ни странно, на посту не оказалось, не появился он и в обед, а вечером я опять отправилась в кафе: я не собиралась сдаваться, поиск нужно было продолжить, ведь никогда не знаешь, где найдешь ответ на мучающие вопросы. В этот раз за мной никто не следил, и я могла спокойно поработать. Решив сначала проверить, не появилось ли что-нибудь новое у Смайлзов, я обнаружила письмо девушки Эрика к подруге. В этом письме она сообщила, что накануне встречалась с Эриком. Девушка – ее звали Уной – очень подробно описала свое положение, причины, заставившие ее просить у Эрика встречи, саму встречу. Я читала и не могла поверить своим глазам: я жила в двадцать первом веке, родители Эвы и она сама – тоже, мои сослуживцы, по крайней мере, на работе тоже не производили впечатление людей, отставших от времени. Откуда же в наши дни могли взяться такие родители, как родители Уны?! Выгнать дочь из дома, оставить без куска хлеба и медицинской помощи...я не понимала, что ими движет. Было еще что-то в этом письме, встревожившее меня...Я перечла – вот оно: угрозы Эрика. Это могли быть просто слова, но если вдруг он решится на отчаянный шаг? Афера с кражей проекта провалилась, а больше ему денег взять неоткуда. Уна, я думаю, опять будет просить у него – и что же ему делать? Избавиться от нее будет не трудно: мало ли что может случиться с беременной женщиной! Из кампуса ее выселяют, дали трое суток, чтобы она нашла другое жилье, родители от нее отказались, значит, в случае исчезновения, искать ее никто не станет... Она была в опасности и не подозревала об этом, ее следовало предупредить, но сегодня уже поздно ехать куда бы то ни было, тем более, что сегодня она еще могла переночевать в кампусе, а там Эрик вряд ли стал светиться, так что я могла отложить до завтра спасение этой глупой девчонки. Завтра предложу Трише съездить со мной в кампус, а сегодня можно идти домой, все равно ничего нового нарыть не удалось. ЧЕГО НЕ ЗНАЛА ГЕРОИНЯ, или ВСТАВКА № 3. Ал никогда и никому не признался бы, что любит своих родителей. Он очень хорошо осознавал, насколько ему повезло расти единственным сыном в состоятельной, а в последние годы даже богатой, семье. Ему очень нравилось, что он один, он никогда не приставал к маме с просьбами «купить» ему брата или сестру и не понимал, почему этого хотят знакомые ему мальчики и девочки. Его удивляло, как это они не понимают, что другие дети в семье станут их конкурентами, отнимут часть родительской любви и заботы, вынудят родителей тратить на них деньги и время да и на их собственное время будут претендовать, потому что, хочешь-не хочешь, а придется возиться с младшими – и кому это нужно?! В детстве это желание оставаться единственным ребенком в семье мысленно выражалось в том, что он понимал: игрушек и лакомств станет меньше, развлечений тоже. Став постарше и поняв, что такое деньги и что отец его богатый человек, он осознал еще и прелесть положения единственного наследника родительского состояния, и это понимание возвышало его в его собственных глазах и, как он считал, в глазах окружающих. Он стал не только любить родителей, он проникся к ним глубочайшим уважением: они мудро и верно распорядились своей жизнью, заработали хорошие деньги, родили себе наследника этих денег и не поддались низменному животному инстинкту размножения, как это делают другие, кто не задумывается о том, что часть всегда меньше целого. Нет, его родители были молодцы. Они не только хорошо зарабатывали, они жили хорошо: никаких скандалов, никаких намеков на «левые» похождения, никакого алкоголя сверх предписанного нормами их круга. Свой досуг они посвящали Алу, серьезно занимались его развитием, интересно развлекали, дали прекрасное образование и хорошие манеры. Ал рос послушным мальчиком, но не потому, что был излишне инертным и ленивым. Он очень рано понял, как полезно вести себя хорошо, насколько полученное образование и хорошие манеры облегчают жизнь, а на примере знакомых парней убедился в гибельности распутства. Поэтому проблема борьбы с самим собой до поры до времени не затрагивала его, пока однажды ничтожный случай не изменил всю его жизнь. Раз в две недели отец ездил играть в гольф со своими друзьями, если можно считать друзьями мужчин, которые встречаются раз в две недели в гольф-клубе, после игры выпивают по порции скотча в баре клуба и разъезжаются по домам в своих дорогих машинах. Если шел дождь, они устраивали партию покера, но играли без фанатизма, состояний никто не проигрывал, просто скотч пили уже за картами, дымили сигарами ( отец Ала курил трубку, причем, только на этих сборищах) и обменивались короткими ничего не значащими фразами. Время от времени они устраивали приемы в своих загородных домах, куда бывали приглашены и их семьи и другие знакомые, не входящие в группку игроков. Эти приемы проходили по одному и тому же сценарию: буфет на лужайке и возле бассейна, клоуны и кукольный театр для детей, показ мод для дам, струнный ансамбль, играющий вальсы Штрауса или «Венгерские танцы» Брамса, или какую-нибудь другую «классическую попсу», как про себя называл эту музыку Ал ( он и музыкальное образование получил, играл на рояле, ходил на симфонические концерты). Получивших свою порцию развлечения детей няни и гувернантки развозили по домам, дамы уютно устраивались в креслах вокруг бассейна ( официанты проворно сновали между ними, разнося напитки), а мужчины уходили в дом и садились за карточную игру – вплоть до ужина, к которому все уже бывали в изрядном подпитии, но не настолько пьяными, чтобы нарушить установленный порядок поведения. После ужина за карты усаживались и дамы, и взрослые дети, если вдруг кто-нибудь из них приезжал из университета на побывку и попадал на такой прием. Два года назад за одним карточным столом с отцом оказался и Ал. Конечно, его ни за что бы не допустили именно к этому столу: компания отца была отфильтрована долгими годами совместной игры, но в тот день один из партнеров оказался в отъезде: у него умер отец – Ал был призван закрыть собой образовавшийся просвет в рядах. Он уже довольно прилично играл в покер, ему очень хорошо удавалось делать poker face, и отец, без восторга встретивший предложение остальных принять в игру Ала, расслабился и, перестав следить за сыном, отдался игре. В тот вечер Ал выиграл и преисполнился гордостью. Но главным его чувством оказалось понимание, что до сих пор он вел жизнь пресную, жизнь, лишенную остроты переживаний, тускло окрашенную эмоциями. Он понял, что он – игрок. Ему и в студенческом кампусе доводилось играть, но свободного времени у него было мало, потому что учился он очень серьезно, к деньгам до сих пор он относился уважительно, зря не транжирил, да и компания заядлых игроков колледжа его не привлекала: слишком уж беспорядочно они жили, такая жизнь была не для него. И вот, в один миг все переменилось. Правда, довольно долгое время он держал себя в руках и, если проигрывал, то из бюджета не выходил. Но однажды увлекся и проиграл все свое месячное содержание, причем, в самом начале месяца. Воленс-ноленс, пришлось обратиться к отцу и честно ему сказать, куда делись деньги. Отец был ошарашен – Ал понял это, как понял и то, что отец считает себя виновником нового увлечения сына: он, явно, вспомнил тот вечер, когда Ал обставил всю компанию опытных игроков. Пытаясь искупить свою вину перед сыном, отец дал денег безропотно, только попросил не ставить в известность мать. Этого он мог бы и не говорить. Ал обожал мать, хотя старался не афишировать свои чувства. Мало того, что она была красива и умна, он не встречал более тактичного и хорошо воспитанного человека. Казалось, ничто, никто и никогда не способен заставить ее высказать вульгарную мысль или использовать в речи вульгарные слова. Она всегда была ровна, спокойна, казалось, что вся ее жизнь – партия покера, вынуждающая ее держать poker face постоянно. И она его держала. Ала она любила требовательной ревнивой любовью, помогавшей ей не идти на поводу у его детской лени, подростковых перепадах настроения, молодого мужского эгоизма. Ал очень четко понимал, что на восемьдесят процентов он ее творение и, поскольку сам себе он очень нравился, был благодарен матери за ее труды и, главное, их результаты. Они с матерью, как бы, организовали внутри семьи клуб на двоих, а отец, несмотря на всю их взаимную любовь и дружбу, оставался вне границ этого клуба. Кажется, отец понимал это, но не обижался, не пытался вмешаться в их отношения, хотя иногда подшучивал над ними и их великой любовью. Никто не обижался, семья, и в самом деле, была очень хорошей и дружной, и это стало слегка мешать Алу, потому что он начал обманывать родителей ( пока, в основном, отца): когда проигрывал очередную крупную сумму, не признавался, что проиграл, а придумывал какие-то другие причины растраты. Он видел, что отец не верит ему, но не хочет не верить, надеется, что сын все же говорит правду, хотя и понимает всю необоснованность этих надеждю Простота в их общении исчезла, и, когда Ал приезжал домой на праздники и каникулы, отец старался меньше времени проводить с семьей, что удивляло мать, но было очень хорошо понятно самому Алу. Правда, за карточный стол на приемах Ал садился уже на вполне законных основаниях, стараясь не обращать внимания на каменное лицо отца. Катастрофа разразилась, когда Ал уже работал в отделе компьютерной поддержки престижного дизайнерского бюро. Ему не хотелось играть с этой компанией: они все выглядели совершенно ненадежно, но желание играть пересилило его страхи, в результате чего двухмесячная зарплата была проиграна, а выставленные сроки уплаты оказались чрезмерно жесткими для него. Денег у него не было, и он не представлял, где их достать. К отцу обращаться было нельзя: он совершенно определенно дал понять Алу, что денег больше не даст, раз сын работает и зарабатывает – пусть содержит себя сам, а задача отца, как он сам ее видит, заключается в сохранении капитала, который сам же Ал когда-нибудь наследует и будет очень недоволен, если окажется, что родители не слишком-то блюли его интересы и растратили деньги. Ал метался по городу в поисках займа. Он продал свою машину и несколько старых сборников комиксов из коллекции, получил небольшую ссуду в банке, но денег все равно не хватало. И тут случился очередной прием. Ал сам не понимал, как это произошло. Он знал, что хозяин дома коллекционирует ручки для письма: коллекция была его гордостью, он часто хвастался ею и новыми приобретениями и водил гостей в свой, как он сам называл эту комнату, «музей», где стояли стеклянные подсвеченные шкафы, на полках которых в специальных коробках с гнездами лежали ручки – от очень старинных, перьевых, до новейших Parkerов, Pelikanов и других эксклюзивных и очень дорогих инструментов для письма, которым никогда не было суждено послужить по своему прямому назначению. Шкафы, разумеется, были заперты, находились под сигнализацией, как и вся комната, доступа к ним не было даже у членов семьи хозяина, но именно в тот день случилась авария на электростанции, город и его окрестности погрузились в полумрак ( настоящий вечер еще не наступил, стояли летние сумерки, впрочем, быстро сгущавшиеся), и Ал вдруг подумал, что сигнализация, видимо, не работает да и электронные замки шкафов тоже. Все произошедшее в ближайшие десять минут он помнил смутно, сознание его словно бы отключилось, и он пришел в себя, только услыхав, как кто-то говорит: «Так-так-так, и что же это ты тут делаешь?» Ал обернулся. Перед ним стоял главный дизайнер бюро, в котором он работал. Этот высокий сухопарый мужик был одним из приятелей отца, именно он помог Алу с работой. Сейчас он стоял в двух шагах от Ала и смотрел на него острым взглядом. Ал перевел глаза на свои руки и увидел, что держит одну из коллекционных ручек. В полной растерянности, он посмотрел на свидетеля его позора и, жалко улыбнувшись, пожал плечами. – Зачем ты взял ручку? – сурово спросил тот. – Я не знаю, – запинаясь, ответил Ал, – это как-то само собой получилось, я даже не осознавал, что иду сюда...все как в тумане...– он провел рукой по глазам. Жест его, видимо, успокоил отцовского приятеля, тон его смягчился: – Ты здоров, сынок? – Не знаю, – Ал отвечал вяло, его охватило безразличие ко всему, голова слегка кружилась. – У тебя неприятности? – Да, – ровным голосом ответил Ал и вдруг рассказал этому, по сути дела, почти незнакомому человеку обо всех своих бедах. Тот слушал внимательно, причем казалось, что он думает о чем-то своем. – Так, я все понял, – сказал он, – я тебе помогу. Давай, мы эту вещь положим на место и уйдем от греха подальше. Денег я тебе дам, но попрошу тебя об одной услуге, так, о пустяке, ничем тебе не угрожающем. Согласен? Ал кивнул головой. Он ушам своим не верил! Ему дадут денег, он сможет выкупить свою жизнь! Он снова обретет свободу и независимость! Слова об услуге прошли мимо его сознания, не они были ключевыми в услышанном обещании. И вот в этом он сильно заблуждался, но пока не знал, что заблуждается. КОНЕЦ ВСТАВКИ № 3. Триша облегчила мне жизнь. Когда мы с ней обедали, она спросила меня, не хочу ли я и сегодня пойти в кино. – Не могу, – я постаралась сказать это максимально огорченно, – я занята. – Ааааа, – разочарованно протянула она, – у тебя такая напряженная жизнь, такая необычная, не как у всех. Я в очередной раз подивилась ее чутью и запротестовала смущенно: – Ну что ты выдумываешь, Триша, какая необычная жизнь?! – А ты считаешь обычным, когда поклонники грозят тебя застрелить и целыми днями дежурят возле твоей работы, чтобы объясниться? – Да не поклонник он! Сейчас я тебе все объясню. Он обидел свою девушку, а я случайно это узнала, он же боится огласки и ловит меня, угрожает, чтобы я молчала. – А что он ей сделал? – глаза у Триши загорелись. – Она ждет ребенка, а он не хочет его признавать и помогать ей. – Вот гад! – Да. А теперь я боюсь, как бы он чего с ней не сделал – он ей угрожал. – В полицию... – Она не хочет: ей стыдно. Родители ее из дома выгнали, перестали платить за колледж и вообще давать ей деньги. Ее исключили из колледжа и велели уезжать из кампуса. При этом у нее сильный токсикоз и ни копейки денег, а работать она не может. – Ничего себе! – выдохнула Триша. – Надо помочь девочке. – Я тоже так считаю, поэтому и не могу идти сегодня в кино. – Слушай, – Триша замялась, – а можно я с тобой? Надоели мне все эти свидания, киношки, дискотеки, рестораны...Как будто дома нельзя поесть, – вдруг с ожесточением произнесла она, словно бы заканчивая одной ей слышный спор с кем-то невидимым. – Да, конечно, – обрадовалась я, – ты мне очень поможешь. Только, Триша, придется тебе съездить домой и переодеться. Нам нужно, на всякий случай, быть как можно незаметнее в кампусе. У тебя джинсы есть? А свитер неяркий? Ну, и куртка с капюшоном, желательно не красная и не розовая. Да! И обувь! Если нет кроссовок, то сапоги или туфли на низких каблуках. Макияж сними, бижутерию тоже. – Есть, мэм! – дурашливо ответила мне Триша. – Ты после работы езжай домой, а часов в восемь мы с тобой встретимся и поедем в кампус. – На чем? – Что – «на чем»? – Поедем на чем? – На автобусе. – Может быть, на моей машине? – У тебя есть машина? – Ага. Фольксваген «жук». – Господи, где ты взяла этот антиквариат?! – Купила по дешевке у одного хмыря, а где он взял, не знаю. – Пожалуй, на машине будет лучше. Сможем прямо к корпусу, где она живет, подъехать. – Ты хочешь ее оттуда увезти? – Если она согласится. Сначала нужно ее убедить, что мы хотим помочь. – А вы не знакомы? – Говорю же, случайно все узнала. Она представления не имеет, что мне все известно. – Да, пожалуй, трудновато будет ее уговорить. – Пожалуй. Но мы должны. Давай, приезжай на своей машине к той киношке, где мы вчера были. В восемь часов – идет? – Идет, – ответила Триша и отправилась в свой архив. Тришиного «жука» мы поставили у двери из подвала. Я обошла все здание по периметру в поисках запасного выхода и обнаружила эту дверь. Не знаю, зачем я ее искала – видимо, сработали старая привычка и нелюбовь к фасадам и парадным входам, где ты видна всем, идешь, как голая и спрятаться негде. Уна, в пальто и сапогах, лежала в своей комнате на незастеленной кровати. Наше с Тришей появление ее, казалось, не удивило. Она находилась в ступоре, внешние раздражители до нее доходили плохо, тем более, что ее то и дело тошнило, она бледнела, лицо ее покрывалось потом, а глаза тускнели все сильнее. По дороге в кампус я сказала Трише, что нам будет трудно разместить вещи Уны в «жуке» – ведь наверняка у нее не один чемоданчик, но Триша успокоила меня, сказав, что взяла с собой веревку, и мы привяжем чемоданы к багажнику на крыше машины. Однако, никаких вещей я в комнате не обнаружила. В шкафах было пусто, но и чемоданов коробок тоже видно не было. – Где твои вещи? – спросила я Уну. – На вокзале в камере хранения, – тусклым голосом ответила она. – Я еще днем их на такси отвезла туда. Последние деньги заплатила, у меня только и осталось, что на автобус до кампуса. Назад в город придется пешком идти, – последние слова она произнесла со смешком, больше похожем на рыдание. – Не придется, – успокоила ее Триша, – мы тебя отвезем. – А зачем же ты сюда вернулась? – У нас встреча с Эриком назначена, – так же бесцветно ответила Уна. Мы с Тришей переглянулись. – На который час? – На девять. Следовало спешить: встреча с Эриком была, явно, лишней в нашем сценарии. Я сказала Уне, что мы отвезем ее в убежище при церкви – идея Триши: ее мать ходила в эту церковь, и Триша хорошо знала священника и женщин, работавших в убежище. Она даже успела договориться с ними об Уне, так что осталось только Уну туда привезти. Видимо, она настолько устала от своих неприятностей, что ей уже было все равно, что с ней будет. Когда я сказала, что ей грозит опасность, она только вяло махнула рукой: «Знаю». Но к сообщению об убежище отнеслась с легкой искрой интереса, согласно кивнула головой, и я уже, было, стала помогать ей встать, но тут у нее началась рвота, я кинулась искать хоть какую-то посудину, чтобы она не испачкала пальто, а Трише крикнула, чтобы та шла к машине и ждала нас там. Я обтирала Уне лицо влажным носовым платком, когда какое-то смутное чувство заставило меня выглянуть в окно – и вовремя: по дорожке ко входу в корпус шел Эрик. По всему его виду становилось ясно, что он ужасно пьян и взбешен, встреча с ним не предвещала ничего хорошего, поэтому ее нужно было избежать любым образом. Дальше я двигалась, как автомат, но очень быстро. Сначала я вскочила на стул, наступила ногой на подоконник, чтобы на нем остался след от моих грязных ботинок, затем распахнула окно, в метре от которого проходила пожарная лестница, помогла Уне подняться с кровати, втолкнула ее в пустой шкаф для одежды и сама влезла туда же, причем задвинула Уну в дальний угол, прижавшись к ней, а дверцу оставила открытой: во-первых, мне нужно было видеть происходящее в комнате, а во-вторых, распахнутая дверца шкафа позволит Эрику увидеть, что вещей в шкафу нет, и он не заподозрит, что кто-то в шкафу прячется, потому что какой же идиот, прячась, оставит открытым свое убежище! Раздался стук в дверь, а затем она распахнулась, и Эрик, шатаясь и поводя вокруг абсолютно бессмысленными глазами, ввалился в комнату. Он постоял немного, качаясь, и двинулся к окну. Выглянул из него, наклонился, рассматривая след моего ботинка на подоконнике, еще раз выглянул в окно – теперь он смотрел вверх. Затем влез на стул, оставленный мной у окна ( это у него получилось только с четвертого раза), кое-как, падая и ругаясь, взгромоздился на подоконник и потянулся к пожарной лестнице. У меня замерло сердце. Эрик стоял в окне, он сильно качался, рука его тянулась к лестничной перекладине и все не могла дотянуться. Вдруг одна его нога соскочила с подоконника наружу, он взмахнул руками и рухнул вниз. Я услыхала глухой удар, а затем – тишина. Выскочив из шкафа, я подбежала к окну. Эрик лежал неподвижно на сырой после дождя земле. От дорожки его прикрывал ряд кустов, его не скоро должны были найти, нам следовало не зевать и смыться пока не поздно. Я выволокла Уну из шкафа, схватила за руку и потащила за собой. Она двигалась, как во сне, но все же мне удалось довести ее до машины, усадить на заднее сидение, и мы поехали. Когда я рассказала Трише о случившемся с Эриком, она чуть не устроила аварию – так вильнул руль в ее руках. Но сентиментальничать было некогда, и я велела ей собраться. Она собралась, и мы покатили в город, стараясь убраться как можно быстрее и как можно дальше от страшного места. Сдав Уну с рук на руки священнику и заведующей убежищем, мы вернулись к машине, и тут Триша заявила мне, что с места не сдвинется, пока я ей не объясню честно все происходящее. Я хотела есть, она, как оказалось, тоже была голодна, и потому я пообещала, что расскажу все в ресторане. – Не нужно – в ресторане! – воскликнула Триша. – Поехали ко мне: мама такой ужин приготовила – пальчики оближешь, а я психовала перед поездкой и есть не могла. И мы поехали к Трише. Ее мама была страшна довольна, что дочь привела такую приличную девушку в гости ( ее слова) и что у обеих «девочек» такой прекрасный аппетит. Потом она отправилась спать, а мы с Тришей ушли в ее комнату, и я рассказала ей все: о своем бизнесе, о родителях, об Эве и ее семье, о Смайлзах и Але Боровски – все рассказала о себе. Впервые в жизни. Не слишком знакомому человеку. ЧЕГО НЕ ЗНАЛА ГЕРОИНЯ, или ВСТАВКА № 4. Чарлз Миллер терпеть не мог своего работодателя, друга и партнера Колина Трейси. Он был честен с собой и вполне отдавал себе отчет, в том, что его неприязнь питается завистью к Колину, этому везунчику, который не был лучше Чарлза, отнюдь, но несмотря на это почему-то был осыпан милостями фатума, хотя ничем этого не заслужил. Колин родился в богатой семье – со всеми вытекающими из этого факта последствиями, и то, что он был очень добр и предан Чарлзу, того только раздражало: Чарлз терпеть не мог оказываться объектом милостей богачей, они унижали его тем более, что обойтись без них он не мог. Познакомились они в колледже: оказались соседями по комнате, что было мучительно для Чарлза. Все вещи Колина, начиная с мыла для умывания и заканчивая автомобилем, – всё было отменного качества и свидетельствовало о материальном превосходстве их владельца не только над соседом по комнате, но и, пожалуй, над доброй половиной студентов колледжа. Родители Колина были милейшими людьми, приезжая навестить сына, обязательно привозили подарки и для Чарлза, требовали, чтобы он шел с ними и их сыном обедать или ужинать в какойнибудь дорогой ресторан, приглашали на каникулы и праздники в свой огромный дом, полный дорогих вещей, картин, антиквариата и слуг ( которых Чарлз тоже терпеть не мог, потому что им нужно было давать чаевые), и даже один раз взяли его с собой в плавание на своей новой яхте, один вид которой ранил сердце Чарлза, и эта рана отравила чудесное путешествие. Деньги и безмерная любовь родителей не испортили Колина. Он был добрым, вежливым и порядочным парнем, напрочь лишенным высокомерия богатых деток. Его искреннее добросердечие раздражало Чарлза чрезвычайно: он не хотел верить в эту искренность, считал ее игрой ради популярности и душевного комфорта, долго ждал от друга какого-нибудь подвоха, а не дождавшись, раздражался еще больше. Но Колин, казалось, совершенно не замечал его раздражения, скучал без него на каникулах, радовался при встречах, пытался, стараясь сделать это незаметно, поддержать Чарлза финансово. Чарлз принимал эту помощь, злился на приятеля за нее, злился на себе за беспринципность, а Колин все не обращал внимание на это постоянное кипение недоброжелательности рядом с собой и вел себя с Чарлзом как с самым близким и дорогим человеком. Оба они учились прилежно и даже не прилежно, а яростно; оба числились лучшими студентами курса, и оба знали, что Чарлз пятьсот очков форы даст Колину: его талант мог не увидеть разве что слепой, тогда как Колин брал свое лишь прилежанием и методичностью. И только слепой мог не увидеть, как восхищается Колин талантом друга, ничуть ему не завидуя, искренне и открыто. Чарлзу прочили большое будущее, но он-то знал, что его будущее, каким бы великим оно ни было, не принесет ему такого положения, какое было у Колина по самому факту его рождения. Ему, Чарлзу, предстоит тяжелая работа, драка за место под солнцем, чтобы войти в тот круг, где Колин уже больше двадцати лет вращался, не приложив к этому никаких усилий. И если даже Чарлзу удастся осуществить все честолюбивые мечты, никогда он в этом круге не станет до конца своим, потому что в детстве не плясал с этими людьми под рождественской елкой, не учился с ними в закрытой школе, не ухаживал за одними и теми же девочками, не пил с ними свой первый виски. Чарлзу Миллеру не за что было любить своего друга, работодателя и компаньона Колина Трейси. Вот и компаньонство это...Такое же унизительное, как и все дары Колина. Чарлз окончил колледж первым, а Колин, несмотря на все его усердие, всего лишь вошел в первую десятку. Но Чарлзу пришлось как можно быстрее найти работу в небольшом рекламном агентстве, где все его идеи хозяин встречал в штыки, заставляя работать над своими неуклюжими и глупыми разработками, тогда как Колину отец дал денег на создание собственного бизнеса. Чарлз узнал об этом, из письма: Колин просил его приехать и возглавить дизайнерский отдел его новенького с иголочки рекламного бюро. Чарлз в бешенстве изорвал письмо и хотел ответить грубым отказом, но Лилли, как назло, именно в тот день сообщила ему о беременности, так что пришлось гордыню смирить и с благодарностью принять щедрое предложение Колина. Жизнь его изменилась волшебным образом. Теперь он генерировал идеи, а другие работали над их осуществлением и внедрением. Колин проявил недюжинный деловой талант, репутация бюро росла, все более серьезные фирмы заказывали у них рекламу, и однажды Колин пригласил Чарлза на ланч, за которым предложил ему долю в бизнесе. Чарлз оторопело слушал его и не знал, как реагировать. – Ты пойми, – говорил Колин, – мне нужен верный человек рядом, на кого мне положиться, как не на тебя? – Но я и так на тебя работаю. – Это совсем другое дело. Я не хочу, чтобы ты работал на меня. Ты мой друг, я хочу, чтобы ты был моим партнером, чтобы в один прекрасный день ты бы не пришел ко мне и не заявил, что уходишь к другим или что открываешь свое бюро. – Скажешь тоже! Свое бюро! Откуда у меня деньги на свое бюро? – Ну, уйдешь к кому-нибудь. – От добра добра не ищут. Ты, вообще, понимаешь, что собираешься сделать? Ты ведь у своих детей отнимаешь часть наследства в пользу чужого дяди! – Ты не чужой дядя, ты – мой лучший друг. Дети мои, судя по всему, дизайном и рекламой заниматься не будут. Ты же знаешь, Мики кроме скрипки ничего видеть и слышать не хочет, Кэти собирается всерьез заниматься математикой, ей на дизайн и рекламу наплевать, а Пол... – Колин замолчал – его горло перехватил спазм, Чарлзу тоже стало не по себе, и он отвел глаза. Младший сын Колина родился с ДЦП, будущее его виделось совершенно туманным, а пока семья тратила бешеные деньги на его лечение. – Ты пойми, – втолковывал Колин Чарлзу, – мы ведь все под богом ходим. А случится со мной чтонибудь – что с бизнесом будет? Джен совершенно ничего в нем не понимает да и когда ей разбираться, если она с Полом непрерывно возится?! Конечно, умри я, по миру они не пойдут, но этого мало, нужно, чтобы рядом был свой человек... – Ты что это себя раньше времени хоронишь, – прервал его Чарлз, – с ума сошел?! – Да нет, это я так, гипотетически, – смутился Колин, – хотел дать более выпуклое обоснование своему предложению. – Да уж, выпуклое, – пробормотал Чарлз, – ладно, я согласен, готовь документы. Только ведь денег для взноса у меня нет. – А я что-нибудь говорил о деньгах?! – возмутился Колин, и на этом ланч закончился. Чарлз и Колин были друзьями не только на работе, они очень тесно общались семьями. Лилли, жена Чарлза, любила и сочувствовала обоим – и Колину, и его жене Джен. Догадываясь об отношении Чарлза к Колину и его богатству, она не один раз обращала внимание мужа на болезнь их младшего мальчика, служившую доказательством, что деньги не всесильны и что богатые люди так же не застрахованы от неприятностей, как и бедняки. «Да, да! – раздраженно отвечал ей муж. – Богатые тоже плачут, знаю, сто раз слыхал. Но плакать, когда твой счет по швам трещит от денег как-то легче, чем когда не знаешь, чем платить врачам – ты станешь возражать?» Она не возражала. Она никогда ему не возражала. Еще в колледже она все поняла про него и его друга и решила для себя самой, что это не ее дело, что вмешиваться нельзя, нужно только сделать так, чтобы хоть дома он мог расслабиться, отвлечься и отдохнуть от этой извращенной дружбы. После заключения партнерского договора, финансовое положение Чарлза заметно улучшилось. Он купил дом в богатом пригороде, сменил машину, оставив свою старую жене. Детям стали покупать больше игрушек, они учились верховой езде, а на летние каникулы их возили в Европу... Казалось бы, осуществляются все мечты и достигнуты все цели, однако Чарлза его жизнь не радовала, она с каждым днем становилась все невыносимей. Ему было мерзко его благосостояние, полученное на халяву да еще и от человека, которому он так завидовал и так не любил. Благодеяние Колина лишили Чарлза очень важного ощущения, заставляющего человека жить в движении и не сидеть под деревом в ожидании падения спелого плода – это было уважение к себе и своей работе, горделивое удовлетворение самим собой, тем, что плоды труда служат родным и близким, делают их жизнь более комфортабельной и полной. Чарлзу нечем было гордиться: он не зарабатывал деньги, он получал подачки, ежесекундно опасаясь, что у Колина изменится настроение, и он эти подачки отнимет. Жить так было просто невозможно, он стал желчным и сварливым, жена часто плакала после его наскоков на нее, дети стали держаться подальше от отца – нужно было что-то предпринять, но что мог предпринять он, полностью зависящий от денег своего друга-врага? Ему так омерзительны были эти деньги, что он не делал никаких накоплений, семья тратила все до последнего цента, и, если бы вдруг кто-нибудь из них серьезно заболел, им нечем было бы платить за лечение. Единственное, что он позволил себе сделать – это накопительные программы для оплаты образования детей, но он то и дело без удовольствия вспоминал об этих деньгах и жалел, что сдался слезам жены, умолявшей ее хоть как-то обеспечить будущее детей. Он не знал, что она думает о произошедших с ним переменах, но видел, что они ее потрясли. Она замкнулась в своем потрясении, и один бог ведал, что там творится, в ее мозгу, под сенью молчания и недомолвок, которыми они отгородились друг от друга. Чарлз прекрасно понимал, что результаты ее молчания могут сказаться на их жизни в любой момент и страшился потенциальных катаклизмов, но говорить на эту тему с женой не спешил: не мог он внятно объяснить свою ненависть к человеку, который в глазах окружающих выглядит его благодетелем. Как объяснить, что именно благодеяние и невыносимо?! Сочтут свиньей неблагодарной – и все. Нужно было срочно выбираться из сложившейся ситуации, пока он окончательно не потерял жену и не стал чужим детям, и Чарлз лихорадочно изобретал то один, то другой способ избавления он Колина. Идея родилась в тот день, когда стало известно, что их бюро выиграло тендер на громадный проект, и Чарлз стал разрабатывать операцию своего освобождения от Колина и обрушения бизнеса, ставшего камнем на его шее. Свобода! Пусть без поездок в Италию и Швецию, пусть с подержанным автомобилем и в квартире вместо виллы – зато на свои деньги и в любви с женой и детьми. Он был готов на все ради этой свободы – даже на убийство. КОНЕЦ ВСТАВКИ №4. Тиша заглянула в дверь и поманила меня пальцем. Обеденный перерыв только что начался, народ потянулся из бюро, рассредотачиваясь по окрестным кафе и ланчонетам, мы с Тишей тоже вышли на улицу. Вчерашние события цепко сидели в памяти, от страха слегка зябла голова ( а может быть, просто на улице было холодно?), но мысль, что Эрик не набросится из-за угла, действовала успокаивающе, и я начала расслабляться. До меня не сразу дошло, что у Триши озабоченное лицо, а в руке она держит газету, хотя совсем недавно заявила, что она в жизни еще ни одной газеты не прочла и не собирается делать это впредь. – Что-нибудь случилось? – спросила я. – А то! У тебя амнезия, что ли?! Забыла вчерашнее? – Почему забыла? Ничего я не забыла, но к нам оно никакого отношения не имеет, так что в скором времени надеюсь забыть. – Не надейся! – и Триша протянула мне газету, свернутую так, чтобы сразу было видно сообщение отдела криминальных событий. «Убийство или несчастный случай? Преступление в кемпинге. Будушая элита развлекается, уничтожая друг друга» – и так далее, прочие глупости, которые обычно пишут газетчики. Я скептически хмыкнула, но, вчитавшись в текст заметки, примолкла. Газета сообщала своим читателям, что в университетском кемпинге был обнаружен труп молодого человека, явно вывалившегося ( или выброшенного) из окна женского общежития. Что человек этот был опознан одной из студенток как друг ее бывшей соседки по комнате, исключенной из университета и покинувшей кемпинг в день гибели потерпевшего. Что полиция разыскивает эту девушку, которая исчезла неизвестно куда. Что ее исчезновение может быть связано с еще одним преступлением. И что – самое главное в этой галиматье – что полиция разыскивает серый фольксваген-»жук», который был замечен возле черного хода женского общежития приблизительно в то же самое время, когда погиб или был убит потерпевший. Полиция пытается связать этот автомобиль с происшествием из-за свидетельских показаний: не менее десятка студентов заявили, что раньше никогда этот автомобиль в кемпинге не появлялся. Эти заявления позволяют заподозрить связь между таинственным «жуком», гибелью молодого человека и исчезновением его невесты. Полиция не исключает версии похищения с последующим требованием выкупа девушки. Далее были напечатаны фотографии Эрика и Уны. Я посмотрела на Тришу. Мы с ней сидели над тарелками, но кусок в горло не лез, и еда разочарованно стыла и теряла привлекательный вид. – Что делать будем? – спросила Триша. – Нужно перекрасить «жука». Они сосредоточатся на серых, если перекрасим, на твой и внимания никто не обратит. Только нужно как-нибудь позабористей расскрасить – фиолетовый в желтый горошек, например. В этом роде. – А ты умеешь красить машины? – Не умею, но это не важно. Нужно просто знать технологию, а технологию можно найти в Интернете. После работы идем в интернет-кафе. – Зачем? У меня дома есть компьютер! – На домашнем компьютере не должно быть ничего такого, что может навести на тебя подозрения в нарушении закона. Так что забудь о совем компьютере! – Ой, а мне и в голову не пришло. – Ты не одинока. Очень многим не приходит, а потом они удивляются, почему их в тюрьму засадили. – Не пугай ты меня! – Я не пугаю, я веду разъяснительную работу. – Ну хорошо, – покорно сказала Триша, – сама я на тебя напала – сама и обороняться буду. – От меня?! – От ситуации! – От ситуации вместе будем обороняться. Ты что думаешь, я тебя брошу, а сама в тишине отсижусь? – Ничего такого я не думала, я тебя впутывать не хочу. – Здрасьте-пожалуйста! Кто кого впутал-то?! – Сама я впуталась. Скучно, понимаешь? Работа-свидания-кино-ресторан-танцульки-мама ворчитраспродажи-дешевые шмотки...Всю жизнь так? Ну, замуж выйду или так рожу – вместо танцев и ресторанов будут дети, а что я могу детям дать? Ни жизни интересной, будут так же, как и я, по киношкам и дискотекам шлендрать, если чего похуже на свой зад не найдут, ни денег, ни идей – у меня самой их нет...Так ради чего жить-то? Ведь мне эти все свиданки до визга надоели! Ты думаешь, у меня хоть один стоящий парень был? Все придурки. Выпить, подраться, девку потискать, гамбургер сожрать, футбол посмотреть...Они даже разговаривать не умеют. «Детка, дай мне шанс, ну я ему вмазал, ты в таком порядке, я от тебя балдею, пятьдесят монет заплатил...» Уууу, – вдруг почти завыла она. Люди за соседними столиками начали оглядываться, и я поспешила успокоить Тришу. – Триша, я не знаю, что тебе сказать. Я вообще ни разу в жизни на дискотеке не была, а кино только с дисков смотрю. – Не была на дискотеке?! – слезы у Триши немедленно высохли, она с веселым недоумением смотрела на меня. – Не была. Времени не было – училась. Да знаешь, интереса тоже не было. Видела я этих молокососов, которые из себя самцов корчили – на занятиях, а особенно, на экзаменах, гонор с них слетал, потели, мямлили, чушь городили. А в промежутках – куда там! Коннаны-варвары! александры македонские, давиды без голиафов...Герои, одним словом. О чем бы я с ними разговаривала?! Была парочка более или менее, да и те не фонтан. Я вот не понимаю, из этих болванов получаются мужики, которые потом в семьях у себя цари и боги, жены на цырлах перед ними ходят и детей строят перед папашами. Откуда у них такая сила берется, у мужиков этих?! – Да ниоткуда. Нет у них сил. Просто девок так воспитывают, что без мужа она ничто, вот те и начинают прынцев ублажать, чтобы только женились. А потом так по сценарию и идет, все привыкают: и прынц, и его жена-подстилка. – Ох, не хочу я этого! – А секс? – Я тебя умоляю! В наши дни все купить можно. – И мужика?! – Спрашиваешь! – Опасно. – Если с умом, то ничего страшного. – А любовь? – Ты ее часто встречаешь? Или может быть, сама любишь? – Иногда думаю, что люблю. – Долго? – Чево – «долго»? – Думаешь так долго? – Ой, один раз было очень долго – года полтора. Потом он моей подруге под юбку полез, она его приложила, так он на меня разобиделся, что подруги у меня такие невежливые, и ушел. – Я торчу! – Ага. Я тоже тогда заторчала даже без травы. Через три дня вернулся, да только его на площадке чемодан ждал. Квартира-то моя была. – Да я смотрю, ты богачка! Машина, квартира... – Квартиры уже нет. Родственник попал в беду, нужны были деньги, так я ее продала. – Понятно. Ну, раз ты только при машине осталась, давай решать, что мы с ней сделаем. – Знаешь что, – сказала Триша медленно, – к черту эту машину. Не будем перекрашивать. Давай, мы ее разобьем где-нибудь в безлюдном месте и бросим. А сами из города смоемся. Что нам здесь? Тебе в бюро работать не дадут. Мне кажется, главный дизайнер что-то такое против тебя замыслил, что может плохо обернуться. Ты ему нужна и нужна для чего-то опасного. Он ведь тебя за кого держит? За тихоню, трусиху, дурочку, не знающую жизни. Ты ему в качестве жертвы нужна, думаю, он тебя специально выбрал, когда на работу принимал. – Но-но, – сказала я, – я хороший дизайнер. – А я спорю? Только ведь на конкурс приходили знаешь какие люди? Их в приемной не держали, в кабинет хозяина приглашали. Я знаю, потому что архивные папки им носила. И всем им отказали – вот специально для тебя! – Так может быть, им была нужна свежая голова? – но возражала я уже машинально. Я и сама уже пришла к тому же выводу, Триша озвучила мои мысли, от чего они стали пугающе достоверными и требовали скорых и решительных действий. – Ладно, Триша, ты права. Давай думать, где и как от машины избавимся. ЧЕГО НЕ ЗНАЛА ГЕРОИНЯ, или ВСТАВКА № 5. В баре рядом с бюро появился новый бармен. Ал не был любителем выпивки, но иногда приходилось изображать из себя выпивоху, так что в этом баре он бывал довольно часто. Иногда он приходил сюда после работы и сидел час-другой, лишь бы не ехать домой и не видеть ледяное лицо отца и растерянный взгляд матери, не понимавшей, почему у мужа и сына так испортились отношения. Новый бармен был, приблизительно, ровесником Ала. С посетителями он держался казеннодоброжелательно, но Ал ему, явно, нравился: если у стойки толпились жаждущие, он, не обращая на них внимания, принимал заказ у Ала, вгоняя того в смущение. Бар не всегда бывал переполнен, в этих случаях Эрик – нового бармена звали Эриком – скучливо перетирал стаканы и рюмки, время от времени бросая взгляд на подвешенный к потолку телевизор, показывавший всегда одно и то же: бокс, бейсбол, сумо или бои без правил. Ал в такие дни присаживался к стойке и они с Эриком болтали о всякой ерунде: кто какую марку пива любит, за какую команду болеет, какой фильм смотрел на прошлой неделе и понравился ли он, травили анекдоты – просто сыпали словами, без эмоций, без попыток сблизиться, заполняли возникшую паузу, не более того. Но все изменилось, когда однажды в такой же пустой вечер к стойке бара подошла девушка и молча уставилась на Эрика. Ал увидел, как мгновенно изменилось лицо бармена, до той минуты расслабленное и улыбчивое. Эрик весь подобрался и, словно бы, похудел. Глаза смотрели на девушку одновременно беспомощно и зло, нижнюю губу Эрик закусил, и Ал ожидал, что вот-вот из нее потечет кровь, но не дождался: Эрик вдруг вновь расслабился и спросил мягким голосом: – Чего ты приперлась, детка? – тон вопроса и его содержание так не вязались друг с другом, что Ал даже вздрогнул и решил отойти от стойки, но Эрик сказал ему с той же мягкой интонацией: – Не уходи, это ненадолго. Но Ал не остался. Ему совершенно не хотелось оказаться свидетелем сцены. А что сцена Эрику обеспечена, было видно невооруженным взглядом. Девушка даже и не взглянула на него. Она в упор смотрела на Эрика и выглядела не самым лучшим образом, хотя, видимо, в других ситуациях могла считаться красоткой. Небрежно причесанные волосы, мятый плащ, кроссовки, лицо без макияжа, бледное, даже болезненное – она плохо следила за собой и за своей речью тоже, потому что стала говорить Эрику невозможные вещи. Ал никогда не слыхал, чтобы девушки говорили такие слова да еще при посторонних. Он поспешил сесть за столик как можно дальше от ссорящейся парочки и стал лениво думать, зачем это люди женятся, если даже в пору разгара страсти они не в состоянии понять друг друга и договориться. Между девушкой и барменом шел напряженный злой диалог, оба, казалось, были готовы вцепиться в глотки друг другу и чудом держались на грани, отделявшей их от того, что в полицейских протоколах называют «нарушением общественного порядка». Судя по их лицам ( Ал исподтишка посматривал в их сторону), девушка брала верх, пока, наконец, Эрик не обмяк. Она с торжествующим видом сказала ему что-то короткое, он кивнул, и странная девица удалилась восвояси, не преминув удариться плечом о косяк входной двери. Ал посидел еще несколько минут за столиком, чтобы у Эрика было время прийти в себя, затем подошел к стойке, жестом показал, что хочет еще порцию выпивки ( лишнюю для него, но ситуация требовала изменить правилам, которые он сам для себя установил) и сел на высокий табурет. Он молчал, пока Эрик смешивал коктейль, молча принял бокал, молча сделал первые пару глотков и лишь потом спросил: – Что, проблемы? Могу помочь? – Да кто тут может помочь! – вызверился Эрик, но тут же спохватился и стал извиняться: дескать, нервы на пределе, итак жить нелегко, так еще эта сука плешь проедает. – А что, случилось, собственно? – Ал был сама доброжелательность и участие. – Залетела – что еще может случиться, – нехотя ответил Эрик. Он чувствовал себя униженным, пытался это скрыть, но у него это плохо получалось. – Так что за проблемы? В наше-то время! День в клинике – и опять целка! – Клиника башлей стоит, а у меня пока нет столько. Я ведь всего-то второй месяц работаю, живу с семьей брата, отдаю на хозяйство долю, остаются слезы. И потом, она не хочет в клинику, она хочет, чтобы женился, курва! А я даже не уверен, что это от меня – все были пьяными вдрабадан, я и не помню, было у нас чего или нет. – Жениииился, – протянул Ал. – Она думает, женитьба не стоит денег? Думает, клиника дороже? – Католичка она, вот и весь ответ. Они же на всю голову чокнутые, католики эти. – Ну, а если ей серьезные отступные предложить? Может быть, она тогда и от религии своей отступится? – Ты издеваешься, что ли?! – взъярился Эрик. – У меня на паршивую операцию башлей нет, а ты про какие-то отступные талдычишь! Где я их возьму?! – Есть возможность хорошо заработать. Очень хорошо, – Ал голосом подчеркнул это «хорошо». – Столько, что хватит и девке пасть заткнуть, и себе останется. Эрик стал внимательно смотреть на него. Видно было, что в его мозгу все закрутилось, заскрипело, вовлеклось в трудную работу для решения мучительного вопроса: издеваются над ним или же этот шикарно одетый парень не врет и в самом деле может помочь. – Я понимаю, ты не можешь сразу мне поверить, – негромко промолвил Ал, – но, клянусь, тебя мне небо послало: я уже сколько времени ищу подходящего человека, да разве ж теперь можно кому-то доверять?! Ты – дело другое. Видно сразу, что парень ты настоящий, крепкий, партнера не продашь, дело выполнишь четко. Ну, а те, кто платит, не оценить такое поведение не смогут. – Убить кого надо, что ли? – хрипло спросил Эрик. – Так я не по этим делам. – Убить – это будешь решать ты. Если клиент слишком достанет, сможешь не сдерживаться. Но задача не убить, а очень испугать. Так испугать, чтобы сам смылся куда-нибудь. Мы ему не дадим смыться, но нужно, чтобы он этого захотел, понимаешь? – Нет. – Ну и ладно, в процессе поймешь. Так что? Берешься? – Подумать нужно. – Подумай. Я завтра к тебе зайду – ответ должен быть готов. – с этими словами Ал допил коктейль, кивнул Эрику, остолбенело глядящему на него, и вышел из бара, с неудовольствием понимая, что перебрал и теперь остается только ехать домой – в постель. КОНЕЦ ВСТАВКИ №5 Мне предстояло трудное дело: нужно было встретиться с Эвой и ее родителями и каким-то образом объянить им свой отъезд. Никакой логики в моем поведении, на посторонний взгляд, не было! Только-только устроилась на работу, куда хотела, получила серьезное задание, которое могло вывести меня в люди – и вдруг, привет! – уезжаю. Зачем? Почему? Куда?! Я ломала голову, придумывая ответы на все эти вопросы, но мои изворотливость и способность фантазировать на заданную тему сдохли в одночасье, а как их воскресить, я не знала. Так и не придумав, что буду врать, я позвонила Эве, предупредила, что приду вечером, и, с наступлением темноты, уже входила в их кухню, как всегда до смерти напугав Кончу. Все сидели за столом, но никто не ел – видимо, ждали меня. Извинившись за опоздание, я села перед приготовленным для меня прибором, и Конча подала еду. Разговор поначалу шел ни о чем. Меня распрашивали о новорожденном младенце, мать которого я «заменяла» его братьям и сестрам, о работе, Эва рассказывала что-то о своей диссертации, Юджин отпускал шуточки, а Маргарет донимала меня вопросами о здоровье, питании и режиме дня, но вдруг Эва вскрикнула, поперхнулась водой, которую как раз пила, и, поставив стакан на стол, начала вытирать блузку салфеткой, приговаривая при этом: – Господи, ну что за память! Как я могла забыть! – Эва! – прикрикнула Маргарет, – Ты не могла бы вести себя потише? Что ты забыла? – Рассказать забыла! О Рэнди – ты его помнишь? – вопрос был обращен ко мне. Еще бы я не помнила! Все мои неприятности, если не ошибаюсь, начались с появлением этого Рэнди, черт бы его побрал! Но я сделала вид, что не понимаю, о чем идет речь: – Рэнди? – Ну да! Мы ехали в машине, а ты шла по улице, и я тебя с ним познакомила. Ну, громила такой, неужели не помнишь? Он еще тобой почему-то сильно интересовался, спрашивал, зачем ты в интернет-кафе ходишь. – Слушай, – вмешался Юджин, – это у тебя традиция такая – обязательно говорить о Рэнди, когда мы ужинаем в полном составе? – Чего? – непонимающе уставилась на него Эва. – Того! В прошлый раз, когда мы приехали, ты уже донимала нас этим Рэнди, которого никто кроме тебя не помнит. Чуть ли не неделю не вспоминала о нем, наконец, мы опять сидим за приятным общим ужином – нате, пожалуйста, Рэнди тут как тут! В чем дело, бэби? – Так я о нем всегда вспоминаю в связи с ней! – Да? Почему? – Потому, что, я уже говорила, он на нее запал. Но он гад, поэтому в прошлый раз я ее уговаривала с ним познакомиться, а сегодня буду отговаривать. – Слушай, у меня голова закружилась. Он – гад, и поэтому ты уговаривала ее встречаться с ним? Ничего себе – подруга называется! И что изменилось за эту неделю? Почему ты раздумала сажать ей на шею гада? – Ой, папа, перестань издеваться! Неделю назад я не знала, что он гад, а теперь знаю и хочу ее предостеречь. – Вот как? Что-нибудь серьезное? – Очень серьезное. Два дня назад был день рождения Лив, Рэнди тоже там был: сестра Лив, Сьюзен, запала на него, вот Лив его и позвала. У меня чулок порвался, и пошла в спальню Лив, чтобы снять чулки и пояс, а на площадке двое парней остановились – один, такой, Ал Боровски, у него отец чуть ли не миллиардер, а другой какой-то новенький, я его впервые видела. Так этот новенький сказал Алу, что они коллеги, только он работает в какой-то жутко секретной конторе и что Рэнди его сослуживец, дурак ужасный, а «Стеклянная пирамида» – это его прикрытие, легенда. Ну, как у шпионов бывает, знаете. Некоторое время в кухне стояла тишина. Мы пытались переварить услышанное, но, кажется, это получалось неважно не только у меня. Первой заговорила Маргарет: – Я не поняла, почему сослуживец Рэнди так легко открыл этому...как ты его назвала? – Боровски? – Да, Боровски. Почему он так спокойно заговорил о месте своей работы? Если не ошибаюсь, он под страхом смерти не имеет права разговаривать о своей службе. – Мам, я и сама удивилась! Это было похоже на какую-то провокацию. Но зачем? Кому интересен Ал Боровски?! Богатенький сынок, игрок, проигрался так, что, говорят, начал подворовывать. Этого еще никто не доказал, но, знаешь, «то ли он украл, то ли у него украли, но осадочек остался» – это про него! – А ты его давно знаешь? – мне пришлось приложить усилие, чтобы голос звучал естественно, но Юджин все же быстро и остро глянул на меня. – Давно! С ним поочереди все девочки из нашей компании встречались, кроме меня – не люблю шибздиков. – А он шибздик? – заинтересовался Юджин. – А то! Сто семьдесят четыре – что это за рост?! Он мне по плечо. Когда мы стоим рядом – это клоунада, причем, бесплатная. Нет, в смысле внешности он ничего. Стройный, лицо приятное. Но мне всегда в нем чудилась гнильца, а я люблю людей цельных и прямых. Рэнди, явно, неплохой актер, раз я сама в нем ничего такого не заподозрила. Просто он дурачок, с ним и поговорить-то не о чем, вот я ему отставку и дала. Главное, он не обиделся, сказал, что я права, и опять нашей Мышкой поинтересовался. Он тебя Мышкой называет, – обратилась Эва ко мне, – нашел мышку! Загрызет – не отобьешься. – Эва! – вскричала Маргарет, – что ты говоришь?! – Я, мам, правду говорю. Наша тихоня за себя постоять может, она молодец, я ее за это очень уважаю. И правильно делает, что не позволяет себя обижать. Жаль, я не с таким характером родилась, выгляжу тупой фифой и ничего с этим сделать не могу. Ведь серьезные мужики на меня внимания не обращают: думают, я гламурная блондинка. Что хорошего?! – Это потому, что ты еще своего мужика не встретила, – подала голос я, – настоящий разберется, где ты, а где веяния моды, уверяю тебя. – Ты не обиделась? – покаянным голосом спросила Эва. – На что? Ты правильно сказала: я за себя постоять умею. Грызть не буду, но и в обиду не дамся, так что все в порядке. Юджин, мне нужно с вами поговорить. – Я так и думал, – ответил Юджин, – пойдем в кабинет. – Нет, лучше выйдем в сад, – Юджин опять остро взглянул на меня и молча пошел к задней двери. Больше часа ушло у меня на рассказ о той фанасмагории, внутри которой я оказалась. Юджин слушал меня молча и с каменным лицом. Наконец, я умолкла, и он сказал: – Я думаю, ты оказалась в центре какого-то расследования спецслужб, связанного с вашим бюро. – Чем рекламное бюро может заинтересовать спецслужбы? – Не знаю, но связь прослеживается очень четко. Думаю, сослуживец Рэнди зачем-то слил информацию Алу, чтобы предупредить того, но о чем – вот вопрос! – Ладно, я не собираюсь распутывать их заговор, у меня жизнь одна, я хочу ее для себя прожить. Я уеду из города, пришла сообщить об этом, но не представляю, что сказать Эве и Маргарет. Уже неделю придумываю, что соврать – я ведь и вам не собиралась правду говорить – ничего не могу придумать. – Спасибо за доверие. Уехать – это правильное решение. Куда? – Лучше я вам пока не скажу, хорошо? Потом найду способ сообщить. – Тоже верно. Деньги тебе нужны? – Нет, денег достаточно, я состоятельная дама. – Смотри, понадобится помощь, дай мне знать обязательно. – Спасибо. – А за Эву и Маргарет не беспокойся, я запудрю им мозги. – Это ведь в целях их безопасности необходимо, я бы не стала им врать. – Я понимаю и ценю твое доверие. Сделаю все, чтобы тебе не помешать, раз уж помочь не могу. Ты зайдешь проститься? – Да, конечно. Им показалось бы странным, если бы я внезапно сейчас исчезла. – Может быть, лучше тебе сегодня переночевать у нас? Это выглядело бы еще естественее. Он был прав, и я провела под крышей этого, почти родного мне дома, последнюю ночь, чтобы наутро уехать и больше никогда сюда не возвращаться. ЧЕГО НЕ ЗНАЛА ГЕРОИНЯ, или ВСТАВКА № 6. Чарлзу до смерти надоели родственники его жены. Он понять не мог, на каком основании ему приходится им помогать. Ну, женился он на этой женщине, ну и что? Он ведь на ней женился, а не на всей ее родне! Но родня эта вела себя таким образом, словно страшно его осчастливила, разрешив Лилли выйти за него замуж. Можно подумать, она их спрашивала. А если бы и спросила... Так бы она и послушалась, если бы все ее многочисленные тетушки, дядюшки, кузены и кузины были против! Он еще понимал, что нужно выказывать уважение тестю и теще – все же они родители Лилли, самые близкие её люди, давшие ей жизнь и достойное воспитание, принимать их во внимание было логично и целесообразно. Но почему он должен помнить об этой распустехе Дакоте, двоюродной сестре Лилли, жалеть её, входить в её положение – пониманию Чарлза это было не доступно. Чарлза вовсе не устраивало то тесное общение с родней жены, которое она ему навязывала. Ну, уволили её мужика из армии без выходного пособия и раньше времени – так разве ж Чарлз виноват, что тот руки распустил невовремя?! Чарлз – сама корректность, убьет кого – комар носа не подточит, а этот мордоворот на глазах у подчиненных араба завалил! Дурак, что ли, не понимает, что арабы теперь все поголовно персоны грата и лучше их не трогать. Чарлз сугубо штатский человек, далекий от политики обыватель, но и то понимает, какие политические и экономические ветры дуют над миром и как легко они сдуют с поверхности планеты каждого, кто повернется к этому ветру неверным галсом. А этот вояка ни хрена не понял, и теперь Чарлз почему-то обязан спасать его семью от нищеты! Он раздраженно высказал это Лилли, завязывая галстук перед огромным зеркалом в их спальне: они собирались идти к Дакоте на ужин, и Чарлз уже заранее злился, что придется зря потратить время на абсолютно не нужных и не интересных ему людей. Лилли кротко выслушала его и сказала, что чувствует себя виоватой перед Дакотой: ей так повезло, Чарлз такой молодец, всего добился своими руками, а бедняжка ее кузиночка в таком уже не слишком юном возрасте да еще и при двух детях оказалась в ужасном положении – и все по вине ее недоумка мужа! Лилли сама помогла бы ей, если бы имела возможность, но ведь она сидит дома, деловых связей не имеет, не то что он, Чарлз, ведь он влиятельный человек и знаком с толпой влиятельных людей, так неужели его затруднит потратить пару часов на доброе дело, а Господь его вознаградит обязательно, да и она, Лилли, постарается сделать все, чтобы неприятные ощущения от этого визита были им забыты раз и навсегда... Лилли умела разговаривать со своим мужем. Тем не менее, у него все внутри кипело, когда они с Лилли вылезли из своей шикарной машины возле обшарпанного дома Дакоты, куда были приглашены, как понимал Чарлз, с далеко идущими намерениями продемонстрировать ему безвыходное положение семьи, сочувствие к которой должно было подвигнуть его на помощь ее главе. Хотя что это за «глава», который позволил себе довести своих детей до жизни в этой халупе и в этом районе...а уж в какой школе они учатся, можно было и не гадать – в колледж после таких школ не поступают. Вот ведь козел, а?! И ведь ничего не умеет делать руками, это заранее понятно, только и знал, что солдат муштровал да в джипе ездил! Внутри домишко оказался подстать своему внешнему виду: продавленные диваны, замызганные стены и двери, потертый линолеум на кухонном полу ( сколько лет этой развалюхе – кто сейчас пользуется линолеумом?!) – и жалкие потуги придать помещению уютный вид: какие-то дешевые безделушки, из числа тех, что дают в качестве призов в тирах, искусственные цветы под стеклянными колпаками, почему-то вдруг – занавеска из бус, прямиком из тридцатых годов ( может быть, у них и машина времени где-то припрятана – ведь трудно даже представить, что в наши дни кто-то живет, как во время Великой депрессии!) Ужин был соответствующим обстановке. Чарлз ничего не мог понять. Отец Дакоты был родным братом его тестя, а мать – сестрой тещи. Много лет они были компаньонами – держали мастерскую по ремонту автомобилей: покупали старые развалюхи, восстанавливали их и потом очень выгодно продавали любителям стиля «ретро». К ним даже из других штатов приезжали за эксклюзивными моделями, но они были люди не гордые, не чурались и обычного рутинного ремонта современных машин, и вся эта деятельность приносила им немалый доход. Почему же у таких одинаковых людей выросли такие разные дочери?! Лилли была прекрасной хозяйкой, экономной, опрятной, знающей что почем. Она прекрасно готовила и даже в дни безденежья умудрялась кормить семью сытно и вкусно. Дакота – ее ровесница, в детстве они были очень дружны, но потом дороги их разошлись: Лилли уехала в колледж, познакомилась там с Чарлзом, и оказалось, как считала вся ее родня, вытянула выигрышный билет. Дакота учиться не стала, потому что очень рано вышла замуж за лейтенанта Смайлза и уехала с ним в один из тех заштатных городков, чье унылое существование оправдывалось лишь наличием рядом военных баз: в этих городках жили семьи офицеров да солдаты в увольнении оставляли свои деньги в их барах и кафе. Потом Смайлз оказался в Ираке, потом вернулся, опять оказался в Ираке – и вот, вернулся домой, уволенный раньше времени из армии за жестокость к военнопленным, проявленную им при свидетелях. Даже выходного пособия ему не заплатили, приехал на деньги, выпрошенные женой у ее родителей. О пенсии, разумеется, мечтать не приходилось, да еще оказалось, что его никто не хочет брать на работу, а работать руками он не умел, следовательно, даже слесарем в одной из многочисленных мастерских тестя он не смог бы работать, да и вообще, он ничего не умел, не знал, вот, разве что отдел безопасности какой-нибудь фирмы возглавить... Возглавлять никто не приглашал, даже рядовым охранником не брали, лицемеры проклятые! Уж будто все они так обожают арабье! Побывали бы они на его месте. А то, конечно, сидят тут в своих шикарных офисах, ездят в сверкающих лимузинах и не задумываются, какой ценой достается миру нефть, на которой арабы сидят своими жирными ж... Тут Дакота положила руку на его кулак, которым он уже был готов трахнуть по столу ( «Очень внушительный кулак, – подумалось Чарлзу, – я себе представляю, что такой кулак может довести его хозяина до обвинения в излишней жестокости») – и, на удивление, Смайлз покорно замолчал и занялся содержимым своей тарелки. Чарлз уныло ковырял недожаренную индейку, с тоской смотрел на комковатое пюре, от тыквенного пирога его чуть не вырвало, и вся эта мука продолжалась долгие два часа, а то и больше. Наконец, «ужин» был завершен совершенно невозможным кофе, дети, которые уже довели Чарлза до белого каления неумением вести себя при посторонних, убрались в свои комнаты, женщины удалились на кухню с многозначительными улыбками: «Мужчинам нужно пообщаться», – и хозяин дома, будущий объект забот Чарлза, широким жестом предложил гостю сигару. На лице его держалось самодовольное выражение: и он знает, как принять гостей, вот и бутылка бренди, сигару нужно окунуть в бренди – будет вкуснее... Чарлз с первого взгляда увидел, что за сигару предлагает ему этот напыщенный болван. Доллара полтора за штуку, купил две штуки у какого-нибудь латиноса – только чтобы пустить пыль в глаза богатому родственнику. Да и бренди не оствлял никаких сомнений, поэтому Чарлз отговорился тем, что ему еще машину вести, и от бренди отказался, а про сигару сказал, что, с любезного позволения хозяина он ее потом выкурит, как-то ему сейчас курить не хочется, он вообще курит мало и только за работой. Смайлз нисколько не огорчился отказом гостя от угощения, запалил сигару, налил себе большой стакан бренди и уселся поудобнее в продавленном кресле. Чарлза поразил апломб, с которым держался при нем этот неудачник, кажется, не вполне понимавший, что ведь Чарлз может и отказать. Искушение отказать было столь сильным, что Чарлзу пришлось напрячься, чтобы взять себя в руки: он не хотел огорчать Лилли, а работа для этого барана у него, в самом деле, была: бюро осталось без начальника отдела безопасности, погибшего в горах, где во время отпуска занимался альпинизмом. Но Чарлз не собирался сразу откликнуться на просьбы Смайлза. Он решил поводить его по корде, чтобы сбить спесь. Этот идиот не понимал, что родственные отношения – это одно, а служебная субординация – совсем другое, и первое никак не может влиять на второе, тогда как субординация может очень сильно изменять характер отношений. Поэтому он сидел с непроницаемым лицом, вдыхал вонь сигары, которую Смайлз курил, демонстрируя райское блаженство, слушал его болтовню – тот рассказывал о своей службе в армии, хвастался, каким он был незаменимым, жаловался на зависть сослуживцев и неблагодарность начальства – и ждал главного разговора. Но время шло, а Смайлз так и не приступил к деловой части, и Дакота, со встревоженным лицом, уже несколько раз выглядывала из кухни. Наконец, Чарлзу все это надоело, он посмотрел на часы и воскликнул: – О, как уже поздно! Нам, пожалуй, пора. Я и так нарушил свой режим. Лилли! – позвал он жену, – Поторопись, милая, мы уходим. Лилли и Дакота вышли из кухни и приблизились к мужчинам, испытующе поглядывая на них. Чарлз стоял с невозмутимым видом, уже в пальто, держа в руках пальто жены. На Смайлза он не смотрел, а тот вскочил с кресла и стоял возле него столбом, явно не понимая, как же это случилось, что важный гость уходит, а он так ничего у него и не попросил и совершенно не представляет, что же ему теперь делать. Домой ехали молча, только, уже выпуская Лилли из машины, Чарлз сказал: – Беспримерный болван! Ты пока ничего им не говори, а через неделю или десять дней – я тебе назову точную дату – скажи, чтобы он пришел ко мне в бюро. Да намекни, что сигар с собой брать не нужно. Так Смайлз получил место начальника охраны в рекламном бюро «Стать брендом». КОНЕЦ ВСТАВКИ №6 Как ни странно, жизнь моя после принятого решения никак не изменилась. Я ходила на работу, где на меня почти не обращали внимания. Жила я теперь у Триши, используя свою квартиру лишь изредка. Мы с ней вовсю готовились к побегу: перевели ее небольшие сбережения на пластиковые карты, пересмотрели гардероб и полностью сменили его, я разобрала своего «коня» на винтики, всё проверила, заменила то, что нужно было заменить – в общем, привела его в состояние боевой готовности. Триша говорила, что, наверное, можно и не уезжать – ведь всё тихо и спокойно. Но я знала, что эта тишина и является главной угрозой, потому что в ней прячется враг, он хочет успокоить нас, усыпить, а потом выскочить внезапно, и тогда эта обманчивая тишина исчезнет, но уже навсегда и навсегда мы будем ввергнуты в хаос и шум. Мама Триши плакала, но дочь не останавливала. Наоборот, всячески поддерживала ее решение, говоря, что сама она в свое время струсила уехать из этого паршивого города, так пусть хоть ее девочка сможет увидеть, как оно там, в других местах. Триша тоже глотала слезы, но старалась, чтобы мама их не заметила, да и от меня тоже отворачивалась, если подходила сентиментальная минута. – Чего мы ждем? – спрашивала она иногда сердито. – Поехали уже! Но я ждала знака, сама не зная какого. Моя интуиция подсказывала, что ехать сейчас, в этой звенящей тишине – все равно что направить на себя все прожекторы в мире, закричать: «А вот мы, смотрите, мы убегаем!» – науськать на себя всю свору и попасть к ней в лапы. Я ждала – чего-то, возникновения какой-то возни, явной или подковерной, но чего-нибудь, что должно было привлечь к себе внимание, когда все повернулись бы к нам спинами, а мы бы воспользовались этим и за их спинами удрали бы подальше. Я ждала и дождалась. С утра в бюро царила сдержанная суматоха – так бывает, если нужно сделать нечто важное или случилось что-то экстраординарное, но при этом скрыть неприятность от окружающих. Несколько раз главный дизайнер с непроницаемым видом, изобличавшим, кстати, его волнение сильнее, чем если бы он не пытался его скрыть, заходил в нашу комнату и о чем-то расспрашивал то одного, то другого человека. Как правило, ему отвечали пожатием плеч, и он удалялся, заметно разочарованный. Я терялась в догадках до самого обеда, когда, наконец, возбужденная Триша выволокла меня на улицу и, отойдя на значительное расстояние от бюро, выпалила: – Ал исчез. – Какой А... – начала было я, и вдруг до меня дошло, – Боровски?! – Ну! – В каком смысле – исчез? – На работу не пришел, дома его нет, родители в отъезде. Никто его не видел ни вчера, ни три дня назад. Думают, что его, может быть, убили из-за карточных долгов, ну, или похитили, чтобы отец выкуп заплатил. – Ни фига себе! – Ага. – Так его ищет кто-нибудь? – Пока нет, главный ваш пока не хочет полицию вмешивать. Нужно убедиться, что парень не завис у какой-нибудь девки и не подставить его папашу – тот ведь не простит в случае чего. – И как он собирается это проверять? – Ищет частного сыщика...ты чего это дернулась? – Так, ничего, – мгновенно остывая пробормотала я. И вдруг до меня дошло: вот он, тот самый момент, которого я ждала! Сегодня пятница, впереди два выходных дня, если уехать прямо сейчас, у нас будет фора в полные трое суток. Я схватила Тришу за руку и сказала: – Едем! Я сейчас пойду отпрошусь, скажу, что больна. Ты тоже что-нибудь наплети. Мы должны выехать не позже чем через два часа. Триша сначала остолбенела, а потом закивала головой и мы быстрым шагом вернулись в бюро. Разыграть больную мне ничего не стоило: при моей обычной бледности я и так не выглядела слишком здоровой, так что начальник отдела без лишних вопросов разрешил мне уйти, напутствовав советом обязательно обратиться к врачу. Триша наврала своему начальнику, что позвонила мама: у них в ванной прорвало трубу с горячей водой, здоровье, а может быть, и жизнь мамы в опасности, нужно лететь ее спасать. Ее отпустили без разговоров и даже предложили вызвать такси, от чего она не отказалась. Как я и планировала, через два часа мы с Тришей уже мчались по шоссе прочь от города. Я надеялась до темноты пересечь границу штата, но волнения последних дней утомили нас да и проголодались мы изрядно: ведь остались без обеда, а из-за спешки даже бутербродов с собой не захватили. Хорошо еще, что я, предвидя эту спешку, заранее нагрузила Хаммер нашим багажом, так что нам оставалось только переодеться в дорогу. Тришу я отправила прощаться с матерью, а сама поехала на автобусе за своей лошадкой и подхватила Тришу в условленном месте. В кожаных штанах и куртках, в темных шлемах мы стали неузнаваемы, так что я очень надеялась на удачный побег. Нам нужно было только добраться до ближайшего международного аэропорта за пределами штата – и мы были бы спасены. Я уже давно сделала нам заграничные паспорта на вымышленные имена, так что, если кто-нибудь и начнет выяснять, не покинули ли мы страну, то у него ничего не получится. Себе я и водительское удостоверение сделала на всякий случай, но старалась ехать вежливо, чтобы не привлекать к внимания полиции. Короче, мы выдержали только пять часов пути, а потом решили все же остановиться и поесть, но после ужина так осовели, что плюнули на все, поехали в мотель, где и проспали благополучно до шести часов утра. ОСТАЛЬНЫЕ ФИГУРАНТЫ ДЕЛА САМИ РАССКАЗЫВАЮТ О РАЗВИТИИ СОБЫТИЙ И СВОЕМ В НИХ УЧАСТИИ. ТРИША Когда я примчалась домой, мамки не было. То ли гулять уфитилила, то ли в магазин, вот ведь невовремя! Шмотки мои Мышка давно увезла куда-то, где она свой мотик ныкала, мне оставалось только мелочи всякие в сумку закинуть: косметику, там, пасту зубную, щетку. Уже через пятнадцать минут я могла бы уйти, да как уйдешь, с мамкой не попрощавшись?! И чего ее именно сегодня понесло куда-то? Не слишком она любит из дома выходить, я с ней даже ругалась, что вечно она в халате, в тапках, неприбранная и не выходит никуда, а она мне возражала, что город этот ей так осточертел за всю ее жизнь, что никакого желания сталкиваться с ним в очередной раз у нее нет. Я еще покрутилась и поняла, что все, время вышло, пора мотать из родного дома. Ну, решила мамке письмо написать хотя бы и уже почти дописала его, как она явилась-не запылилась. Вошла в комнату и спрашивает удивленно: – Ты почему дома-то так рано? Случилось чего? – Уезжаю, мам, попрощаться пришла. – Как?! – ахнула она, – уже?! – Чего – «уже»?! По-настоящему мы еще неделю назад должны были бы смыться, это Мышь чего- то мудрила, ждала удобного момента. Вот сегодня он и наступил, момент этот. – Господи, девочка, неужели я тебя больше не увижу?! – Вот еще, – с неудовольствием ответила я, – я устроюсь и тебя к себе заберу. – Да куда ж я поеду в моем-то возрасте?! – Что ты из себя старуху корчишь, а?! Тебе ж всего чуть-чуть за пятьдесят, ты еще столько же прожить можешь – так и будешь здесь сиднем сидеть? Сама же говоришь все время, что здесь тебе надоело, что все ты здесь ненавидишь! В общем, сейчас некогда базарить, ты вот что послушай: всем говори, что я на работе взяла недельный отпуск и уехала куда-то отдыхать, ты забыла, куда именно, куда-то в горы, вроде бы. – А если с работы твоей позвонят? – Ну, будем надеяться, что раньше чем дня через три не позвонят. А позвонят – удивляйся и говори, что я ведь взяла отпуск и уехала, так чего ж они звонят, раз сами мне отпуск дали. Через восемь дней пойди в полицию и скажи, что беспокоишься, что я уехала на неделю, уже прошло восемь дней, а я не вернулась, ни разу не позвонила и ты уже не знаешь, что делать, не случилось ли чего. Искать меня они начнут через семьдесят два часа, значит, мы с Мышью выиграем одиннадцать суток, за это время мы уже на другом конце земли будем. – Неужто за границу уедете? – За нее, мам, за нее. Мамка заплакала, у меня сердце так и сжалось, но что было делать?! Я обняла ее и стала успокаивать и говорить, что очень скоро ее заберу, не придется ей одной куковать, будем жить вместе, никого не бояться, хоть новые места увидим, а то ведь так всю жизнь можно просидеть в болоте и не узнать, какова она – жизнь эта. Потом я выдралась из ее объятий, и убежала, не смогла больше. Письмо свое сначала хотела забрать и выбросить, но потом оставила: в нем я ей такие слова написала, каких сроду не говорила – пусть хоть прочтет и поймет, как я ее люблю и как хочу, чтобы ей было хорошо. АЛ БОРОВСКИ. Это чудо, что я оказался на той вечеринке. Я не хотел идти, настроение у меня не то, чтобы по вечеринкам шляться, но почему-то все же пошел. Интуиция, что ли, сработала, не знаю. Ну, пошел и пошел, ничего такого я от нее не ожидал. Девок я знал всех и многих довольно близко...ну... понятно, правда? Парни тоже были, в основном, знакомые, только парочка или трое новых – какие-то родственники хозяев, что ли, я не вдавался. Позже пришел еще один, вовремя пришел, потому что я уже собирался смыться, а тут он меня перехватил, когда я шел из ванной, и спросил, не знаком ли я случайно с неким Рэнди, владельцем фирмы «Стеклянная пирамида». Знаком, ответил я, а что? Тогда этого фраера заинтересовало, где и когда я с Рэнди познакомился. Сразу понятно, что человек не из нашей среды. Мы все знакомы с детства и точных дат наших знакомств просто не существует. Я, в свою очередь, спросил этого любознательного паренька, какого черта он задает все эти свои чертовы вопросы и по какому чертову праву. А он улыбнулся так, знаете, не обиделся совсем на мой запальчивый тон и сказал, что просто хочет меня предостеречь. От чего? Это я его спросил: от чего? Он сказал, что от Рэнди. А почему от него нужно предостерегать? Да потому что он – работник спецслужб, вот почему. И очень рьяный, карьерист, ради карьеры на все готов, а ведь ты, кажется, игрок – это он меня спросил, игрок ли я. Ну, играю и что?! А то, что у меня есть сведения, что Рэнди этот на тебя нацелился. Он какое-то расследование ведет сейчас и считает, что ты ему можешь быть полезен. Так что ты, мужик, не хорохорься и на меня глаза не таращь, а постарайся как-то подстраховаться. Понял? Понять-то я понял, я не понял, откуда ему известна подноготная Рэнди и чем вызвана его трогательная забота обо мне. Он понимающе улыбнулся и ответил, что работает там же, где и Рэнди, пришел туда недавно, обязательно хочет сделать карьеру, а Рэнди ему мешает, все время лезет на глаза начальству и вообще... Вот он и решил расчистить себе дорогу. Рассекретит Рэнди, постарается, чтобы сведения о его двойной жизни просочились в прессу и при этом поможет людям, которые ни сном ни духом, не подозревают даже, что возле них трется шпион. Я у него тогда спросил, почему же тогда он и сам рассекретился, а он хохотнул, так коротко и довольно злобно, у меня даже мурашки поползли по телу, и ответил, что очень рассчитывает на мое благоразумие, потому что, если я его продам, то сильно пожалею об этом, что он сведения о Рэнди мне продает за мое молчание. И спросил, хорошо ли я его понял. Еще бы не понять! Я его слишком хорошо понял и еще понял, что умирать буду, а постараюсь этого страшноватенького мальчика никогда больше не видеть и не вспоминать. Вы знаете, я был не просто ошарашен, меня как будто нокаутировали! Почему-то я ему сразу поверил. И, главное, я понял, почему Чарлз меня на крючок поймал – он, видимо, и сам был на крючке у Рэнди, ему ничего другого не оставалось. Но при чем же здесь Мышка? Зачем она им, вот чего я понять не могу. Но решать эту задачу я не собирался. Это была чужая игра, меня в нее втянули против моей воли, а я в ней оставаться не хотел. Плевать, на какой крючок Рэнди поймал Чарлза, плевать на Мышку... хотя ее, конечно, жалко, она мне нравится, какая-то необыкновенная, не такие, как все эти мои «подружки детства», предупредить ее что ли? Как предупредишь, если я не знаю, где она живет?! Даже фамилии ее не знаю – Мышка и Мышка, ее все так за глаза зовут. В бюро больше соваться нельзя...позвонить... из автомата...да ну, к черту! Обойдутся! Я тут же сбежал с этой проклятой вечеринки и стал шляться по городу – мне нужно было привести мысли в порядок. Первое, что я понял: нужно идти к отцу и все ему рассказать. Самому мне не справиться, а он найдет выход. В общем, через пару часов мы летели в самолете отца в Канаду, где нам уже были забронированы места на самолет до Лондона, а из Лондона мы с мамой полетим дальше – в Копенгаген. У отца были какие-то дела в Лондоне, он так и так собирался туда лететь, так что я своим признанием никаких его планов не нарушил, зато он так растрогался моей откровенностью, что даже не обругал меня за то, что я влип в такое дело, даже о краже ручки ни слова не произнес. Всю дорогу до Торонто меня трясло, успокаиваться я стал только когда огни аэропорта Пирсона скрылись, темнота обступила наш самолет, который уносил меня от ужаса последних месяцев, причем я был готов больше никогда не пересекать Атлантику в обратном направлении. Я подозвал стюардессу и велел ей принести мне виски. Мама покосилась на меня, но промолчала, а отец сказал девушке, что раз такое дело, то и он с удовольствием выпьет. "Принесите нам скотч, – уточнил он, – у нас был трудный день, нам нужно расслабиться". ЭРИК СМАЙЛЗ (если бы он мог говорить) Когда я этого фраера впервые увидел в баре, я сразу понял, что пить он ни фига не умеет да и не любит, а в бар ходит, просто чтобы выглядеть, как все. Вот этого я понять не могу: на кой фиг тратить деньги, чтобы другим пустить пыль в глаза! Не, я понимаю, потратить бабло на крутую тачку или, там, байк навороченный, телку отпадную закадрить...хотя на телку, пожалуй, жалко бабло тратить, какого черта! – пусть радуется, что ваще на нее внимание обратили и удовольствие доставили. Ну, прикид шикарный, пойло дорогое, сигары... Но если от всего этого кайфа не ловишь, зачем тратиться?! Самое важное в жизни – это кайф, только он и стоит бабок, остальное – туфта, никому на фиг не нужная. А этот лох покупал дорогущий скотч и потом лизал его весь вечер, кривясь и передергиваясь при каждом глотке. На фига, спрашивается?! При одном взгляде на него стновилось ясно, что проблем с бабками у него нет. Или папаша богатенький, или сам неплохо заколачивает, а может быть, и то, и другое. Вечно везет не тем, я это уже приметил и бесит меня это ужасно. Что за фак! Куда ни сунься – всюду лотерея! И главная лотерея – это предки. Повезло тебе, выпал джекпот – получай богатеньких родичей, маму-красотку, пахана делового, загородный дом и все, что дается впридачу к толстому бумажнику, фак его и расфак! А чего в этом фраере такого, чем он лучше меня?! Да ничем, сразу же видно, что слабак и нюня, такого сломать – раз плюнуть, да только на фига мне его ломать, сдался он мне! Правда, я с ним трепался, если в баре народу было немного, он занятный, картежником оказался, рассказывал всякие случаи, какие во время игры бывают, развлекал, одним словом. Вроде даже понравился он мне. Не задавался, как некоторые богатенькие сыночки, нос не задирал, просто себя вел. Честно сказал, что пить не любит: при его увлечении картами пить нельзя, голова плохо работает и пальцы гибкость теряют, – но пить приходится, чтобы белой вороной не выглядеть, вот он и строит такую декорацию, будто бы выпивоха. Это я понял, белой вороной никто быть не хочет, опасная позиция, нужно уметь маскироваться, я ж сам тоже не показываю, какой я есть на самом деле, очень нужно, чтобы всякая чувырла понимала, кто перед ней стоит. Если тебя вычислил кто, пиши – пропало, ты неопасен, зато это опасно уже для тебя. Кто этого не понимает, те дураки набитые, их даже не жалко. А этот, Ал, все верно просек, я его зауважал даже, хотя все равно мне казалось, что он слабак, ничего я с этим сделать не мог да и не особо старался. Тут еще, как назло, Уна начала меня донимать, даже в бар приперлась, скандал пыталась затеять, хорошо, народу почти никого не было, за стойкой только Ал и сидел, но он слинял за столик, как только увидел, что у нас разговор горячий – что значит, хорошее воспитание чувак получил, это тоже деньги дают, как ни крути. Ну, выпроводил я ее еле-еле, весь вздрюченный, если бы кто подходящий под руку попался, искалечил бы, клянусь, мне уже плевать было на все: на жизнь, на будущее свое, тем более, что без бабок у меня его все равно не было. И тут Ал этот... Мне и самому странно, почему я его ваще стал слушать, а не вмазал, ведь настроение было именно то. Но я стал его слушать, и постепенно меня отпускало, потому что он дело мне предложил, стоящее дело, и нетрудное – пара пустяков. Девку запугать? Да ради бога! Уж мне ли не знать, как это делается?! Если я даже взбесившуюся Уну все же заткнул, то с какой-то серой мышью справлюсь без натуги, тем более, раз такие бабки за нее платят! Вот так я и влип в эту историю, знал бы заранее, мигнул бы и Зануда Кул в два счета вывел бы этого чистоплюя из бара. Но он меня подловил в такой момент...я собраться не успел! И влип. Девка, и вправду, была похожа на мышку – серенькая такая, невидная, тощенькая, как пацан, даром, что в офисном прикиде с юбкой. Испугалась она меня ужасно, одеревенела вся, хотя в моей пушке ни одного патрона не было. Что ж я, идиот что ли, в людном месте стрелять! Так пушку взял – для понта. И понт удался, она аж побелела, как ствол увидела. А уж когда я ей фотки предъявил, то она и вовсе поплыла. Не знаю, где Ал фотки добыл, но я поржал знатно! Особенно над той, где эта мышь сидит на унитазе с журналом в руках. Умора, я чуть не сдох со смеху! Ал разозлился почему-то, мне показалось, что ему эта затея с фотками не понравилась – вот ведь чистоплюй, а?! За такое дело взялся, так чего уж теперь! Цель оправдывает средства, а если есть возможность поржать, ею нужно пользоваться, не так уж часто веселая минута выпадает, все больше злишься да тревожишься. Когда Ал мне передал флешку, я не сразу осознал, что мне в руки попал шанс, просто что-то мучать меня стало, покоя не давало, что-то как будто глодало мозг, а что, я никак понять не мог. Ночь не спал, не поверите, чего со мной в жизни никогда не случалось, какие бы передряги я не переживал. Но верно говорят, что утро вечера мудреннее – утром меня осенило, я еле до вечера дожил, когда можно было брату позвонить. Он не разрешал звонить к нему в офис, тоже выдрючивался, подумаешь! Ему не слишком понравилось, что я хочу зайти: жена его, уродина эта жирная, меня терпеть не могла и вечно ему плешь проедала, про меня гадости всякие говорила и требовала «оградить детей от тлетворного влияния твоего братца-отморозка». Тоже мне, леди! Аристократка задрипанная, на себя бы посмотрела. Ну, я ему тогда предложил встретиться на улице где-нибудь, так и порешили. Он сначала меня и слушать не хотел, еле я его удержал, чтобы домой не смотался. Потом он все же слегонца успокоился и мои слова вроде бы стали до него доходить. А когда он до конца просек фишку, то даже взбодрился и оживел немного. Мы с ним еще побазарили, всякие детали обговорили, и он ваще воспрял духом, я его уже давно таким не видел – с самого возвращения из армии. Все эта мымра его. Укатала мужика, а ведь раньше был орел – и выпивоха, и насчет баб не дурак... Да если я после этого поддамся Уне, сам себя за человека держать перестану! Поначалу все вроде шло как задумали, настроение у меня улучшилось, тем более, что и Уна не подавала признаков жизни, но что-то вдруг сломалось, я так и не узнал, что именно. Только вдруг звонит мне мымра эта, жена брата, и сходу начинает орать: – Ты, грязный ублюдок, куда ты брата втравил?! – Постой, – говорю, – чего ты растявкалась?! Куда я его втравил, что случилось?! – Не знаю куда, в гадость и глупость какую-нибудь, ты ж разве на что путное годишься! – С чего ты ваще взяла, что его кто-то куда-то втравил, а тем более я? – спрашиваю. А у самого както так на душе плохо стало, как будто ее тошнит, а сблевать не получается. – А с того, что его арестовали, прямо в офис полицию вызвали! Говори, что за пакость ты придумал! – Почему я, лапочка?! – Никакая я тебе не лапочка, а что ты придумал, сто процентов – ты ведь рожа уголовная, по тебе давно тюрьма плачет, да только ты-то на свободе, а схватили его...а я знаю, что это все ты, ты, ты! – тут она заревела в голос и бросила трубку. Ничего себе новости! Что у них там произошло?! Мышь сегодня должна была вынести флешку с проектом. Мышь! Но не брат! Почему же его арестовали? Узнать было не у кого. Ала я не мог спросить об этом: он ведь понятия не имел, что начальник охраны их бюро мой старший брат. Я еще раз порадовался, что не распустил язык и не сообщил ему об этом, хотя пару раз проявил слабость и чуть не начал ему о себе рассказывать да вовремя спохватился, как оказалось, не зря. Оставалась только Мышь. Я почему-то был уверен, что она все знает, но когда мы с ней, зареванной и опухшей, встретились на вокзале, сделал вид, что она мне сообщила новость и постарался выудить из нее все, что было можно. Но она и сама знала не так уж много, поэтому я велел ей выяснить все подробнее, а сам решил последить за ней, вдруг она стукачка полицейская, кто их знает, этих тихонь, на что они способны! Ага, последить! Она исчезла! Я приходил к их конторе за час до начала работы, но она ни разу мимо меня не прошла. Вечером я ее тоже поймать не мог, торчал у их поганого бюро целыми днями, но и на обеденный перерыв она не выходила. Ко мне уже охранники начали цепляться, а я ее так и не увидел. Конечно, я мог спросить у Ала, куда она делась, но не хотел рассказывать ему о брате. Так прошли несколько дней, брата уже выпустили до окончания следствия: там что-то странное было, на флешке оказался не тот проект или что-то в этом роде – он и сам не понял. Понял только, что его подставили, но кто и как сообразить не мог, ну, а я тем более не знал, что и подумать. Одно было ясно: план наш сорвался, нужно перестроиться и придумать что-нибудь другое. А что другое можно было придумать?! Оставалось только найти Мышь, и представьте себе, я ее нашел, но ненадолго, она опять куда-то делась. Это было вечером, я опять не дождался ее у бюро и пошел шататься по городу. Настроение было – хуже некуда, видеть никого не хотелось, карманы пустые, даже сигареты кончились, в общем, один большой абзац. Иду это я и вдруг вижу, что останавливается машина, а из него выскакивает Мышь, а за ней – Ал! И она ему что-то зло говорит, он пытается ее удержать, но она вдруг кидается от него бежать в сторону подземки и так, знаете, бежит странно, девки так не бегают – как спецназовец какой или спорстменбегун. Совершенно не по-бабьи, у меня просто челюсть отвалилась. Ну, этот, слюнтяй-то, кинулся за ней, а там какой-то фургон здоровенный выезжал, дорогу перекрыл, а когда отъехал, Мыши и в помине не было – сгинула куда-то. Я тоже за ними побежал, быстро догнал Ала, он аж позеленел, когда меня увидел. Чуть не врезал я ему, тряпке несчастной! Крикнул, что она, небось, к метро подалась, ну и побежали мы туда, но, конечно, никого уже не нашли, черт бы их обоих драл! А тут опять Уна возникла, опять чего-то требовать стала, обещала напустить на меня каких-то ребят с битами бейсбольными, такое несла, но я видел, что она уже на пределе: из колледжа ее исключили, попросили освободить общежитие, а домой она вернуться не могла, и жить ей не на что...Нужно было срочно что-то решать, и я решил. Но когда я пришел в общежитие, ее в комнате не оказалось, хотя ведь мы ясно договорились встретиться здесь. Тут недалеко был лесок, а погода стояла паршивая, поэтому я надеялся, что никто нас не увидит. Она мне сказала, что вещи уже увезла к каким-то знакомым, так что ее еще нескоро стали бы искать, если бы вообще стали. Это была единственная возможность освободиться, другого пути я не видел. Но ее не оказалось в комнате, окно было нараспашку, а я знал, что рядом с ним пожарная лестница. Как ни пьян я был, но сразу понял, что она по этой лестнице от меня сбежать пытается и что нужно ее остановить, а то мне худо будет. И, уже падая спиной вперед, я понял на какой-то короткий миг, что, оказывается, смерть – это ничто большее, чем великое удивление, что так быстро и просто все кончается. Тут все и кончилось. АЛ БОРОВСКИ дополняет. Я так и не понял, почему Мышка на меня так взъелась. Ну да, я организовал эту травлю, напустил на нее Эрика, но что мне было делать?! Чарлз держал меня за глотку, в любой момент мог меня уничтожить. Я ведь как думал: ну, допустим, вынесет она этот проект из бюро. Но кто узнает?! А если и узнают – я бы ее спрятал. Мы бы уехали в Европу и никогда больше не возвращались, она бы и не узнала о моей роли в этом деле. Почему-то мне казалось, что она обязательно согласится уехать со мной. И в тот вечер я ничего такого не планировал, просто хотел провести с ней вечер, поужинать, потрепаться, музыку послушать. А она чего-то испугалась, убежала... И тут Эрик этот кошмарный взялся откуда-то. Я уже не рад был, что связался с ним – опасным типом он оказался, я его даже побаиваться стал. Я видел, что Мышка заскочила в бар, и сам туда зашел, чтобы Эрика нейтрализовать: если бы он ее там обнаружил, плохо было бы всем нам. В баре за стойкой какое-то дубовое бревно сидело, чуть в драку не полезло со мной, а мне и правда, в сортир понадобилось, да он меня не пустил – Мышку, наверное, прятал. Хорошо, что удалось мне в тот раз Эрика к метро увести, а то он такой возбужденный был, даже и не знаю, что бы он мог с ней сделать, если бы поймал. Кошмарный тип, абосолютный психопат. Я даже обрадовался, когда вдруг по радио сообщили о несчастном случае в кампусе. Конечно, не по-людски – радоваться чьей-то смерти, но в данном случае эта смерть решала некоторые проблемы кроме одной: как сделать то, чего требовал от меня Чарлз. Мышка исчезла, а она была необходима как громоотвод. Не думаю, что Эрик ее нашел и прибил, не хочу так думать, но а вдруг?! Хотя она могла оказаться умнее нас и давно уже смылась куда подальше. И правильно сделала, если так. Интересно, встретимся мы с ней еще когда-нибудь? Хорошо бы – встретились. СМАЙЛЗ-СТАРШИЙ ( за него говорит жена – дальше станет понятно почему) Я всегда терпеть не могла его младшего брата – такой урод! Не в смысле внешности, внешне он как раз ничего, всяким ссыкухам ( да и не только им) вполне мог мозги запудрить. Я говорю «мог», потому что, вы знаете, он ведь умер. Да-да! Какая-то странная история. Толи он вывалился из окна, толи его выпихнул кто-то. Пьяный был, хотя это странно: он хоть и гад был, но пил мало, здоровье берег. И если его кто выпихнул ( правильно сделал, между прочим, вот уж не осужу такого человека), то кто это мог быть?! И почему в кампусе – чего ему там делать? Он и школу-то еле-еле закончил, куда ему о колледже думать! Вот говорят, об умерших плохо говорить нельзя, а что хорошего можно сказать о нем?! Учиться не хотел, работать тоже, из родителей деньги тянул, пока у тех они были, дрался вечно с кем-то... А что в армию пошел, так и в этом ничего хорошего не было: жестокий он был, а где ж еще свою жестокость применить можно, как не на войне?! Хотя, может быть, это у них семейное? Моего ведь тоже из армии за жестокость уволили, даже выходного пособия не заплатили. Скотина он, конечно, ни обо мне, ни о детях не подумал, тешил свою черную сторону, вот и дотешился. И братец такой же, да и сын наш, как посмотрю, недалеко от отца и дяди ушел: ведь то и дело сестренку колотит да еще так злобно – руки выламывает, за волосы таскает. Ох, устала я. Мне еще и сорока нет, а я уже старуха. Как Лилли выглядит! Подтянутая, ухоженная, одета хорошо. А ведь в юности у меня фигура была лучше, она мне всегда немного завидовала. Зато сейчас...Я ведь вижу, как она на меня смотрит – жалко ей меня, вот что. И муж мой ей не нравится, он ей сразу не понравился, я это еще тогда поняла, но ради меня она его терпит, да я и сама его уже только терплю, и с каждым днём мне это терпение дается все труднее. Кто бы мне объяснил, чего это я так рано замуж выскочила! И ведь были у меня парни, классные, не чета мужу. Я ведь хорошенькая была, одевалась красиво, родители ничего для меня не жалели. Чем он меня взял, так и не знаю. Правда, я скоро поняла, что глупость сделала, но изменить уже ничего было нельзя: я была на седьмом месяце, а оставлять ребенка безотцовщиной я и помыслить не могла. Вот и получила награду: никчемный мужик, ободранный дом, противные дети, ни гроша за душой. И все это за то, что порядочность проявила. Да противные у меня дети, противные, я и сама это знаю. Они мои, конечно, не отопрешься, но я же вижу, как посторонних людей от них корежит. Раз мои, значит, я в этом виновата, кто ж еще! Я даже не знаю, люблю ли их. Иногда мне кажется, что, если бы я решилась и сбежала от них всех, то и скучать бы не стала, даром, что родила их, еще как тяжело рожала! Были бы у нас деньги, можно было бы детей в закрытые школы отправить, все не так глаза мозолили бы, а когда денег нет, то и сидишь друг у друга на головах просто как арестанты в камере. И ненавидишь уже всех без разбора. Да. Так вот, не успела я порадоваться, что мужа на работу взяли, что хоть какие-то деньги в доме появились, как – бац! – его арестовали. Что?! Почему?! Он и сам не знает. Но я уверена, что без этого поганца, без братца его, дело не обошлось. Муж, пока еще в себе был, немного мне рассказал: какой-то у них там в бюро дорогущий проект делают, он хотел его стащить по-тихому, чтобы заработать, думал предложить конкурентам этого бюро, у него там дружок армейский работает, через него хотел дело провернуть. А тот сказал, что ничего не выйдет, потому что уже и так был скандал с подкупом: вдруг прошёл слух, что фирма эта пыталась подкупить какого-то начальника из бюро, где муж мой работае...работал ( тут она всхлипнула), чтобы тот для них этот проект стащил, а тот крик поднял. Не знаю, понятно ли объяснила, но нет у меня сил растолковывать. Но что на самом деле ничего такого не было, однако, та фирма, которая конкурент, значит, делает все, чтобы ее в промышленном шпионаже не обвинили. Мы на День Благодарения к его родителям ездили ( так давно повелось, а на Рождество – к моим), так они там втроём с братцем и отцом их чего-то долго на веранде обсуждали и потом все три были очень возбужденные и довольные, даже выпили за какой-то успех, а за какой не сказали, только подмигивали друг другу. И вдруг после праздников моего арестовали! Якобы, он этот проект уже украл, а он и полиции, и мне клялся, что не брал он его, он в компьютерах ни бум-бум, не сумел бы ни за что его оттуда выкрасть. У девки какой-то нашли в столе...не помню, как эта штука называется, на которую из компьютера можно все записать...вроде плеши, только не плешь...ну, не помню, ладно, и на этой «плеши» оказались его отпечатки, а отпечатков девки этой не было, поэтому все и решили, что он это он вор. Хорошо, его под залог выпустили, мы даже и не знаем, кто заплатил за него; у нас-то самих денег таких нету и не было никогда. И за адвоката кто-то платит, я уж бояться стала: а ну, как потребуют долги вернуть! Муж еще хорохорился какое-то время, держался, а как братец его погиб, тут он и сдал, сел в кресло перед телевизором, мыться перестал, разговаривать перестал, сидит, небритый, лишь каналы переключает да только не смотрит ничего, просто пультом щелкает. Вот потому я за него и говорю: врачи говорят, депрессия у него. Лечить нужно, а на что лечить, на какие деньги? Страховки-то у нас нет. Я тут подумала немного и, кажется, поняла, о чем они с отцом его разговаривали: тот на заводе одном работает, дела там совсем плохие, а продукцию они хорошую выпускают, да только не знает о ней никто, у них рекламщики тупые, только и умеют плакаты вдоль шоссе поставить и в газету объявление дать. Сколько я этих разговоров выслушала за то время, что мы сюда вернулись! Свёкр не работать не может, им с женой тогда жить будет не на что, а на детей расчитывать не приходится – вот он и волнуется за судьбу завода своего. Я так думаю, они хотели проект этот хозяину завода предложить, да только не вышло у них ничего. И теперь вот, Эрика уже в живых нет, отец их чуть инфаркт не заработал, а муж мой сидит перед телевизором и ничего больше его не беспокоит, хотя кто знает, так ли это на самом деле: ведь не спросишь, а и спросишь – не ответит. МАМА ТРИШИ Тут как-то сижу я перед телевизором, вдруг в дверь звонят. Полицейские! Мне чего-то тревожно стало, жду чего скажут, а они мнутся и помалкивают. Ну, не выдержала я, спрашиваю, за что меня арестовывать пришли, весело так спрашиваю, а они и спрашивают, где дочка моя. – Как – «где»?! – отвечаю, – С дружком своим поехала в горы отдыхать, отпуск у нее. Они переглянулись и спрашивают, надолго ли уехала. – На неделю, – отвечаю, – завтра должна вернуться. А что такое, почему вас это интересует? – Она на своей машине уехала? – А не знаю, – говорю, – она мне не доложилась. – Дело в том, – говорят, – что машина вашей дочери была найдена под обрывом в нескольких милях от города. Разбитая и обгоревшая. Вы ничего об этом не знаете? И вот ведь, знаю я, что уехали они на мотоцикле, что машину не брали, а чего-то так тревожно стало не сердце, я даже задохнулась. Они перепугались, скорее стали меня усаживать ( мы до того стояли все), один на кухню сгонял за водой, спросил, есть ли у меня нужное лекарство. Ну, я сделала вид, что пришла в себя и говорю: – Может быть, ошибка? – Нет, – отвечают, – не ошибка, вашей дочери машина. – А сама Триша? – говорю, заикаясь. – Ее мы не нашли. Там вообще никого не нашли – только машина, пустая и разбитая. – А Триша где же? – спрашиваю. – Мы думали, вы нам ответите на этот вопрос. – Что я могу ответить, если я завтра жду ее возвращения?! Где моя дочь, что вам известно?! – Успокойтесь, ничего нам не известно, честное слово. Мы расследуем это дело и найдем вашу дочь. Вы об ее друге что-нибудь можете нам рассказать? – Вы думаете, он Тришу...? – Мы ничего не думаем пока, мы только проверяем возможные версии случившегося. Так кто он? – Не знаю, я с ним не знакома и еще ни разу его не видела. Триша не очень со мной делится. – А этого человека вы знаете? – и карточку мне подают, а на ней какой-то белый парень с нехорошими глазами, просто волк. – Кто такой? – спрашиваю. Они разочарованно переглянулись и карточку спрятали. Дали мне визитки и попросили звонить, если что вспомню. Я пошла за ними в прихожую, все время причитая, что они что-то знают, но скрывают от меня, что это нехорошо, я мать, я имею право знать всё... Они чуть не бегом от меня удрали, пообещав сообщить мне, если что раскопают, и я осталась одна. Всё получилось, как Триша и говорила. Очень надеюсь, что и остальные их планы сбудутся, а может быть, уже сбылись. ЧАРЛЗ МИЛЛЕР Верно говорят, хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам. Но ведь не все можно сделать самому! И приходится каких-то идиотов привлекать, которые только изгадить всё умеют. Что вы сказали? Привлекать умных? Во-первых, где их взять, а во-вторых, умный еще опаснее, чем идиот. Он дело-то сделает, но где гарантия, что он сделает его для вас, а не для себя? Я этому придурку, молодому Боровски, что заказал? Девку запугать, чтобы она вынесла нужную вещь из бюро. А он что натворил?! Отец у него такой умный чёрт, палец в рот не клади, а этот сопляк... вот уж природа отдохнула так отдохнула! Но вы правы – расскажу всё по порядку. Мой друг-благодетель осточертел мне до крайности, я уже видеть его не мог. Я ненавидел своё бюро ( да-да, оно моё, это я его сделал тем, что оно сейчас из себя представляет, когда мой приятель звал меня к себе на работу, он знал, что делает), ненавидел свой дом, все эти светские сборища...Тьфу! Тоже мне! Аристократы! Денег кучу нажили и уже стали себя избранными считать, а на деле, такие реднеки, как и лесорубы какие-нибудь. Ведь даже развлечься не умели или детей развлечь. Я уже этих клоунов – одних и тех же, между прочим – видеть не мог! В какой дом ни придешь, одни и те же морды, одни и те же карты, всё так же бабы сидят в шезлонгах возле бассейна, а дети глазеют на тех же клоунов, которые и в прошлую субботу перед ними кривлялись. Чёрт! Да мы с моей Лилли в сто раз интереснее проводили время, когда еле доживали от зарплаты до зарплаты! Ездили на экскурсии, устраивали пикники, ходили в музеи – да мало ли что ещё делали. Змеев воздушных с детьми запускали, причём не покупных, а сами клеили, я дизайн придумывал – каждый раз другой... Отдыхали в трейлерных посёлках где-нибудь возле воды, рыбалкой занимались, устраивали для детей праздник Нептуна или ещё что-нибудь в этом же роде. Ну не было у Лилли норковой шубы и бриллиантовых украшений, а у меня такой дорогущей машины и бурбона – так и что?! Небольшой я любитель выпивки, если уж на то пошло, пью только ради поддержания имиджа, ведь все пьют, дел не сделаешь, если пить не будешь. По мне, так всё пойло гадость, независимо от цены, и мне обидно за эту гадость платить дикие деньги, но что делать – положение обязывает! Положение ко многому обязывает. Мы перестали делать то, что нам нравится, и стали делать, что положено «нашему кругу». А какой он наш?! И почему люди «нашего» круга не могут жить по своему вкусу? Кто, вообще, определил, что именно нашему кругу «положено», а что – нет? И почему люди небогатые могут жить по своему вкусу, а если у тебя есть деньги, то должен ты свои интересы и склонности засунуть куда подальше и подчиниться чьим-то чужим правилам? Вы не представляете, как меня это всё достало! Злость и апатия переполняли меня, утром вставать не хотелось, работать не мог, на жену и детей стыдно было смотреть, от чего злился я ещё сильнее. Да и жалел я их. Видел, что им наша жизнь не нравится. Детям в этих «великосветских» кругах было скучно, они то и дело начинали вслух вспоминать, как рыбачили летом, какого змея запускали тогда-то или тогда-то... Потом эти разговоры сошли на нет. Я так и не понял, забыли они о своём весёлом детстве – всё же время шло, могли забыть – или жена попросила их при мне не вспоминать: она видела, что меня каждый раз передёргивает при этих разговорах. Всё же Лилли моя большая умница, только вот у нас и в постели начались проблемы, и я понял, что нужно как-то изменить жизнь. Но как?! Идей не возникало, только вот ящик стола, где я хранил свой пистолет, всё чаще привлекал моё внимание, но, я представлял себе, как Лилли вбегает в мой кабинет на звук выстрела и видит меня...дальше моя фантазия отказывалась заглядывать...и ящик оставался запертым. Не мог я так предать её после всех наших совместных лет, просто не мог. Её вины в том, что творилось во мне, не было никакой: она никогда не укоряла меня за нашу бедность, не требовала манто и бриллиантов, путешествий за границу и посещений дорогих ресторанов. Жила радостно рядом со мной...да что это я?! Не рядом, а вместе, помогала и поддерживала меня во всём – не мог я предстать перед ней с вышибленными мозгами, не мог провести её через все унижения и пересуды, которые обязательно вызывает скандал. Людям скучно жить своей жизнью, она становится рутиной, истекает незаметно, время словно бы стоит, пока они старятся, на самом же деле оно бежит, несётся вскачь, всё быстрее и быстрее, за ним не угнаться. При этом, однако, ничего не происходит, кроме самой жизни. Впечатления, которым суждено стать воспоминаниями, единственным богатством старости, не накапливаются, старость ждёт скучная, унылая и пустая, поэтому чужая смерть всегда и развлечение, и повод остро почувствовать себя живыми, полными сил и желания пользоваться жизнью на всю катушку. Если же какой-нибудь бедолага сам вышибает себе мозги, он помогает окружающим самоутвердиться, осознать свою удачливость, жизненную силу и превосходство над ним, неумелым и слабым, не способным выстоять в шторме жизни, сбитым с ног её стоячими волнами, напрочь лишённым чувства приличия, так свойственным им самим, которым их удачливость и порождённая ею самоуверенность не позволят столь вопиюще нарушить правила и презреть границы дозволенного. Нет, я не мог так подставить Лилли и детей. Но предпринять хоть что-нибудь я был обязан, иначе жизнь наша разлетелась бы в мелкие дребезги и без моего участия. Необоримое желание изменить жизнь стало моей idea fix, я боялся настоящего помешательства и съехал бы с глузду обязательно, но однажды ночью меня осенила идея, и я приступил к её осуществлению. На идею эту меня натолкнул сам Колин. Он так яростно добивался получения тендера на рекламу одной очень серьёзной и богатой фирмы, так гонял нас всех, такие радужные планы строил на будущее, такую секретность развёл, что я понял: наступил момент для моих действий, наконец-то я смогу изменить свою жизнь. Ведь достаточно было лишь устроить какой-нибудь скандал с этим заказом, и репутация бюро – и его хозяина, разумеется – была бы загублена, а я обрёл бы свободу. Долго я разрабатывал план действий, и – опять! – мне помог случай: из отдела кадров прислали резюме какой-то выпускницы колледжа, искавшей места дизайнера, и я понял, что найдено то самое звено, которое должно стать завершающим в моём плане. Нужен был пустяк: скачать все материалы по этому заказу на флешку, заставить девицу вынести флешку из бюро и сделать так, чтобы полиция нашла эту флешку у неё. Конечно же, у меня взяли бы показания, и я бы уж нашёл слова для дискредитации бюро, у меня целая речь была заготовлена. Оставалось обеспечить себе пятисотпроцентное алиби. Даже мой взгляд не должен был касаться этой флешки. Нетривиальная задача, если бы не молодой Боровски. Он оказался вором! И что самое главное – он позволил себе это у меня на глазах! Участь его была решена, вырваться из моих когтей он не смог бы, не покалечившись, а он, явно, не из тех, кто не боится боли и неприятностей. И всё было бы прекрасно, если бы этот чистоплюй не решил нанять кого-то вместо себя! А этот «кто-то» оказался форменным бандитом, чуть девку не убил, и вообще, наломал дров... Я дураку Боровскому все условия создал, даже фотографии девки предоставил, понятия не имею, как Рэнди умудрился их сделать. С ними такая история приключилась: было очередное нудное party, дети слонялись, клоун им осточертел, а Рэнди, явно, скучал со взрослыми. Карты он не любил, не пил, флиртовать здесь было не с кем, и он затеял футбол с мелюзгой. Я замечал и раньше, что он любит с детворой возиться. Ну, снял он пиджак, повесил его на спинку кресла, а оно возьми да и опрокинься, и из кармана пиджака выпал пакет, а из него – фотографии. Я стал их собирать и рассмотрел кое-какие. Но тут Рэнди подскочил и забрал их у меня. Я не стал с ним миндальничать и спросил прямо, где он взял эти снимки. Парень побагровел, стал что-то лепетать, а потом признался, что девка эта ему страшно нравится, а у него есть друг, мастер по таким делам, и он друга этого попросил, чтобы тот сделал ему фотографии девицы в естественной среде обитания, когда она думает, что её никто не видит, но что он умоляет меня держать язык за зубами, иначе у друга его будут страшные неприятности на работе: он не имеет права выносить оборудование и использовать его для своих нужд. Это был такой подарок судьбы! Я не мог упустить его из рук и сказал парню, что буду молчать, если он отдаст эти снимки мне, ведь у него, наверняка, есть негативы или флешка, он себе ещё напечатает. Рэнди удивился, это было видно, но спорить не стал, отдал мне конверт, и мы расстались довольные друг другом. И вот, я этому слюнтяю Боровски дал эти фотографии, чтобы девка думала, что за ней следят день и ночь, а он, имея такие козыри на руках, умудрился партию прос...ть, как последний поц! Что было делать?! Мой родственничек, раздувшийся от своего величия в роли начальника отдела охраны, ввёл драконовские меры, стал всех обыскивать, обходить кабинеты и студии и шарить в столах – мешал страшно, его необходимо было устранить, что я и сделал, подсунув девице в стол флешку с фальшивыми документами и эскизами, только на первый взгляд похожими на гранд-проект. Девка, между прочим, меня удивила: она сразу заявила, как только он вынул флешку из её стола, что не прикасалась к ней и что на флешке никто не сможет найти отпечатков её пальцев. Сообразительная какая! Даже чересчур, на мой вкус. Но главное было сделано: дурака арестовали, проверки закончились, можно было приступать к основной части операции, но напуганная Алом и его бандитом девица исчезла! И как исчезла! Оказалось, что никто не знает, где она живёт. Адрес в отделе кадров оказался фальшивым. Телефона у неё не было – вы когда-нибудь такое видели?! В наши дни жить без телефона! Номер страхования нам ничего не дал – имя и фамилию мы и так знали. Ну, были у неё права на мотоцикл, но зачем они ей, понять было невозможно: никто и никогда её на мотоцикле не видел, ездила она на автобусе или поезде, пару раз видели, как она ловила такси. Куда она делась, понять я не мог. Тем более, что исчезла ещё одна девица, негритянка из архива. Что? Афро-американка?! Сами так их называйте, а меня уже не переделать. Кому не нравится, может заткнуть уши и не слушать или вовсе выйти, я не навязываюсь. Поисками негритянки занялась полиция. Не больно-то они рвались её искать, но мамаша их донимала, все нервы им вымотала. А «моя» девка была сиротой. Удалось выяснить, что её родители давно погибли, что она воспитывалась в приёмной семье, но люди эти, как нарочно, недавно тоже умерли, так что никаких подробностей у них узнать было нельзя. Наведался я в тот дом в пригороде, куда она на поезде ездила и где её приятель Рэнди сфотографировал, но там жила какая-то фифа с прислугой-мексиканкой, которые тоже не знали, куда девица делась. Она, оказывается, помогала служанке за жильё, но в один прекрасный день просто не пришла ночевать и больше они её не видели. Вещи её мне не позволили посмотреть, сказали, что только полиция и только с ордером...чёрт бы их драл обеих! После девиц и Боровски исчез, и тут я понял, что план мой рухнул и что, если я хочу не оказаться погребенным под его руинами, нужно срочно от него отказываться. Да и от всей идеи разрушения бюро тоже. Видимо, от судьбы не уйдешь. Буду работать, как работал, но жизнь свою изменю. В конце концов, меня никто насильно не заставляет участвовать в party, играть в карты, пить бурбон, заставлять детей скучать. Плюну на всех и вся и будем мы с Лилли и ребятам жить так же, как пять лет назад: ездить на рыбалку, запускать змеев и лазать по горам, а кому наша жизнь покажется неправильной, пусть катится куда подальше и не мешает нам получать удовольствие. Рэнди Прихожу я в столовую, а там эти ребята сидят, что хакера ловили. Ну, я подсел опять за их столик и спрашиваю: – Поймали? – а они на меня смотрят непонимающими глазами и спрашивают в свою очередь: – Кого? – Как – «кого»? – говорю, – вы же хакера ловили. – Какого хакера? – Да вы что, парни, – говорю, – амнезией больны? Хакера, который из интернет-кафе работал. А они переглядываются так, непонимающе, и осторожненько, как больного, спрашивают меня: – Ты с чего решил, что мы хакера ловили? – Так вы же, – отвечаю, – вот за этим же самым столиком пару месяцев назад об этом деле разговаривали. Я с вами тогда за одним столом обедал – помните? – Ах, это! – и ржут, чисто как кони. – Чего ржёте? – я уже заводиться начал. – А того, что никого мы не ловили, а книжку обсуждали. Роман детективный. Там автор такого наворотил – и хакер из интернет-кафе работал, а сам этот хакер был девкой, и девка эта всю полицию вокруг пальца обвела, так её и не поймали, исчезла она, а куда и каким образом, выяснить не удалось. Вот мы и прикидывали, может такое на самом деле случиться или автор слишком хорошую траву курит. Понял, беби? – Понял, – бурчу, а сам кляну себя на все корки. Готов себе морду в кровь разбить за глупость. Ведь столько времени и сил на неё убил! Эва от меня ушла – приревновала к подружке, а я жениться на ней собирался, только объясниться не успел...чёрт, так лохануться! Мужики доели, похлопали меня по плечу, сказали, что будет и на моей улице праздник, поймаю и я какого-нибудь хакера, и ушли. А меня вызвал начальник и ядовитым таким тоном спросил, что это за расследование я веду у него за спиной и почему ничего ему не докладываю. Застал меня врасплох. Я ничего не смог придумать и сказал, что у меня были подозрения по поводу одной девушки, я хотел сначала их проверить, а уж потом доложить ему, чтобы не беспокоить по пустякам. – Однако Ала Боровски вы решились обеспокоить по пустякам, – вдруг заявил мне он, – вы знаете, кто его отец?! Чё-т я не понял... Как это я Боровски обеспокоил? Я с ним и не контачил совсем... Тут начальник совсем взвился: – Ах, вы с ним не контачили! А вы знаете, что он бежал из страны, спасаясь от ваших преследований! Я тупо смотрел на него и ничего не понимал! – Да-да! Не стройте из себя невинную овечку. У меня есть достоверные сведения, что вы чего-то от Боровски-младшего требовали, а теперь его папенька требует вас уволить, и если вы думаете, что я этого не сделаю, то вы ошибаетесь: у меня нет никакого желания быть козлом отпущения. Я уже три часа безработный и за это время та и не понял, за что меня уволили. Конечно, с голоду я не умру. Моя «Стеклянная пирамида» предприятие доходное, в эту контору я пошёл работать, потому что уж очень скучно было. Девки всё одни и те же, всё те же party, всё те же лица...Карты я не люблю, не пью, жены и детей нет, а пора бы. Но Эва меня бросила, а другие мне не нужны. Кто и что наплёл про меня начальнику?! Этого я никогда не узнаю, как и причин, по которым этот гад так меня урыл. И ведь, главное, получилось-то всё так же, как в том детективе, на который я купился: вот нутром чую, что подружка эвина, мышь эта, была хакером. Вот не знаю, почему я так уверен, но я прав. И исчезла она, как в книге, и найти её не могут – по радио передавали в криминальной хронике, – и меня обманула. И даже уволили меня из-за неё, как того сыщика в книге, который её найти не сумел и какого-то важняка чем-то разозлил. Мне только остаётся пожать плечами: как это получилось, что из-за какой-то дешёвой книжонки рухнуло столько жизней – Мыши, Ала ( ну, у него, положим, не рухнула, но ведь он всё бросил, радикально жизнь поменял), моя? Не знаю. Не знаю. Вот, стою на улице и пожимаю плечами. Не знаю. ЭПИЛОГ Мы с Тришей завтракали в придорожном кафетерии, когда по радио начали передавать новости. Я не стала сосредотачиваться на них, но тут Триша больно пнула меня ногой и прошипела: – Слушай! Ведущий рассказывал, что найден разбитый автомобиль, «Фольксваген» серого цвета, что полиция считает его именно тем автомобилем, который видели в кампусе в день гибели Эрика Смайлза. Трупов ни внутри машины, ни возле неё не обнаружили, но какая-то женщина слыхала грохот, когда «жук» падал с обрыва, а потом раздался треск мотоцикла. Нет, она не видела мотоцикла, он проехал, видимо, ниже того места, где она остановилась, чтобы позвонить по телефону домой, но она уверена, что он связан с падением «Фольксвагена», потому что до него на шоссе было абсолютно пусто и тихо, очень уж ранний это был час. Мы с Тришей затравленно посмотрели друг на друга. А по радио тем временем обращались к жителям штата с просьбой помочь полиции найти мотоциклиста. Если он связан с аварией и гибелью Эрика Смайлза ( если эти два события вообще связаны между собой), то его показания смогут пролить свет на всю эту загадочную историю: ведь «Фольксваген» принадлежал такой-то, а она исчезла и никто не знает, куда она делась, как и её сослуживица и подруга, с которой они, якобы, уехали отдыхать в горы. Если учесть, что невеста Смайлза тоже исчезла, то все перечисленные события, если они являются звеньями одной цепи, приобретают зловещий характер и выглядят как серийные убийства, хотя трупы и не найдены, но так часто бывает при серийных убийствах. Тут мы с Тришей не выдержали, расплатились и сбежали. Мы несёмся с ней по приморскому шоссе – прочь от радио, полиции штата, разбитого «жука», Эрика Смайлза и Ала Боровски. Мы постараемся как можно быстрее пересечь границу штата, как можно быстрее добраться до самолёта в Европу, где и начнём новую жизнь. Может быть, она у нас получится более удачной, чем та, из которой мы сбежали. Я гоню своего Харлея по приморскому шоссе. Нам навстречу и за нами движется много автомобилей, одним курсом с нами несётся по морю белая яхта, над нашими головами стрекочет полицейский вертолёт... Я гоню Харлея и надеюсь лишь на то, что ни один из автомобилей, ни яхта, ни вертолёт не гонятся за нами. Я надеюсь, что мы доберёмся до самолёта. Интересно, Триша в это верит? 20.10.2010 г. Израиль. Евгений Добрушин Идентификатор Как только он ее увидел, понял, что это ОНА. Да, он влюбился в нее с первого взгляда. Она сидела на остановке и читала "Маарив". Одета она была, как обычная израильтянка - черная майка, из-за которой выглядывала лямка лифчика, черная обтягивающая мини-юбка, какие-то немыслимые ботинки с высокой шнуровкой, на запястьях золотые цепочки. Словом, стопроцентная сабраашкеназка. Но он почувствовал в ней "свою". - Вы говорите по-русски? - Да, конечно... Она была явно раздосадована тем, что в ней признали "русскую". - Вы живете в Петах-Тикве? - Да. - На улице Дов-Оз? - Правильно... Он сам был удивлен своей догадливости. - Дом номер двадцать один... - Да... - Пятый этаж, квартира пятнадцать. - Мы соседи? - Нет. - Откуда же вы меня знаете? - Просто угадываю. - Ах, вот как! - она понимающе улыбнулась. - Продолжайте. - Зовут вас Натали Грюнвальд. - Вы из полиции? - Нет. - Ага. Из ШАБАКА, да? - К системе безопасности я не имею никакого отношения. Даже охранником ни разу не работал. - Мы с вами знакомы? - Нет. Я вас вижу первый раз в жизни. - Я вас тоже. Тем не менее вы про меня так много знаете, а я про вас - ничего. - Ничего я про вас не знаю. Просто угадал. - В самом деле? - Ну!.. - Ну-ка, попробуйте еще чего-нибудь про меня угадать. - Родились вы третьего апреля восьмидесятого года. - Так. - Правильно?! - Правильно. - Жили в Ленинграде. - Так. - В девяносто третьем приехали в Израиль вместе с родителями, бабушками и дедушками. Закончили в прошлом году школу "Амаль-Бет", сейчас учитесь в Тель-Авивском университете. Вам дали отсрочку от армии. Параллельно с учебой вы подрабатываете официанткой в ресторане «Рубаненко» в Петах-Тикве. Принимали участие в конкурсе «Мисс Петах-Тиква», но не прошли последний тур. - Но откуда вы все это знаете?! - девушка была явно испугана. - Честное слово, не знаю... Как-то само пришло в голову. - Вы телепат? - Нет, что вы. Со мной это в первый раз. - А может... вы - инопланетянин? - Нет, нет. У меня вполне земные родители. И я похож на них обоих. А характер у меня, вообще, дедовский... В тот вечер они вместе доехали до Петах-Тиквы, Кирилл проводил девушку домой. Потом они начали встречаться. Загадочность этого симпатичного паренька покорила Натали. Когда она рассказывала про их знакомство своим подругам, ей никто не верил. Ну, кто сейчас верит в пророческий дар! Через полгода они поженились. А еще через пять лет у них уже было двое детей. Кирилл продолжал работать электриком на заводе, стал начальником бригады, прилично зарабатывал. Натали закончила университет, получила первую степень по математике и стала преподавать в начальной школе. И вот, однажды, Кирилл зашел перекусить в небольшое кафе на Хаим Озер. Жена с детьми уехала погостить к родителям в Ашкелон. Работа не позволяла поехать вместе с женой на летние каникулы. Вот он и ошивался по кафешкам. За соседним столиком он увидел девушку неземной красоты. Он понял, что «погиб». - Вы говорите по-английски? - спросил он ее. - Да, говорю, - ответила она на своем родном языке. - Вы родились в Нью-Йорке? - Да. - Вас зовут Шарон Розен? - Вы из полиции? - Нет. Я просто угадал. - В таком случае, вы просто невероятно догадливы! Девушка подумала, что ее разыгрывают. Но когда Кирилл рассказал ей всю ее биографию, она была поражена не меньше, чем когда-то Натали. Они стали любовниками. Сохраняя свои отношения в тайне, они, тем не менее, встречались почти каждый день. Шарон была в восторге от нового бой-френда. А через год Кирилл встретил свою третью любовь. Он «голосовал» на дороге, возвращаясь с далекого объекта, на котором проводил тестирование аппаратуры контроля. Он понял, что эта девушка одинаково хорошо знает и русский, и английский, и иврит, и вообще любой другой язык землян. Она была инопланетянкой. О чем он ей так прямо и сказал. - И откуда же я, по-вашему, прилетела? - спросила та, ничуть не смущаясь. - С планеты Стор, из системы звезды Альтаир. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. - И как же меня зовут? - Ваше земное имя - Рут Коэн. Она же Рита Березова. Она же Роуз Штерн. - Правильно. А как меня звали там? Он сосредоточился. - Никак. У вас там вообще нет имен. Вы общаетесь на другом уровне. - А ты? ТЫ САМ, откуда будешь?! - Я землянин. - Ты в этом уверен? - Абсолютно. - Хорошо. Теперь станешь инопланетянином. - То есть? - Мы немедленно покидаем Землю и отправляемся на Стор. - Э, нет... Так мы не договаривались! У меня жена, дети, ответственная работа. Родители, друзья, наконец! Как я их всех тут оставлю? - Ты слишком много знаешь. Моя миссия на Земле слишком важна, чтобы рисковать. Мне совсем не нужна огласка. Кирилл не на шутку испугался. Оружие, которым он завоевывал сердца любимых женщин, на этот раз, сработало против него. - А ну, останови машину! С перепугу, он попытался выхватить у девушки руль и нажать на тормоз, они начали бороться, машина потеряла управление и... врезалась в дорожный указатель. Очнулся он уже в больнице. - Где она? - спросил он медсестру. - Сейчас я ее позову. Вошла Натали. Ее лицо было заплаканным. Впрочем, все обошлось. Кирилл отделался сотрясением мозга и двумя сломанными ребрами. Куда делся водитель машины, никто не знал. Прошло полгода. Кирилл встретил свою четвертую любовь. Он знал, что она коренная израильтянка, работает программистом, зовут ее Рахель Левин, разведена, и так далее, и тому подобное. Разумеется, как и всех предыдущих своих возлюбленных, он видел ее первый раз в жизни. На этот раз он ей ничего не сказал и прошел мимо. Так, "от греха подальше". Олеся Чертова Другая сторона Непослушными, мокрыми от слёз пальцами открывать замок было мучительно. К тому же руки ещё и дрожали. – Ира, хватит, перестань. – Олег попытался поймать её за локоть, но она грубо оттолкнула его руку и он отступил. Остановился в нескольких шагах от неё, скрестив руки на груди, наблюдал несколько секунд за тем, как она мается с замком. Наконец замок поддался, громко щёлкнул и тяжёлая металлическая дверь бесшумно отворилась. Ира выскочила на лестничную клетку. Она обернулась резко, уверенная, что Олег будет пытаться её остановить, но он не пытался. Стоял всё так же, скрестив руки на груди, и угрюмо смотрел на девушку. Лицо его выражало, как показалось Ирине, смертельную усталость. Но если бы она была не настолько раздражена, то, возможно, заметила бы отчаяние, которое, как слёзы, стояло в его глазах. Но она была слишком взвинчена, чтобы разбираться в его чувствах! – Счастливо оставаться! – выпалила она и бегом ринулась вниз по ступенькам, хотя логичнее было бы вызвать лифт, всё-таки двенадцатый этаж, но Ирина была не в состоянии ждать. Она бежала по ступенькам вниз, но всё её внимание было по-прежнему сконцентрировано наверху. Вот сейчас, сейчас ухнет тяжёлая дверь, провернётся на два щелчка ключ в замочной скважине и он побежит вниз, следом за ней. Так всегда было. Ирина по своей натуре девушка вспыльчивая, и Олег, будучи более уравновешенным человеком, всегда считал эту черту характера своей возлюбленной таким же милым дополнением к её портрету, как и веснушки или копну непослушных пшеничных курчавых волос. Ира это знала и поэтому иногда даже чаще, чем это требовалось, психовала, порой просто для поддержания имиджа. Но это было поначалу. После того как полгода назад Олег сделал ей предложение, симулировать приступы ярости отпала всякая необходимость, так как появилась масса вполне реальных причин для ссор. Перечислять их, естественно, глупо, потому как любой человек старше тридцати скажет, что всё это детский лепет и милые бранятся – только тешатся. Но для Ирины в её девятнадцать каждая размолвка – полная катастрофа. Ирка выбежала на улицу и остановилась. Прохладный сентябрьский ветер дохнул ей в лицо, охлаждая горячие потоки слёз на щеках и вынуждая достать носовой платок. Она оглянулась на дверь подъезда – может, он спускался лифтом и появится в дверях секундой позже? Нет. Олег не спустился, и мобильный предательски молчал в сумке. Ира вытерла лицо, ни к чему теперь было хранить потоки туши на щеках, если тот, на кого они могли произвести впечатление, так и не соизволил за ней спуститься. Она запрокинула голову и посмотрела наверх: в окнах на двенадцатом этаже мирно горел свет. – Скотина, – процедила сквозь стиснутые зубы Ира и, гордо подняв голову, решительно застучала каблуками прочь подальше от этого злосчастного дома. Обогнув дом, Ирина вышла на проспект, и здесь уже не было необходимости в гордой и независимой походке. Девушка направилась к сигаретному киоску. Олег терпеть не мог, когда она, разозлившись, хваталась за сигарету. Он вырывал её из рук и в такие минуты готов был уже на всё. Сейчас он не видел, как, плюхнувшись на скамейку, Ирка закурила, но всё равно её изнутри подогревала мстительная злоба. – Так тебе, – шёпотом произнесла девушка, наслаждаясь местью, словно это не её, а Олега организм сейчас страдал от атаки никотина. Ирина огляделась по сторонам – вечер был изумительным. Сентябрь в этом году выдался тёплым и нежным, как по заказу. Она всегда мечтала о свадьбе в сентябре. Не летом, когда от жары течёт макияж и ноги липнут под длинным платьем, когда торт тает раньше, чем его успевают съесть, и у двух-трёх родственников обязательно подпрыгнет давление из-за сочетания тридцатиградусной жары и сорокаградусной водки. Ира хотела осеннюю свадьбу с жёлтыми листьями и мягким светом не жаркого солнца. Когда прохлада позволит надеть любой наряд и жениху не придётся после ЗАГСа снимать пиджак и закатывать рукава на рубашке. Мама считала, что свадьба в сентябре – дело очень рискованное. Но, видимо, небеса решили сделать Ирине подарок – такой восхитительный нежный сентябрь. – Свадьбы не будет, – с порога провозгласила Ира, шмыгая носом. Пока она стаскивала туфли, из кухни возникла мама, как всегда, элегантная, в восточном халате с длинным мундштуком и неизменной улыбкой. – Что так? – спросила она, склонив голову, при этом её темные, коротко стриженные волнистые волосы мерно покачнулись. – Что снова сделал не так этот несчастный? Ирину слегка задело, что мама так несерьёзно относится к её проблемам, но всё же она молча побрела за ней на кухню. Мама заваривала кофе, разливала его по чашкам, в это время её сигарета медленно таяла. Ирке, глядя на всё это, уже перехотелось жаловаться. Она уже наизусть знала, что скажет ей на это мать: что есть период притирки, и это неизбежно, что когда они станут жить вместе, станет ещё тяжелее, и нужно иметь такт и терпение, чтобы это выдержать. Что Олег замечательный человек, и Ирина должна радоваться, что на такую, как она, веснушчатую пигалицу, запал взрослый двадцатисемилетний, состоявшийся молодой человек; что он и так слишком многое ей позволяет, а она на голову ему села, и так далее… А главное, что проблема её выеденного яйца не стоит. Ну, подумаешь, он уже договорился о покупке квартиры на двенадцатом этаже, не согласовав это с ней. Ну и плевать, что квартира прекрасная и район хороший, самое ведь главное, что этаж двенадцатый, а Ира терпеть не могла лифты. Девушка знала, что расскажи сейчас маме об этом – она только посмеётся и будет права. Ведь если у неё с отцом была бы возможность купить квартиру ещё до женитьбы – то они были бы счастливы, даже если бы купили однокомнатный скворечник на двадцать пятом этаже, и даже без лифта, и, возможно, без лестницы. Ира всё знала: и мытарства папы и мамы по съёмным квартирам и общагам, и вечную нехватку денег, и про гибель отца, когда ей самой было всего только пять – она тоже знала. И о том, что её мама, совсем ещё девочкой, оставшись вдовой, так и не вышла замуж, потому что лучшего, чем её муж, так и не нашла. Хотя родила Ирку очень рано, в семнадцать, и вот с двадцати двух лет она жила одна, сама поднимала дочку, потому что на мужчин не могла смотреть. А они смотрели и сейчас смотрят, Ирка знала это прекрасно. Ведь её маме всегото тридцать шесть, а выглядит она ещё моложе. Личико у неё какое-то детское: губки пухлые и глаза голубые, как у фарфоровой куклы. К ним парни на улице, как к подружкам пристают. А те, что не пристают, всегда провожают взглядом мамину длинную шею и ноги стройные. Ирина всегда проигрывала в сравнении с мамой. Не унаследовала она ни шеи лебединой, ни ног. И ростом пониже, и фигурка попроще, да и лицо в веснушках, волосы курчавые светлые с рыжиной, губы крупные и брови в разлёт, а глаза зелёные под светлыми ресницами. – Теперь такая внешность в моде, – говорила мама, укладывая Иркины непослушные волосы. – Ты на моделей посмотри, прилизанные личики сейчас никому не интересны, нужна необычная внешность, запоминающаяся. С этими словами мама поправляла выбившийся милейший завиток из чёлки и улыбалась пухленькими губками, и Ирина думала, что с радостью поменяла бы свою модную экстраординарную внешность на мамино прилизанное ангельское личико. – Ты так похожа на отца, – всегда говорила мама. Она всегда это говорила, сколько Ирка помнила себя. Честно говоря, она не улавливала сходства межу теми немногочисленными снимками темноволосого, высокого мужчины с довольно грубыми чертами лица, но ничего не говорила об этом матери. Отца Ира почти не помнила. Ей было пять, когда он погиб. Какие-то обрывочные воспоминания: зелёной листвы, касающейся лица, странное ощущение полёта и сильные, кажущиеся гигантскими, руки. – Ну, так, что там у вас? – мама затушила окурок в пепельнице на подоконнике и подсела к столу. Ирка поморщила нос и отхлебнула кофе. – Ясно, – мама уже не улыбалась. – Сама разберёшься или всё-таки поговорим? Ира ещё не решила, что ответить, как вдруг зазвонил телефон. – Я сейчас… И мама вышла из кухни. Её не было несколько минут, потом она вернулась и всё с тем же жизнерадостным выражением лица сказала: – Звонила мама Олега. Хотела поговорить с тобой, но я тебя отмазала… – Чудно, – фыркнула Ира. – Мамочке нажаловался… Мама молча присела рядом и сжала дочери руку. – Ну-ну, – проговорила она, как к маленькой. – Брось дурить, Ируська. Олег замечательный парень. И у тебя через две недели свадьба, а этаж квартиры – это не важно. Не хочешь лифтом – ходи пешком. Здоровее будешь… Ирка молчала. Мама склонила голову и заглянула ей в глаза. – Ну, дочка, он хотел сделать сюрприз. Знал, что ты любишь красивые виды из окна, вот и нашёл эту квартиру. Он не советовался с тобой потому, что хотел удивить. Ируська, – мама нежно погладил её по руке. – Дочурка, красивых видов не бывает из окон первого этажа… – Откуда ты знаешь про сюрприз? – пробормотала Ирка, не отрывая взгляда от своей чашки. – Да потому, что он советовался со мной, и я была в этой квартире… Ирина вскинула на маму удивлённый взгляд, та пожала плечами. – Но ведь тебе действительно угодить невозможно! – Да прям уж! Ирка хмурилась, но на душе ей стало легче. – Да прям уж! – передразнила её мама. – Дочка, не нужно учить человека, как тебя любить. Не нужно ждать, что он будет удивлять тебя так, как ты хочешь. Иногда, чтобы не обидеть того, кому ты дорога, можно и потерпеть… – Что именно? – Ирка подняла брови. – А вот что, – мама загадочно улыбнулась. – Твой отец когда-то целый год по утрам приносил мне кофе в постель. Кофе с молоком, сахаром и взбитыми сливками… Ирка поморщилась. – Но ты ведь такой терпеть не можешь. – Верно, – кивнула мама. – Не могу. Но я пила и была безгранично благодарна. – Она испытующе посмотрела на дочь, но та сидела, нахохлившись, как замёрзший воробей. – Какая же ты ещё маленькая, дурочка, – ласково произнесла мама и погладила дочку по щеке. – Нельзя ругать человека за то, что он любит тебя не так, как тебе хочется. Нельзя заказать сюрприз, ведь он тогда перестанет быть сюрпризом. Нужно быть просто благодарной за то, что тебя любят и хотят сделать приятное. – Ясно, – улыбнулась Ирка. – Ну, а как же разрешилась ситуация с кофе? Папа носил его тебе только год? А потом? – А потом он умер, – просто ответила мама. Ирка села рядом и крепко обняла маму за плечи и, как в детстве, уткнулась ей в грудь лицом. – Мам, а расскажи о нем… Мама вздохнула, вставила в мундштук новую сигарету и задумчиво повела рассказ тех историй, которые Ирка слышала тысячи, миллионы раз, но они ей так и не надоели. Она слушала о том, каким удивительным человеком и замечательным мужем был её отец. Олег приехал на следующий день к институту. С букетом роз (банальщина, по мнению Ирки), но, между тем, приятно. Он стоял и смотрел на неё с отчаянием. Что он должен был говорить? За что извиняться? Теперь, зная всю предысторию, Ирка понимала, что логичнее было бы извиниться ей самой. Но это было слишком! Она стояла и, глядя в сторону, крутила в руках листочек клёна. – Давай всё забудем, – вкрадчиво говорил Олег, и Ирке казалось, что он сам уже устал постоянно за что-то перед ней извиняться, что он задолбался угождать ей, да и кто его за это осудит? Но ситуация сложилась так, что уже невозможно было стереть из памяти весь тот поток постоянных претензий. Нужно было либо извиняться Ирке, либо продолжать этот бездарный спектакль, в котором и он, и она – оба прекрасно понимали, что Олега вины здесь нет. – Пойдём, сходим куда-нибудь, пообедаем и поговорим… – вяло предложил Олег. Ирка подняла на него глаза, и ей внезапно захотелось, чтобы он залепил ей по физиономии этим самым букетом. Выхода не было, и Ирка, вздохнув, снова тянула этот тошнотворный фарс с обидой непонятно за что. – Не могу я сейчас, – пробормотала она. – У меня лекция. Давай я тебе после занятий позвоню. – Ладно, – тоже как-то совсем бесцветно согласился Олег. Он отдал ей букет и ушёл. Ира смотрела ему в спину со смешанным чувством досады и злости. Может, не нужно было так быстро соглашаться выходить замуж? Может, это предсвадебный мандраж такой? Ирка посмотрела на широкую спину Олега и подумала, что за эти две предстоящие недели, возможно, он сам передумает на ней жениться, а может, и уже передумал… Идти на занятия не хотелось совсем. Мысли меланхолично перетекали в совершенно не учебное русло. Сжимая в одной руке букет, а в другой сигарету, Ирка пошла следом за Олегом. Она просто решила пройтись по парку перед институтом, но как-то безотчётно направилась в противоположную сторону. Девушка видела его спину, когда он прошёл через парк и вышел на парковку, даже услышала, как пискнула сигнализация. Ирка видела край его чёрной машины и мельком Олега, обходившего её сзади. Теперь его от Ирины скрывало здание офисного центра, и девушка развернулась идти в сторону института, как вдруг позади раздался глухой удар и металлический скрежет резанул по ушам. Ирка остановилась. Она слышала шум, громкие голоса, но продолжала медленно идти к институту. Она была уверена, что произошедшее там не имеет к ней никакого отношения. Но ноги не хотели слушаться, Ирка снова остановилась. Потом развернулась и пошла к парковке. Сначала медленно, но с каждой секундой убыстряя шаг, в какой-то момент она побежала. Ирка чувствовала, она знала… Это ей за то, что она не ценила своего счастья, точно как с папой. Мама ценила, но всё равно папа погиб, вот теперь и она… она останется без Олега, потому что она дура… дура… Слёзы потоками уже бежали по щекам, Ирка сама не помнила, где выронила букет, когда наконец выбежала на парковку перед офисным центром. Олега она увидела сразу и разбитую машину, возле которой он собственно и стоял. Рядом, на асфальте, лежал светловолосый мужчина. Возле него склонились люди. Под головой у лежащего медленно растекалась лужа крови. – Олег! – непонятно зачем крикнула Ирка. Он оглянулся. Быстро расталкивая людей, пробрался к ней. – Ты здесь, откуда? – встревоженно спросил он. – Услышала грохот, вот и подошла посмотреть. – Желудок и сердце у Ирины постепенно становились на место. И первый порыв броситься на шею с криками: «Живой, родименький!» уже прошёл. – Что тут смотреть? – Олег отвернул девушку спиной от окровавленного мужчины. – Вот видишь, вылетел непонятно откуда, пьяный что ли, – он указал на красную помятую девятку, боком перегородившую дорогу. Этого мужика сбил и мне в зад впилился. Я сам еле отскочить успел, а то рядом бы лежал… Да не смотри ты на него... – Он с силой развернул Ирину спиной к мужчине на асфальте. – Теперь придётся ждать милицию. День насмарку и мужика жалко… Пошли… Но Ирка никак не могла оторвать взгляд от мужчины на асфальте. Она всё время оглядывалась, пока Олег тащил её за угол офисного центра. Что-то в этом лице показалось ей знакомым. – Я знаю его… – пробормотала она. – Видела раньше. Олег пожал плечами. – Город у нас не такой уж большой, здесь все друг друга приблизительно знают. По-крайней мере видели хоть раз в жизни. Ты чего так побледнела, Ириша? Ирка ничего не ответила, замотала головой. Олег обеспокоенно заглядывал ей в лицо: – Может, такси вызвать? – Нет, – Ирка снова мотнула головой. – Мне в институт… – Сама дойдёшь? Она кивнула, развернулась и торопливо пошла по аллейке. А перед глазами стояло лицо незнакомца, мужчины лет сорока в довольно потасканной одёжке: не бомж, но как-то уже не далеко от этого состояния, небритый, светлые волосы. Он был мёртв, в этом не было сомнений. Она только понять не могла, почему это её так обеспокоило. До вечера Ирка просидела в институте и когда все, даже дополнительные, занятия окончились, с неохотой вышла на улицу. Олег звонил раз пять, беспокоился, оправдывался, что не сможет сегодня с ней увидеться. Ирина совершенно по этому поводу не расстроилась, наоборот, теперь ей казалось, что он такой заботливый не потому, что так ему хочется, а потому, что он боится её очередных истерик. Ирка позвонила маме, соврала, что ещё на занятиях, и пошла бродить по городу. На улице совсем уже стемнело, и город в апельсиновом свете фонарей был на диво хорош. Иногда к ногам плавно слетали лёгкие, почти прозрачные листья. Ирка накурилась до тошноты или наоборот – от тошноты в душе так укурилась. Проходя парком, она присела на скамейку, ноги уже гудели от такой длительной прогулки. Она сняла туфли и поставила на них босые ноги. Рядом присела незнакомая тётка. Ирка покосилась на неё с неодобрением. Она терпеть не могла, когда незнакомые люди подсаживаются к тебе на скамейку, тем более, что пустых рядом полно. Поэтому демонстративно повернулась к тётке спиной. – На хлебушек не подашь, красавица… Ирка поморщилась недовольно и оглянулась. Ах, вот оно что! Ещё и цыганка, и к тому же беременная… – Подай, красавица, тебе стократ воздастся, – цыганка улыбалась. Ирка только сейчас заметила, что рядом с ней на скамейку присел курчавый мальчик в растянутом свитерке, чумазый, как все цыганские детки. – Подай, ребёнку булку не на что купить… Ирка поджала губы и молча стала обуваться. Терпеть не могла она такие ситуации. Ребёнок, вроде бы нужно подать, а с другой стороны она панически боялась этого так называемого цыганского гипноза, под которым якобы они могут обобрать до нитки и ты всё сам по доброй воле им и отдашь. – Да ладно, не торопись, – засмеялась цыганка, обнажив неожиданно белые ровные зубы. – Не хочешь подавать – не надо. Ноги-то устали. Посиди, отдохни. Чего убегаешь, не съем, ведь. Я сама так за день убегалась, посидеть хочется… Ирке стало совсем неловко. Вставать она не стала, но туфли всё-таки обула. – Вечер хороший, – сказала цыганка, откинувшись на спинку скамейки. – Сигареткой угостишь? – Не курю… – выпалила она. – Врёшь зачем? – цыганка снова засмеялась. – Курить-то не куришь, так балуешься. А сигаретки-то есть… Ирка сжала зубы и полезла в сумочку за сигаретами. Не глядя, протянула цыганке пачку. Та взяла две сигареты. Одну раскурила, другую спрятала где-то в необъятных своих юбках. – А ты со мной? – сказал она затягиваясь. – Да нет, – Ирка встала. – Мне уже идти пора. Приятного вам вечера… – А у тебя какой вечер будет? – лукаво спросила цыганка. – Будешь сидеть гадать или в полушку рыдать? Девушка остановилась и впервые прямо посмотрела на цыганку. – О чём гадать? – медленно спросила она. – Идти под венец или нет? Тот ли жених, что надо? – Это вы всем молодым девушкам говорите, да? – резко оборвала её Ирка. – Нет, – цыганка затянулась сигаретой и с выражением блаженства на лице выпустила облачко дыма в темноту. – Только тем говорю, кому замуж через две недели выходить. И платье, готово и кольца куплены. Только что-то мучит, сердце гложет… – Это вы так случайно попали, да? – Ира сама не поняла, спрашивает она или утверждает. – Как знаешь, так и думай… – ответила цыганка. Ирка вернулась к скамейке и села, сознательно понимая, что сейчас попадётся во всем известную цыганскую ловушку, всё же спросила: – А что ещё вы обо мне видите? – А что вижу? – цыганка вскользь взглянула на Иркино лицо. – Вижу, что замуж боишься идти. Всё гадаешь, тот ли это человек… – И что? – нетерпеливо перебила Ирка цыганку. – Что? Тот? Цыганка пожала плечами. – А мне почём знать? – Ну, вы же цыганка! Та рассмеялась так громко, что Ирина вздрогнула, и редкие прохожие стали на них оглядываться. – Так что, что цыганка? – наконец заговорила она. – От твоего решения всё зависит. Ты сама решить должна. Своего ты мужа хочешь или мужа матери… – Это ещё что значит? – растерялась Ирка. – А то, что ты ведь всё по матери жизнь строишь, а ведь судьба у каждого своя… Ира сразу угасла. – Всё понятно, – сказала она, поднимаясь. – Значит, случайно попали. – Куда? – не поняла цыганка. – В начале, с предсказаньями. – Так ведь прошлое видно, а будущее пишется. – Врёте вы всё. – Нет, не вру! – цыганка даже вскочила от возмущения и столкнула дремавшего на её коленях мальчика. Ребёнок заплакал. – Всё про тебя сказать могу, да только говорить нечего. Пустая ты, ветер в голове, по чужой жизни свою меришь, а ведь в чужой жизни всего-то не видно. Чужая жизнь одной стороной на свету, а другой в темноте. Что судить о ней можно? – Вот бред какой… всё враньё. – Ира развернулась и скорым шагом двинулась в сторону остановки по пустой аллее. – Не враньё! – завопила в след цыганка. – Никому никогда не врала и тебе правду говорю. Мать тебя в семнадцать лет родила, без отца растила, отец твой мёртв, да не схоронен… Ирка ускорила шаг. – Это уже полный бред. – Сама свою жизнь загубить можешь! – всё ещё кричала цыганка. – Если хочешь правду узнать, через три дня при Луне меня по имени позови, и правда тебе откроется… Ирка почти побежала. Цыганка ещё что-то вслед говорила, но она уже не слышала её слов, заглушаемых плачем ребёнка. Инцидент с цыганкой оказался вполне логичным завершением и без того паршивого дня. Ира маме ничего говорить не стала. С приближением свадьбы дни стали мелькать с молниеносной скоростью. Ира едва успевала между примерками, просмотром работ свадебных фотографов и вариантов свадебных букетов. Напуганный случаем с квартирой Олег теперь ни за что не хотел брать ответственность на себя и изматывал Ирину мельчайшими подробностями свадебных приготовлений. Ира устала. Тем более что теперь она невольно всё время придиралась к Олегу. Ей казалось, что отношения окончательно так и не наладились, что он всё ещё дуется и недоволен ею. Словно что-то сломалось в их отношениях, и все это видят: и его мать, и он сам. Мама убеждала Иру в обратном, но не помогало. Она то и дело замечала, как в процессе разговора Олег странно переглядывается со своей матерью, когда Ира высказывает своё мнение. То он как-то странно вздыхает, то отвлекается каждые пять минут на молчащий телефон, словно ищет повода не встречаться с ней взглядом, то шмыгает носом, словно сдерживает смех, когда она о чём-то говорит. – У тебя паранойя, – мама сокрушённо покачала головой. – Предсвадебная истерика. – Он меня больше не любит, – без тени сомнения сказала Ирина. – Это конец. Мама засмеялась и похлопала дочку по плечу. – Нет, малыш, это только начало. – Она весело посмотрела на Ирку. – Глупенькая. Ты даже не понимаешь, как это здорово, что у тебя будет такая шикарная свадьба. Сосредоточься лучше на этом. Белое платье, музыка… – Мама мечтательно закрыла глаза. – Вот у нас с отцом была роспись и тортик в общежитии – всё торжество. – Главное не торжество, – пробормотала угрюмо Ирка. – Главное – это жизнь потом. А у нас, похоже, потом, как раз ничего и не будет… – Этого ты не знаешь. Ира покачала головой. – Всё будет хорошо, – мама обняла дочку и поцеловала в макушку. – Всё получится. Просто не жди, что твой муж будет идеальным. Люби его со всеми недостатками, не замечай их, цени достоинства. Идеальных людей не бывает. – Папа был идеальным… Мама снова поцеловала Ирку в макушку. – Для меня – да. Ладно. Спать иди, страдалица. Поздно уже. Ирка встала и направилась к двери. Было действительно поздно, без четверти двенадцать. У входа она остановилась и посмотрела на мать. – Мам, а когда ты выходила замуж, ты была уверена, что поступаешь правильно? Мама посмотрела на Ирку, и в её фарфоровых кукольных глазах было совсем не то выражение, которое она рассчитывала увидеть. Мама смотрела задумчиво и как-то встревоженно, что ли. Но всего на мгновенье. – Да, я была уверена, – твёрдо сказала она. – И ты тоже будь! Ирка ушла к себе в смятенье. Ничто не давало ей покоя. И мысль о том, что в этой комнате ей жить совсем не долго, и что их тесный мирок с мамой навсегда разрушится и… Масса разнообразных и… Ирка села на кровать и сжала голову руками. Внезапно она услышала тихий знакомый шорох – дождь! Всё-таки удивительный сентябрь дал трещину. Ирина распахнула дверь и вышла на балкон – мелкий сентябрьский дождик шуршал по опавшей листве. В беседке во дворе негромко разговаривала молодёжь. Ирка узнала девочку Риту – соседку с первого этажа. Она что-то эмоционально высказывала двум ребятам. Ира видела их, но о чём идёт речь не слышала. Ритка совсем ещё маленькая, лет четырнадцать. Поздно гуляет. Ира уже подумала, не позвонить ли Риткиной матери, как вдруг один из парней размахнулся и ударил девочку по лицу. Та вскрикнула. Второй парнишка бросился на защиту, но тот быстро дал ему в челюсть, парень отлетел в сторону и упал. Ритка закричала, а ударивший схватил её за руку и поволок в тёмную глубину двора. Ирка бросилась к краю балкона, в панике, не зная, что делать, она перевесилась через перила и заорала на весь двор: – Рита! Маргарита, марш домой немедленно! Она увидела, как они остановились в тени деревьев, всего на мгновенье. Потом Ритка откликнулась: – Иду! И после минутной возни возникла в одиночестве на освещённом пятачке двора. У Ирки отлегло от сердца, она наклонилась ниже, чтобы что-то сказать Рите, что она о ней думает, как вдруг ощутила толчок в спину и, не успев сообразить, что произошло, кубарем полетела вниз. Лицо касалось мокрой травы, а по спине нещадно полосовал проливной дождь. Ирка лежала плашмя на мокрой холодной траве. Что произошло, она помнила отчётливо. Она упала. Упала со второго этажа, а значит резко вставать не стоит, даже если сейчас ничего не болит – это ничего не значит. Заболит позже. Ирина осторожно пошевелила пальцами, потом руками, медленно приподнялась и встала на четвереньки. Боли не было. Странно. Девушка села на мокрую траву. Выходит, совсем никаких травм после такого падения. Шок проходил, быстро сменяясь радостью. Ира встала на ноги и, обхватив голые локти, хотела бегом бежать к подъезду, как вдруг остановилась, как вкопанная – её дома не было. И вообще самого двора не было. Она стояла посреди абсолютно незнакомой улицы, вокруг был частный сектор, в основном одноэтажные дома, огороженные разномастными заборчиками. Улицу слабо освещали тусклые фонари, в их бледном свете Ирка видела тонкие, стремительные струйки осеннего дождя. Она тряхнула головой и снова осмотрелась. Может, это галлюцинация? От удара головой. Но улица не исчезла. Дождь продолжал лить, и Ира почувствовала, что её домашний костюмчик уже насквозь пропитался водой и лёгкие порывы ветерка продувают до костей. – Что за бред… – прошептала Ирка. Ужас холодной волной, пульсируя, подкатывал к горлу. – Нужно где-то спрятаться от дождя… – вслух произнесла она, собственный голос показался ей чужим. Она прошла несколько шагов в сторону ближайшего дома и заглянула через забор. В доме горел свет, жёлтые квадраты окон лежали на мокрой земле, освещая небольшие лужицы. Ирка переступила с ноги на ногу и только сейчас заметила, что стоит она босиком и ноги её уже задеревенели от холода. Девушка тупо смотрела на горящие окна не в состоянии осознать, что же произошло, и, что более важно, не понимая, что делать дальше. Но что-то делать было необходимо. Стоять так дальше было уже невозможно. Ирка так замёрзла, что её начала бить мелкая дрожь. Она сделала несколько шагов вдоль изгороди и дошла до калитки. Ирина хотела постучать, но калитка оказалась не запертой, с тихим скрипом она отворилась, и девушка, не раздумывая, вошла во двор. Сперва она хотела пойти к дому, но остановилась. Нет, она решительно не была готова к встрече с людьми, она не знала, что скажет и, вообще, как объяснит своё появление здесь. Оглядевшись по сторонам, девушка заметила небольшое строение, то ли сарайчик, то ли летнюю кухню. Она направилась туда. Хозяева этого двора воров явно не боялись, или им просто прятать было нечего, потому как дверь сарайчика тоже оказалась не запертой. Ирка вошла вовнутрь. Здесь было тепло и пахло плесенью. Видимо, стены здания ещё хранили тепло дневного нежаркого осеннего солнца. Ирка прикрыла за собой дверь, но слабый свет фонарей с улицы освещал помещение через маленькое окошко. Здесь хранили разную утварь, рыбацкие снасти. С трудом разбирая что где, Ирка отыскала, что-то наподобие плащ-палатки и ещё какое-то барахло, вроде рабочих фуфаек или старых одеял. Ирка, взгромоздив всё это на пол, зарылась в него с головой. Согреться в мокрой одежде не удавалось, но, по крайней мере, сверху не лил дождь и стены защищали от ветра. Ирка лежала без единой мысли в голове, происходящее с ней не поддавалось никакому логическому анализу и это мучило невероятно. Но сделать ничего она не могла всё равно. С единственным желанием поскорей проснуться Ирка уснула. Проснулась Ирка от того, что её трясли за плечо. Прежде, чем открыть глаза, она вдохнула воздух и ощутила мерзкий запах грязного тряпья. Чудовищная картины прошедшего вечера возникла в сознании и, боясь увидеть повторение чудовищной реальности, Ирка ещё сильнее зажмурилась… – Эй, проснись, ты кто? – это, видимо, говорил тот, кто тряс её за плечо. Ира открыла глаза. Светловолосый парень с курносым веснушчатым носом озадаченно смотрел на неё. – С добрым утром, – сказал он, встретившись с ней взглядом, и слегка улыбнулся. – И как это понимать? Ирка села, откопавшись из кучи барахла. – Ты кто? – снова повторил парень. – Откуда здесь взялась? Ты вообще говорить можешь? – Могу, – хрипло сказала она и закашлялась. Резко заболела голова. Ирка поморщилась и сжала виски руками. – Ты как тут оказалась? – парень присел на корточки и заглянул в глаза. Ирка пожала плечами. – Я не знаю. Не помню… Парень вздохнул и поднялся. – Так, ну-ка, давай поднимайся, – он взял Ирку за локти и с усилием поднял. – Пойдём со мной. Он вывел её на порог сарайчика и тут обнаружил, что она босая. Секунду раздумывая, смотрел то на лужи, то на её босые ноги со свежим педикюром, потом слегка присел и, приподняв девушку, пронёс её то небольшое расстояние, отделяющее сарайчик от входа в дом. В доме было тепло. Это первое, что почувствовала Ирка. Парень провёл её через небольшую прихожую и завёл на кухню. Здесь возле стола стояла пожилая женщина и накрывала стол, видимо, к завтраку. Увидев паренька с Иркой под мышкой, она уронила на стол чайную ложку. – Кирюша, кто это? Парень плюхнул Ирку на стул у входа и пожал плечами. – Понятия не имею, бабуль. Я в сарай за удочками зашёл, а там она… вроде на бомжу не похожа. Бабушка подошла поближе и склонилась к Ирке. Она сразу охватила взглядом и ухоженные руки с красными лакированными ноготками, и чистенький домашний костюмчик. – Ты откуда, деточка? Ирка подняла на неё взгляд, но в глазах у неё двоилось, и по-прежнему было холодно; её начало трясти. Старушка приложила её руку ко лбу. – Да у неё жар, батюшки! Вся одежда мокрая, вот бедный ребёнок. Что же с ней случилось? Ну-ка, деточка, вставай. Кирюша подними её. Парень поднял Ирину со стула и потащил куда-то вглубь дома. Последнее, что более-менее отчётливо слышала девушка, это как бабушка просила паренька вызвать скорую. Всё, что было дальше, Ирка помнила какими-то болезненными отрывками. Её всё время чем-то поили и растирали. Иногда её тошнило, иногда в темноте прорисовывалось лицо паренька, он говорил что-то и улыбался. Потом Ирка снова проваливалась в какую-то огненную темноту. Ей было жарко, всё время, безумно жарко. Порой она пыталась вспомнить ощущение холода, как она мёрзла в холодном сарае, но ей это не удавалось. Когда жаропонижающее действовало. Ирке становилось очень хорошо и уютно, и в такие моменты она засыпала мягкой приятной дремотой, а не проваливалась в тёмную духоту. Закончилось всё однажды утром, когда Ирка открыла глаза и почувствовала, что изображение уже не расплывается. Она хотела сесть, но это не получилось – всё тело было ватным и слегка дрожало. Поэтому Ирка слегка приподнялась на подушках. На ней была надета ситцевая ночная рубашка с длинным рукавом, чужая, естественно. Ирка попыталась сгрести в кучу свои непослушные волосы, которые лезли в глаза и щекотали по влажной шее, но пальцы её не очень слушались. Комната, в которой она оказалась, была похожа на дом в деревне у её прабабушки. То есть бабушки мамы. Побеленные стены, коврик с цветами на стенке, на окошке пару цветочных горшков и ситцевые занавески. Всё очень мило и простенько. Где-то затрещал телефон. Ирка услышала мужской голос, но что он говорит – разобрать не смогла. Ирка снова попыталась сесть, теперь приложив побольше усилий, ей это всё-таки удалось. Комната покачнулась и снова встала на место. Белая покрашенная дверь отворилась и на пороге появился уже знакомый светловолосый парень. Теперь Ирка рассмотрела его получше: на вид ему было лет семнадцать-восемнадцать, не больше. Довольно высокий, неплохо сложён, с весёлыми зелёными глазами и приятной улыбкой. – Ну, с добрым утром, спящая красавица, – бодро сказал он, проходя в комнату. – Что, даже поцелуй прекрасного принца не понадобился, чтобы тебя разбудить? Ирка улыбнулась. – Доброе утро, – тихо ответила Ирка. – Ничего себе, ты умеешь говорить! – парень подтянул к кровати стул и сел. – А имя у тебя есть? – Ирина. – Очень приятно, – парень взял в руку бледную Иркину ладонь и слегка её пожал. – А я Кирилл Сипаков. А у тебя фамилия имеется? Ирка пожала плечами. – Некрасова. Парень поднял брови, видимо хотел что-то сказать, но в комнату вошла бабушка и выгнала его прочь из комнаты. – Дай ей в себя придти, бедняжке, пристал с расспросами… Но с расспросами пристал не только он. Следующим был участковый. Но Ирка твёрдо решила симулировать амнезию, так как это был единственный верный способ узнать, что же с ней на самом деле произошло. Участковый мучил её не долго: так как на рецидивистку она была не похожа, решено было оставить её здесь. Бабулька запретила забирать «бедного ребёнка». – Пусть у нас побудет. Нам с Кирюшей она не помешает. Пока её родители отыщутся. Так Ирка осталась в доме Марии Федоровны и её внука Кирилла. Об этой семье она всё выяснила очень просто – бабулька любила поболтать. Вскоре Ира узнала, что Кирилл сирота, учится в одиннадцатом классе, выпускник. Родители его погибли, ещё когда он маленьким был. – Это у нас прямо крест какой-то, – жаловалась Мария Фёдоровна. – Моего отца поезд сбил, сын с невесткой на машине разбились, вот мне Кирюшу оставили… Через два дня после своего чудесного пробуждения Ирка смогла встать. Она добралась до письменного стола Кирилла и, взглянув на тетради парня, выяснила, что город, в котором она находится, есть её родной город. В тот же день, когда бабулька ушла по делам, Ира доползла до телефона, попыталась позвонить матери на мобильный, но дозвониться не получалось, просто не происходило соединение. Она от отчаяния стала набирать номера всех знакомых, но ничего не выходило. Тогда девушка набрала городской номер квартиры Олега, там, где он живёт с родителями. И к огромной Иркиной радости в трубке послышались гудки. Потом женский голос, в котором она совершенно отчётливо узнала маму Олега, сказал: «Алло». – Здравствуйте, Светлана Михайловна, – скороговоркой выпалила Ирина. – Олега, позовите, пожалуйста. – А кто его спрашивает? – как-то очень уж официально спросила Светлана Михайловна. Ирка поджала губы, ну надо же, делает вид, что не узнает её. Видно до сих пор за квартиру дуется. – Это Ира, – сухо произнесла она. Послышалась какая-то возня, и внезапно резвый детский голос пропищал в трубку старательное: «Аллё!» Ирка вздрогнула. – Кто это? – пробормотала она растерянно. – Это Олег, – тот же звонкий голосок. – А ты кто? – Какой Олег? – Ирина задрожала. – Мне Минаков Олег нужен… – Я и есть Минаков Олег Сергеевич, – отозвался детский голосок. – А ты кто? Перепёлкина Ирка, это ты дурачишься? Ирина в панике швырнула трубку и только сейчас обратила внимание на то, что телефон, стоявший на тумбочке, был дисковым. Придерживаясь руками за ту же тумбочку, девушка, как в первый раз, подробно оглядела гостиную: в углу стоял ламповый телевизор «Берёзка», лакированная стенка, сервант со стёклами и секретер. В углу запылённое пианино. Входная дверь громко хлопнула, и Ирка подпрыгнула от неожиданности так, словно её поймали за каким-то преступлением. В комнату вошла Мария Фёдоровна. – Ты чего, милая, встала, бледная-то какая, господи… Ляг, Ирочка, в постель, нельзя тебе ещё подниматься… – Год… – прохрипела Ирка, с трудом ворочая языком. – Год сейчас какой? Бабулька взглянула на неё с нескрываемым испугом. – Тысяча девятьсот девяносто четвёртый. Десятое сентября… – проговорила она таким тоном, каким обращаются к сумасшедшими. Бабулька с тревогой смотрела на Ирку, та покачнулась и медленно побрела к своей кровати. В машины времени, порталы и прочую чушь Ирина никогда не верила. Фантастику не любила, не читала и фильмы эти бредовые не смотрела никогда. Считала напрасной тратой времени. Да и не увлекали её все эти дурацкие сказки для взрослых людей. Нелепое пустое занятие. Поэтому сейчас, лёжа на кровати десятого сентября тысяча девятьсот девяносто четвёртого года, а ведь она родилась в девяносто пятом! Она усиленно пыталась объяснить происходящее логически, так, как она привыкла объяснять любые события в жизни. Но ничего не выходило, фантастическим же видением ситуации Ирка не обладала, отсутствовал опыт. Старушка пару раз заглядывала к ней в комнату, потом пару раз сюда же заглядывал и Кирилл. Ирка делала вид, что спит. Она не хотела ни с кем говорить. Хотелось подумать. Но чем дольше думала, тем явственней ощущала, как растекается крыша. Прошло ещё три дня, и Ирка стала уже уверенно бродить по дому, к ней вернулся аппетит, и она довольно много общалась с Кириллом, который оказался весёлым и разговорчивым малым. – Тебе сколько лет? Ты помнишь? – спрашивал он. – На вид вроде мы ровесники. – Да как-то так и есть, – улыбнулась Ирка. – А что? Кирилл пожал плечами: – Ну, как что? В школу тебе нужно ходить, а то амнезия амнезией, потом всё вспомнишь, а год учебный пропустишь. Придётся всё заново нагонять. А хочешь, бабулька моя тебя в два счёта в школу устроит к нам. Она же раньше там директором была, у неё в этой сфере, знаешь, какие связи! Ирка задумалась. – Да как она устроит? – произнесла она медленно. – У меня же документов нет. – Ну и что! – Видно было, что Кирилл очень загорелся этой своей идеей. – Нет и не надо. Фамилию, имя помнишь и хорошо. А то я слышал, как бабушка с участковым разговаривала вчера. Он говорит: в интернат тебя нужно. Не годится, что ты вот так, неизвестно у кого живёшь. Кто знает, сколько времени твою семью искать будут. Ирка ещё не решила, что ответить, как вдруг раздался звонок в дверь, потом хлопнула входная дверь и Мария Фёдоровна громко оповестила: – Кирилл, к тебе Наташа. – Пусть сюда идёт… Он ещё не договорил, а в дверях уже появилась девушка. Высокая, с длинной шеей, в очень коротком форменном платье. Через плечо у неё висела объёмная школьная сумка, девушка теребила рукой кончик тяжёлой чёрной косы. – Привет, – удивлённо произнесла она. Девушка явно не ожидала увидеть здесь кого-то кроме Кирилла. – У вас гости?! Она улыбнулась пухленькими губками и с нескрываемым любопытством уставилась на Ирину большими ярко-синими кукольными глазами из-под волнистой чёлки. Ирка явственно ощутила удар по голове. Казалось, что всё вокруг как-то приостановилось, словно в замедленных съёмках. Она отчётливо видела это лицо, до боли знакомое, и не могла вместить в себя происходящее. – Мама… – прошептала Ирина. – Что? – девушка подняла тонкую бровь. Ирка замотала головой. – Ничего, это я так… – Это Ира, наша гостья, – задорно проговорил Кирилл, – а это Наташа Гордеева, моя одноклассница. Ирина прекрасно знала, кто это. Она видела это лицо и эту косу на большой фотографии в мамином выпускном альбоме. Наташа несколько секунд оценивающе смотрела на Ирку, на её цветастую ночнушку и ещё немытые кудри. Взгляд её был настолько красноречив, что Ирке стало неуютно. – Мне бы поговорить с тобой, – Наташа перевела взгляд на Кирилла и улыбнулась многозначительно. – Наедине… – прибавила она томным шёпотом. – Я ещё зайду, – бодро сказал Кирилл, поднимаясь. Наташа зацепила его пальцем за воротник рубашки и игриво потащила за собой. Как только они скрылись за дверью, Ирина вскочила с кровати. Она металась по комнате, она не в состоянии была сидеть на месте. Наташа Гордеева – её мать. Коричневое платье со стоечкой воротником и тяжёлая коса на плече. Ира не могла поверить, что только что видела свою семнадцатилетнюю маму. Но, Господи, она же совсем не такой её представляла. По рассказам мамы она была паинькой и отличницей. Ирка всю жизнь страдала, что не дотягивала до уровня правильности собственной матери. Единственным её ляпом была ранняя беременность, но и тут всё было правильно. Она сразу же вышла замуж. Но та девица в платье, которое едва прикрывало попу, никак не походила на образ мамы-паиньки. И эти многозначительные взгляды и томный голос. Стоп! Ира остановилась. – Сейчас сентябрь, – проговорила она самой себе. – Сентябрь тысяча девятьсот девяносто четвёртого года, а я родилась в мае девяносто пятого. Выходит, мама сейчас беременна, или будет беременной со дня на день. Но у неё ведь явный роман с этим Кириллом, а где же тогда мой отец? Или… Ирка не смогла выговорить, что или… Всё было так запутано. Ей нужно было выйти из этого дома и во всём разобраться. Если уж какие-то ненормальные обстоятельства занесли её в прошлое, значит в этом есть какой-то смысл. На следующий день в одежде, раздобытой по небезразличным соседям и друзьям Марии Фёдоровны, Ира отправилась в школу. В классе к новенькой большого интереса никто не проявлял. Мальчишки поглядывали с любопытством, а девчонки пренебрежительно и свысока. В классе ребят было немного, человек двадцать от силы. Кирилл сразу застолбил место рядом с Ириной, и она, к своему удивлению, смешанного с паникой, поймала на себе ненавидящий взгляд собственной мамы. Это было правда жутко до маразма, ведь мама внешне так мало изменилась, вот отрезать бы ей косу, и она станет такой, какой в течение всей Иркиной жизни жалела и оберегала, была самой лучшей мамой на свете. А сейчас Ирка ощущала, что ещё секунда и она ей в волосы вцепится. – Она то ли шизонутая, то ли амнезийная, – шептала Наташа на ухо своей соседке так тихо, что было слышно даже на последней парте. – А может, прикидывается, а на самом деле воровка какаято… – Гордеева! – учительница гневно посмотрела в сторону шушукающихся девочек. – Во-первых, прекратите разговаривать во время урока, а во-вторых, как не стыдно нести такую чушь? Наташа встала, во всю высоту своих прекрасных ног, которыми всю жизнь восхищалась Ирина и, взглянув сперва на учительницу, а потом и на Ирку таким уничтожающим взглядом, который Ирка и представить-то не могла от таких кукольных глаз, звонко сказала: – Я, Вероника Петровна, правду сказала, а за то, что на уроке разговаривала, извините. Я могу то же самое на перемене вслух повторить для тех, кто не расслышал… – и снова уничтожающенасмешливый взгляд. – Стерва она редкая, – Кирилл шагал рядом, подфутболивая ногой собственную сумку. – Красивая и стервозная. У нас все пацаны от неё шугаются, только дурак Некрасов сохнет по ней. Он отличник, она им вертит, как хочет. Он за неё все контрольные пишет. Хочет красавица на чужом горбу в рай въехать. – Некрасов?.. – переспросила Ирка. – Ну да, твой однофамилец, Серёга Некрасов. Его сегодня не было. На золотую медаль тянет. – А ты, – Ирка замялась, не зная, как спросить. – Ты встречаешься с этой… Гордеевой? – Я? – Кирилл усмехнулся. – С чего ты взяла? Ирка пожала плечами: – Показалось… Кирилл остановился и с улыбкой посмотрел на Иру. – Я абсолютно свободен, а вот ты – неизвестно, да? – он заглядывал в глаза. – Или ты что-нибудь уже вспомнила? Ирка улыбнулась и пожала плечами. Всё это было так необычно. Кирилл забрал у неё сумку и осторожно взял её за руку. Ирка не стала вырываться, зачем? Что, если ей суждено остаться в этом мире навсегда, взрослеть одновременно со своей матерью и увидеть собственное рождение? Она тряхнула головой, прогоняя нахлынувшие мысли. Нужно думать о каких-то реальных вещах, например о том, чтобы увидеть своего отца. Ирке очень хотелось его увидеть. Но целую неделю он не появлялся в школе, и поэтому красавица Наташа Гордеева написала на двойку контрольную по физике. Она очень сильно разозлилась и не нашла ничего разумнее, чем выместить свою злобу на новенькой, то есть на Ирине. На переменке она в открытую насмехалась над её формой с чужого плеча и девчонки, собравшиеся вокруг, противно хихикали. – Ну надо же, какая премерзкая! – злилась Ирина по дороге домой. – Я-то думала, она из-за тебя на меня взъелась, но если ты ей ни к чему, чего тогда? Кирилл пожал плечами. – Забудь. Она просто такая и есть – королева красоты. Видит в тебе реальную угрозу своему титулу. – Во мне? – совершенно искренне изумилась Ирка. – Ты издеваешься? Ирина своей матери в конкурентки не годилась, даже когда той уже за тридцать было, а уж в семнадцать и подавно. – Я серьёзно, – без тени насмешки произнёс Кирилл. – Ты красивая, и она это видит и злится. Так что наплюй. Ирка бы и наплевала, если бы речь шла о реальной однокласснице. Но видеть свою мать отпетой стервой было невыносимо тяжко. И хоть она пыталась убедить сама себя в том, что с возрастом люди меняются и о таком своём прошлом, естественно, ни одна мать дочери не расскажет, но неприятный осадок не давал покоя. И, как оказалось, на этом тяготы не заканчивались. Следующим утром, а была это суббота, Кирилл спозаранку ушёл на рыбалку, а его бабушка ещё с вечера на рынок собиралась. Ирка осталась в доме одна. Хорошенько выспавшись, она с неохотой выбралась из постели. На улице светило солнышко, но на жухлой траве лежала изморозь, и воздух даже на вид казался бодрящим и зябким. Ирка поёжилась, натягивая поверх пижамы курточку. Удобств в доме не было, нужно было идти во двор. Сунув босые ноги в туфли, она открыла дверь, и холодный воздух обдал её всё с головы до пят, такую тёплую и прогретую со сна. Ирка поёжилась и пошла за угол дома, где располагался туалет. Возвращалась обратно в припрыжку, хотелось побыстрее вернуться в тёплую постель. Девушка уже добегала до дверей, как вдруг её кто-то окликнул: – Эй, ты, а ну стой! Ирка оглянулась. Такое странно обращение не сулило ничего хорошего. От калитки к ней быстро приближалась незнакомая девушка. Светлые волосы стянуты в узел на затылке и бледное, довольно грубое лицо с широким ртом, крупными губами. На Ирину она смотрела с нескрываемой злобой. Та невольно попятилась. – В чём дело? – растерянно спросила Ирка, но девушка была настроена очень решительно. – Ах, ты дрянь! – она вцепилась руками в воротник Иркиной куртки и со всего мазу грохнула её спиной о стену. – Стерва, ты! Ты вообще откуда тут взялась? Ирка упёрлась руками девице в грудь в тщетной попытке отодрать её от себя. – В чём дело? – фальцетом взвизгнула Ирка. Ей ещё ни разу в жизни не приходилось ни с кем драться. Даже в детстве. – Ты кто такая?! – заорала она. – Что тебе надо?! – Что мне надо? – девица размахнулась и засадила Ирке в нос. Острая пронзительная боль пронзила голову и на мгновенье ослепила. Ирка вскрикнула и закрыла лицо руками. Сквозь пальцы побежала кровь, но это не остановило нападающую, напротив, вид крови словно распалил её ещё сильнее. Она схватила Ирку за волосы и толкнула так, что та упала на колени. – Чтоб я тебя рядом с ним не видела, слышишь? – сквозь зубы процедила она. – Иначе прикончу, тварь… – Эй, девчонки вы чего? – издали услышала Ирка мужской голос. И рука, сжимающая её голову исчезла. Ирка плюхнулась на землю и с трудом открыла глаза, которые сильно слезились. – Пошёл вон, Некрасов! – взвизгнула девица. Ирка видела, как она оттолкнула с дорожки высокого худощавого паренька в коричневой куртке и скорым шагом направилась к выходу. – Я тебя предупредила, курица! – крикнула она от калитки и ушла. – Ты как? – Парень в коричневой курточке, осторожно взял Ирку под плечи и поднял её с земли. – Сильно она тебя… Ира проморгалась, чтобы навести резкость, протёрла ладонью глаза, но сделала ещё хуже – размазала по лицу и кровь и слёзы. – Нос то хоть цел? – спросил парень. – Не знаю… – пробормотала Ирка. – Пошли в дом, умоешься… – и видя, что Ирка слегка колеблется, парень улыбнулся. – Я Сергей Некрасов, одноклассник Кирилла. Живу неподалёку. Вот хотел домашнее задание взять за неделю… ты чего? Плохо? Ирка молчала. Она стояла, как вкопанная, позабыв и про боль, и про холод, и во все глаза смотрела на этого худощавого, высокого мальчишку, нескладного, с курчавыми барашками тёмных волос на голове и добрым взглядом зелёных глаз. Она смотрела на своего семнадцатилетнего отца, папу, которого видела только на фотографиях, а сейчас он стоял радом, живой и невредимый и сочувственно и слегка тревожно смотрел на неё. – Ты чего? – снова повторил он растерянно, глядя, как наполняются её глаза слезами. – Больно? Ирка словно очнулась. – Да, немного… – проговорила она, отводя глаза. – Пошли в дом. Я умоюсь и задание тебя дам. Я теперь тоже в вашем классе учусь. Нос распух, но сломленным не был, хотя и красоты не добавлял. Ира сидела на диване с мокрым полотенцем на переносице, а Серёжа Некрасов переписывал домашнее задание из её дневника. Ирка смотрела на него и никак не могла понять, как и что могло свести вместе этих двух людей: её стервозную красавицу – маму и этого нескладного заучку – папашу. И вдруг в голове её мелькнула совершенно безумная мысль, а что если взять ему и сказать, чтобы он десятого марта двухтысячного года не садился в случайное такси по дороге от аэропорта, а лучше дождался автобуса. И возможно, тогда он останется жив, и она не будет расти без отца, и мама не будет плакать над фотографиями, и всё в их в жизни будет по другому, пусть маме даже придётся всю жизнь пить кофе со сливками. Но зато он будет жив. – Ну, что, легчает? Сергей смотрел на Ирку с сочувствием. – А что это за девчонка была? Ты знаешь её? – спросила Ира, чтобы отвлечься от нахлынувших мыслей. – Да знаю, конечно, – Сергей пожал плечами. – Это Пушкарёва Ирина. – А чего она на меня накинулась? Я вообще с ней не знакома… Сергей закрыл дневник и стал запихивать его в карман куртки. Было очевидно, что говорить ему об этом неловко. – Ну… они с Кириллом вроде как встречались… Она в нашем классе до девятого училась, потом пошла в медучилище, а с Кирюхой у них в прошлом году завертелось… – Так, а я причём? – не поняла Ирина. – Не знаю, – Сергей встал и направился к выходу. – Ты у Кирилла лучше спроси. Давай, до встречи. Кирилл очень неохотно, но всё же пролил свет на происходящее. С Пушкарёвой он встречался, но вот решил порвать, а она навязывается, и видимо приревновала его к Ирке. Ситуация вроде бы понятная. Одно не ясно, почему девушка так отчаянно отстаивала свои права на Кирилла, и почему он так прятал глаза, рассказывая об этом. Размышления о личной жизни Кирилла Сипакова были прерваны на первой же перемене Наташей Гордеевой, которую Ирка уже начинала тихо ненавидеть. – Что с рожей у тебя, Некрасова? – провозгласила она на весь класс. – Это ж кто тебя так разукрасил? Ты теперь Некрасова-разукрасова! Ирка вскочила. Впервые за девятнадцать лет своей жизни, глядя в голубые глаза своей матери, она испытывала не тишину, покой и умиротворение, а раздражение, граничащее с яростью. – Что с тобой не так, Гордеева? – процедила она сквозь зубы. – Чего ты всё время цепляешься ко мне? – Не знаю, – презрительная усмешка искривила красивые её губки. – Может, ты просто мне не нравишься. Ирка не нашлась, что ответить. Она развернулась и молча вышла из класса. Ей, в конце концов, и так хватало проблем, ещё не доставала подраться с собственной матерью. Тем более, что из таких дурацких конфликтных ситуаций с честью Ирка никогда выходить не умела. – Что ж ты мамочка опытом не поделилась? – со злостью бормотала она себе под нос. – Я думала, ты у меня вообще пацифистка, белая и пушистая. Что ж ты меня такой мягкотелой вырастила, такой потенциал зря загубила?! Ирка вышла из школы и не знала, куда ей податься. Возвращаться домой не хотелось. Придётся объясняться с Марией Фёдоровной, почему пришла раньше и без Кирилла… Поэтому решила просто пройтись по городу. Ирка вышла из школьных ворот, как вдруг заметила неподалёку в тени золотой ивы Кирилла и рядом с ним ту самую Пушкарёву в оранжевой куртке, которая её так живописно разукрасила. Ирка затаилась за кустом и так на полусогнутых, пригибаясь, двинулась поближе к парочке. Но говорили они тихо, и Ирка всё равно не расслышала, о чём шла речь. Видно было, что девушка плачет, вытирает глаза и что-то усиленно выговаривает Кириллу. Кирилл переступал с ноги на ногу, порываясь уже несколько раз уйти. Наконец, когда в очередной раз она пыталась задержать его за руку, он грубо оттолкнул её руки и крикнул: – Да отвали ты, честное слово. Всё уже сто раз оговорено. Деньги я тебе достал, теперь сама решай, что делать. Это уже твоя проблема. И не приходи больше, поняла? Он резко развернулся и почти бегом бросился в сторону школы. Девушка стояла, стиснув руки, и смотрела ему в след. Потом она ушла, и Ирка, переполненная любопытства, отправилась следом за ней. Идти пришлось не долго. Здание местного роддома Ирка знала прекрасно. В нём её родила мама, и всегда проходя мимо, показывала окошко своей палаты. И сейчас эта девчонка в оранжевой курточке с пучком светлых волос на затылке сидела на скамейке неподалёку от входа в родильное отделение и рыдала. Плакала она беззвучно, но Ирка видела, как содрогаются её плечи. – Будешь? Девушка подняла заплаканное лицо и с удивлением посмотрела вначале на пачку сигарет, потом на саму Ирку. Встретившись с ней глазами, она вздрогнула и замерла в растерянности. – Бери, полегчает. – Ирка вытащила сигарету из пачки и вложила девчонке в руку, сама полезла в кармашек школьного фартука за зажигалкой. – А если кто увидит?– встревожено спросила Пушкарёва. – И что? – Ирка села рядом на скамейку. – Ты беременная от Кирилла, что ли? – прямо спросила она. Девушка побледнела ещё сильнее. – Откуда ты знаешь? – прошептала она в ужасе. – Это он тебе сказал? Ирка помотала головой. – Ничего он не говорил. Просто и так всё понятно. – Она улыбнулась. – Мой нос, твои слёзы и как результат – роддом. Простая логика. Девушка ничего не ответила. Затянулась неумело и закашлялась. Ирка похлопала её по спине. – А Кирилл-то поддонок оказывается… Ира Пушкарёва резко подняла голову. – Нет, он не такой, – с уверенностью произнесла она. – Он нормальный, хороший даже. Он, когда узнал, сразу сказал, что поженимся после выпускного. Но потом… бесхарактерный он, понимаешь, влиянию поддаётся… – Какому влиянию? – не поняла Ирка. – Да… – Пушкарёва нахмурилась и попыталась снова затянуться. – Эта Гордеева им заинтересовалась вроде бы. Он и раскис. Давно по ней сохнет, класса с пятого. Только подойти не решался. Как же – такая красотка, а тут вдруг снизошла… – А меня тогда за что? – усмехнулась Ирка. – Да под горячую руку попалась, – не глядя на Ирку, сказала девчонка. – Просто живёшь у них. Все говорят, что не родня, так, по случайности оказалась у них. Он с тобой везде ходит, вот я и… – она подняла взгляд. – Ты прости меня, ладно? Ирка только рукой махнула. Несколько минут сидели молча, курили, точнее Ирка курила, а эта всё пыталась и пыталась затянуться. – Так ты всерьез решила?.. – Ирка не решалась сказать слово «аборт», как-то язык не поворачивался. – А что делать? – в голосе девушки звучало отчаяние. – Что делать? Рожать – куда? кому? – Себе… – едва слышно произнесла Ирка. – Детей всегда рожают только себе. Меня мать тоже в семнадцать родила. Отец, правда, был, но не долго… – Сбежал? – Умер. – Ирка взглянула на Иру Пушкарёву – Вот и вышло – рожала для семьи, а получилось для себя. Так что ты не торопись… – прибавила она тише. – Подумай. Это всё-таки ребёнок. Твой ребёнок… Ирка ещё что-то хотела сказать, но не стала. Не глядя на девушку, она встала и ушла. Какое право она имела вмешиваться в чужую жизнь, что-то говорить, подсказывать. Мало ли, сколько девчонок делали и будут делать аборты и в этом времени, и в будущем. Но воспитанная своей матерью с трепетным, почти благоговейным отношением к детям, Ирка так хотела верить, что именно эту девочку ей удалось переубедить. И её ребёнок всё-таки родится. Ирка шла по парку. Домой возвращаться не хотелось: не хотелось видеть Кирилла, так подло поступившего с этой девочкой; не хотелось думать даже о собственной маме, из-за которой, в общемто, и возникла эта дурацкая ситуация. Ирка села на скамейку в парке и закрыла глаза. Лёгкий ветерок подул в лицо, и девушка полной грудью вдохнула сырой, лиственный запах осени. – Подай на хлебушек, красавица… – послышалось совсем рядом. Ирка повернулась так быстро, что даже в шее что-то щелкнуло и болью отдало в плечо. Рядом с ней сидела беременная цыганка. Ирка вскочила: – Вы?! – Что? – спокойно спросила цыганка. – Я у тебя ничего не крала, красавица, чего кричишь? – Это же вы, вы были там в парке. Вы меня сюда отправили… вы несли этот бред, что-то про то, в чём нужно разобраться. Про отца, мать... я не помню ту чушь, но после встречи с вами я оказалась здесь. Цыганка не перебивала. Она смотрела с улыбкой на то, как надрывается Ирина, и по её глазам было видно, что она прекрасно понимает, о чём идёт речь. – Я всё поняла! – догадалась Ирина. – Вас Маргарита зовут, да? Я позвала по имени соседку и ваше колдовство сработало. Верните меня домой! – завопила она. – Немедленно верните меня в моё время! Ирина выбилась из сил и охрипла. Она плюхнулась на скамейку, едва переводя дух. – Сигареткой не угостишь? – как ни в чём не бывало спросила цыганка. Ирка молча протянула ей пачку. Цыганка вытащила две сигареты, одну раскурила, вторую спрятала в своих необъятных юбках. Цыганка курила, и Ирина не задавала вопросов. Она как-то вдруг устала, выдохлась. Не хотелось ни думать, ни говорить. – Я тебя сюда не забрасывала, – первой заговорила цыганка, словно продолжала давно начатую мысль. – Ты сама здесь оказалась. Все мы оказываемся там, где должны быть. Ирка смотрела на цыганку, ожидая продолжения. – У тебя были вопросы – здесь есть ответы. – Я пока никаких ответов не вижу. Какие ответы? – она со злостью посмотрела на цыганку. – Что мать моя – стерва? Что отец – безвольный ботаник? Что? Я ничего не понимаю. Я спокойно жила двадцать лет, уверенная в том, что моя мама – самый замечательный человек на свете, что отец у меня был идеальным мужем и отцом. И я была счастлива. А что теперь? Я не знаю, как вообще на мать теперь смотреть буду?! Цыганка усмехнулась и сокрушённо покачала головой: – Эх, красавица, что тебе сказать? Ты хочешь, чтобы всё было просто и понятно. Но в мире ничего нет простого, всё имеет грани. И эти грани, шероховатости, неровности – и есть жизнь. Пока ты не поймёшь этого – не будет тебе покоя, брильянтовая. – Она взглянула на Ирку и, встретив её непонимающий взгляд, шумно вздохнула. – Сейчас… Цыганка полезла куда-то вглубь своих необъятных юбок и что-то извлекла оттуда и зажала в ладони. – Смотри, – сказала она, раскрывая руку. На ладони у неё лежала монетка. Пять рублей. – Видишь? – загадочным тоном спросила цыганка, заглядывая Ирке в глаза. – Ну, вижу… – тупо глядя на монету, пробормотала она. – И что? – Что видишь? – не унималась цыганка. – Пять рублей вижу, – с нескрываемым раздражением произнесла Ирка. – И что? – А вот что, – миролюбиво продолжала цыганка. – Всё просто. Пять рублей. Ты видишь, и всё тебе понятно. А теперь переверни монетку. Ирка, закипая внутренне, перевернула монетку и вместо ожидаемого герба обнаружила снова так называемую «решку», цифру пять и надпись «Рублей». – И? – девушка подняла взгляд на цыганку. – Фальшивые деньги… Цыганка покачала головой. – Нет, не фальшивые. Необычные. Не надо ожидать, что с обратной стороны будет так, как ты хочешь. Всегда нужно быть готовой к неожиданностям. Тогда не придётся разочаровываться. Держи. Она вложила Ирке монетку в руку. Та хотела возмутиться, но картина, открывшаяся ей в уютных зарослях шиповника, заставила её замолчать. Там, в тени осыпающегося клёна, вовсю целовались Наташа Гордеева и Кирилл. Ирка замерла, поражённая. – Как же так… – пробормотала она. А в голове вихрем неслись мысли. Наверное, вот она в чём – другая сторона. Видимо отец её вовсе не Серёжа Некрасов, а этот блондинчик Кирилл. Ведь недаром она от кого-то унаследовала белокурые волосы. И именно сейчас между её матерью и отцом зарождается роман, который и приведёт к её рождению. А потом, видимо, Кирилл сбежит, а влюблённый Некрасов женится на маме и будет носить ей кофе в постель и катать её, Ирину, чужую ему девочку, на шее. – Другая сторона, – Ирина подкинула монетку на ладони и вдруг вспомнила рыдающую девушку под роддомом. Ведь если сейчас у её матери сложится роман с Кириллом, значит, он однозначно не вернётся к той девушке и она, возможно, сделает «аборт», может не сегодня, может позже… А что, если сейчас, в самом начале этих отношений, взять и рассказать Наталье об этой беременной Ире Пушкарёвой. Она гордая и вряд ли после этого захочет остаться с Кириллом. А он, возможно, вернётся к Пушкарёвой и та родит ребёнка… Ирка решительно зашагала по дорожке к целующейся парочке, окрылённая своей идеей, как вдруг остановилась… Но если у её матери и Кирилла не сложатся отношения, возможно и её самой, уже не будет. Ирка смотрела на целующихся, а мысли, как в истерике, метались в голове, ни за одной не возможно было угнаться. Но внезапно всё утихомирилось и в голове стало тихо и пусто. Она совершенно отчётливо поняла, что её в этом времени ещё нет, а тот ребёнок уже есть, и он имеет право родиться. И что, если её не будет, возможно маме не придётся выходить замуж за кого попало, и не останется она вдовой в двадцать два года, и получит образование и жизнь, достойную её внешних данных. И вообще, если она оказалась здесь, сейчас, значит ей нужно что-то изменить. Ведь не может быть, чтобы это безумное перемещение было бессмысленным. – Ну же… – самой себе прошептала Ирка. – Давай, не трусь… Она до боли стиснула монетку цыганки в руке и решительно пошла вперёд… – Ирина, вставай! В институт ты уже проспала, иди, хоть, позавтракай. Ирка открыла глаза. В приоткрытую дверь заглянула мама, и Ирка невольно вздрогнула, увидев её лицо. – Встаю… – сонно пробормотала она и села. Значит, всё сон. Дурацкий, нелепый сон. От сердца отлегло и сразу стало легче. Ирка потянулась и стала собирать непослушные волосы в хвост. Вдруг что-то соскользнуло с кровати и со звоном упало на пол. Ирка наклонилась – возле её пушистых тапочек лежала монетка номиналом пять рублей. Девушка подняла её с нарастающим чувством тревоги. Она перевернула монетку и обнаружила ту же надпись и на другой стороне. У монетки было две «решки». Маму Ирина застала на кухне. Она сидела за столом, разглядывая какие-то бумаги, перед ней стояла пепельница, полная окурков. Ирка сразу почуяла недоброе. – Мам, что случилось? Мама подняла глаза и Ирка увидела, что она плачет. – Садись, доченька, я всё тебе расскажу… – произнесла она через паузу. Ирка села, и мама придвинула к ней фотографию светловолосого мужчины. Едва взглянув на него, Ирка вздрогнула. Она сразу узнала это лицо. Может, слегка моложе и гладко выбритый, но, всё же, это был он, тот самый мужчина, которого вчера она видела в луже крови на дороге, рядом с машиной Олега. – Это Кирилл Сипаков, – тихо сказала мама. – Мой одноклассник и… твой отец. Он погиб вчера. Мне сегодня принесли вот это, – она указала на бумаги. – Его дом и всё имущество переписано на тебя. Он давно это сделал, и я знала об этом. – Ты общалась с ним все эти годы? – растерялась Ирка. – Да, Ирина. Вначале он не хотел иметь к тебе отношения, а потом я запрещала ему появляться в нашей жизни. – Мама задумчиво смотрела на фотографию Кирилла. – Но это ещё не последний сюрприз. – Мама достала новую сигарету и раскурила её уже без мундштука. – Я пообещала ему, что если его не станет, я расскажу тебе всю правду… – Какую правду? – Ирка встала. Странное предчувствие того, что она знает, что скажет сейчас мама. Мама снова затянулась и, выпустив через мгновенье дым, посмотрела на Ирку. – Сядь, – проговорила она изменившимся голосом и, протянув руку через стол, силком усадила Иру на табуретку. – Это был наш с Кириллом договор. Я пообещала, что расскажу тебе всё, если его не станет раньше меня. Я не хочу этого делать, но нарушить своё обещание не могу. Ты уже взрослая и сможешь понять. – Что понять? – Ирку затрясло. – Какая правда? Мама посмотрела ей в глаза так непривычно серьёзно и жёстко. – Правда в том, что я – не твоя мать… Ирка брела по мокрой дорожке парка, не замечая, как мелкие капли дождя, стекая по волосам, капают за шиворот. Теперь она знала всё. И то, что светловолосая Ира всё-таки решила родить нежеланного отцом ребёнка и родила в трудных родах, слабую, едва живую девочку. И не пережив этих родов, сама умерла, оставив малышку сиротой. Как Кирилл трусливо отказался иметь к ребёнку хоть какое-то отношение, а стервозная красавица Наташа, ощущая свою частичную вину в том, что Кирилл не остался с Ирой, измученная угрызениями совести, решилась на отчаянный шаг. Отказавшись от идеи поступить в институт, она пошла работать и вышла замуж за первого, кто был готов ради неё на свете – Некрасова Серёжу. И год спустя, получив две комнаты в рабочем общежитии, семейная пара Некрасовых удочерила девочку Иру, названную в честь матери. А в двадцать два, оставшись вдовой, совсем ещё девчонка Наташа отдала всю свою любовь и собственно жизнь этому совершенно чужому ей ребёнку. Ирина стояла, прислонившись к деревянному столбику у входа в детскую беседку, и смотрела на усиливающийся дождь. – Сюда зайди, намокнешь совсем, – услышала она за спиной знакомый голос. Ирка уже не удивилась. В беседке, согнувшись на детской скамеечке, сидела знакомая цыганка и попыхивала сигаретой. – Твоя, – сказала она, приподнимая сигарету в руке. Ирина устало улыбнулась и села рядом. – Ваша монетка, – протянула она цыганке копеечку. Та шутя оттолкнула Иринину руку. – Себе оставь. – Зачем? – Редкая она, – засмеялась цыганка. – Где ещё такую найдёшь… – Ну да, – задумчиво подкинув монетку на руке, произнесла Ирина. – Другая сторона… – Правильно, – сказала цыганка. Поднимаясь, она засунула руки под юбку, как-то странно пританцовывая, потом вытащила и показала Ирине подушку. – Промок ребёночек… – сказала она, посмеиваясь, и уложила подушку рядом на скамейку. Ирина многозначительно улыбнулась. – Так больше подают, – объяснила цыганка. Напротив беседки остановилась большая чёрная машина. Передняя дверь её отворилась. Цыганка встала и, подхватив свою подушку, направилась к машине. – Это мои, – пробормотала она. – Может, подвезти тебя? – обратилась она к оторопелой Ирине. Та помотала головой. – Ну как знаешь. Цыганка неспешно направилась к выходу из беседки, но на мгновенье остановилась и, как-то совсем по-другому серьёзно и кротко посмотрела на Ирину. – Тяжело тебе сейчас? – тихо спросила она. Ира посмотрела на цыганку, и у неё предательски защекотало в носу. – Я не знаю, как быть… – с трудом сдерживая слезы, проговорила она. – Всё так сложно и… странно… что мне теперь делать? – А что делать? – Улыбнулась цыганка, выходя из беседки и поднимая лицо под тяжёлые, крупные капли дождя. – Жить, красавица! Просто жить… Чёрная машина захлопнула дверь и бесшумно скрылась в сгущающихся сентябрьских сумерках. Виктор Леденев Последний полет "Я никогда не слыхал о таком преступлении, которое не мог бы совершить сам". Гете. Двухмоторная "Сессна-302" взвыла двигателями и медленно покатилась по зеленому полю аэродрома, увлекая за собой краснокрылый планер. Техник некоторое время бежал, поддерживая крыло планера, пока оно не почувствовало набегающий поток воздуха и не приняло его. "Сессна" еще заканчивала разбег, а легкий планер уже парил, пока еще привязанный к самолету легким тросом. Как пара весенних уток, самолет и планер большими кругами набирали высоту. Наконец пилот планера почувствовал плотный удар теплого воздуха снизу и радостно прокричал пилоту "Сессны": "Есть! Я его поймал!" Трос отделился от носа планера и ушел вслед за кивающим крыльями самолетом. Планер остался один в голубом небе. Красные крылья опирались на мощный восходящий поток, и пилот умело вел легкий аппарат по спирали, с каждым витком набирая высоту. Альтиметр показывал уже почти две тысячи метров, пилот мог разглядеть не только шеренги белых ветряков на побережье, но и датский берег, темной полосой лежащий на той стороне сверкающего на солнце Орезунда. Неподалеку виднелись красные черепичные крыши домов и темно-зеленые шпили соборов Ландскруны. Правая педаль пошла вперед, ручка - чуть влево и планер осторожно, словно нехотя покинул поток. Пилот взглянул на альтиметр - ровно две с половиной. Можно. Он выровнял машину, потом отдал ручку вперед... Карл Свенссон очень любил датское пиво. Маленькое кафе с громким названием "Конунг Карл" и столиками на улице давно стало его любимым местом в жаркие летние дни. А сегодня было очень жарко, даже для южной Швеции. Свенссон с удовольствием выпил почти полкружки зараз, высоко задрав свою громадную бороду, глядя на которую хотелось искать там остатки вчерашней яичницы, когда в поле его зрения попал краснокрылый планер, выписывавший в небе немыслимые пируэты. Свенссон забыл о пиве. - Смотри, смотри! Эй, Густав, - обратился он к старому приятелю, - смотри, вон, видишь планер? Это мой сосед летает! Друг, можно сказать! Да брось ты свое пиво, посмотри, что он выделывает. Вот дает! Приятели уставились в небо. - Откуда ты знаешь, что это твой сосед? Мало ли там, на аэродроме, таких ребят... - Не скажи. Это Стен на своем любимом планере. - Богатый у тебя сосед, если у него свой планер. - Да нет, это планер клубный, но только он на нем и летает. Он особый, пилотажный. Видишь, что вытворяет? А у них там, в клубе, одни мальчишки в основном, им пока такую пташку не доверяют, а Стен - он молодчина! Еще когда служил в полиции, каждую субботу и воскресенье на аэродроме пропадал. Если не расследовал что-нибудь, конечно... - Так он полицейский? - Был. Теперь в отставке. Он говорил: вот выйду на пенсию, тогда и полетаю вдоволь. Видать, вернулся из своего Сингапура. - А туда-то зачем его понесло? - Сестра у него там живет, вот и решил выходное пособие потратить на путешествие. Видать, вернулся... Нет, ты посмотри, что он делает! Красный планер раскрутил вторую подряд мертвую петлю, потом сделал пологую горку, немного спикировал, чтобы свалиться в короткий штопор, после чего развернулся, сделал медленную, выполненную с особым шиком, бочку и устремился вновь на поиск потока. Теплый воздух вновь понес его вверх кругами, все выше и выше. Пилот, бормоча про себя знаменитую присказку любого планериста о том, что ветер, чем выше, тем правее, удовлетворенно похлопал рукой в перчатке по приборному щитку, аппарат ему определенно нравился. Планер словно бы сам почувствовал ветер и разворачивался против него, не теряя потока. Надо все повторить, подумал пилот, только вот высоты маловато, еще бы чуточку повыше... В динамик радиостанции руководителя полетов на аэродроме летного клуба "Верлуфт" ворвался незнакомый резкий голос. - Вызываю аэродром "Верлуфт". Руководитель полетов Рудольф Брок, немолодой отставной летчик, почти дремал на своем любимом кресле. Делать было нечего, в воздухе находилась всего одна машина, да и та в поддержке не нуждалась. - Аэроклуб "Верлуфт". Я - руководитель полетов. Слушаю. - Говорит диспетчер аэропорта Каструп. Кто это там болтается из ваших в нашем коридоре? Старый летчик обиделся. - У нас никто не болтается, у нас летают. - Это у нас летают, а у вас шастают там, где не положено. Он уже целый час вертелся, но в своем эшелоне, а теперь залез в наш. Спроси его сам, что он там делает, на трех тысячах. Пусть убирается, я пока жаловаться не буду. Диспетчер отключился, старый пилот выбрался из полосатой будки и, задрав голову, стал искать в небе красный крестик планера. Потом бросил бесполезное занятие и схватил микрофон. - "Сьерра Майк два Фокстрот, я - Сьерра Майк два Альфа. Говорит руководитель полетов. Вы зашли в северо-восточный коридор подлета аэропорта Каструп. Срочно покиньте его. Повторяю... Пилот на взволнованный призыв руководителя полетов отреагировал мгновенно. - Роджер, Сьерра Майк два Альфа. Покидаю коридор. Высотомер показал: да, он занял чужой эшелон - почти три с половиной тысячи... Ничего, сейчас мы это исправим, еще немного доверну, и прости-прощай поток, дальше мы пойдем сами. Пилот сбросил полотняный шлемофон и надел наушники от плейера, ему нравилось кувыркаться в воздухе под ураганное завывание тяжелого рока. Громкость была максимальной, и пилот не услышал негромкий хлопок прямо у себя над головой... Свенссон уже третий раз заказывал пиво и все не мог остановиться, рассказывая, какой у него замечательный сосед. Его приятелю уже надоели эти излияния, и он высматривал в небе планер, надеясь, что мастерство пилота отвлечет старика от болтовни. Планер он увидел первым. Старики молча уставились в небо. Аппарат на это раз не выписывал причудливые фигуры, а шел вниз короткими кругами, заваливаясь на одно крыло. Свенссон, снова завопил. - Смотри, смотри! Это у них называется штопор. Вот сейчас он из него выйдет и пойдет вверх. Но планер упрямо продолжал выписывать все те же монотонные круги, которые становились все меньше и меньше, а скорость снижения все возрастала. До стариков дошло, что дело неладно, хотя они надеялись, что это всего лишь очередная сложная фигура пилотажа. Из-за близко стоящих домой они не увидели, как аппарат врезался в землю... Стен Сандгрен не успел купить шведскую газету в Каструпе, его и других пассажиров оперативно посадили в автобус и через двадцать минут после приземления самолета они уже мчались на катамаране компании SAS, пересекая пролив, к шведскому берегу. Ожидая багаж, Стен, наконец, добрался до автомата и с удовольствием держал в руках родимую "Зюдсвенске дагбладет". За три месяца в Сингапуре Стену настолько осточертела местная экзотика, что теперь его радовало даже скучное оформление газеты. На первой полосе ничего особенного, дальше... Дальше... Так, спортивная страница... С газетной полосы на него, улыбаясь, смотрел Андреас Сундин, коллега по планерному клубу. Большие буквы не оставляли сомнений – «Банкир разбился на своем "Скайрейсере"». Стен впился глазами в статью. «В воскресенье близ Ландскруны разбился на своем планере директор правления банка "Каспер" Андреас Сундин... опытный пилот... замечательный планер... обычный воскресный полет... по необъяснимой причине планер сорвался в штопор и не вышел из него... мастерство пилота... Имя Сундина недавно упоминалось в докладе комиссии по расследованию финансовых преступлений, однако обвинение ему до сих пор не было предъявлено... Возможно, самоубийство...» Какая ерунда! Как это не вышел из штопора? Он не мальчик, а на такой машине это сделал бы даже школьник... Какое самоубийство? Нет, чушь собачья... Авария, случай, тот, который подстерегает каждого, кто хочет оторваться от земли? Возможно... Вечно эти репортеры наврут с три короба. Надо бы узнать подробнее, что же там все-таки произошло? В этот момент Стен даже забыл, что недолюбливал этого самодовольного банкира, ему не нравился его снисходительный тон богатого человека и развязные манеры. Смерть заставила забыть об этих мелочах, она поставила точку. Был человек, а теперь нет человека, и кому какое дело до его недостатков... Полицейских на аэродроме уже не было. Они опросили всех, кто в воскресенье обслуживал полеты - руководителя, механиков, аэродромных служащих, даже сторожа и быстро уехали, по привычке завывая сиреной. Обломки планера перевезли в пустой ангар и механики деталь за деталью раскладывали их на полу. От кабины пилота мало что осталось, она врезалась в скальный выступ на берегу и рассыпалась на сотни обломков. Красные крылья на вид казались практически целыми - при ударе они отвалились от фюзеляжа и теперь сиротливо лежали, как воспоминание о полете. Здесь же копошились в обломках и сортировали их два эксперта из авиационной комиссии по катастрофам. Стен с грустью посмотрел на останки славного летуна и отвернулся, когда один из механиков начал отскабливать кровь с куска плексигласа. На аэродроме собралось все руководство клуба, старый пилот, руководитель полетов, был временно отстранен от работы и теперь бродил в одиночестве, ища хоть кого-нибудь, кто еще не слышал его печальную историю. Тут ему и попался на глаза Стен, стоящий у краснокрылого близнеца разбившегося планера. Клубный "Скайрейсер", казалось, тоже грустил о погибшем собрате, его крылья прогнулись на неимоверной длине, как опущенные руки убитого горем человека. - Смотришь? Смотри, смотри... Все знаешь? - Здравствуй, Рудольф. Давно не виделись. Так что же у вас тут случилось? - Здравствуй, Стен. Ты мне должен верить, Стен, ты же не один год меня знаешь! Я понятия не имею, как он туда попал. - Кто попал, куда? - Да этот, чемпион... - Рудольф, не говори загадками, я только что прилетел из Сингапура, вот прочел в газете и приехал. Расскажи, кто и куда попал? Какой чемпион? - Ты что, еще ничего не знаешь? - Абсолютно. Так что давай, рассказывай. - Ты действительно ничего не знаешь? - Не знаю, и хватит об этом спрашивать. Рассказывай все по порядку. Они пошли в небольшое кафе самообслуживания, сварили по чашке крепчайшего кофе, и старый пилот подробно изложил все события воскресного утра. Что-что, а память у него была профессиональной. Брок не упустил ни одной мелочи, даже время событий запомнил с точностью до минуты. Только в самом конце рассказа он начал опять волноваться. - И тут приходит ко мне Йен, ну, ты знаешь, молодой парнишка, и говорит: все, мол, отлетался наш чемпион. Разбился. А я никак в толк взять не могу, о чем это он толкует? А Йен опять: привет, говорит, чемпиону, и чего это он даже не попытался с парашютом выпрыгнуть? А я опять не врубаюсь. Тогда парень мне и объяснил, что в тот день не Сундин был в планере, а этот самый Крис Янсен. - Постой, постой. Это какой Янсен - чемпион Швеции? Ты о нем говоришь? - А о ком же еще? Я тебе все время толкую, что этот мальчишка Йен видел, как Сундин подошел к планеру вместе с Янсеном, и тот сел в аппарат, а Сундин - в машину, ты же знаешь его "феррари", и уехал. Я ничего не заметил, правда обратил внимание, что голос по радио какой-то не такой, но кто ж его знает, голос и все, на команды реагирует, а что еще мне надо. Пусть хоть петухом поет. - Так. Интересно, значит, не Сундин разбился, а этот Янсен? А как же газета? Я же сам прочел еще в терминале Мальмо... - Что газета? Эти щелкоперы тут и не были до сегодняшнего дня. Кто-то позвонил из газеты, им тоже кто-то сообщил об аварии, спросили, кто летал, кто разбился, а один из механиков ответил Сундин, мол, летал, и все. Он же не знал, что там этот, ну, чемпион... Вот они и напридумывали сами. - А как это Янсен попал на аэродром? - Откуда мне знать, Йен говорит, что он приехал вместе с Сундиным. Оба были в комбинезонах, вроде как готовы оба к полету, только вот полетел Янсен. И что могло с ним приключиться? Ведь чемпион же! Стен задумался. То, что сообщил ему пилот, был неожиданностью. Он уже как-то свыкся с мыслью, что погиб Андреас Сундин, а получается, что нет. Сундин, выходит, жив и здоров, но почему же его нет здесь? Ведь погиб, судя по всему, его друг или, по меньшей мере, хороший знакомый. Планер такого класса какому-нибудь случайному человеку не доверишь, а Сундин хорошо знал цену и планеру, и вообще деньгам, чтобы так рисковать. Нет, что-то здесь не так. В Стене проснулся полицейский, он привычно рассортировал факты и понял, где и у кого ему предстоит выяснить недостающие детали. Все личные телефоны Андреаса Сундина молчали. Стен связался с банком, один из служащих вежливо ответил, что директора сегодня нет, и не было с прошлой пятницы. Где он, служащий не знал. Тут в голову Стену пришла шальная догадка, и он поспешил ее проверить. - Скажите, в вашем банке работает Крис Янсен? - Конечно, он личный помощник господина директора и главный программист банка, только его тоже нет на месте, очевидно, он уехал с господином директором. Кое-что прояснилось. Янсен не был случайным знакомым банкира. Однако, почему же бывший чемпион ни разу не появлялся здесь, на аэродроме, раньше? Да и Сундин ни разу не обмолвился о таком знаменитом служащем, обычно он любил упомянуть пару-тройку звучных имен, если был с ними знаком... Стен побродил еще по аэродрому, поговорил с Йеном, молодым механиком, но тот ничего нового не мог добавить к рассказу старого пилота. Все в то утро было именно так - Сундин приехал около 10 утра на своем "феррари" с Крисом Янсеном. Оба были готовы к полету. Они прошли к личному "Скайрейсеру" Сундина, который уже заранее подготовили к полету механики, и в планер сел не Сундин, а Янсен. Взлетели, планер попал в поток, поднялся до заданного эшелона и начал выполнять фигуры высшего пилотажа. После первого каскада пилот снова начал набирать высоту, вошел в коридор аэропорта Каструп в 11:34, когда последовало предупреждение диспетчера. На команду покинуть коридор пилот отреагировал и... Больше никто ничего не знал. Потом, в 12:23, раздался звонок из Ландскруны. Звонил некий Свенссон, который и сообщил, что наблюдал падение планера. На место падения в полукилометре от берега Орезунда выехала спасательная команда аэродрома и две пожарных машины из Ландскруны. Пожара не было, планер разбился вдребезги, пилота отправили в Мальме, в морг, а обломки в течение дня собирали и привозили на аэродром. Кто-то позвонил из газеты и получил подтверждение, что разбился планер Андреаса Сундина, о чем газета и поведала читателям. Досадный прокол для газеты, но так им и надо, этим пронырам, злорадно подумал Стен и улыбнулся. Потом вспомнил о Свенссоне из Ландскруны, уж не его ли это сосед сообщил на аэродром об аварии? Дотошный старик... Догадка оказалась верной. Старину Свенссона Стен нашел в его любимом кафе за привычной кружкой пива. Старик был горд вниманием и подробно, с множеством ненужных деталей описал все, что видел в воскресное утро. - Значит, во второй раз после подъема планер не выписывал пируэты, а просто крутился? - Точно! Никаких тебе фигур и мертвых петель. Просто вертелся все быстрее и быстрее. Над землей и вовсе быстро. А вот, как падал, не могу сказать, не видел, дома помешали. А я сразу звонить побежал, думал, что это ты там, в этом планере... Даже выпил лишнюю кружку... За упокой, так сказать... Извини. - Да ладно. Все ясно. Что ж, приятного вечера. Итак, одна важная деталь - с планером или пилотом что-то случилось где-то там, на высоте, а не во время пилотирования фигур. Именно что-то случилось, иначе такой опытный пилот не мог так долго крутиться в плоском штопоре и не предпринять попыток к спасению. Парашют на месте, кабина было плотно закрыта, это Стен успел узнать у специалистов, собиравших обломки. Значит, Янсен не пытался покинуть планер. Не было, видимо, и попыток вывести аппарат из штопора. Это говорило о многом. За завтраком в кафе Стен развернул очередной номер газеты. На спортивной странице репортер ограничился коротенькой заметкой, что расследованием аварии планера Андреса Сундина занимается авиационная комиссия, и что результаты будут обязательно опубликованы. Стен усмехнулся, видя, как газета попыталась замазать собственную ошибку. Они не написали, что погиб другой человек, а ограничились полуправдой - действительно, разбился планер господина Сундина, но вот кто сидел в этом планере, газета скромно умолчала. Ничего, скоро очухаются и растрезвонят о гибели чемпиона на всю катушку. Стен решил повидать старых друзей из полицейского управления Мальме, заодно и порасспросить, что они там накопали на этого Сундина. Проезжая мимо громады здания "Зюдсвенске дагбладет" Стен еще раз злорадно усмехнулся. В управлении ничего не изменилось с того дня, когда Стен Сандгрен стал инспектором в отставке. Тот же унылый коридор, те же обшарпанные двери и неистребимый запах полицейского участка, одинаковый для всех стран мира. Густав Лунц с удовольствием глядел на своего бывшего коллегу отпуск явно пошел на пользу Сандгрену, хотя и раньше инспектор на здоровье не жаловался. - Ну и как там живут, в Сингапуре этом? Это где, в Австралии? Как сестра? - Спасибо, все хорошо. Только одного не могу понять, как они там существуют в этой жаре? - Привычка, Стен, привычка. Мы с тобой люди северные, а они любят, где потеплее. - Но не до такой же степени, черт возьми! Я не вылезал из моря, но это мало помогало температура воды выше, чем у нас в воздухе! Если бы не пиво... Но и у вас, я смотрю, становится жарковато. - Что ты имеешь в виду? - насторожился Лунц. - А вот это самое. - Стен протянул газету с портретом Сундина. - Ах, это... Пустяки. Это уже не наше дело. Обыкновенная случайность. Мало ли трупов мы собираем на шоссе, а тут - в воздухе... Я послал на аэродром мальчишек-стажеров, до сих пор сочиняют отчет. Сам знаешь, как они в таком возрасте любят землю рыть. - Знаю. А что за намеки на какие-то финансовые махинации? - Теперь это тоже не имеет никакого значения. С мертвого много не спросишь. Финансовое управление и налоговая полиция почти год копали под этого Сундина. Накопали целый воз, по восемнадцати пунктам. Даже если бы не все доказали в суде, все равно в общей сложности лет восемь бы этому Сундину припаяли. Я сегодня должен был получить санкцию прокурора на его задержание и обыск в доме и банке. Да только вот все напрасно. Ушел, сукин сын, туда, где я его не достану. Ну и ладно, нам хлопот меньше. - Так, говоришь, стажеры еще отчет не принесли? Отлично, значит, я вместо них тебя порадую - жив твой Сундин и здоров, по всей вероятности. - Постой, но как же... - А никак. Планер разбился действительно его собственный за полмиллиона долларов, а вот сидел в планере не он, а некий Крис Янсен. Ты хоть в морге опознание-то проводил? - Да нет, думали сделать это сегодня. Куда спешить? И родственники пока не объявлялись. Вроде ясно все было... Кстати, откуда он, этот Янсен? - Насколько я помню, он живет в Гетеборге, а как очутился в Мальме, тебе надо выяснить. - Вот черт! Как же я так опростоволосился? Лунц явно разволновался, на что Стен смотрел с легкой улыбкой человека, над которым больше не было никакого начальства, и потому чувствовал себя абсолютно счастливым. Беготня Лунца по кабинету забавляла его. - Да не принимай ты все так близко к сердцу. - Тебе теперь легко говорить, а что будет со мной? Прокурор давно на меня зуб имеет, теперь отыграется вволю. Я же сам отменил задержание и обыск, а что сейчас? Снова идти за постановлением? Лунц даже застонал от несправедливости судьбы. - Хочешь, дам совет? Ты не жди постановления, а иди и арестуй этого типа. Только вот, боюсь, что он уже далеко. - То есть, как - далеко? Ты хочешь сказать, что он слинял отсюда? - У нас свободная страна, и каждый гражданин свободен, если его не разыскивает полиция, а она Сундина с понедельника уже не разыскивает. Вот он и решил не дожидаться... Самолеты летают, автобусы ездят, корабли плавают - ищите, господин Лунц! На аэродроме Стен направился прямиком к ангару, где по частям планера специалисты пытались понять причину аварии. Стен скромно присел на стремянку и внимательно наблюдал за работой механиков. Крылья лежали в стороне, от фюзеляжа остались только части стрингеров и обшивки, а хвостовое оперение вообще рассыпалось на мелкие куски. Механики восстанавливали систему тросов управления и, насколько Стен мог судить, она была в полном порядке. Значит, дело не в обрыве одного из стальных тросиков, этой наиболее частой причине отказа управления. Нет, англичане строить планеры умеют, ничего не скажешь... Стен передвинул стремянку поближе к обломкам и стал пристально, деталь за деталью рассматривать то, что еще недавно было изящной каплевидной кабиной замечательного планера. Кресло пилота практически не пострадало - ниша для парашюта, правда, была пуста, - парашют исследовали отдельно. В стороне лежали шлемофон и разбитый музыкальный плейер. Стен тихо спросил одного из экспертов. - А что, шлемофон не был у него на голове? - Нет, его нашли под креслом, а в ушах у того парня торчали наушники от плейера. Странный малый, но летал он отлично, я видел его первый каскад фигур. Высший класс. А потом чем-то занялся и не заметил, что случилось. - Да, летал он хорошо, только вот приземлился неудачно... Стен обратил внимание на дополнительный прибор, прикрепленный позади к спинке кресла. - А это еще что? На другом "Скайрейсере" такого нет, я точно знаю. Механик улыбнулся. - Это было личная техника Андреаса, как он называл эту штуку - "будильник". - Будильник? Он что, засыпал в полете? - Нет, что вы. Это ему специально кто-то изготовил прибор, который сигнализировал звуком о высоте. Андреас говорил, что часто забывает взглянуть на альтиметр, когда выполняет фигуры и потому теряет много высоты. Вот он и поставил "будильник" - как планер окажется на определенной высоте, он и свистит. Только, я думаю, глупости все это. - Не скажи... И что, этот "будильник" можно было перенастраивать? - Ну да, на любую высоту, хоть по максимуму, хоть по минимуму. - А от чего он работал? - Да от общего аккумулятора. Свистел здорово. - Здорово, говоришь? Дай-ка я его рассмотрю поближе. Прибор выглядел непривычно, хотя принцип работы был ясен - разность давлений двигала поршень в разные стороны и замыкала или размыкала контакты. Примитивно, но надежно, не то, что нынешние электронные штучки. Так, а прибор-то недавно ремонтировали или еще что-то с ним делали. Да нет, скорее дополнили еще одним приспособлением... Какая-то трубочка, а что в ней? Ничего... Так, а на поршне добавлен рычажок. Интересно, для чего? А если сместить поршень влево? Ага! Рычажок входит в трубочку. А где у нас свисток? Так, вот он. Странно... Стен попросил лупу. Внутри трубочки блестели мелкие осколки стекла... Осторожно достав несколько пинцетом, Стен уложил их в полиэтиленовый пакетик. Черт, сегодня ехать в управление уже поздно, придется завтра. Заодно и узнать, что там Лунц накопал в банке... Начальник Лунц был рассержен и расстроен одновременно. Он свирепо взглянул на пакетик, который держал в руках его бывший коллега и рявкнул: - Что это? - Надо бы проверить в химлаборатории. - И что они должны найти? - Я здесь записал, что они должны искать. - И откуда у тебя это? - Расскажу потом, а сначала отправь и попроси сделать это срочно, а я пока послушаю твою историю. Надо же тебе кому-нибудь поплакаться в жилетку, не к прокурору же ты пойдешь. Лунц сверкнул взглядом, но промолчал и вышел из кабинета. Через пару минут он вернулся и молча уселся за свой огромный стол. - Ты как в воду глядел, Сундина и след простыл. Исчез! Испарился! Убег! А вместе с ним все деньги с его счетов и не только с его. Там сейчас эксперты из финансового управления головы ломают - в компьютерах банка черт знает, что творится. Такого накручено... Пока не понять всей картины, но в том, что банк недосчитается нескольких миллионов, я не сомневаюсь. - В компьютерах? Ага! Этот парень-то, чемпион, был как раз отменным программистом. - Так о чем я и говорю! Он пришел в банк всего четыре месяца назад, стал любимчиком у директора... - Еще бы! - Это еще не все. Эксперты считают, что Сундин похозяйничал и в хранилище банка. Теперь они вызывают всех владельцев сейфов и будут проверять содержимое. - Думаю, и там кое-чего не досчитаются. - Вполне возможно. Но как он догадался, когда надо делать ноги? Ведь еще один день и - все, я бы его сцапал! Кто ему настучал? - Эй, дружище, не бейся головой об стол, я думаю, ты сам ему об этом сказал. - Я? - Ты, ты... Я знаю твою манеру надуваться и кричать: я тебя, дескать, на чистую воду выведу, я тебе покажу... и все такое. - Я? Кричать? Ну... Ясное дело, я не пай-мальчик... Сказал, конечно, кое-что... но... Лунц покраснел и даже вспотел от предположения, что сам надоумил преступника бежать. - А Сундин не дурак. Ты когда у него был в последний раз? В пятницу. И угрожал ему. А он сложил два плюс два и понял, что раньше понедельника ты свой ордер у прокурора не получишь. Вот он и подставил этого парня, чтобы ты его в понедельник не трогал. А ему хватило одного дня, чтобы все провернуть, тем более, я уверен, ты выяснишь, что у Сундина все было готово заранее. - Как это он подставил мальчишку? Что-то ты темнишь или разыгрываешь меня. - Подождем результат экспертизы. Уверен, они найдут то, о чем я говорил. Это минутное дело, когда знаешь, что искать. Словно в подтверждение этих слов в кабинет постучали. Молодой стажер принес листок с результатами химического анализа. Стен взглянул и повернулся в Лунцу. - Теперь сядь, чтобы не свалиться на пол, и слушай историю про твоего подозреваемого, а моего коллегу по аэроклубу господина Андреаса Сундина. Он не только мошенник и вор, но и убийца. И в этом листочке - неопровержимое доказательство. Сундин уже в пятницу понял, что понедельник станет для него по-настоящему тяжелым днем. А бежать с пустыми руками ему не хотелось, не для этого, как ты знаешь, он долго готовился. Этот понедельник, то есть рабочий день, нужен был ему, как воздух. Вот тут Сундин и решил произвести отвлекающий маневр. Он приезжает на аэродром с Крисом Янсеном и усаживает того в свой планер. Но перед этим он несколько усовершенствовал свой "будильник". Непонятно? Сейчас объясню. Сундин установил в своем планере прибор, чутко реагирующий на изменение высоты. Он служил дополнительным индикатором, включал звуковой сигнал. Но если есть датчик, всегда можно к нему подключить и другой исполнительный механизм. Не такой безобидный, как свисток. Например, чтобы раздавить небольшую ампулу, ну, положим, такую, которую используют полицейские в своих баллончиках. Газ Эйч-Эс, как тут написано, вызывает временный обморок, потерю сознания. Ненадолго, правда, но достаточно, чтобы упасть с высоты в три тысячи метров. Он установил свой адский прибор, видимо, в субботу, ты выяснишь, что он был в тот день на аэродроме, а потом соблазнил своего любимчика перспективой покувыркаться в воскресенье на отличной машине. Тот согласился, на свою голову... - Так этот анализ подтвердил, что это... - Да, как я и предполагал, оказался Эйч-Эс. Там еще остались кусочки ампулы, думаю, их хватит для следственного анализа. Видимо, Сундин настроил прибор на максимальную высоту - две с половиной или три тысячи метров. Можно было и пониже, но он хотел наверняка. Тем более, что это стандартная высота для начала выполнения большого каскада фигур высшего пилотажа. Такой мастер, как Янсен, и должен был выполнять такие каскады... В первом заходе на фигуры или что-то не сработало, или была не та высота. Зато во второй раз все получилось отменно - будильник раздавил ампулу, газ в закрытой кабине распространился почти мгновенно, пилот потерял сознание и планер сверзился с небес, как грешный ангел. Парня не стало. Просто, но эффективно. - Послушай, Стен, ведь этот Сундин не мафиози какой-нибудь или наемный киллер. Он же всегонавсего банковский мошенник. Зачем же ему идти на убийство? - Не знаю. Может, просто это искаженная психология, именно та психология, которая заполняет заключенными тюрьмы даже в нашей, такой благополучной стране. - Так ты считаешь, что Сундин все рассчитал заранее? - Абсолютно. Он предположил, что никто сразу не разберется, кто именно погиб, ведь планер-то был его собственный! Конечно, бывали случаи в клубе, когда другой пилот отправлялся в полет, но достаточно редко, да и не такое это уж и нарушение, чтобы все на аэродроме следили за этим. И его расчет оказался абсолютно верным, хотя он сильно рисковал. Но, как говорится, другого выхода не нашел... Роковая случайность, ошибка пилота, капризы погоды... Да все, что угодно, только не злой умысел - вот на что он рассчитывал. И не ошибся, к сожалению. И ушел, как опытный капитан торпедного катера... - Какого еще катера? Он же летал, а не плавал. - А это не имеет значения. Ты знаешь, как торпедные катера выходят из боя? Не знаешь. Очень просто: один из катеров ставит дымовую завесу, а остальные под ее прикрытием выполняют знаменитый маневр под названием "уноси ноги". Вот и Сундин поставил перед тобой завесу в виде несчастного случая с этим чемпионом, а сам перед своим отлетом, отплытием или как он там еще решил драпать, позвонил в редакцию газеты и подсказал репортерам свою версию. Те - клюнули, ты уткнулся носом в смерть Сундина, а дальше ничего не увидел и... Сам видишь, что получилось. Так что тебе придется поискать этого Сундина. И не только тебе, но и Интерполу, и еще, кто его знает, полиции скольких стран... Бог вам в помощь... Владимир Колотенко Коллайдер, или Равнодушие для жертвы Когда видишь женщину совсем близко, ее нос, рот, губы, ее глаза, особенно глаза, когда слышишь ее голос и можешь прикоснуться к ее коже и даже как бы невзначай — жест особой признательности — провести своими чуткими пальцами по ее приоткрытым и пока еще не увлажненным твоими поцелуями жарким губам, трудно удержаться, чтобы не сорваться на крик… И мне трудно… Разве мог я себе представить, что когда-нибудь стану ором орать на весь мир?.. Я люблю ранние сентябрьские утра, когда солнце еще не взошло, а трава усеяна тяжелой росой, ты бежишь неторопливой трусцой по туманному сосняку навстречу розовому рассвету. Швейцарские Альпы, разве есть на свете рассветы прекраснее? Эти места облюбовал еще мой прапрапрадед. Здесь, здесь пуп земли! Остров Пасхи со своими каменными истуканами не идет ни в какое сравнение с этими местами! До Женевы — час хорошей езды! И куда ни глянь по настенной карте Европы — все здесь в пределах ладони: Вена, Берн, Берлин, Прага, Варшава… Дед все это прошел… Veni, vidi, vici (Пришел, увидел, победил, — лат)! До Парижа — полчаса лету. Даже Барселона и даже Юлин Кипр (или Крит?) кажутся совсем близко, а, если туда добираться вертушкой — вечером еще можно подзагореть. Все здесь теперь мое: и вот этот лес, и те горы, и вон то небольшое озерцо, в котором до сих пор ловятся щука и окунь. И этот роскошный замок — наследство — подарок деда. Вы смотрели когданибудь из открытого окна башенки моего замка на этот изумрудный лес, на эти пурпурные по утрам и затем голубые горы? На эти… Нет? Не смотрели?.. Меня, правда, до сих пор мучают угрызения совести: ведь все это, если быть честным — ворованное. Завоеванное? Может быть. Но любая война — это воровство, грабеж среди белого дня с автоматом в руках, разбой дикий, не так ли? Этому нет оправдания. Вот поэтому я и мучаюсь с тех пор, как услышал однажды крылатую фразу того самого своего прапрапрадеда: «Совесть — это химера, придуманная людьми для оправдания своих слабостей». Не уверен, что он был прав. Времена изменились, а с ними и взгляды людей, но совесть никому еще изменить не удавалось. Она и теперь, когда, кажется, в твоих руках ключ от мира, стучится в двери моего сердца: как же ты собираешься жить?.. Но не пилить же мне эти горы пилой своей совести, не рубить же этот лес, не косить эти травы… Чтобы всему миру раздать по травинке! А что делать с озером? Высосать его? А всех щук зажарить? Чтобы накормить всех голодных, как когда- то Иисус накормил своих проголодавшихся и заглядывающихся ему в рот овечек. Мне все кажется, нет, так оно и есть: глаза деда, где бы я ни находился, неотрывно следят за мной с той картины на стене. Даже если я в своем винном подвале, они и тут преследуют меня: чем ты занят, малыш? В тот день все собрались у меня в большом зале… Свечи, факелы на стенах, столы усеяны средневековыми яствами… Розы, розы… Лилии и рододендроны в огромных вазах у каменных стен… Пир горой!.. Да, мне хотелось, чтобы все они чувствовали себя настоящими рыцарями нашего ордена, призванного самим Богом спасти этот мир. Ведь многие из них — нобелевские лауреаты, члены Римского клуба, бильдербергеры… И кому, как не им… Масоны! Вот ведь кто правит этим затухающим, как костер на ветру, сдувающимся миром — Раса Ящериц… И кому, как не нам сделать мир счастливым? Мы уже не раз пытались, и вот сегодня, сейчас, когда миру уже дышит на ладан, нужно брать его за рога… Если не мы, то кто? И если кто-то, почему не мы! Мы не пожалели и ведь не зря выбросили свои миллиарды для создания этого жадного монстра, этого Молоха современности, которого все почемуто прозвали Большим адронным коллайдером. Что за набор слов? Этот капкан Дьявола, говорят, готов подарить нам частицу Бога. Но при этом — стать убийцей планеты, сожрав ее своей черной пастью! Если не держать его, конечно, на коротком поводке. Кто хоть немного сведущ, тот понимает: мир — на краю! Вот мы и собрались… Автономная система отопления создавала теплый уют, так что дамы все были в тонких вечерних платьях, большинство с немыслимым декольте и на шпильках, а эта, нанятая мною пара влюбленных, — почти обнаженные. Макс, стоявший рядом со мной, любуясь девицей, сказал, что опасается, как бы ей не растерять свои груди. Зато ее пупок со сверкающим бриллиантами пирсингом, вызвал у Майкла восхищение: — У меня, знаешь, тоже слабость к этим пупкам, — признался он. Парень тоже был одет так, что просматривались даже его соски. Я заметил, что наши дамы, время от времени, бросали на него косые взгляды. Делу время, думал я, но потом можно и повеселиться. Все-таки работа проделана огромная, да, невероятно трудная… И какие траты, какие деньги брошены в жерло этого Везувия! Не жалко… Ведь ради спасения человечества, если хотите, жизни на Земле! Да и саму Старушку, пожалуй, пора спасать! До сих пор не могу вспомнить, что заставило меня подняться в ту комнату, мою башню из слоновой кости — юдоль, так сказать, моего отшельничества. Кажется, мне понадобился семейный альбом. Да! Я хотел показать Юлии фотографии деда. Чтобы она мне поверила. Ее настороженность была мне понятна. Ах, эти обрусевшие гречанки! Им нужны только голые факты! И пока я ехал в лифте наверх, к своему кабинету, решил все-таки альбом не показывать. Зачем? Весь мир знает деда и знает его дела. Люди стали забывать потихоньку те страшные годы, зачем же снова навевать им грустные воспоминания о тех скверных днях. Я вышел из лифта и направился к кабинету. Дверь я всегда оставлял открытой, и дверь, и окно… Даже в дождь. Я люблю, когда воздух горных вершин напитаный озоном, просачивается в мои покои отшельника, я тогда кутаюсь в дедовский плед и, таясь у камина, пью упоительный сон одиночества. Дед смотрит на меня со стены, и мы разговариваем. Да, я долго думаю, сидя в кресле у камина, над тем, чем заняты мои дни. Спрашиваю его и потом ему отвечаю, и если он остается доволен ответом. Бывает, что и засыпаю… — Хэх… хэх… хэх…хэх… Что это? Я стоял и терялся в догадках. Дверь была настежь распахнута. Звуки доносились из кабинета. Впечатление было такое, что кто-то рубит дедову многовековую ель, дотянувшуюся вершиной до моего окна. Не было слышно только ударов топора. — Хэх… хэх… хэх… хэх… Ах, как частит, бедняга! Я стоял и терялся в догадках. И как же этот дровосек-труженик забрался в мой сад? Сюда и чужой птице-то нелегко попасть. Осторжничая, я подошел… Сквозь распахнутую дверь я видел угол стола, спинку кресла, лампу деда с зеленым стеклом и, конечно же, книжный шкаф, где за Шпенглером («Закат Европы») прятал свой пистолет. Если быстро вдруг впрыгнуть, заскочить как пантера, то в мгновение ока пистолет окажется в моей левой руке! Я — левша! И тогда… Как пантера — это было бы здорово! Если бы не моя хромота… Стек мой в правой руке, а пальцы левой уже давно холодит сталь рукоятки махонького пистолетика… Как он оказался в руке — я понятия не имею… Помню дед подарил мне его… — Мммм… Господи!.. Так вот… Я был в шоке! Так вот что означают все эти частые, но напористые «Хэх»!.. Так-так… Никакие пистолеты тут не нужны. Я тихонько вхожу… Не бросаться же на них с обвинениями! Я даже легонько покашливаю, чтобы вернуть их на землю. Какой там! Никакое покашливание, ни гром, ни грохот пушек не способны унять жажду этих напористо качающихся тел. Даже землетрясение здесь будет бессильно: ведь у них земля ходит под ногами… Горит! У него. Ходуном так и ходит!.. Даже чувствуется запах паленого! — Цок!.. Тсссс… Тихо… Там что-то упало на паркет. Они не слышат! Они… Мдаааа… Через следующую дверь, ведущую в мой будуар (я и сам люблю здесь бывать не один), я блуждаю взглядом по дивану, по креслам, по… Теперь даже по полу… Где вы, милые? Так и есть — на окне! Подоконник широк и массивен, он даже нагрет батареей, так что нечего опасаться простуды… Мы там с Эльзой такое… Я тихонечко кладу трость свою на низенький пуфик, а сам прячусь за дверь, и теперь у меня есть щёлочка: перископ! Нужно только шею согнуть в три погибели. Или смотреть одним глазом: а что там? Ясно… ясно… Что же дальше-то, милые мои. Поглощенный вдруг возникшими своими проблемами, я не заметил, как они так быстро оделись. Ах, как жаль! Его задница меня, конечно же, не привлекала — ее тело… Даже в этом неярком полуприглушенном свете, ее белое тело, привело меня в трепет. Я и видел ее только миг. Но какие это были арбузики… — Поторопись, детка… Я даже морщусь: какой у него сиплый отвратительный голос! Ему бы загонять козлов в стойло! Она чистит перышки, красит губы… У меня уже занемели ноги. Я прижат дверью к стене, стою, как на казни, голова, правда, свернута на бок, чтобы я мог видеть сквозь щель, то что вижу. Я еще не знаю, как сам себя оправдаю: я терпеть не могу заглядывать в замочные скважины. Застань кто-нибудь меня за этим занятием, и я пущу себе пулю в лоб. — Идем… Ты прекрасно выглядишь после… — Помолчи, а?.. И вот они уже дефилируют мимо: тук-тук-тук… Какие уверенные шаги! Они идут прямо на меня. Но ни в какие щели не заглядывают. Я смотрю им прямо в глаза, ей, ах как они прекрасны и уже полны ума и расчета. — Теперь, я надеюсь, ты меня представишь ему? — Хм!.. Что ты липнешь к нему? Он не скажет тебе ни слова. Тук-тук-тук… — Ты мне не ответил. — Ладно, как хочешь… Сумку не забудь. Она возвращается, чтобы взять с пола свою сумочку. А теперь дурман ее духов. Прекрасный вкус! Они проходят мимо меня и, выйдя из кабинета, закрывают за собой дверь. Наконец-то! Вот такая история! Я не роюсь в себе, я просто выхожу их своей тюрьмы и, найдя воду, пью ее жадными глотками прямо из пластика. Фух! Единственное, о чем я думаю: зачем эта красавица ищет меня? Что ей нужно, если она, платя телом, пытается добиться моего расположения. Не станет же она и меня соблазнять так дешево. А этого кривоногого жеребца я вспомнил. Года три тому назад мы работали… Ну да бог с ним. Он мне и тогда был не симпатичен. От него всегда несло смесью пота и дорогого одеколона. Как она могла с ним таким?... Хорошо, что пистолеты мои так и не понадобились. Жаль, что не понабился и мой красавец. Эх, я бы сейчас тоже не удержался. Когда мы, помню, с Эльзой?.. Бедная Эльза… Эта жуткая авиакатастрофа… Я хотел было уже спускаться к гостям, вдруг решил: закрою окно! Да, надо закрыть и окно, и ставни, обещали короткий ливень. Вон уже сверкает как! Грома, правда, пока не слышно, только высверки молний, но они все ярче и ярче… И пока мы все будем развлекаться за средневековыми стенами, ветер может тут хорошо похозяйничать. Хотя развлечением эту вечеринку и назовешь. Званый ужин. Конечно. Званый. Все они не только желанны и званы, но и члены ложи, а тут уж иные правила, да… Одно слово — масоны! Среди них есть враги? Полно! С виду они все, конечно, самые милые и тихони, но у каждого… Таковы правила жизни. И игры. Кто не дружен с правилами… Я вернулся и закрыл окно… Теперь можете сверкать, сколько влезет, сказал я своим молниям и пошел к кнопочке, чтобы опустить ставню… Кнопку нажал и — жжжик! Это еще дед мой… Стоп-стоп, тихонечко… Что это у меня под каучуковой подошвой? Вишневая косточка! Я только так подумал. Откуда ей, этой косточке тут взяться? Включать свет я не буду, решил я, а попытаюсь на ощупь узнать… Вот! Не пойму: то ли это моя запонка… Нет, не похоже… Та поувесистей. И чего бы ей тут… То ли… Да зачем я гадаю, достаточно ведь подойти к той двери, что меня только что прятала, пошарить рукой по стене… Этот выключатель я помню с детства. Я едва доставал до него, встав на цыпочки… Ну вот: щелк… Сережка… Простая сережка с непростым камушком — бриллиантик… Да он же сверкал в ее ухе, я помню, когда они там… Как же нужно было грызть ему ее ухо, чтобы выдрать эту сережку? Что с ней делать, куда девать? Не выбрасывать же ее в окно! Я не стал искать ответа и на эти вопросы — потом. А пока сунул сережку в карман и поспешил вниз. — Барон, где же вы пропадаете? Все вас заждались… Собственно, здесь и делать мне больше нечего: все проговорено до деталей! Так всегда в большом деле бывает: что-то остается недосказанным, что-то приходится подправлять на ходу. — В вашем лице мы нашли… Да, нашли, думаю я, а что потеряли? Вы еще даже не догадываетесь. Вряд ли кто-нибудь… Но не гнать же их в шею?! И хотя в таком деле не должно быть мелочей, сегодня ничего нового я уже не узнаю. Мне и не надо никаких новостей. Главная новость для меня — я успел! Да! Я первый вывел ту формулу успеха, над которой мы корпели всем миром. Ближе всех оказались китайцы. Какие же они проворные стали сегодня: впереди всех и во всем. Корейцы тоже были близки: это их электронные модели позволили подойти так близко… Они утерли нос и русакам, да, те густо оплошали, и Бжезинскому… Эта старая хитрая лиса только облизнулась… А что оставалось? — Мы выражаем уверенность, что с этой минуты… Я как только вошел, стал искать глазами эту белокурую соблазнительницу — ее нигде нет. Араб мне улыбается, приподнимая бокал и зачем-то подмигивает. Я тоже киваю. Мне, разумеется, и прежде доводилось это слышать: — Они и правда кубинские? Кто-то не может поверить, что эти сигары подарил мне Фидель. Вдруг разговор заходит о Кафке. — Его «Замок» до сих пор… В моем замке разговоры о «Замке» Кафки возникают не в первый раз. Говорят, что он, Кафка, писал свой роман, сидя в кабинете моего деда. Хотя дед об этом ни словом никогда не обмолвился. Кто-то, слышу я, требует вынести приговор Меллу Гибсону. Да жесток, кровожаден… — Вальтер, а вы как думаете? Дама, которая вот уже минут десять бросала время от времени на меня любопытные взгляды, теперь, задав свой вопрос, имеет полнее право бесстыдно меня рассматривать. — Вы не будете жить, — говорю я, — если не умрете… Это слова Христа, но дама их слышит впервые и принимает бедняжка на свой счет. Мысль о близкой смерти тушит пожар ее любопытства. — Да-да… Это правда… Меня поддерживает какой-то священник, которого я вижу впервые. Но где же та страстная леди, которая жертвуя собой (ах, как это было прекрасно!), так искала знакомства со мной? Мне и сережку вернуть ей надо. А вот и первые раскаты грома. Они едва слышны в этом каменном царстве, но и не расслышать их невозможно. — Вот и неба знак… Кто-то тоже расслышал. Теперь все прислушиваются. Затем снова гам праздника… Да, это праздник! Мы шли к этому сто тысяч лет. Ушли миллиарды… Надеюсь, что не в песок… Теперь очередь за скульптурами и картинами. Не все спешат взглянуть на коллекцию деда. Он тогда постарался… Крал! А все крали… Война… Не сжигать же из-за этого «Грех» фон Штука или «Жертву» Чюрлёниса. Не крушить же Майоля и Торвальдсена!.. — Да это же «Крик»!.. Мунк? Откуда он у вас?.. Это жена банкира, не пожалевшего свои миллионы. — Вот висит… Уже целый год. У нее рот, как у этого орущего в «Крике» на весь мир бедняги — Его же украли… Выкрали из национального музея в Стокгольме. Я то тут причем? — Правда? А у меня вот… не выкрали. Как вы находите этот… — Это подлинник? Дура! Кто же здесь будет держать грязную подделку?! — Вы мне нравитесь. Мало ли кому я нравлюсь! А мне вот понравилась та дама, с одной сережкой, что в моем кармане, будет теперь, как пароль. Да, у нас будет своя тайна. Мне интересно, признает ли она свою потерю. Ага, вот… Этот араб уже спешит ко мне через зал: — Я давно хотел представить тебе, — говорит он и смотрит через мое плечо… Я тоже оглядываюсь: ах, вот где ты, красавица?! — Пат, — произносит она, едва улыбнувшись и подавая мне руку. Мне ничего не остается, как мягко сжать ее теплые пальчики и назвать себя. Глаза, надо признать, у нее редкой красоты… Я еще наверху это заметил. Правда, там они были затянуты пеленой страсти, сейчас же взгляд их пронизывает меня насквозь. — Я оставлю вас, — говорит араб, на что она никак не реагирует. И продолжает удерживать мою руку. Пауза требует разрешения. — Я хотела бы… Теперь она, открыв сумочку, достает визитку и подает ее мне. И пока я что-то там вычитываю, она коротко говорит свою просьбу. Ее голос еще там наверху был мне симпатичен. Говорят, голос — стих души, я поверил в это еще раз. Да, это была гармония голоса тела и духа. Красивое сочетание. Она хотела бы подробно поговорить со мной о проекте. Я не против — пожалуйста! Интервью? Я готов рассказать. Не все тайны, конечно, тайны уже не в моде… — Тайны всегда в моде, — сказала она. Я согласен: пожалуй… — И для вас, обещаю, у меня их не будет. — Ловлю вас на слове. Тут меня позвали. — Не сегодня, ладно, — сказал я и сунул визитку в карман. — Не сегодня, нет… Назначьте мне день и час. Я сделал вид, что думаю, а сам мучился вопросом: отдавать сережку сейчас или при следующей встрече. Я чувствовал на себе ее жадный взгляд и понимал, что она от меня уже не отцепится. Я, правда, пока не догадывался, что для нее более важно — я или наш проект. Вторую сережку, я заметил, она тоже сняла. — Хорошо, — сказал я, — я вам позвоню. — Лучше я. — У вас есть мой телефон? — Вы же мне дадите? — Извините, но… Она пропустила мое извинение мимо ушей. — Мы увидимся? — Зачем? Я не знаю, почему вдруг меня занесло. Я был удивлен не меньше, чем она. — Вы хотели… — Хорошо, — сказал я, — позвоните мне завтра в семь. Я, и правда, не мог сам себе объяснить, зачем мне ее видеть. Да, считал я, в ней есть какая-то неожиданность, она привлекательна и даже мила, от нее пахнет дорогими духами, но разве все это повод для знакомства? К тому же у меня есть дела поважней. Меня уже ждали и мы распрощались. Потом я их всех провожал. Чтобы побыть одному. Быть наедине с собой я привык. Нет ничего слаще моего одиночества! С тех пор, как Эльза и дети погибли в авиакатастрофе… О, Матерь Божья! Дай мне силы пережить эту вечную боль! Последним ушел Кавасака. Он долго кланялся, расставаясь, давая понять, что он мой должник. Я так не считал. То, что японцы бухнули в этот проект, дорогого стоит. Без них бы нам пришлось бы еще не один год провозиться. Не каждый мужчина способен быть таким вежливым и учтивым, как этот желтолицый Ден Сяоцин. Она не позвонила ни в семь, ни в восемь… А я ждал. Звонок раздался наутро: — Знаете, я сейчас в Каире, срочное дело… Дело есть дело. Назавтра я улетел в Россию и всю неделю проторчал в Москве. Встреча с Никой, режиссером, приглашенной на пуск объекта, меня позабавила: эта милая черноглазая Ника (она просила меня называть ее только так) вдруг раскрыла мне глаза на себя самого. Вот восторг! Я давно собирался исповедоваться самому себе, да, поговорить с собой с глазу на глаз: запускать или не запускать? Это как «Быть или не быть?». Мое участие в запуске давно было закреплено протоколом. Без меня… Да, я такая важная шишка! Без меня… Это ясно. И вот эта самая Ника (втайне я все же называю ее Нини), когда разговор зашел о значении пуска, задала всего лишь один вопрос: «Вы верите?». Меня никто никогда об этом не спрашивал. Но вопрос этот жил у меня в груди. Вся команда безусловно верила в звонкий успех. Я один сомневался. Никому, правда, не признаваясь. Она смотрела мне в глаза и ждала. Это были глаза девочки, соврать которой было бы грешно. Я ничего не ответил, лишь отвел взгляд в сторону и кашлянул. И потом сомневался. Дед бы, конечно, меня отчитал: ведь в моих руках была судьба мира! Все эти дни Пат меня не беспокоила, да и сам я стал меньше думать о ней. Правда, как только нащупывал в кармане брюк ее сережку, тут же улыбался сам себе. Не потерять бы!.. Прошло еще несколько напряженных дней. Она позвонила вечером в пятницу. — Простите, но… — Завтра я снова улетаю. — Надолго? — Дней на десять. — Как жаль… Мне так хотелось… — Приезжайте сюда… Я могу вам показать все это вживую. Я сказал это и сам себе удивился. Ведь сюда перед стартом даже комара не пустят. — Правда? — Вот только не уверен… — Будьте уверенней, — произнесла она тоном наставника. Как к вам проехать? Я рассказал. Я встретил ее у ворот и стал долго объяснять охране, что, мол, так и должно быть, и есть пропуск и совпадает рисунок левого пальца, и это ее же рисунок радужки, и она же, в конце концов-то со мной! Это был самый убедительный аргумент. Не верить мне здесь никто не осмеливался. Войдя в комнату, она осмотрелась, одобрительно кивнув сама себе, мол, подходит, затем, рассматривая портрет деда на стене, спросила: — Кто это? — Дед. Она внимательно посмотрела на меня, потом снова на деда и опять на меня. — У вас меньше огня, — сказала она и добавила, — в глазах. Что ты, детка моя, можешь знать о моих огнях? Мы сидели в какой-то комнате, в креслах напротив друг друга, я рассказывал, было так тихо, что слышалось, как в моих жилах бегут разгоряченные докрасна эритроциты. Между нами была только напряженная пустота, требовавшая, как любой вакуум, наполнения живой жизнью. Ее сережка даже через ткань кармана жгла мне кожу бедра, и я то и дело чисто инстинктивно бегал рукой в карман, чтобы утолять это жжение. Я рассказывал так складно, что она не задала ни одного вопроса. Я нес всякую чушь о значении этого пуска и о том, как скоро человечество узнает и оценит важность этого чрезвычайного шага… Пустота выжидала, затем рассмеялась мне в глаза. Как эта жгучая сережка оказалась у меня в руке, я понятия не имею. Она рассматривала ее, затем молча протянула мне открытую ладонь, и я безропотно положил на нее злополучную сережку. — Спасибо, — наконец сказала она. Я улыбнулся и пожал плечами, мол, само собой разумеется. — Хотите анекдот? Я оторопело уставился на нее! Суть анекдота состояла в том, что если долго говорить ни о чем, будет потеряна главная цель. Я не помню какая, но ясно помню ее насмешливый взгляд. Я был проколот насквозь и приколот, как кузнечик к сукну. И тут уж, признаюсь, у меня не было выхода. Но меня вдруг заклинило. Я был, что называется, скован стальным обручем абсолютной обездвиженности. Такое бывает: вдруг тело отказываться подчиняться воле. А воля уже закипала. Я чувствовал себя должником, но мне нечем было платить. Расплата пришла с ее смелой смуглой глянцевой ножкой, с которой вдруг слетела та туфля (белая кожа подошвы), сперва с одной, потом с другой — тук… тук… Этот стук каблучков привел в движение ее правую ногу. Она вдруг, как тело змеи, выползла из-под края узкой черной настороженной юбки и стопа ее пяткой впилась в мой пах. Я инстинктивно, защищая свои драгоценные мужские достоинства, весь прямо скрючился, вжимаясь и вдавливая себя задом в мягкую кожу кресла, но она нежно положила свою розовую пяточку в самый центр моей вселенной. И шевельнула пальчиками. Перламутровые ноготки заблистали и засмеялись. И я вдруг осознал, что любое промедление здесь смерти подобно. Ох-хо-хох!.. Я набросился на нее, как голодная львица на свою антилопу. Рррррррр!!! Ох-хо-хо… Я сто лет не испытывал такой страсти! Я припал к медовому соску как изголодавшийся младенец, а она тихонечко застонала и обвила мою шею руками. — Да, — прошептала она, — да, милый… Какие там пуски, какие грандиозные проекты могут быть сравнимы с этим шепотом, с зовом моей рвущейся наружу сатанинской плоти?! Да никакие! Все мои сердечные боли, все тики и спазмы в желудке улетучились в один миг! И о, Боже! куда девалась моя хромота? — Ничего это не значит, — вдруг сказала она, — ты не должен думать, что… Ее смелое глазастое «ты» заставляет меня осторожничать: да ты, радость моя, не такая простая. В мои сорок три мне случалось… Я уже знаю, что так, напролом, идут только, да-да, я не преувеличиваю, идут только богини! Те, кто меняет судьбу мира. И если ты из этого племени… Ах, да ладно!.. Ну что она может здесь, в этой тюрьме моего непрестанного поиска и узнавания дорогих мне истин, что она может здесь сделать такого… Отсюда даже солнечный зайчик не вылетит! И какие тут могут быть рассуждения, когда она уже сама расстегивает мне пояс? Теперь молния на моих штанах — жжжик… Осторожно же! Все произошло так быстро и неожиданно, что я не успел даже… Зато какой это был спринт, взрыв, полет! Не припомню, когда такое и было со мной. Да и было ли? Только с Эльзой… А потом — ни с кем. Разве, как услуга неотложной скорой помощи, так… Как стакан воды в жаркий полдень… Я прикрыл глаза и даже тихонечко заскулил и закачал головой из стороны в сторону: не сон ли все это? И тут же открыл, перевел взгляд на стену и мы снова встретились с дедом взглядами… Этих его портретов — на каждом шагу! А как же! Мы всегда и везде должны быть под присмотром своих предков! Это дань уважения, почитания, преклонения… Сказано же: «Почитай родителей своих…». Дед, уйди а?! Не мешай! Что уставился?! Ты всю жизнь меня допекал своими нравоучениями, дай хоть напоследок… Хоть глаза-то закрой… Или отвернись, наконец! Почему напоследок? Я мысленно спросил об этом у деда — он улыбнулся. Мне это только показалось, и я хотел… Нет-нет, потом я уже ничего не хотел. Чтобы дед не лез со своими немыми наставлениями, я сосредоточиваю взгляд на ее правом ушке, в мочке которого весело высверкивает, словно подмигивая мне, смеющийся бриллиантик: не ударь, брат, лицом… Я ему тоже мигаю: я не подведу! — Слушай, — сказал я потом, когда мы уже выпили по чашечке кофе, — этот твой араб, с кем ты там, наверху, в моем кабинете, он… Она не дала мне договорить. — Это мой седьмой муж… Кофе застрял у меня в горле, я закашлялся так, как это бывает в простеньких фильмах. Потом задалтаки свой вопрос: — Седьмой?!! — Разве ты мне поверил бы, если бы я сказала, что живу одна и у меня никогда не было мужчин? Я смотрел на нее, и у меня не было слов. — У нас с ним было заключено пари, и я его выиграла. — Таким образом? — Разве для тебя это имеет значение? Мне и тут ей нечего было сказать. Счастье, думал я, что я пока еще не был ее очередным мужем. На дворе была уже ночь. Прошла еще одна трудная неделя. После той страстной ночи, мы с Пат почти не расставались. Я ловил на себе удивленные взгляды своих сослуживцев, на что только пожимал плечам: это — любовь! Друзья пока открыто не выказывали своей зависти, но они чувствовали, что она уже встала между мною и ними. Да и сам я это признал. Это — любовь? — спрашивал я себя. И не искал ответа. Мне было хорошо с Пат, комфортно, я как бы снова родился. Такое чувство у меня было только раз, с Эльзой, и вот оно повторилось с Пат. Я не имел права это терять. Она снова зажгла во мне факел жизни, я перестал себя узнавать, а тот яростный факт, что мы каждый день и при каждом удобном случае без продыху занимались любовью, вернул мне веру в мои силы мужчины. Пат эту веру крепила, как только могла, да, она постаралась и, надо признать, преуспела, и я однажды не удержался и задал свой совершенно никчемный и подлый вопрос: — Откуда у тебя этот опыт? На что она, высоко подняв брови и вытаращив на меня глаза, произнесла: — Как?! Как так откуда? Тебе, милый, надо бы это уже давно догадаться: это же мой род! — Рот? — Не рот, а род! Не, понимаешь? Это написано у меня на роду — сладострастие! Это — инстинкт… — Паучихи… Я сказал это слово и пожалел. Но она сделала вид, что не расслышала. — Любовь всегда была у нас в генах. Любовью мы покоряли миры. Да-да любовью и… Ну да ладно. Теперь ты понимаешь, что… — Понимаю, — сказал я. Больше мы об этом ни разу не обмолвились. Но все эти дни меня не покидала цепкая мысль: кто она? Как она появилась вдруг в моей жизни? Как изменила ее? Зачем? Как-то вечером я снова не удержался: — Пат — что за имя? Откуда оно у тебя и что оно означает? Она снова выразила удивление: — Пат? Ты не знаешь? Это краткое — от «Клеопатра». Так звали мою прапрапра… и так много раз… мою бабку. Может, слышал? Да уж, слыхивал, приходилось… Похоже. — Кто ты? — спросил я, заглянув ей в глаза. Она рассмеялась. — А я и есть та самая ее много раз прапраправнучка — Пат. Ты, милый, не знал? — То-то я смотрю на твой нос и никак не могу вспомнить, где я его видел. — Ты мог видеть его тысячу раз. Я напомню: в Египте. Там наш нос — на каждом настенном рисунке, на всех фресках... Признак нашего рода — Птолемеев. Ты вспомнил? Я кивнул, в самом деле: я вспомнил. Там на каждом куске… Этот нос еще тогда меня удивил. — Это как клеймо, — сказала Пат, — но и печать. Экслибрис! Чтобы каждый, кто видит его, знал, с кем дело имеет. Теперь — знаешь и ты. Я кивнул: теперь знаю. В тот же вечер, мы засиделись с ней в моем кабинете, она выведала у меня и код. Теперь я это понимаю: это был промах! Это был такой промах! — Еще по глоточку? Мы лишь пригубили из той бутылки. Она сказала, что оно из запасов самой царицы. — Не может быть? — Да, бабка была не дура кутнуть… Хочешь пригубить? Она пригубила свою рюмку и сделала пару глотков. — Конечно. Она поднесла мне мою рюмку, я взял, какое-то время смотрел не вино, затем уставился на нее. У меня вдруг молнией мелькнула обжигающая мой мозг зловещая мысль: ты меня отравишь? Так вот… — Да не бойся ты, пей, — улыбнулась она, делая очередной глоток, — зачем мне тебя травить. Ты подумай своим светлым умом — зачем? Теперь мы с тобой вместе и… Я кивнул, втянул ноздрями дурманящий запах вина и отпил. — Мммм… Какая прелесть, — сказал я и облизнул верхнюю губу. Мне казалось, что я никогда не испытывал такого вкуса и запаха. — В самом деле, — сказал я, — твоя бабка не дура. — А скажи, — неожиданно спросила Пат, — что здесь делает эта твоя Юлия? Я даже покраснел. И, чтобы скрыть волнение, сделал еще несколько жадных глотков, прикрываясь вином, как щитом. — Мы с ней… Мой мозг лихорадочно искал ответ. Я медленно облизал верхнюю, затем нижнюю губу, затем: — Мы в соавторстве с ней пишем цикл статей… — Кто она, эта Юлия? Я открыл было рот, чтобы рассказать ей о Юле, пару слов, сам не знаю зачем, мне просто пришло в голову, что одно только упоминание ее имени, придаст мне уверенности. Такое уже случалось со мной. Эта Юля, это просто какое-то наваждение, словно ангел-хранитель, спасала меня от неверных шагов. Я недавно вдруг явно поверил, что она дана Богом для принятия важных решений. Но сейчас мне не хотелось об этом рассказывать Пат. — … мы надеемся, таким образом предупредить человечество… Это словно наша трибуна… Пат не стала слушать о нашей трибуне. — С этими соавторами столько возни. Я тебе не советую… Я не нуждаюсь в твоих советах, хотел оборвать я ее, но решил промолчать. Эта Ника запала мне в душу, и я много думал о ней. — Впрочем это твое личное дело, — сказала Пат, — пишите… И снова отпила из своей рюмки. А я мысленно поблагодарил ее за то, что освободила меня от необходимости говорить о Нике. Признаюсь, у меня на эту самую Нини были дальние и совсем не преходящие планы. Она тоже мне нравилась, и сейчас я разрывался на части: Нини или Пат? И все больше склонялся в сторону Пат. Но и Нику помнил. Она на неделю куда-то исчезла, загадочно объявив, что без меня будет тоже скучать. И вот только вчера по электронке прислала письмо: «… я тоже скучаю. Я — в каждой травинке, в росе…». Я верил этим скупым словам… И искал росу, что погуще… Пат еще о чем-то спросила, потом мы немного поспорили о судьбе планеты. — Я не уверена, — сказала она, что тебе и всем вам удастся… — Нам, — сказал я. Она даже не подняла глаза. А я продолжал: — Это старая истина, что любое достижение человеческой мысли, будь то колесо или порох, электрон или атом или тот же, набивший сегодня уже оскомину код ДНК, может быть использовано как во благо, так и во зло… — Даже колесо? — Да. Попытка остановить или ускорить ход колеса времени может обойтись человечеству крахом небывалых падений. Мы ведь не ведаем, что творим, а ведь так можно пошатнуть и земную ось… Вот и наш проект… Если нам удастся… — Не удастся, — твердо произнесла Пат. На это я только улыбнулся. Я пил глоток за глотком, и, кажется, не пьянел, а когда проснулся, Пат смотрела какой-то видик. — А проснулся, мой милый. Она встала, подошла и чмокнула в щеку. — Пора, — сказала она, — светает уже. В самом деле: уже рассвело. — Вот, — сказала она без всяких предисловий, — твой код. Между нами теперь был стол, она восседала на моем кожаном кресле, как на троне — царица! — а я все еще, протирая глаза кулаком, лежал на диване. — Какой код? — задал я дурацкий вопрос. — Наш, — сказала она, — теперь наш. И цифирка в цифирку назвала всю последовательность кода. — Наш и мой. Ты только не дергайся, постарайся услышать меня. Я все понял! Она не могла дождаться той минуты, когда я положу на алтарь ее власти ключи от мира. И вот они у нее в руках! Теперь код для пуска объекта лежал в одной из ячеек ее мозга, как в несгораемом сейфе. Это значило, что… Это значило — все! — Тыыыыыыы… — начал было я. Не волнуйся ты так, я — с тобой. — Мыыыыыы… Я мычал, как бычок и не понимал, как могло так случиться что… Говорили мы совсем тихо, я пытался слушать, но не слышал ее, потом все-таки прислушался: — Вот и твой коллайдер, — говорила Пат своим завораживающим голоском, — это ключи к власти над миром и ты это знаешь. Еще бы! Я понимаю это так, как никто этого не понимает. — Да, — говорю я, — прекрасно понимаю, но… — Не говори ничего, не надо… Мне жаль… Я бы рада, но ты пойми — кровь… Кровь — великая сила… Нет в мире ничего сильней силы крови. Я должна… Как ты хранишь тайну деда, так и я несу в себе тайну крови… Мы ведь не имеем права не править. Мир всегда принадлежал нам, и так будет теперь и впредь. Поэтому ты должен умереть. Ты — большая умница, ты не можешь этого не понимать. Она привстала и вручила мне легкую пиалу. Пистолет холодно блестел в ее правой руке. Я был поражен, с каким выверенным спокойствием и умилительным прекраснодушием она все это мне говорит. — Вот — я сама приготовила. На секунду умолкла, затем: — Ты мне будешь только мешать. Она улыбнулась. Такого отчаянно равнодушного тона я никогда прежде не слышал. — Так что — пей…У нас с тобой просто нет выхода — пей… Не заставляй меня давать волю твоей крови. Ты умрешь, как Сократ. И точно так же, как моя великая бабка… От цикуты или от укуса змеи — большой разницы нет: яд есть яд. Все великие так умирали. Цезаря, правда, зарезали, а Иисуса — распяли… Но не буду же я тебя… Умри великим, мой милый… Не пачкать же мне стены и простыни твоей кровью… Ты одно должен понять: я должна… Я — должна… О, Господи! Я было так ей поверил, распахнул перед ней свою кроткую жизнь и душу… Я принес себя ей на открытой ладони, как на алтарь Бога, принес все свои ценности и достоинства, все свое настоящее и будущее — на, бери! Хорошего ведь не жалко! Вдруг — такое холодное равнодушие… Равнодушие? Просто смешно! О, эта неутолимая боль! — Пат, — сказал я. — Что, милый? Мне никогда не было так больно! — Да нет, — сказал я, — ты тут ни при чем. Выхода, я понимал, и в самом деле не было, но это был уже не пат — мат! А что я ей мог предложить? Ничего. Ведь нет в мире силы, способной одолеть силу крови! Я был прикован, прижат, приколот к сукну, как какой-то жучок. Единственное, что мне оставалось, чтобы достойно уйти из жизни — не пролить ни единой капли из ее щедро преподнесенной мне чаши. Это уж я постараюсь! И теперь с каким жадным удовольствием и удовлетворением я выпью всю эту свою цикуту! Ведь это — освобождение! — Ладно, пока, — сказал я, улыбнувшись, — спасибо тебе и за это… Я посмотрел ей в глаза, но не нашел в них ни тепла, ни участия. И опрокинул в себя все терпкое содержимое своей горькой чаши. Великим — великая смерть! Александр Попов Воспоминания Мое первое осознание себя связано с таким воспоминанием: я стою у деревянного, потемневшего от прошедшего дождя забора, и смотрю на яркую зеленую траву. Потом возникают, как кадры из "фильма памяти" - пыльный двор с бегающими по нему курами, деревянный дом, за штакетником забора темно-бордовые георгины. Молодая женщина переходит двор. Следующий фрагментвспышка: я сижу на полу в темной комнате, сзади открытая дверь с включенным светом, стул опрокинут и превращен в руль, за моей спиной стоят стулья, на них сидят пассажиры троллейбуса, моя родня. Я шофер троллейбуса, объявляю остановки и возмущаюсь, если пассажиры выходят на ходу. "Следующая остановка Покровско-Стешнево", - громко говорю я. Мне три с половиной - четыре года. Наш дом стоял в Москве недалеко от Волоколамского шоссе, напротив, через железную дорогу, был лес Покровское-Стрешнево. Еще короткий фрагмент. Большая полуподвальная комната, свет из окон падает сверху, по краям комнаты лежат разные игрушки, недалеко от меня на полу стоит большая, деревянная, покрашенная голубой и желтой краской грузовая машина. В центре комнаты стою я, в чулках и шортах на лямках, в глубокой тоске. Мама только что вышла из комнаты, и я остался один в чужой и незнакомой обстановке... Она привела меня на Сокол первый раз в "детский сад". Зимой меня возили на санках. Запомнилось как отец шагал по плотному снегу, а его ботинки звонко скрипели. Я сидел в санках, укутанный в шерстяной платок, и дремал под скрип ботинок отца. Мне было тепло и уютно. В деревянном доме в Покровское - Стрешнево я прожил пять лет, затем отцу дали комнату в коммунальной квартире, и наша семья переехала в другой район. Славик и я. Покровское-Стрешнево. 1955 г. ---Мне 14 лет. Я иду с мамой, первый раз, в Музей Изобразительного Искусства на Волхонке. В залах голландской живописи от темных картин с золотисто-умбристым колоритом исходит какое-то тепло, будто сидишь у очага или камина. Необыкновенный, чудесный запах, аромат старого лака стоит в пространстве выставочного зала. Я интуитивно чувствую, что аура, исходящая от картин, наполняющая залы, другая, чем за окном. Здесь тепло, спокойно, хорошо; там холодно и тревожно. Запомнились натюрморты Виллема Клас Хеды, Питера Класа, "Ветчина с серебряной посудой", "Завтрак". При ходьбе по залам музея у меня тяжелеют ноги, на них будто пудовые гири, я часто присаживаюсь отдохнуть на скамейку. Позже, на протяжении нескольких лет учебы в детской художественной школе, при посещении музеев у меня всегда тяжелели ноги и я, молодой паренек, превращался на некоторое время в дряхлого старичка. Сейчас я думаю, что это происходило со мной оттого, что я, помимо своей воли, как губка, впитывал токи, исходящие от картин, а так как в музеях собраны великие живописные произведения, то и поле этих картин было великим и мощным, до такой степени подавлявшим меня, что я еле волочил ноги. Выходя из музея, спускаясь по лестнице, я попросил маму купить мне краски. За красками мы поехали с отцом, купили самое необходимое: масляные краски, картон, льняное масло, скипидар, палитру и пару кистей. По совету отца я начал срисовывать, увеличивая на картоне, открытки с разными видами. Белый пароход плывет в лазурном море, березы на берегу реки летом, дом Чайковского в Клину с клумбой цветов перед фасадом. Я был в восторге от запаха масляных красок, льняного масла и скипидара, с нетерпением ждал момента начала рисования. По окончании работы мы с отцом отставляли на несколько метров готовую картонку и обсуждали новое произведение живописи. Все нарисованные картонки я покрывал олифой, это придавало им немного золотистый оттенок и насыщенную блестящую поверхность. Таким образом, за несколько месяцев я перерисовал масляными красками множество открыток с различными видами и повез эти "произведения искусства" с мамой в художественную школу, которая находилась на Кропоткинской улице. Директор художественной школы удивилась, что я начал рисовать маслом, минуя карандаш, акварель и гуашь. Для поступления в школу это не годилось. Она посоветовала мне нарисовать карандашом на плотной бумаге яблоко, разрезав его пополам, и кувшин. В общ ем поставить натюрморт. Рисовать масляными красками она запретила. Вечером этого же дня я нарисовал яблоко в разрезе, за неимением кувшина рядом изобразил стеклянный графин, наполовину наполненный водой. Короче, я начал заниматься "правильным" творчеством, но лишил себя удовольствия вдыхать запах льняного масла и масляной краски. В начале лета 1966 года я пришел сдавать экзамены в художественную школу, на экзамене по композиции выбрал тему: "Как ты провел лето?". Перед этим я побывал в школьной поездке в Ленинграде. Мы ночевали на физкультурных матрасах в спортивном зале какой-то школы. Утром умывались в школьном туалете, чистили зубы болгарской пастой "Pomorin", завтракали в кафе, посещали музеи и достопримечательности. И вот на экзамене по композиции я вспомнил о своей поездке. Владел я акварелью и рисунком плохо, и из больших впечатлений о величественном городе с полноводной Невой и дворцами у меня получилась мазня из краски темно-бурого цвета. Внизу листа, в темном пятне краски угадывалась лодка. Владимир Акимович Рожков, преподаватель рисунка и завуч в художественной школе, мою композицию почему-то похвалил и сказал, что в ней есть живописность. Возможно, так оно и было. Позже, ближе узнав Рожкова, я увидел в нем деликатного и интеллигентного человека. Меня приняли в художественную школу. ___ В художественной школе моими педагогами были Евгений Аскерович Измайлов и Михаил Александрович Рогинский. Как-то Рогинский задал по композиции тему "Дом". Акварелью на листе бумаги, 60х70, я написал по центру большое дерево, в ракурсе снизу вверх. Широкий ствол сужается к кроне. Дерево стоит на площади, на которую зритель смотрит сверху. Получилась своеобразная перспектива с двух противоположных точек зрения. Площадь окружена по верху композиции домами, заполнена гуляющими людьми и экипажами. Костюмы людей напоминают Францию начала 18 века и Петербург 19. В то время я часто простаивал в музее у картин Никола Ланкре и Жана Ватто. Акварель эту писал долго, иногда на кухне в коммунальной квартире, перевозил ее с собой, свернув бумагу трубочкой, работал над ней у деда в сельском доме в Раменском. Один фрагмент, слева вверху, с изображением дамы в кринолине и господина в котелке мне особенно удался. Его написал, можно сказать с посещением вдохновения. Когда работа была закончена, я показал ее Рогинскому. "Дерево - Дом". бум. акв. 60х67 1968 г. То, что тема "Дом" превратилась в "Дерево" и не была раскрыта, не вызвало вопросов, акварель понравилась. Рогинский на занятиях никогда не проявлял своих эмоций. Его отношение можно было уловить по взгляду из-под бровей, по интонации голоса. И вот он сразу заметил фрагмент слева вверху на моей акварели, и привел его, как пример нужного письма. Удивительным и замечательным педагогом был Михаил Рогинский, немногословный, он никогда не навязывал своего мнения. Обсуждение работы ученика происходило короткими репликами, которые ассоциативно выявляли мысль, так сказать, по касательной. Мне, например, при каком-то разговоре он однажды посоветовал посмотреть живопись Бориса Григорьева, русского периода, что я и сделал, посетив библиотеку при Третьяковской галерее. Под впечатлением ранних работ Б. Григорьева, во время возвращения в сумерках на мосту через канал, около кинотеатра "Ударник", проходившие мимо меня люди представлялись мне в нарядах и шляпах с перьями, как на его картинах. Работу "Дом-Дерево" повесили на отчетной выставке в художественной школе. После удачи с этой композицией, со мной беседовал Евгений Измайлов и задал мне вопрос, который меня ошарашил: "Саша, хочешь стать главным художником Большого театра?". Измайлов как художник и педагог привил мне творческую фантазию, интерес к живописной импровизации. Позже, увидев его живопись, в которой было смешано очарование театра Серебряного века с фантастической образностью Иеронима Босха, я понял каким мастером, создавшим свой, с неповторимой эстетикой стиль, является Евгений Измайлов. ___ Когда наступала весна, мы с моим другом Сережей Патрушевым после занятий в художке, шли гулять. По дороге в булочной покупали сушки с маком, шагали по наполненной весенними запахами Кропоткинской улице, грызли сушки и разговаривали о том, о сем. Так доходили до музея Изобразительных Искусств им. А.С. Пушкина. За музеем, в Малом Знаменском переулке, находится дом со скульптурной композицией из трех женских фигур на фасаде, под крышей. Мы поднимались по пахнущему кошками черному ходу, вылезали на крышу, на которой была смотровая площадка, и любовались видом весенней Москвы. Странным делом замок, висевший на двери крыши закрытым, всегда открывался в моих руках. Учеба в художественной школе, в комнатах которой, возможно, еще присутствовала тогда аура Поливановской гимназии, была для меня в то время тёплым островком в окружающей холодной и невзрачной школьной жизни подростка. Я ехал до школы в троллейбусе № 31, затем шел по Померанцеву переулку и обдумывал, как и что буду рисовать, испытывая душевный трепет перед встречей со своими учителями. Запомнился один эпизод. Во время урока Рогинский иногда выходил из класса, через какое-то время возвращался и его пиджак, край спины, был испачкан белой побелкой от штукатурки. Видимо он сидел где-то на подоконнике, прислонившись спиной к стене. Так вот, возвращался Михаил Александрович в таком виде и с очень серьезным, нетерпящим возражений выражением лица, прохаживался по классу, иногда делая замечания ученикам. Спустя много лет, в 1992 г., в Париже, при встрече с Рогинским, я рассказал ему об этом деликатном моменте из времен его учительства, благодаря которому мне открылось что-то важное о творчестве. Рогинский меня не понял и как я узнал позже из одного интервью, считал, что ничему меня тогда не научил. Вообще я думаю, что тогда меня особенно и не нужно было учить рисовать и писать красками. Мне было достаточно двух живых примеров моих учителей, больших художников. Глядя на них, я постигал, что такое настоящий живописец, каким он должен быть - а должен он быть свободным человеком! ___ После окончания общеобразовательной и детской художественной школы, я поехал показывать работы в Строгоновку. До экзамена меня не допустили. Чтобы оттянуть уход в армию - полгода проработал чертежником в НИИ им. Курчатова. Подал заявление в Полиграфический институт. На экзамене по иллюстрации получил два и, со спокойной совестью, ушел в армию. Служил сначала в учебке в Саратове, затем в Алма-Ате, радистом при штабе армии. За драку в ленинской комнате побывал на губе и, будучи уже "фазаном", военнослужащим прослужившим год, был отправлен с рядовым Колей Кудиновым в казахстанский поселок Актогай. По приезде меня - как москвича, не откладывая в долгий ящик, прописали "старики" красноярцы. Семеро на одного. Колю не тронули, он был свой, деревенский. На следующий день на разводе майор Иванов, увидев мое живописное лицо, хриплым голосом, напоминающим Высоцкого, спросил: "В чем дело, Попов?". Я ответил: "Рубил дрова товарищ майор и бревно, отскочив, залепило мне в лоб". Майор хмыкнул и посоветовал быть осторожней. Служба в Актогае была боевая. Житьё-бытьё с собакой по кличке Боб и двумя сослуживцами в караулке - домике в степи, который зимой засыпало снегом по крышу. Пьянство "стариков" красноярцев в поселке Жуз-Агач, с погоней и перестрелкой с ментами, тоже пьяными. Катание в степи на одичавших верблюдах. Ловля рыбы сетями в озере Балхаш с инспектором рыбоохраны. Стрельба из пистолета лейтенанта Жовнира по бутылкам в песчаном карьере. Охота ночью в степи с грузовика "Урал" на зайцев, лис, других диких животных. После отбоя драки половниками на кухне. Вобщем полу-уголовная романтика в диких степях, с элементами сафари. ---Вернувшись из армии, я стал посещать различные художественные студии в Москве, где за копеечную плату можно было порисовать обнаженную натуру. Одновременно я не оставлял попыток поступить в Полиграфический институт. В 1974 году подал заявление. Опоздав на пол часа, я явился с томиком "Заратустры" под мышкой на экзамен по иллюстрации. Взял тему "А слона-то я и не приметил...", по басне И.А. Крылова. На заготовленных небольшого формата листах бумаги приступил к рисованию графитным карандашом. Тему иллюстрации я раскрыл таким образом. В разных вариантах лист бумаги делился линией жопы слона с задней ногой и хвостом на два мира: Света и Тьмы. В части задницы слона был изображен мир, наполненный Светом и Солнцем, с деревьями и животными. Мир же Тьмы располагался вне этой части тела слона, в нем находились нарисованные с натуры, но обезличенные фигурки абитуриентов. Каждый из абитуриентов рисовал, глядя на мир Солнца и Света, но при этом держал в руках планшет с изображением звездного неба с луной. Получилось, я раскрыл тему: "А слона-то они и не заметили...". Таким образом, резко разграничив линией карандаша два противоположных мира и, как бы раскрыв их сущность, но не раскрыв тему иллюстрации, я тем самым провел черту и разделил этой линией себя и институт, получив на экзамене символическую цифру "два". ___ В ноябре 1972 года, спустя три месяца после демобилизации из армии, я устроился работать дворником на улице Арбат. Перед этим чуть было не стал радистом на судне, уплывающем на полгода в Антарктику, но вовремя одумался. На Арбате мне дали участок от арки магазина "Овощи - фрукты", в двухстах метрах от ресторана "Прага", до магазина "Школьник". В ЖЭКе № 6, недалеко от Арбатской площади, подрабатывали дворниками студенты Гитиса, будущие актеры, режиссеры, начинающие поэты и художники. На Арбатской пл., в доме №6/2 в нашем распоряжении с Сергеем Патрушевым оказалось восемнадцать комнат. Вид из окна мастерской на ресторан "Прага" 1973г. У Сергея девять на третьем, у меня девять на втором. Это были когда-то коммунальные квартиры, жильцов выселили, теперь жилплощадью распоряжался ЖЭК. Началась моя арбатская богемная жизнь. Рано утром я подметал или скреб снег, в зависимости от времени года, в 9 часов дворники собирались в каптерке у техника-смотрителя Коли Жильцова, после 11 часов предавался творчеству. День заканчивался в теплых объятьях Бахуса. Я был молод, свободен, весел и пьян, такая была у меня и живопись. Жизнь кипела ключом. Вечером встречи друзей студентов, застолье с портвейном, песни хором. Случалось, посиделки заканчивались драками - дверь открывалась копейкой, кто кого пригласил неизвестно. Однажды, придя вечером на Арбат, я обнаружил у себя в комнатах разные компании людей, которые пили и веселились, но мне были не знакомы. Приезжала милиция - мы гасили свет. Менты, оказываясь в комичной ситуации, доставали свои "макаровы" и, продвигаясь ощупью по длинному тёмному коридору, ловили... оранжевую кошку нашей молодости в сером пространстве служебной совести. Утром приходил участковый, молодой лейтенант, расспрашивал о вчерашнем. Мы ему наливали, если было, и он уходил. С. Патрушев, С. Миллер, А. Попов. Арбатская пл. д.6/2 1973 г. фото С. Пархомовский. На Арбатской площади, около нового входа в метро, в кафе "Ветерок" приятно было выпить стаканчик сухого белого. Напротив кафе был фонтан с бронзовой скульптурой мальчика с рыбой в руках. Как-то раз в летнюю жару я поспорил с Патрушевым на три рубля, что влезу в фонтан и встану рядом со скульптурой, не снимая пиджака. Выиграв пари, мы отправились на Арбат в "Решётку" за портвейном. Моим соседом по бывшей коммуналке был Вириков. Он работал в "Автоэкспорте", имел машину Жигули - универсал, крутил голову женщинам (или они ему), в коридоре на батарее лежал большой бивень слона, в комнате висела пробковая шляпа, привезённая им из Африки. Когда бабы, рыдая, в слезах выбегали из его комнаты мне приходилось с ними сталкиваться, так как моя комната была рядом с выходом. Таким образом, я знакомился с впавшими в немилость соседа женщинами, приглашал их к себе в комнату, где предлагал им мне позировать. Какой же дурень я был тогда. У Вирикова была дача. Как-то он сказал, что хотел бы, в мезонине устроить комнату для игры в карты и расписать потолок. Крыша имела треугольную форму, соответственно росписи должно быть две. Я сказал, что каждая будет стоить 30 рублей, итого вся работа 60. Вот, думаю, хорошо получается, напишу в своё удовольствие, а затем уеду в Крым. В голове у меня тогда варилась романтическая каша - коктейль из песен А.Вертинского, стихов раннего В. Маяковского, живописи Б. Григорьева, Н.Сапунова, Н. Пиросмани. Я приступил к работе над росписью, на первых четырёх листах оргалита, написал композицию-фриз в голубой, красно-фиолетовой цветовой гамме. Затем, также на четырёх листах, написал композицию в тёплых жёлтых тонах. Работу назвал "В ночном саду распустились розы". Вириков дал мне 30 рублей, пообещав оставшуюся сумму отдать после. Мы увёзли роспись на дачу. Ну, думаю, солидный человек, имеет дачу, работает в такой конторе, выезжает заграницу... Но денег я не получил. Рассказал об этой ситуации Сергею Миллеру, и мы решили, так как оплачена половина работы, одну композицию забрать. Кинули альпинистскую вёревку через плечо, ранним, погожим субботним утром отправились на вокзал, доехали на электричке до нужной станции, долго шли просёлочной дорогой. Подойдя к даче Вирикова, мы увидели на веранде его женщин, затем, побледнев, появился он и безропотно отдал нам одну роспись. Веревка пригодилась для крепления листов оргалита и последующей переноски. Вот такая смешная история, связанная с этой картиной. "В ночном саду распустились розы" орг. тем. 85х492 1973 г. В это время в нашем доме побывало множество людей. Часто приходил мой школьный друг Сережа Миллер, Саша Кузьмин, Юра Шестаков, Володя Исурин, Сережа Нечетайло, Катя Шиндель, Таня Самохина, заходил Григорий Перченков. Посмотрев мою композицию "В ночном саду распустились розы", он высказал свое впечатление фразой из известной песни: "На далекой Амазонке не бывал я никогда". Заходил Евгений Измайлов, Михаил Рогинский, который в это времени работал в маленькой полуподвальной мастерской около музея Изобразительных Искусств им. А.С. Пушкина. Он писал в своем подвале очень хорошие вещи. Это были работы маленького размера на дереве или оргалите с левкасом, выполненные казеиново-масляной темперой: серии "Трамваи", "Окраины Москвы". Картины очень необычные и красивые по живописи, иногда почти миниатюры. Рогинский писал долго и серьезно переживал их, я в них видел музыку Баха. Считаю, что это лучшие работы, которые написал Михаил Рогинский. К таковым можно отнести еще ранние работы, выполненные маслом в 60-х годах: кухонные натюрморты, серии "Штаны", "Примусы", "Дома с трамваями". В 1974 году я уволился из ЖЭКа №6 и поступил работать художникомдекоратором в Московский Театр Оперетты, проработал в этом учреждении около года, но ничего интересного для меня там не было. Я продолжал использовать жилье на Арбатской пл. как свою мастерскую. В 1973 году помимо композиции темперой на оргалите "В ночном саду распустились розы", написал там большую работу, состоящую из шести листов ДВП, которую назвал "Апофеоз". В 1974 году создал композицию "Осенний вихрь". "Осенний вихрь" орг. тем. 137 х 120 май 1974г. С этой работой у меня в памяти связана история ее создания. Писал я ее весной, в апрелемае 1974 года, во время работы ставил одну и ту же пластинку Боба Дилана, которую мне подарила тогдашняя моя подружка француженка Мари (люблю работать под музыку). Сергей Патрушев дружил с Клер, Александр Кузьмин с Натали. Откуда приходили и куда уходили эти мадмуазель, для меня было загадкой. Мари постоянно динамила меня. Я начал писать на листе оргалита казеиново-масляной темперой, импровизируя и размазывая цветовые пятна без всякой цели. Ближе к центру листа возникло голубое пятно, слева и справа - оранжевое, красное, желтое, фиолетовое. Смеркалось. Цветовые пятна стали еле различимы в полумраке, но внизу листа отчетливо возникла женская фигурка в белом платье, стоящая под осенними деревьями, за стволом одного из них угадывалась мужская фигурка в шляпе. Когда я включил свет, эти образы исчезли, были только яркие пятна цвета. Выключил свет - они стоят. И вот как-то изловчившись (кажется, даже свечку на шляпу прикреплял) эти две фигурки под осенними деревьями я всё-таки наметил. Эта деталь картины была другого колорита, вообще это был фрагмент другой композиции, написанный на фоне живописи резко отличавшейся от него по цвету и стилю. Так постепенно работая над этой вещью, фрагмент у меня с двумя фигурками расширялся в пространстве, и возникла другая картина. Назвал я ее "Осенний вихрь". Сейчас, анализируя свой творческий опыт, считаю, что смысл занятия живописью, заключается в процессе ее создания. Важен не результат, а процесс сотворения картины. Эта мысль пришла ко мне намного позже, а тогда писал особенно не задумываясь, интуитивно постигая смысл живописи. Конечно, это касается только меня. С картиной "Осенний вихрь" связан еще один эпизод из моей арбатской жизни. Я писал эту вещь, в этот процесс громко ввинчивался космический звук блюза в исполнении Боба Дилана; периодически, чтобы заменить воду в банке, мотался по длинному коммунальному коридору, окурки "Беломора" швырял за ванну. Через какое-то время, я услышал беготню в коридоре, дверь приоткрылась и Саша Кузьмин, в это время живший у нас, крикнул: "Пожар!". Выскочив за дверь, я увидел в конце коридора пылающую огнем ванную комнату. Каким-то образом Сережа Патрушев, Саша Кузьмин и я смогли потушить это возгорание до приезда пожарных, мы быстро свалили из квартиры. Яркие воспоминания в памяти оставили наши похождения с Сергеем Миллером по арбатским задворкам и выселенным, обреченным на слом домам. Летом 1974 года во дворе на улице Фрунзе я увидел тележку с большими металлическими колесами и укатил ее к себе в дворницкую. Сварщик в театре Оперетты сварил по моему чертежу каркас из толстой проволоки, его я обтянул плотной тканью, покрасил её полосами разного цвета, а колеса красной краской. Получилась телега-арба, с ярким цветным азиатским тентом и громыхающими при езде по асфальту колесами. В эту телегу-арбу я погрузил свои холсты, живопись темперой на оргалите, красный патефон, пластинки, веревку. Утром 25 августа, предварительно пригласив своих друзей и знакомых на предстоящую выставку, я покатил эту громыхавшую колесницу по Комсомольскому проспекту в сторону центра Москвы. Везу арбу по Метростроевской ул. фото С. Миллер. 25.08. 1974 г. Сопровождал меня и был фотографом мой друг Серёжа Миллер. Машин почти не было, погода была солнечная. По ходу движения Сергей Миллер фотографировал мой московский заезд. Прохожие воспринимали это зрелище, как нечто из цирковой бродячей жизни, некоторые улыбались. Переехав Крымский мост, затем, проехав по Метростроевской улице, я вкатил арбу с картинами на Гоголевский бульвар. На бульваре мы с Сергеем быстро натянули веревку между деревьями на уровне человеческого роста, повесили на нее холсты, листы оргалита просто прислонили к веревке, патефон поставили на траву газона и подкрутили: Утесов с пластинки запел "Дорогие мои москвичи". У патефона. Фото С. Миллер. 25.08. 1974 г. В экспозиции были представлены около семнадцати работ 1973-1974 годов. Композиции: "Осенний вихрь", "Апофеоз", "В ночном саду распустились розы", "Птичий рынок", другие, выполненные темперой. Были картины маслом на холсте и графика. Постепенно гуляющий по бульвару народ, привлекаемый звуками патефона, стал собираться к месту уличного вернисажа. В своей пустой телеге-арбе я катал по бульвару пятилетнюю девочку, которая сразу после выгрузки картин залезла под тент повозки. Арбатские жители, отдыхающие на бульваре, собирались в кружки около картин. Возникали споры и обсуждения. Зрители сами подкручивали ослабевшую пружину патефона и меняли пластинки. Звучала популярная в 50х годах музыка: вальсы "На сопках Манчжурии", "Амурские волны", песенка "Мишка, Мишка"... Я переходил от одной группы людей к другой и, в приподнятом настроении, прислушивался к спорам и разговорам. Развеска картин на бульваре. Фото С. Миллер 25.08. 1974 г. Арбатские зрители на Гоголевском бульваре. Фото С.Миллер. 25.08. 1974 г. Споры и обсуждения. 25.08. 1974г. Композиция "В ночном саду распустились розы" вызвала вопросы, так как был коллаж из игральных карт. Живо проходило обсуждение картины "Осенний вихрь". Два подвыпивших мужика, недоуменно уставившись на работу с надписью "Вино", хотели, было, опрокинуть ее, но обошлось. По окончании моей уличной выставки, погрузив в телегу картины, я с друзьями повез ее по Гоголевскому бульвару в сторону Арбатской площади. В каморке дворника, новом жилье Сергея Патрушева, в Нижнем Кисловском переулке с компанией друзей я устроил скромный выпивон. Друзья после выставки фото А. Попов 25.08.1974 г. Я не сообщал о своем намерении провести уличную выставку властям. О ней кроме моих друзей и знакомых никто не знал. Видимо поэтому она благополучно завершилась. Через три недели, 15 сентября А. Глезер подхватил идею проведения выставки на улице и организовал выставку на пустыре в Беляево. Он пошел другим путём: законопослушно подал заявление о проведении, сообщив при этом место и время вернисажа властям, оповестил иностранные посольства, обзвонил западных журналистов. Это было бы нормально и естественно в любой демократической, но не в нашей тоталитарной стране. Учитывая маразматическое тупоумие тогдашней власти, Глезер выбрал и искусно запрограммировал давно опробованный в мире искусства скандал. В 1995 году издан каталог "Три московские выставки" со статьей Сергея Кускова и фотографиями Сергея Миллера. ___ Арбатские типы. Катилась шляпа по Арбату колесом, поддаваемая ветром, тёмно-зелёная, Догнал её, примерил, она была почти новая. С тех пор я подметал Арбат в длинной синей рабочей блузе и зелёной шляпе. Территория моего участка была от магазина "Овощи-фрукты" до магазина "Школьник", недалеко от ресторана "Прага". Летним утром, сметая кучу окурков, увидел сидящих на приступке окна магазина "Овощи-фрукты" двух бомжей - бабу с опухшими, в язвах, ногами и мужика. Вид они имели драматический, одеты были в живописные лохмотья: "как на офортах Рембрандта", - промелькнуло в голове. В советское время бездомные бродяги встречались редко, их быстро отлавливали. Задрав, подтянув к коленям тряпьё, с одутловатым сизым лицом, баба грела ноги, обутые в засаленные обноски "прощай молодость", на тёплом утреннем солнце. Работая метлой, я передвигал кучу окурков мимо этой пары. Бомжиха попросила выбрать ей бычок с тротуара. Я подал ей чинарик, зажёг спичку, она закурила. С тех пор, несколько дней подряд, у меня с бомжами проходила эта церемония, которая превратилась в некий ритуал - без слов, одними глазами мне давали понять, где находится выбранный окурок. Я выступал в роли тротуарного бармена. Делал это, скорее из любви к искусству, к офортам Рембрандта, чем из христианского милосердия. Но возможно присутствовало и то и другое. Бомжам же, видимо, нравилось, что молодой мужчина в шляпе подыскивает им в куче мусора подходящий окурок, даёт прикурить, тешили своё, уязвлённоё мраком жизни, самолюбие. В это время я нарисовал темперой на оргалите работу, изобразив жанровую сцену с бомжами у магазина "Овощи-Фрукты". Иногда приходилось, работая дворником, выполнять административную работу. Техниксмотритель Коля, с подходящей для должности фамилией, Жильцов, дал задание обойти на моём участке квартиры должников по квартплате. Длинным тёмным коридором, с выкрашенными зелёной краской стенами, я прошёл на кухню коммунальной квартиры. Собрались немногочисленные жильцы. Я зачитал по бумажке фамилии коммунальных должников. При упоминании одной из фамилий передо мной из мрака кухни возникла костлявая, жилистая, востроносая старуха. Ворча и матерно ругаясь, она стала спорить со мной, доказывая, что вовремя погасила долг. Из кармана грязного фартука мегера достала пачку "Беломора", закурила папиросу, пуская клубы едкого дыма мне в лицо, размахивая руками, стала надвигаться, вытесняя из кухни. Стали слезиться глаза. Папиросные гильзы эта арбатская ведьма набила ватой. Я позорно был вытеснен в коридор и бежал. Люди бывают разные. Мне запомнилась одна миловидная арбатская старушка, которая в похожей ситуации, при обходе коммунальных должников, видя, что я интересуюсь, сняла со стены в коридоре старый рисунок в изящной рамке и подарила его мне. Рисунок с купидонами, принадлежал к школе Буше, был датирован 1774 годом. Я отнёс его в скупку антиквариата, возле метро Октябрьская, оценили в сорок пять рублей. На вопрос, почему так дёшево, ответили, что рисунки, дороже сорока пяти рублей не оцениваются. На следующий день рисунок был продан. Деньги я сразу прокутил. Зимой мостовые Арбата обрастали льдом. Около водосточных труб поднимались ледяные торосы. Если тротуар вовремя не посыпался песком, граждане падали. Соли часто не было, приходилось долбить лёд, модернизированным для этой цели, топором, приваренным к лому. Эту нудную работу я не любил, больше нравилось убирать свежевыпавший снег. Зимой во дворе, при уборке снега, в промежутках отдыха я часто слышал из окна флигеля на втором этаже пение. Профессионально поставленный мужской голос, исполнял басом оперные арии. Против этого окна я прекращал работу и некоторое время прислушивался к пению. Но однажды, видимо увлёкся работой, продолжал скрежетать лопатой, и поплатился - в десяти сантиметрах от головы пролетела бутылка из-под портвейна, разбилась об лёд. В сердцах я выразительно выругался, но предусмотрительно переместился вглубь двора. Таким образом состоялось моё заочное знакомство с оперным певцом, спившимся солистом Большого театра. Солист был оригиналом, его статную фигуру знала вся округа. Зимой, с похмелья, в байковых тапочках с помпоном, на босу ногу, накинув на голое тело цветастый махровый халат, в норковой шапке, он солидно выходил из подъезда во двор, как на сцену, шёл по снегу с авоськой за портвейном в "Решётку". Среди алкашей так прозвали магазин "Продукты" на противоположной стороне от "Школьника". Чаще портвейн можно было достать, просунув руку с деньгами между прутьев металлической решетки, со двора, с чёрного хода. У Саши Сазоненко, обладавшего пивным брюшком, была огненно-рыжая борода, зелёные глаза. Он был техником-смотрителем соседнего участка. На утреннем разводе в его конторе собиралась дворницкая интеллигенция: студенты ГИТИСа, поэты, художники. Разговор шёл не о работе, а на высокие темы, касающиеся искусства. Сазоненко меценатствовал, промышлял антиквариатом, всё это имело авантюрный оттенок. Его служебная квартира, на втором этаже, окнами выходила на улицу Фрунзе, которая была правительственной трассой. Здесь был участок дворника, ветерана войны, Алексея. Хромой ветеран по праздникам надевал белый фартук, дворницкую бляху с номером, которой я восхищался, и выходил с метлой встречать правительственный кортеж. Лёшу гоняли, ругали, но ничего не могли поделать с его верноподданнической преданностью, она была в крови. Как праздник, так поддатый Лёша, с метлой, как с ружьём, навытяжку стоял на тротуаре. - Зайди ко мне, - сказал Сазоненко. В большой квадратной комнате, с тремя окнами, неубранной кроватью, разбросанной одеждой, меня встретили, виляя хвостом, две белых болонки. - Взгляни, там, на гардеробе, пара листов раннего Шагала. - Вчера купил, - подчёркнуто небрежно, сказал, снимая ботинки, Сазоненко. Пошарив рукой на гардеробе, я достал два небольших пожелтевших листа, изображавших мужиков в ватниках, летящих над серым забором, зелёной травой. Я посмотрел и понял, что это фальшак. - Надо же, Шагал, не ожидал, поздравляю, - сказал я. Сазоненко, хитро прищурясь, улыбнулся. Как-то в конторе я застал такую сцену: за столом сидит Сазоненко, напротив, на продавленном кожаном диване, положив ногу на ногу, по-американски, в брюках в полоску, франтоватого вида, с налётом одесского шика в одежде, мужчина, похожий, в моём воображении, на Остапа Бендера. Саша Созоненко в большое увеличительное стекло, сопя, рассматривает крышку серебряных часов с гравировкой "За отличную стрельбу". - Да, герб Ростова, олень, но столько дать не могу, - пыхтя, заявляет Сазоненко. - Посмотри перстень: камень рубин, золото, фамильная вещь, скручивая с пальца кольцо, говорит Бендер. Сазоненко заинтересовался, стал торговаться, в конце концов, купил. Остап легко покинул контору. После его ухода, Сазоненко, в возбуждении от удачной сделки, предложил пройти с ним прогуляться в скупку драгметалла на Арбат. Арбатский ювелир разочаровал его, золота в перстне было меньше двадцати процентов, рубин был фальшивым. Не подавая виду, что расстроен, Сазоненко заторопился в ЖЭК. Я подумал, что лучше бы он часы купил у новоявленного Бендера, так как теперь вряд ли его встретит на Арбате. ---В ноябрьские праздники 1974 года я гудел с одним слесарем-водопроводчиком. Расстаться не получалось никак. Выпивали в бойлерной, потом его вызывали на аварию. Где-нибудь прорвало трубу, нужен был срочный ремонт. Я тащился за ним, ждал пока он, стоя по колено в воде, героически, как моряк-подводник, боролся с хлеставшей из трубы водой. Потом мы опять где-то занимали деньги, брали портвейн, шли в бойлерную. Смоленский гастроном работал до двадцати двух часов, это был дежурный вариант взять выпивку, когда обычные магазины закрывались. Мы успели, взяли в давке, без очереди, на последние деньги пару бомб. Он пригласил зайти к его корешам-слесарям в общежитие. Дом находился на противоположной стороне Садового кольца, напротив Смоленского гастронома, сейчас там Смоленский Пассаж. Поднялись пешком на последний этаж. Общага была бывшей коммунальной квартирой с холостятцким бытом. В большой квадратной комнате, выходящей окнами на Садовое кольцо, было штук семь железных солдатских коек, на которых сидели или лежали арбатские слесаря. Другой мебели не было. По центру, напротив двери, у стены на тумбочке стоял старый телевизор КВН с увеличительной линзой, заполненной зацветшей водой, в которой плавала одинокая красная рыбка. Генсек, Леонид Ильич, читал доклад, говорил о достижениях народного хозяйства, увеличении надоев на душу населения, рыбка плавала мимо его физиономии, вызывая зрительный стереоэффект. Мы разлили по стаканам портвейн, выпили. Молча уставились на генсека и красную рыбку. Подмывало сказать "хорошо сидим". Все, кроме нас двоих, были вполне трезвые. Обратил на себя внимание худой, маленького роста мужчина средних лет. Он стал копошиться, полез под койку, достал небольшой чемоданчик и вдруг... забив ладонями по чемодану, громко запел: "Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали..." Никто особо не обратил на него внимание. Кто это, спросил я своего собутыльника. - Это Федя Шаляпин, ему надо двести грамм и он делается бухой полностью, сейчас он вырубится. Точно, Шаляпин не допел куплета и после слов: "Напрасно старушка ждёт сына домой, ей скажут, она зарыдает..." - посидел полминуты, как загипнотизированный, смотря перед собой, и повалился вместе с чемоданом на койку. Капец , сказал кто-то из слесарей, - концерт окончен! ___ Я начал рисовать лубки в 1973 году. Резал оргалит, грунтовал его темперными белилами прямо рукой и разрисовывал темперными красками. Тогда в Москве продавалась прекрасная краска, казеиново-масляная темпера. Стоила она дешево, в 1970г. на рубль я покупал десять тюбиков; во-вторых, ей можно было писать пастозно, как маслом. Слой краски быстро высыхал и - делай лессировки, поверхность при высыхании становилась фресково-матовой. Я рисовал картинки-лубки с забавными текстами, дарил их друзьям. Денег как всегда нехватало, пришла мысль - а не попробовать ли мне продавать свои лубки? Три рубля за лубок - оптимальная цена. Нарисовав десять штук, я мог иметь тридцать рублей дополнительного заработка в месяц. Задумано-сделано. Вместе с Сергеем Миллером в один из воскресных дней сентября 1974 года мы поехали на Птичий рынок. С собой я взял дюжину лубков. Лубок. "За честь жены" орг. тем. 23х77 Под оживленный лай, мы развесили мои веселые картинки на деревянном заборе собачьей площадки. Это зрелище привлекло зевак, но, узнав, что каждая дощечка стоит аж три рубля, граждане уходили. И вот к концу этой импровизированной выставки-продажи подбежал странного вида человек. Чудак купил, не поторговавшись, лубок и сразу убежал. На этом лубке был изображен пятиэтажный дом-барак с окнами нараспашку. В окнах нарисованы бытовые сцены с участием жителей дома. Надпись гласила: "В этом доме творится - примус говорит с пьяницей, друг друга любят, вешаются, кушают, рожают, думают, спорят и живут". Стояла подпись: "трудился Рданаскела Арбатский", - это мой псевдоним. Лубок. «Дом-барак» (вариант) орг. тем. 43,3х16,5 1973 г. На эти честно заработанные три рубля мы взяли с Серегой бутылку портвейна. В ближайшем к рынку кафе сели за столик и культурно ее выпили. Позже, в 1980 году я решил создать серию лубков на тему: "Московские происшествия". Для сбора материала - текстов каждый день, в течение двух недель, ездил в филиал Ленинской библиотеки в г. Химки, там находился газетный отдел, выписывал тексты происшествий 20-30х годов из московских газет: "Рабочая Москва", "Красная газета", "Рабочая газета". Работая над газетным материалом, понял, что Даниилу Хармсу он тоже послужил толчком для создания его праздничных абсурдных писаний*. В своих лубках я также использовал поговорки и приметы из Толкового словаря В.И. Даля. В 80-х я создал несколько рисовальных книг "Московские происшествия". * - девиз Д. Хармса: "Пиши всегда с интересом и смотри на писание, как на праздник" ___ С театром я встречался в своей творческой биографии несколько раз, но теплых взаимных чувств не возникало. Как-то, это было в 1974 году, я повез композицию "В ночном саду распустились розы" в детский музыкальный театр им. К.С. Станиславского, показывать главному художнику для устройства на работу художником-декоратором. Этот деятель искусств, увидев на ней изображение женщины с длинной шеей и открытой грудью, спросил: "А с этой женщиной ты хотел бы переспать?". В Московский Театр Оперетты на должность художника-декоратора мне помог устроиться муж моей двоюродной сестры Валерий. У него была деловая связь с влиятельным в театральном мире человеком, тот дал рекомендацию. На самом деле в театре я работал подмастерьем: помогал делать грунт для декораций, красил бронзовкой витые лестницы спектакля "Фиалки Монмартра", написал в фовистком стиле портрет для этого спектакля, на бутафорских бутылках шампанского рисовал этикетки. Театрально-декорационная мастерская находилась в парке, в бывшем здании церкви на Сущевском валу. В обеденный перерыв, за чаем, я молча слушал бесконечные театральные сплетни, которые, со знанием дела, пересказывали муж с женой, мои руководители художники-декораторы. Эта супружеская пара и не интересная работа театрального подмастерья мне, в конце концов, надоели. Проработав около года, я уволился из театра. Мое душевное состояние балансировало между эйфорией утреннего похмелья и бесперспективностью дальнейшей жизни. При встрече с Михаилом Рогинским я рассказал ему, что нахожусь в депрессии и все, что пишу, никому не нужно. Помолчав, Рогинский ответил, что сейчас есть возможность мне попробовать сделать эскизы к спектаклю Владимира Маяковского "Клоп". Без дополнительных согласований, я взялся делать эскизы костюмов и макет. Спектакль "Клоп", по замыслу режиссера, должен был быть поставлен на арене цирка в городе Енисейске. Идея поставить спектакль на арене цирка мне сразу понравилась, открывалось много возможностей для фантазии в работе над декорациями. Мой макет спектакля был размером с винный ящик. По центру ящика-цирка располагалась круглая арена, к ней были протянуты от стен и углов зала веревки-тросы. По тросам должны были спускаться на арену цирка различные, огромного размера, бутафорские предметы быта: старый башмак, бутылка водки, кровать Присыпкина, банная мочалка, штаны и другие предметы. По стенам цирка я хотел развесить большие плакаты: о вреде алкоголя и курения, о борьбе с мухами, тараканами и мышами. Я принес эскизы и макет спектакля к Рогинскому. Он сказал, чтобы я оставил все это у него, и что он покажет их режиссеру спектакля. В общ ем ничего потом у меня не вышло с этим проектом оформления спектакля "Клоп". Рогинский вернул мне проект. Видимо, у режиссера что-то сорвалось, а может быть, Рогинский просто помог мне пережить трудное время, и, учитывая мое душевное состояние, ненадолго стать востребованным как художнику для общества. Однажды, узнав о том, что в театре на Таганке состоится премьера спектакля "Гамлет" с Владимиром Высоцким в главной роли, мы с Сергеем Миллером решили пойти на спектакль. Вечером в день премьеры договорились встретиться в метро Таганская, на верху у эскалатора. Поднимаясь, я увидел ожидавшего меня Сергея. Приехав раньше меня, он успел узнать, что билетов в кассе нет, что есть только два способа попасть в здание театра, а, следовательно, и на премьеру: первый вариант, через высокие ворота; второй, по крыше. "Какой выбираешь?" - спросил Миллер. Посмотрев на высокие железные ворота, я выбрал второй. Мы полезли по сложенным штабелями ящикам, вылезли на заснеженную крышу пристройки, затем спрыгнули во внутреннее пространство театра. Это был двор-подсобка, по сторонам которого стояли декорации, различная театральная бутафория. Двор театра замыкали высокие ворота. Спрятавшись между низким окном в стене и макетом какого-то фантастического аппарата, мы увидели в щель, как мимо нас к воротам прошли рабочие сцены с милиционером. Тихо переговариваясь, они обсуждали возможные способы проникновения в театр. Через некоторое время послышалась возня, пыхтение, трение ботинок о металл, на воротах темным силуэтом обозначились две фигуры, повисев на руках, они спрыгнули на землю. Тут же их схватили и увели. За окном в стене театра, намного ниже нашего уровня, было подвальное помещение. Тихо вынув стекло, мы с Серёгой пролезли в образовавшееся отверстие. Спрыгнув на кучу опилок, увидели стоявшую рядом позолоченную карету, в ней мы оставили одежду, наши пальто и шапки. Затем прошли несколько комнат и оказались за темно-бордовыми кулисами сцены. В нескольких шагах от нас стояли и разговаривали между собой актеры Б. Хмельницкий и В. Высоцкий. Я тихо сказал Миллеру, давай подойдем к ним и все расскажем. В это время к нам подбежал театральный администратор и, задыхаясь от бега, сообщил, что нас давно (заканчивался первый акт спектакля) разыскивает, и уже подключил к этому милицию. Но, расспросив подробнее о нашем театральном приключении, о горячем желании попасть на премьеру, он поменял решение отдать нас органам правопорядка. Восхитившись нашей отвагой и посоветовав отряхнуть с головы опилки, администратор посадил нас на два свободных места в ложу амфитеатра. И вот идет представление, на сцену выезжает позолоченная карета. Борис Хмельницкий, в роли бродячего актера, по действию спектакля с громкой тирадой распахивает дверцы... в карете лежат наши пальто и шапки. Возникла короткая пауза, и Хмельницкий, что-то рявкнув, захлопнул дверцы. После спектакля, забрав из кареты одежду и выйдя из театра, мы шли с Миллером по заснеженной Таганке и громко обсуждали нашу авантюру. Пожалуй, эта встреча с театром оказалась для меня самой приятной из всех. ___ В каком году в Одессе состоялась первая советская официальная юморина 1 апреля? Не помню. Узнав об этом мероприятии, мы с Сергеем Патрушевым решили поехать на него, так сказать, почетными гостями из столицы. Подготовился я к этой поездке основательно, сделал сувениры из красной керамической глины, слепил этакие монеты в виде рублей. С одной стороны керамического рубля были процарапаны по глине ржаные колосья и номинал 1 рубль, с оборота шутливые надписи: "Без гроша в кармане", "30 лет без денег". Сторону этого изделия, где "1 рубль", я покрыл коричневой глазурью, обжег в печи. У меня получилось штук двадцать таких монет. В дорогу упаковал с собой материалы для работы; акварель, бумагу. Мы поехали в Крым. Поезд прибыл в Одессу ранним утром. Перекинув через плечо дорожный мешок, я шел по перрону одесского вокзала. Везущий навстречу тележку, носильщик спокойным голосом, с мягким южным выговором, сказал: "Где мешок свистнул?". Услышав эти слова, поздравил Патрушева: "С приездом, мы в Одессе!". У нас с собой было все необходимое для автономной жизни: спальные мешки, примус, котелки, супыконцентраты. Мы нашли заброшенный дом, расположились там и приготовили себе на примусе обед. Вечером решили найти место для ночлега в другом месте. В каком-то дворе, около Дерибасовской улицы, полезли по пожарной лестнице, с мешками через плечо, мимо горящих огнями кухонь на крышу. На пыльном чердаке мы переночевали. Теплый луч солнца, коснувшись моего лица, разбудил меня. Опять с мешками мы спускались по пожарной лестнице мимо кухонь вниз. Если кто и видел нас, то отнеслись к этому пофилософски. Одесситы - люди с пониманием. Вечером мы с Сергеем купили вина и отправились на Дерибасовскую. Идя по улице я заметил, что почти в каждой арке дома, в глубине, стоит моряк в клешах и, как горнист играя на трубе, пьет прямо из бутылки, подперев рукой торс. К ночи я был пьян и пытался разрулить конфликтную ситуацию между морячками и одесской шпаной. Патрушев исчез с горизонта. Помню высокий серый забор на площади Советской армии, рядом с которой это происходило. Затем яркая картина: шпана под руки ведет меня прямо по клумбам с тюльпанами. Между собой они говорят: "Повесим его в клубе Ильича и баста". Я сразу врубился, сделал какие-то телодвижения и побежал, давя ботинками цветы... Здесь мне вспомнилась фраза из протокола допроса, составленного при задержании художника Караваджо: "Меня схватили на площади Навона в Риме, не знаю за что, ремесло моё живопись...". Незабываема ночная Одесса. Возвращался я через Молдаванку. Когда пришел к старушке-дворничихе, у которой мы остановились на ночлег в полуподвале дома на улице Августа Бебеля, то обнаружил поддатого Патрушева мирно спавшим на кровати с периной. В те дни все крыши Одессы были наши, мы писали акварелью с крыш одесскую весну. В дымовой трубе, чтобы огонь не задуло, стоял примус с котелком, в нем готовился наш обед. И вот наступило 1 апреля. Мы ответственно отнеслись к выбору костюма. Я был в шляпе, арбатской дворницкой блузе синего цвета, с тростью в руке, которую нашел в каком-то дворе. Кстати, вполне приличная была трость, с набалдашником из белой резной кости. В кармане у меня был 15-ти сантиметровый гвоздь. Серёга накинул на голову капюшон плаща и прикрепил себе на лицо длинный нос, скрученный из газеты. Мы прошли в таком виде по Приморской набережной и направились к центру события, площади, где должен был состояться праздник юморины. По пути к нам подъехал "козел" с ментами. Дальше команда: "Руки на капот!", но я успел выбросить из кармана гвоздь. Затем вопросы: "Кто, зачем в таком виде, откуда?" Бумажный нос у Патрушева оторвали, у меня забрали трость и пытались, крутя набалдашник, обнаружить в ней стилет. Эти "пинкертоны", не найдя криминала, уехали, а мы отправились дальше к месту торжества. На площади оказалось несколько тоскливо танцующих пар с транспарантом над ними: "Первая Одесская Юморина"... На следующий день мы купили билеты в двухместную каюту на судно, которое отправлялось в плаванье по маршруту Одесса - Новороссийск. Оказалось, это было открытие навигации на Черном море. Мы были единственными пассажирами на судне, не считая команды. Когда спустились в бар, то увидели за барменской стойкой великолепный набор советских портвейнов: ".№33, №777", "Массандра", другие крымские вина. Началось плаванье под алкогольный аккомпанемент. Как-то, когда в каюте из динамика прозвучал хриплый голос: "Вахтенной команде занять места по швартовому расписанию", я отправился в бар. К этому времени мы разминулись с Патрушевым: когда я спал, он гудел в баре; когда спал он, гудел я. Сидя на высоком стуле за стойкой, я пил портвейн, ощущая себя вольным человеком в свободном плавании. Меня уважительно обслуживал корабельный бармен. Сказал себе, как только не смогу прочитать мелкий шрифт на бутылочной этикетке, отправляюсь спать в каюту. Через какое-то время этот момент наступил. Я решил пошутить и расплатиться с барменом керамическими рублями, глухо позвякивающими у меня в кармане. Несколько таких рублей широким жестом, ритмично отправил ему по гладкой, блестящей поверхности стойки. Бармен подхватывал их, прихлопывая рукой. Он внимательно рассмотрел мою плату, подкидывая на ладони. Затем небрежно достал из кармана черного пиджака сдачу и молча, грациозно отправил ее мне. Это были франки, доллары, фунты, марки - мелкой монетой. Я ловил рукой каждую монету, как муху, и был рад умному одесскому юмору. ___ Это было в 1974-1975 годах. Я работал дворником в районе Кропоткинской улицы (сейчас Пречистинка), убирал Сеченовский и Барыковский переулки. Во дворе на Кропоткинской улице в двухэтажном доме, напротив художественной школы, у меня была комната, которую я использовал как мастерскую. Сначала была комната на первом этаже, затем на втором. Моим соседом был Евгений Турунцев, мы были с ним в дружеских отношениях - работали в одном ЖЭКе, он тоже был дворником. В комнате на первом этаже я в это время написал серию работ темперой на оргалите "Смерть кота". Меня тогда занимала мысль, что все люди на земле сумасшедшие, а я, разумеется, в порядке. Поэтому, считал я, если люди с приветом, то и изображать их нужно вверхтормашки. Так и писал, постоянно переворачивая лист оргалита. Работал над этими картинами в пустой комнате, которая имела небольшой наклон пола, в ней у меня стояла нижняя железная часть от детской коляски с колесами на плавном ходу. Лист оргалита, на котором писал, был прибит внизу стены. Я садился в коляску в скрюченном положении и, держа в руках кисти, отталкивался ногами от стены, у которой висела моя картина, меня откатывало к противоположной стене. Здесь была тарелка-палитра с выдавленной на нее темперой, рядом стояла бутылка сухого вина. Отхлебнув вина, я подхватывал кистью краску с палитры и, легко оттолкнувшись рукой от стены, ехал в коляске, ввиду наклона пола, к картине. Пока тележка катила меня, оценивал ситуацию и, прицелившись, делал молниеносный мазок. Опять отталкивался от стены ногами, меня откатывало к палитре и бутылке, у противоположной стены. Так я динамично, с применением допинга, играючи живописал. Использовал еще такой метод работы: прибив гвоздем лист оргалита по центру к стене, я писал одновременно подкручивая его рукой. Видимо мысль о сумасшествии человечества, подсказывала мне нужный способ выражения. «На гвозде». орг.тем. 63х108 1974 г. Как-то я нашел во дворе небольшой такой моторчик, высотой, шириной и длиной 12х10х16 см. Скорость вращения вала у него была 10000 оборотов в минуту. Я принес его в мастерскую, это было уже в комнате на втором этаже. В этот день я продал Турунцеву за три рубля свою композицию "Смерть кота", сходил за бутылкой сухого белого и начал исследовать мотор. Я включал и выключал его, втыкая штекер в розетку. Моторчик басовито жужжал, как жук-дровосек в полете и, под действием вибрации, ползал кругами по полу. Я выдавил небольшое количество масляной краски из туба на вал мотора, подложил под него лист бумаги, и воткнул штекер в розетку. Краска слетела и легла на бумагу мелкими, причудливой формы кляксами. Тогда я выдавил на вал мотора краску нескольких цветов, включил ток. При разбрызгивании получилось абстрактное вытянутое пятно, чем-то напоминающее, если увеличить в 100-200 раз, живопись Джексона Полака, но руками такой "космос" не создать. Я позвал Турунцева и попросил помочь мне. Он должен был втыкать и вынимать штекер из розетки. А чтобы такое занятие не показалось ему скучным, поставил рядом бутылку с вином. Положив холст (95х87см.) на пол, держа мотор в руке, я стал направлять вал с краской под разным углом на холст, иногда поворачивая его в стороны. Краска летела не только на холст, она попадала, разбрызгиваясь по кругу, на потолок, стены, одежду, наши раскрасневшиеся физиономии. Творческий процесс меня захватил. Турунцев только успевал втыкать и вынимать штекер. Дело в том, что нужно было подловить момент, чтобы мотор не набрал слишком большие обороты, вовремя выдернуть штекер. Ха-ха. Я еще раз сбегал в магазин за вином и успел там испачкать кого-то из покупателей в очереди. В конце работы мы с Женей Турунцевым предстали друг пред другом с перепачканными краской лицами, как языческие боги на маскараде Жизни. Это было наше сотворение мира, с использованием краски и мотора, который вращал свой вал со скоростью 10000 оборотов в минуту. Картину я так и назвал: "Сотворение Мира". "Сотворение Мира" х.м. 95х85 1974 г. Хотел бы сделать выставку этой одной картины... Зал, площадью 10000 квадратных метров, с пятидесятиметровым потолком-экраном и хорошей акустикой. На полу коврикилежаки, чтобы удобней было созерцать, играет орган, звучат фуги И.С. Баха. В темноте включается проектор, его луч, направленный на потолок, являет зрителю увеличенную в 8500 раз картину "Сотворение Мира"... ___ В Московское Художественное Училище памяти 1905 года я поступил для своего возраста поздно и то только со второго раза. До этого закончил четырёхгодичные вечерние классы живописи и рисунка при Суриковском институте, посещал разные художественные студии. Два раза поступал и проваливал экзамены в Полиграфический институт на факультет "художественное оформление печатной продукции". Как мне казалось, я делал всё правильно, но меня не принимали, я не вписывался в это учебное заведение. Около года я брал уроки у замечательного живописца и педагога Владимира Михайловича Добросердова в его мастерской на Верхней Масловке. Выпускник Вхутемаса, ученик А. Осмеркина, А. Шевченко и Д. Штеренберга, Владимир Добросердов был в то время человеком преклонного возраста. Он ставил для меня простой натюрморт и, пока я писал на холсте, сидел и дремал рядом, иногда делая нужные замечания. Добросердов показывал мне в мастерской свои ранние натюрморты 30-х - 40-х годов, они были живописны, с аурой того времени. В живопись ведь навсегда впечатывается время и от картин исходит его очарование. В первое моё поступление в МХУ, в 1975 году, я получил пару по композиции, нарисовал на тему "Лето" сбор яблок. На следующий год я никуда не собирался поступать, но однажды раздался звонок от Владимира Михайловича. Он спросил, собираюсь ли я поступать в училище. Я ответил, что подумаю. В 1976 я подал заявление на факультет реставрации, успешно сдал экзамены и поступил в училище. Для усиления группы первого курса, год проучился на педагогическом отделении, но затем меня все-таки перевели на реставрацию. В училище моими педагогами были: по рисунку - Владимир Исакович Пастухов, по живописи - Дмитрий Андреевич Воронцов, по реставрации Галина Михайловна Клокова. В группе я был один из старших учеников, с творческим опытом. Мне все давалось легко. Владимир Пастухов вызывал во мне особую симпатию, он был хороший педагог, интересный собеседник и научил меня понимать рисунок. Как пример гениальности рисовальщика, приводил теорию рисунка японца Хокусая: все в мире можно нарисовать, используя шар, цилиндр, конус. Мне нравилось учиться в старом здании училища на Сретенке. Иногда я задерживался в классе, заканчивая рисунок. Ко мне подходил Владимир Пастухов, давал совет или брал карандаш и показывал сам, уточняя рисунок. Потом мы скидывались по рублю, я шёл в магазин, покупал бутылку портвейна со скромной закуской и мы, пропустив по-стаканчику, говорили об искусстве. Пастухов заезжал ко мне в Коробейников переулок, где я имел комнату-мастерскую, работая дворником. Я показывал ему свои натюрморты "Орудия труда", "Консервные банки", "Камни". Однажды, засидевшись допоздна, остался ночевать и утром мы вместе поехали в училище. Дмитрий Воронцов, талантливый живописец-колорист, раскрыл мне основы техники акварели, работы с цветом. Он был требовательным и принципиальным педагогом и, как оказалось впоследствии, хорошим, отзывчивым человеком. После окончания училища, когда у меня в жизни наступила тяжёлая полоса безденежья, Дмитрий Андреевич присылал ко мне учеников, которым я давал уроки, подготавливая их к поступлению в училище. Основы мастерства реставрации, раскрытые мне Галиной Клоковой, до сих пор помогают мне в жизни и творчестве. Сейчас, когда я пишу эти строки, сидя напротив окна мастерской, на дворе смеркается. За окном в Нескучном саду лежит синий с ультрамариновым оттенком снег, зажглись фонари, отражаясь в чёрной воде Москва-реки. Мне вспоминается похожий зимний вечер... Я пришёл в больницу на Красной Пресне навестить Владимира Михайловича Добросердова. Он лежал, сильно похудевший, около больничного окна и, в конце нашего разговора, сказал: "Какой зимний вечер, какой синий цвет, это обязательно нужно писать, Саша". На следующий день В.М. Добросердов умер. У меня на мольберте стоит вечерний, зимний этюд с синим снегом и зажжёнными фонарями, написанный мной недавно. ___ К зиме в Москве место дворника всегда можно было найти. В сентябре я садился на велосипед и объезжал ЖЭКи, выбирая симпатичные мне районы и улицы. Таким образом я устроился в 1976 году в ЖЭК в Коробейниковом переулке. Техник-смотритель участка Витя показал мне будущее мое жилье. Комната на втором этаже, в доме №20 по Коробейникову пер. (дом до октябрьского переворота принадлежал купцу Потапову), площадью 12 кв. м., с маленьким окном, печкой, кухней и туалетом, оказалась однокомнатной квартирой с отдельным входом, деревянной лестницей, которая вела на веранду. Коробейников пер. д. 20, дом купца Потапова (в центре) Соседи давно выехали, и мне предстояло жить одному. Но я стал жить не один, подобрав в одном из дворов молодого рыжего кота, прописал его у себя. Кот оказался смышленым и жизнерадостным, я назвал его Тишкой. Старый пол комнаты был покрашен суриком, стены я побелил. Обстановка моей комнаты была простая: дубовая табуретка, раскладной столик, около печки на полу лежала циновка, на которой я спал. На печке я записывал свои мимолетные мысли. Впоследствии, когда дом ломали и обнажились стены, грустно было смотреть на исписанную моей рукой печку. Комната - мастерская фото 1979 г. Потом я сделал две маленькие рисовальные рукописные книжки и назвал их "Записки на печке". Приведу для примера некоторые строчки из них. 2.05.77 "Жара. Молодые листья тополя выросли за три дня до огромных размеров, липкие и жирные, они шевелятся под солнцем... Вдруг мне стало страшно. 23.04.78 Этот куст, в углу этих мрачных подворотен... опять ведь зеленеет. Пойду куплю себе вина. 24.04.78 Вижу листья, свет сквозь дырки друшлака. Веревка протянута от гвоздя к трубе. Слышу, как кот грызет рыбу. 6.02.78 Нужно следовать поведению кота или не нужно? 5.04.78 Я думаю об удивительном вокруг... миг... по стене ползет таракан. 17.05.78 Имеет ли таракан какую-либо цену? 7.12.80 Искусство: листья красят деревья, но снег их украшает. 1.01.78 Этот снег все падает и падает... и хочет нас укрыть, чтобы мы беспокоились". Участок, который я убирал, был в Молочном переулке. Как-то утром пришла грузовая машина, нужно было грузить мусор, скопившийся под окнами общежития ткацкой фабрики. С бабами-дворниками я стал грузить мусор в машину. Такое количество использованных консервных банок я не видел никогда, оно скопилось за годы. Мне пришла мысль написать натюрморт с консервными банками. "Банки". 83х110 х.м. 1979 г. Отложив в сторону штук двадцать банок, я затем отнес их к себе. Для естественности в построении натюрморта разбрасывал банки из ведра на пол веранды. Услышав раскаты странного грохота, прибежал сосед с первого этажа. Писать было неудобно, не было отхода. Натюрморт находился на полу веранды, а я сидел, поджав ноги в позе японского борца, в кухне. Болели щиколотки, но это мне нравилось, не давало успокоиться. На веранде был светло-серый старый пол из широких, с отполированными временем сучками, досок. Я написал серию натюрмортов на этом полу: "Консервные банки", "Камни", "Орудия труда". Однажды после уборки улицы, принес подметочную пыль в ведре, высыпал ее на пол, опрокинул ведро, рядом положил совок и веник. Это были мои дворницкие орудия труда, простые вещи, связанные с моей жизнью. Каждый день я держал их в руках, они меня кормили, одевали и понимали. "Орудия труда" 72х100 х.м 1979 г. Натюрморт я написал хорошо, до сих пор смотрю на него с удовлетворением. Михаил Рогинский научил меня видеть в самых простых вещах предмет достойный живописи. Вещь, редко писанная художниками, давала свежесть взгляда, освобождала от штампа, приносила творческую свободу. В это время сильное влияние на меня оказала живопись Александра Морозова, выставку которого я увидел в зале на ул. Вавилова. Поразили его работы: "Буксир в Химках", мартовские пейзажи Масловки 30-х годов. На выставке я встретил и самого художника. Стоя у картины он рассказывал, по волжски окая, как писал: "Холст клоду на землю. По углам клоду кирпичи, чтобы ветром не перевернуло. Выливаю на холст лак. Пишу большими кистями, ножом-мастихином, ладонью, кулаком". Обладая мощным темпераментом, Морозов мог написать трёхметровый холст в один приём. Рядом с моим домом, через два соседних, в Коробейниковом пер. находилась пивная, лучше сказать советский паб. Пивная "Шаляповка" в Коробейниковом пер. (после закрытия) 1980-81 гг. Это было независимое место встреч и общения местных жителей, московской интеллигенции, оригинальных и интересных людей. Исторический центр Москвы в застойные брежневские времена еще не был окончательно изуродован и сломан, а бедные коренные москвичи не были безжалостно выселены на окраины города нуворишами. Я проводил свободное от учебы в художественном училище и работы дворником время в этой пивной. В ней кипела жизнь с утра и до закрытия. Как водится, распивалось не только пиво; портвейн и водка приносились с собой, разливались из-под полы. Тогда я пил в основном портвейн. В пивной гремела посуда, стоял особый гул, в котором сливалась речь десятков мужчин, разогретые алкоголем они душевно беседовали между собой. Так, за пивом, я познакомился с двумя людьми. Рядом со мной, у стойки бара стояли два арбатских типа. Одному, помоложе, на вид можно было дать лет двадцать; выше среднего роста, в очках, он был узкоплеч, сутулился, разговаривая, немного картавил. Второму было лет пятьдесят, он был тоже высокого роста, худ, в очках, в сером плаще и широкополой шляпе. Первый представился Сергеем Кусковым. Рядом с ним стоял его отец, художник-график, иллюстратор исторических романов Мигеля Сервантеса, Чарльза Диккенса, Александра Дюма - Иван Кусков. После знакомства с Сергеем и Иваном я стал бывать у них в гостях, встречались у меня, пили портвейн, говорили о живописи. Оба они жили в прилегающих к Метростроевской улице переулках, в разных коммунальных квартирах. Сергей обитал в коммунальной квартире, в маленькой темноватой комнате, окном во двор, на втором этаже в Пожарском пер. (современное название). В этой же квартире, в другой комнате, проживала его полуглухая, подслеповатая бабка, которая, когда мы приходили с портвейном, гоняла меня, ворчала, почему-то называя "бандитом". Кусков предлагал мне спрятаться от бабки в большом гардеробе, в его комнате, что я и делал. Сергей Кусков. Прокуренная комната, в которой жил и творил художник Иван Кусков, отличалась необычным убранством, особым колоритом, арбатской аурой. Иван называл свое жилье каютой. В небольшой, 13 кв.м., комнате, справа от двери стояла кровать, рядом старый книжный шкаф, по центру комнаты - круглый стол, с висевшим над ним абажуром, около окна находилась небольшая конторка красного дерева. Все стены, потолок, стол, абажур, вещи на столе, даже подставка под чайник имели прикосновение рук художника хозяина. Потолок был разрисован умброй и марсом коричневым, цвета увядшей листвы, вязью осенних листьев. На стене висели скрещенные старые рапиры. Подставка на пробках под чайник сделана из ткани, имитирующей кожу; с надписью: "Де Артаньян, Портос, Атос, Арамис". Портреты Дон Кихота, французских мушкетеров, иллюстрация к Чарльзу Диккенсу и другая графика, украшали стены кусковской каюты. Иван был в душе романтик, жил в мире образов героев своих иллюстраций. Его отец Сергей Кусков (к сожалению не знаю отчества), потомственный московский интеллигент, был врачом, писал стихи. Вот несколько поэтических строк Сергея Кускова - старшего: "Встретим огненною влагой Бурный день и ночь невзгод, И гортань смочив малагой, Смело кинемся вперёд! Пусть над бездной мировою Наши души веселя, Разноцветною игрою Грань сверкает хрусталя!" 24.05.1941 г. Сын Ивана Кускова Сергей был талантливым искусствоведом. Светлая голова, с энциклопедическими знаниями, одарённый, он нашел свой особенный поэтический стиль изложения. Жизнь художника Ивана Кускова закончилась трагически. Во времена "перестройки", когда в продаже не было спиртного, он, с каким-то бывшим капитаном дальнего плаванья (я подозреваю, что это был бес в образе капитана) купил и выпил левый спирт. На девять лет, до самой смерти, ослепший Иван Кусков был прикован к постели. Искусствоведа Сергея Кускова вынудили обменять жильё на "золотом километре" Остоженки на Рязанский проспект. После смерти отца он оказался в Краснодарском крае и умер от рака поджелудочной железы в возрасте 53 лет. ___ Куда катится жизнь – уже не дни мелькают, а годы. В зеркале отражается незнакомая одутловатая рожа с бородавками, залысинами, красноватым носом в синих прожилках, дурацкими усишками. Вглядываешься в неё, видишь всё меньше прежних черт. А какое было лицо прежде, двадцать, сорок, пятьдесят лет назад - сложно представить, вспомнить. Разные люди обладали этим лицом. Время ускоряется. Будто, как в детстве, зимой, сел на санки перед спуском с горы. Толкаешься ногами, санки не едут. Потом, с трудом, возникает медленное ускорение. Затем – быстрее, быстрее, наконец мчишься вниз с горы - дух захватывает от скорости, ветра. Вот ухаб и головой в сугроб. Куда катится жизнь… но тогда из канавы можно было, смеясь, выбраться. Я открыл глаза. Понял, что лежу на полу. В полумраке громоздились разветления зелёных труб и винтелей. На одной из труб висели женские трусы салатового цвета. Вера налила в стакан портвейна. Я содрогнулся, выпил и пошёл на выход. Подвальная цементная лестница из боллерной круто вела наверх. От яркого солнечного света закрылись глаза. Я постоял немного и пошёл через двор бывшего Зачатьевского монастыря к себе в Коробейников. На ветках тополей шевелились ярко-зелёные листья. Всё это – солнечный свет, листья, было ошеломительной, но приятной неожиданностью. Видимо потому, что попал в подвал в последние серые дни весны, когда шёл, таял снег. И вдруг такое цветение… У Рембрандта есть замечательная картина, из серии анатомические опыты профессора Тульпа. Изображён лежащий на катафалке сероватый труп, ногами на зрителя, со вспоротым и прикрытым белой тряпицей животом. Вокруг врачи-хирурги. Но Главный у изголовья. Он изображён без башки – голова отрезана верхней линией холста. Осталось туловище в чёрном кафтане, в руках желтая чашка черепа, отпиленного при трепонации. На меня эта вещь Рембрандта производила большое впечатление. Сделал с репродукции вольную копию на холсте 90х120. Мечтал рисовать трупы в морге. Зарабатывал тем, что давал два раза в неделю уроки рисунка и живописи. Попадались способные ребята. Как-то говорю: кто хочет пойти со мной рисовать трупы в морг. Два бесшабашных парня согласились. Приехали утром на Пироговку к моргу 1-го медицинского института. Переждали, пока отъехал автобус с покойником. Спустились в полуподвал. Я позвонил. Через какое-то время железная дверь покойницкой открылась и перед нами предстала фигура огромного роста, в белом халате, бритой головой, с глазами навыкате. Справа, за его спиной, на белом кафеле выступа-стола стояла сковородка и жарилась яичница-глазунья Запах формалина, жареной яичницы вызывал рвотный позыв. Я тихо сказал двухметровому монстру в халате, что хотел бы с учениками порисовать трупы в его заведении. Помолчав в недоумении, невнятно выругавшись, чудовище захлопнуло перед моим носом дверь… Я закоченел, очнувшись утром на деревянных ступенях лестницы. Вспомнил – потерял ключи, открыть дверь не смогу. Где я их мог потерять? Одеревеневшими руками залез в карманы телогрейки, там было пусто. Посмотрел вверх на дверь – заиндевевшие ключи торчали в замке. В пивной на разливе была очередь, она расступилась – моя рожа была серая, как у покойника. От зловония пивной мутило. Держа две кружки перед собой, вышел на улицу. Сделав несколько шагов, упал навзничь в мягкий снег. Услышал реплику прохожего: «Хорошо прилёг». Две руки с кружками торчали из сугроба. Я умудрился не пролить пиво... Был летний вечер, часов пять. С остатка дворницкого аванса за отпуск, я взял вина - два портвейна и шампанское. Отправился к Жене Турунцеву в Лопухинский переулок. Взобрался на третий этаж, позвонил в разрисованный мной когда-то звонок. Турунцева не было дома. Сел на лестнице, подумал, откупорил шампанское, глотнул шипящие пузырьки. Через какоето время на лестнице послышались шаги и пред мной предстал цыган Инерций. Тёмные волосы у него были связаны в косичку. «Што пьёшь один?» - сказал он. Выпили, поговорили. Вспомнили поэта Сашу Кузьмина, проживающего в Ессентуках. Когда вино закончилось, Инерций говорит: «На Казанском у меня есть знакомые – касса, проводники. Если хочешь, езжай в Ессентуки». Я спал на третьей полке плацкартного вагона. Ранним утром поезд прибыл в Ессентуки. При выходе из вагона, слегка помятый, предложил проводнице рубль. «Спасибо, он тебе больше пригодится» - сказала она. Кузьмин работал грузчиком в винном магазине. Чтоб не бить баклуши, я стал ему помогать. С утра мы разгружали ящики с вином из машины в подвал магазина. Выпивали, обедали. Как-то я споткнулся и уронил ящик с вином. Бутылки три разбились, мы слегка повздорили. Больше я не стал приходить в магазин. Поехал в Егорьевск к Инерцию. Застал его голым, сидячим в плетёном кресле на веранде дома. Потом из Нальчика отправился на автобусе в ущелье Цей. Шофёр, рыжий осетин, вёл автобус по ущелью с открытыми дверьми. Сидело несколько старушек в чёрных платках, зверски сжимавших металлические дуги кресел. С собой у меня был небольшой, старинный, свиной кожи портфель, которым я щеголял в последнем классе школы. В портфеле были бутерброды. Я бодро взбежал с портфелем в гору. Полюбовался горным видом. Постоял у камня с надписью в честь погибших на траверзе горы Алан-Хол альпинистов. Забрался на ледник, прошёл по нему. Вершина с завихрениями позёмки снега была рядом. Спускаясь вприпрыжку, встретил группу альпинистов с тяжёлыми рюкзаками, верёвками, кошками. Один из них сказал: «В школу опаздывает». В июле жизнь зашла в тупик. С утра пиво, затем портвейн, стояние в пивной. Я подумал, единственное спасение - ехать, куда глаза глядят. Собрал трофейный рюкзак. Утром поехал на велосипеде по Садовому кольцу в сторону Казанского вокзала. Руль не слушался, велосипед «Украина» вилял из стороны в сторону, машины гудели. Поехал назад в Коробейников. Припарковался, ввалился с рюкзаком в пивную, выпил кружку. В магазине на Метростроевской взял две бутылки 0,8 портвейна «Абрикосовый аромат». Иван Кусков был дома. Велосипед поставил в коридоре его коммуналки. Понеслось! Мы пили, рассматривали графику, примеряли шляпу, гляделись в мутноватое зеркало шкафа, слушали Луи Армстронга… Вечером, разогретый и взбудораженный я приехал к маме. Попросил её дать сорок рублей. Связал дощечки оргалита, кисти, темперу. Взял снасти для рыбалки. На следующий день, доехав на велосипеде до Казанского вокзала, сел в электричку Москва-Рязань. Проехал по Рязани, переехал мост через Оку. Далее прямое шоссе с красивыми далями (60км). Затем, свернул на песчаную лесную дорогу. Ехал по ней, иногда увязая в песке (35км). За лесом открылась деревня Деулино. Стал накрапывать дождь. Я переехал деревянный мост через реку и углубился в лес. Шёл и ехал по тропе около четырёх километров. Под вечер, в лесу, поставил одноместную палатку, подальше от тропы. Замечательная началась жизнь. Сразу же я поймал под дождь несколько окуней. Выудил на школьные снасти, в яме у берега, золотистого килограммового карася. На другой день наловил пескарей на тесто, поставил жерлицы. Вечером взяла щука. Оказалось, провидение занесло меня в нужное место – палатку я поставил между двух излучин реки. По утрам на реке курлыкали журавли, их следы я разглядывал на песке. Я бродил десятки километров по лесным дорогам, меня нещадно жрали комары. Я рисовал лубки, кормил рисовой кашей лесных мышей, наблюдал за ужами, ел чернику и ежевику, дышал воздухом с ароматом смолы, пережидал грозу под ёлкой, смотрел на солнечный луч на коре сосны. Так, уехав «куда глаза глядят», неожиданно для себя, я пожил в Мещере, на реке Пре… ----В 1987 году у меня состоялась совместная с Андреем Медведевым выставка "Живопись". Она прошла в зале творческого объединения "Вернисаж", в доме культуры где-то на окраине Москвы. На выставке были представлены картины, написанные мной в период с 1979 - 1987 гг. Я выставил серию натюрмортов: "Консервные банки", "Орудия труда", "Патефон", "Камни", "Бездомные вещи", серию из четырех картин: "Загон ", лубки. Из серии «Загон» №1 х.м. 112х150 1982г. Из серии «Загон» №2 х.м. 112х150 1982г. В день открытия выставки я приехал за два часа до вернисажа и привёз с собой легендарный красный патефон с несколькими пластинками, сохранившимися у меня со времени проведения уличной выставки в 1974 году на Гоголевском бульваре. Я поставил патефон на сцену, которая была в зале, подкрутил его черную ручку. Как сквозь помехи времени, шипя и щёлкая, зазвучала знакомая мелодия старинного танго, с художественным свистом в завершении. Эта мелодия во мне что-то зацепила, стало грустно, на душе повисла такая тоска. Я вдруг ощутил полное одиночество, свою ненужность в мире, в пустом выставочном зале, среди картин с изображением бездомных вещей и камней. Я составил стулья и лег на них, закрыв глаза. Однажды у меня уже была такая тоска. Из серии «Бездомные вещи» х.м. 100х130 1987г. Это было 13 августа 1969 года. После окончания средней школы, я гостил у Сергея Миллера на даче, на станции Совхоз, под Загорском. Мы с Сергеем готовились к поездке на дорожных велосипедах по городам "Золотого кольца". Вечером катались и, когда стало смеркаться, зачем-то остановились на пустынном шоссе, слезли с велосипедов. Перед нами было большое поле, уходящее под наклоном к железной дороге. По ней от Загорска к Москве, с горящим светом в окнах, с перестуком колес, мчалась электричка. Я глядел на электричку, и в грудь откуда-то пролилась черная тоска, перехватило дыхание, стало трудно дышать. У меня появилось сильное желание уехать в Москву. На следующее утро к нам на дачу приехала однокашница ИринаИшкова и сказала, что мне надо ехать домой. Ничего у неё не спросив, я понял, что случилось что-то непредвиденное и непоправимое. За всю дорогу к Москве, сидя напротив друг друга в вагоне электрички, мы с Ирой не сказали ни слова... Я поднялся на лифте, зашел в квартиру, сделал два шага по комнате к окну..., навстречу мне шёл дед Сидор с нелепо расставленными в стороны руками и плакал. Вчера вечером умер мой отец, у него случился инфаркт. Как объяснить, что находясь за шестьдесят километров от Москвы, я чувствовал смерть отца? С тех пор мысль о том, что невидимые волны окружают земной шар, наматываясь на него, как нитки на клубок, не покидает меня. Пример тому звуковые и радиоволны, но есть наверно десятки других волн, с другими свойствами, параметрами, возможностями, информацией. Лубок. «Дом-барак» (вариант) орг. тем. 43,3х16,5 1973 г. На эти честно заработанные три рубля мы взяли с Серегой бутылку портвейна. В ближайшем к рынку кафе сели за столик и культурно ее выпили. Позже, в 1980 году я решил создать серию лубков на тему: "Московские происшествия". Для сбора материала - текстов каждый день, в течение двух недель, ездил в филиал Ленинской библиотеки в г. Химки, там находился газетный отдел, выписывал тексты происшествий 20-30х годов из московских газет: "Рабочая Москва", "Красная газета", "Рабочая газета". Работая над газетным материалом, понял, что Даниилу Хармсу он тоже послужил толчком для создания его праздничных абсурдных писаний*. В своих лубках я также использовал поговорки и приметы из Толкового словаря В.И. Даля. В 80-х я создал несколько рисовальных книг "Московские происшествия". * - девиз Д. Хармса: "Пиши всегда с интересом и смотри на писание, как на праздник" ___ С театром я встречался в своей творческой биографии несколько раз, но теплых взаимных чувств не возникало. Как-то, это было в 1974 году, я повез композицию "В ночном саду распустились розы" в детский музыкальный театр им. К.С. Станиславского, показывать главному художнику для устройства на работу художником-декоратором. Этот деятель искусств, увидев на ней изображение женщины с длинной шеей и открытой грудью, спросил: "А с этой женщиной ты хотел бы переспать?". В Московский Театр Оперетты на должность художника-декоратора мне помог устроиться муж моей двоюродной сестры Валерий. У него была деловая связь с влиятельным в театральном мире человеком, тот дал рекомендацию. На самом деле в театре я работал подмастерьем: помогал делать грунт для декораций, красил бронзовкой витые лестницы спектакля "Фиалки Монмартра", написал в фовистком стиле портрет для этого спектакля, на бутафорских бутылках шампанского рисовал этикетки. Театрально-декорационная мастерская находилась в парке, в бывшем здании церкви на Сущевском валу. В обеденный перерыв, за чаем, я молча слушал бесконечные театральные сплетни, которые, со знанием дела, пересказывали муж с женой, мои руководители художники-декораторы. Эта супружеская пара и не интересная работа театрального подмастерья мне, в конце концов, надоели. Проработав около года, я уволился из театра. Мое душевное состояние балансировало между эйфорией утреннего похмелья и бесперспективностью дальнейшей жизни. При встрече с Михаилом Рогинским я рассказал ему, что нахожусь в депрессии и все, что пишу, никому не нужно. Помолчав, Рогинский ответил, что сейчас есть возможность мне попробовать сделать эскизы к спектаклю Владимира Маяковского "Клоп". Без дополнительных согласований, я взялся делать эскизы костюмов и макет. Спектакль "Клоп", по замыслу режиссера, должен был быть поставлен на арене цирка в городе Енисейске. Идея поставить спектакль на арене цирка мне сразу понравилась, открывалось много возможностей для фантазии в работе над декорациями. Мой макет спектакля был размером с винный ящик. По центру ящика-цирка располагалась круглая арена, к ней были протянуты от стен и углов зала веревки-тросы. По тросам должны были спускаться на арену цирка различные, огромного размера, бутафорские предметы быта: старый башмак, бутылка водки, кровать Присыпкина, банная мочалка, штаны и другие предметы. По стенам цирка я хотел развесить большие плакаты: о вреде алкоголя и курения, о борьбе с мухами, тараканами и мышами. Я принес эскизы и макет спектакля к Рогинскому. Он сказал, чтобы я оставил все это у него, и что он покажет их режиссеру спектакля. В общ ем ничего потом у меня не вышло с этим проектом оформления спектакля "Клоп". Рогинский вернул мне проект. Видимо, у режиссера что-то сорвалось, а может быть, Рогинский просто помог мне пережить трудное время, и, учитывая мое душевное состояние, ненадолго стать востребованным как художнику для общества. Однажды, узнав о том, что в театре на Таганке состоится премьера спектакля "Гамлет" с Владимиром Высоцким в главной роли, мы с Сергеем Миллером решили пойти на спектакль. Вечером в день премьеры договорились встретиться в метро Таганская, на верху у эскалатора. Поднимаясь, я увидел ожидавшего меня Сергея. Приехав раньше меня, он успел узнать, что билетов в кассе нет, что есть только два способа попасть в здание театра, а, следовательно, и на премьеру: первый вариант, через высокие ворота; второй, по крыше. "Какой выбираешь?" - спросил Миллер. Посмотрев на высокие железные ворота, я выбрал второй. Мы полезли по сложенным штабелями ящикам, вылезли на заснеженную крышу пристройки, затем спрыгнули во внутреннее пространство театра. Это был двор-подсобка, по сторонам которого стояли декорации, различная театральная бутафория. Двор театра замыкали высокие ворота. Спрятавшись между низким окном в стене и макетом какого-то фантастического аппарата, мы увидели в щель, как мимо нас к воротам прошли рабочие сцены с милиционером. Тихо переговариваясь, они обсуждали возможные способы проникновения в театр. Через некоторое время послышалась возня, пыхтение, трение ботинок о металл, на воротах темным силуэтом обозначились две фигуры, повисев на руках, они спрыгнули на землю. Тут же их схватили и увели. За окном в стене театра, намного ниже нашего уровня, было подвальное помещение. Тихо вынув стекло, мы с Серёгой пролезли в образовавшееся отверстие. Спрыгнув на кучу опилок, увидели стоявшую рядом позолоченную карету, в ней мы оставили одежду, наши пальто и шапки. Затем прошли несколько комнат и оказались за темно-бордовыми кулисами сцены. В нескольких шагах от нас стояли и разговаривали между собой актеры Б. Хмельницкий и В. Высоцкий. Я тихо сказал Миллеру, давай подойдем к ним и все расскажем. В это время к нам подбежал театральный администратор и, задыхаясь от бега, сообщил, что нас давно (заканчивался первый акт спектакля) разыскивает, и уже подключил к этому милицию. Но, расспросив подробнее о нашем театральном приключении, о горячем желании попасть на премьеру, он поменял решение отдать нас органам правопорядка. Восхитившись нашей отвагой и посоветовав отряхнуть с головы опилки, администратор посадил нас на два свободных места в ложу амфитеатра. И вот идет представление, на сцену выезжает позолоченная карета. Борис Хмельницкий, в роли бродячего актера, по действию спектакля с громкой тирадой распахивает дверцы... в карете лежат наши пальто и шапки. Возникла короткая пауза, и Хмельницкий, что-то рявкнув, захлопнул дверцы. После спектакля, забрав из кареты одежду и выйдя из театра, мы шли с Миллером по заснеженной Таганке и громко обсуждали нашу авантюру. Пожалуй, эта встреча с театром оказалась для меня самой приятной из всех. ___ В каком году в Одессе состоялась первая советская официальная юморина 1 апреля? Не помню. Узнав об этом мероприятии, мы с Сергеем Патрушевым решили поехать на него, так сказать, почетными гостями из столицы. Подготовился я к этой поездке основательно, сделал сувениры из красной керамической глины, слепил этакие монеты в виде рублей. С одной стороны керамического рубля были процарапаны по глине ржаные колосья и номинал 1 рубль, с оборота шутливые надписи: "Без гроша в кармане", "30 лет без денег". Сторону этого изделия, где "1 рубль", я покрыл коричневой глазурью, обжег в печи. У меня получилось штук двадцать таких монет. В дорогу упаковал с собой материалы для работы; акварель, бумагу. Мы поехали в Крым. Поезд прибыл в Одессу ранним утром. Перекинув через плечо дорожный мешок, я шел по перрону одесского вокзала. Везущий навстречу тележку, носильщик спокойным голосом, с мягким южным выговором, сказал: "Где мешок свистнул?". Услышав эти слова, поздравил Патрушева: "С приездом, мы в Одессе!". У нас с собой было все необходимое для автономной жизни: спальные мешки, примус, котелки, супыконцентраты. Мы нашли заброшенный дом, расположились там и приготовили себе на примусе обед. Вечером решили найти место для ночлега в другом месте. В каком-то дворе, около Дерибасовской улицы, полезли по пожарной лестнице, с мешками через плечо, мимо горящих огнями кухонь на крышу. На пыльном чердаке мы переночевали. Теплый луч солнца, коснувшись моего лица, разбудил меня. Опять с мешками мы спускались по пожарной лестнице мимо кухонь вниз. Если кто и видел нас, то отнеслись к этому пофилософски. Одесситы - люди с пониманием. Вечером мы с Сергеем купили вина и отправились на Дерибасовскую. Идя по улице я заметил, что почти в каждой арке дома, в глубине, стоит моряк в клешах и, как горнист играя на трубе, пьет прямо из бутылки, подперев рукой торс. К ночи я был пьян и пытался разрулить конфликтную ситуацию между морячками и одесской шпаной. Патрушев исчез с горизонта. Помню высокий серый забор на площади Советской армии, рядом с которой это происходило. Затем яркая картина: шпана под руки ведет меня прямо по клумбам с тюльпанами. Между собой они говорят: "Повесим его в клубе Ильича и баста". Я сразу врубился, сделал какие-то телодвижения и побежал, давя ботинками цветы... Здесь мне вспомнилась фраза из протокола допроса, составленного при задержании художника Караваджо: "Меня схватили на площади Навона в Риме, не знаю за что, ремесло моё живопись...". Незабываема ночная Одесса. Возвращался я через Молдаванку. Когда пришел к старушке-дворничихе, у которой мы остановились на ночлег в полуподвале дома на улице Августа Бебеля, то обнаружил поддатого Патрушева мирно спавшим на кровати с периной. В те дни все крыши Одессы были наши, мы писали акварелью с крыш одесскую весну. В дымовой трубе, чтобы огонь не задуло, стоял примус с котелком, в нем готовился наш обед. И вот наступило 1 апреля. Мы ответственно отнеслись к выбору костюма. Я был в шляпе, арбатской дворницкой блузе синего цвета, с тростью в руке, которую нашел в каком-то дворе. Кстати, вполне приличная была трость, с набалдашником из белой резной кости. В кармане у меня был 15-ти сантиметровый гвоздь. Серёга накинул на голову капюшон плаща и прикрепил себе на лицо длинный нос, скрученный из газеты. Мы прошли в таком виде по Приморской набережной и направились к центру события, площади, где должен был состояться праздник юморины. По пути к нам подъехал "козел" с ментами. Дальше команда: "Руки на капот!", но я успел выбросить из кармана гвоздь. Затем вопросы: "Кто, зачем в таком виде, откуда?" Бумажный нос у Патрушева оторвали, у меня забрали трость и пытались, крутя набалдашник, обнаружить в ней стилет. Эти "пинкертоны", не найдя криминала, уехали, а мы отправились дальше к месту торжества. На площади оказалось несколько тоскливо танцующих пар с транспарантом над ними: "Первая Одесская Юморина"... На следующий день мы купили билеты в двухместную каюту на судно, которое отправлялось в плаванье по маршруту Одесса - Новороссийск. Оказалось, это было открытие навигации на Черном море. Мы были единственными пассажирами на судне, не считая команды. Когда спустились в бар, то увидели за барменской стойкой великолепный набор советских портвейнов: ".№33, №777", "Массандра", другие крымские вина. Началось плаванье под алкогольный аккомпанемент. Как-то, когда в каюте из динамика прозвучал хриплый голос: "Вахтенной команде занять места по швартовому расписанию", я отправился в бар. К этому времени мы разминулись с Патрушевым: когда я спал, он гудел в баре; когда спал он, гудел я. Сидя на высоком стуле за стойкой, я пил портвейн, ощущая себя вольным человеком в свободном плавании. Меня уважительно обслуживал корабельный бармен. Сказал себе, как только не смогу прочитать мелкий шрифт на бутылочной этикетке, отправляюсь спать в каюту. Через какое-то время этот момент наступил. Я решил пошутить и расплатиться с барменом керамическими рублями, глухо позвякивающими у меня в кармане. Несколько таких рублей широким жестом, ритмично отправил ему по гладкой, блестящей поверхности стойки. Бармен подхватывал их, прихлопывая рукой. Он внимательно рассмотрел мою плату, подкидывая на ладони. Затем небрежно достал из кармана черного пиджака сдачу и молча, грациозно отправил ее мне. Это были франки, доллары, фунты, марки - мелкой монетой. Я ловил рукой каждую монету, как муху, и был рад умному одесскому юмору. ___ Это было в 1974-1975 годах. Я работал дворником в районе Кропоткинской улицы (сейчас Пречистинка), убирал Сеченовский и Барыковский переулки. Во дворе на Кропоткинской улице в двухэтажном доме, напротив художественной школы, у меня была комната, которую я использовал как мастерскую. Сначала была комната на первом этаже, затем на втором. Моим соседом был Евгений Турунцев, мы были с ним в дружеских отношениях - работали в одном ЖЭКе, он тоже был дворником. В комнате на первом этаже я в это время написал серию работ темперой на оргалите "Смерть кота". Меня тогда занимала мысль, что все люди на земле сумасшедшие, а я, разумеется, в порядке. Поэтому, считал я, если люди с приветом, то и изображать их нужно вверхтормашки. Так и писал, постоянно переворачивая лист оргалита. Работал над этими картинами в пустой комнате, которая имела небольшой наклон пола, в ней у меня стояла нижняя железная часть от детской коляски с колесами на плавном ходу. Лист оргалита, на котором писал, был прибит внизу стены. Я садился в коляску в скрюченном положении и, держа в руках кисти, отталкивался ногами от стены, у которой висела моя картина, меня откатывало к противоположной стене. Здесь была тарелка-палитра с выдавленной на нее темперой, рядом стояла бутылка сухого вина. Отхлебнув вина, я подхватывал кистью краску с палитры и, легко оттолкнувшись рукой от стены, ехал в коляске, ввиду наклона пола, к картине. Пока тележка катила меня, оценивал ситуацию и, прицелившись, делал молниеносный мазок. Опять отталкивался от стены ногами, меня откатывало к палитре и бутылке, у противоположной стены. Так я динамично, с применением допинга, играючи живописал. Использовал еще такой метод работы: прибив гвоздем лист оргалита по центру к стене, я писал одновременно подкручивая его рукой. Видимо мысль о сумасшествии человечества, подсказывала мне нужный способ выражения. «На гвозде». орг.тем. 63х108 1974 г. Как-то я нашел во дворе небольшой такой моторчик, высотой, шириной и длиной 12х10х16 см. Скорость вращения вала у него была 10000 оборотов в минуту. Я принес его в мастерскую, это было уже в комнате на втором этаже. В этот день я продал Турунцеву за три рубля свою композицию "Смерть кота", сходил за бутылкой сухого белого и начал исследовать мотор. Я включал и выключал его, втыкая штекер в розетку. Моторчик басовито жужжал, как жук-дровосек в полете и, под действием вибрации, ползал кругами по полу. Я выдавил небольшое количество масляной краски из туба на вал мотора, подложил под него лист бумаги, и воткнул штекер в розетку. Краска слетела и легла на бумагу мелкими, причудливой формы кляксами. Тогда я выдавил на вал мотора краску нескольких цветов, включил ток. При разбрызгивании получилось абстрактное вытянутое пятно, чем-то напоминающее, если увеличить в 100-200 раз, живопись Джексона Полака, но руками такой "космос" не создать. Я позвал Турунцева и попросил помочь мне. Он должен был втыкать и вынимать штекер из розетки. А чтобы такое занятие не показалось ему скучным, поставил рядом бутылку с вином. Положив холст (95х87см.) на пол, держа мотор в руке, я стал направлять вал с краской под разным углом на холст, иногда поворачивая его в стороны. Краска летела не только на холст, она попадала, разбрызгиваясь по кругу, на потолок, стены, одежду, наши раскрасневшиеся физиономии. Творческий процесс меня захватил. Турунцев только успевал втыкать и вынимать штекер. Дело в том, что нужно было подловить момент, чтобы мотор не набрал слишком большие обороты, вовремя выдернуть штекер. Ха-ха. Я еще раз сбегал в магазин за вином и успел там испачкать кого-то из покупателей в очереди. В конце работы мы с Женей Турунцевым предстали друг пред другом с перепачканными краской лицами, как языческие боги на маскараде Жизни. Это было наше сотворение мира, с использованием краски и мотора, который вращал свой вал со скоростью 10000 оборотов в минуту. Картину я так и назвал: "Сотворение Мира". "Сотворение Мира" х.м. 95х85 1974 г. Хотел бы сделать выставку этой одной картины... Зал, площадью 10000 квадратных метров, с пятидесятиметровым потолком-экраном и хорошей акустикой. На полу коврикилежаки, чтобы удобней было созерцать, играет орган, звучат фуги И.С. Баха. В темноте включается проектор, его луч, направленный на потолок, являет зрителю увеличенную в 8500 раз картину "Сотворение Мира"... ___ В Московское Художественное Училище памяти 1905 года я поступил для своего возраста поздно и то только со второго раза. До этого закончил четырёхгодичные вечерние классы живописи и рисунка при Суриковском институте, посещал разные художественные студии. Два раза поступал и проваливал экзамены в Полиграфический институт на факультет "художественное оформление печатной продукции". Как мне казалось, я делал всё правильно, но меня не принимали, я не вписывался в это учебное заведение. Около года я брал уроки у замечательного живописца и педагога Владимира Михайловича Добросердова в его мастерской на Верхней Масловке. Выпускник Вхутемаса, ученик А. Осмеркина, А. Шевченко и Д. Штеренберга, Владимир Добросердов был в то время человеком преклонного возраста. Он ставил для меня простой натюрморт и, пока я писал на холсте, сидел и дремал рядом, иногда делая нужные замечания. Добросердов показывал мне в мастерской свои ранние натюрморты 30-х - 40-х годов, они были живописны, с аурой того времени. В живопись ведь навсегда впечатывается время и от картин исходит его очарование. В первое моё поступление в МХУ, в 1975 году, я получил пару по композиции, нарисовал на тему "Лето" сбор яблок. На следующий год я никуда не собирался поступать, но однажды раздался звонок от Владимира Михайловича. Он спросил, собираюсь ли я поступать в училище. Я ответил, что подумаю. В 1976 я подал заявление на факультет реставрации, успешно сдал экзамены и поступил в училище. Для усиления группы первого курса, год проучился на педагогическом отделении, но затем меня все-таки перевели на реставрацию. В училище моими педагогами были: по рисунку - Владимир Исакович Пастухов, по живописи - Дмитрий Андреевич Воронцов, по реставрации Галина Михайловна Клокова. В группе я был один из старших учеников, с творческим опытом. Мне все давалось легко. Владимир Пастухов вызывал во мне особую симпатию, он был хороший педагог, интересный собеседник и научил меня понимать рисунок. Как пример гениальности рисовальщика, приводил теорию рисунка японца Хокусая: все в мире можно нарисовать, используя шар, цилиндр, конус. Мне нравилось учиться в старом здании училища на Сретенке. Иногда я задерживался в классе, заканчивая рисунок. Ко мне подходил Владимир Пастухов, давал совет или брал карандаш и показывал сам, уточняя рисунок. Потом мы скидывались по рублю, я шёл в магазин, покупал бутылку портвейна со скромной закуской и мы, пропустив по-стаканчику, говорили об искусстве. Пастухов заезжал ко мне в Коробейников переулок, где я имел комнату-мастерскую, работая дворником. Я показывал ему свои натюрморты "Орудия труда", "Консервные банки", "Камни". Однажды, засидевшись допоздна, остался ночевать и утром мы вместе поехали в училище. Дмитрий Воронцов, талантливый живописец-колорист, раскрыл мне основы техники акварели, работы с цветом. Он был требовательным и принципиальным педагогом и, как оказалось впоследствии, хорошим, отзывчивым человеком. После окончания училища, когда у меня в жизни наступила тяжёлая полоса безденежья, Дмитрий Андреевич присылал ко мне учеников, которым я давал уроки, подготавливая их к поступлению в училище. Основы мастерства реставрации, раскрытые мне Галиной Клоковой, до сих пор помогают мне в жизни и творчестве. Сейчас, когда я пишу эти строки, сидя напротив окна мастерской, на дворе смеркается. За окном в Нескучном саду лежит синий с ультрамариновым оттенком снег, зажглись фонари, отражаясь в чёрной воде Москва-реки. Мне вспоминается похожий зимний вечер... Я пришёл в больницу на Красной Пресне навестить Владимира Михайловича Добросердова. Он лежал, сильно похудевший, около больничного окна и, в конце нашего разговора, сказал: "Какой зимний вечер, какой синий цвет, это обязательно нужно писать, Саша". На следующий день В.М. Добросердов умер. У меня на мольберте стоит вечерний, зимний этюд с синим снегом и зажжёнными фонарями, написанный мной недавно. ___ К зиме в Москве место дворника всегда можно было найти. В сентябре я садился на велосипед и объезжал ЖЭКи, выбирая симпатичные мне районы и улицы. Таким образом я устроился в 1976 году в ЖЭК в Коробейниковом переулке. Техник-смотритель участка Витя показал мне будущее мое жилье. Комната на втором этаже, в доме №20 по Коробейникову пер. (дом до октябрьского переворота принадлежал купцу Потапову), площадью 12 кв. м., с маленьким окном, печкой, кухней и туалетом, оказалась однокомнатной квартирой с отдельным входом, деревянной лестницей, которая вела на веранду. Коробейников пер. д. 20, дом купца Потапова (в центре) Соседи давно выехали, и мне предстояло жить одному. Но я стал жить не один, подобрав в одном из дворов молодого рыжего кота, прописал его у себя. Кот оказался смышленым и жизнерадостным, я назвал его Тишкой. Старый пол комнаты был покрашен суриком, стены я побелил. Обстановка моей комнаты была простая: дубовая табуретка, раскладной столик, около печки на полу лежала циновка, на которой я спал. На печке я записывал свои мимолетные мысли. Впоследствии, когда дом ломали и обнажились стены, грустно было смотреть на исписанную моей рукой печку. Комната - мастерская фото 1979 г. Потом я сделал две маленькие рисовальные рукописные книжки и назвал их "Записки на печке". Приведу для примера некоторые строчки из них. 2.05.77 "Жара. Молодые листья тополя выросли за три дня до огромных размеров, липкие и жирные, они шевелятся под солнцем... Вдруг мне стало страшно. 23.04.78 Этот куст, в углу этих мрачных подворотен... опять ведь зеленеет. Пойду куплю себе вина. 24.04.78 Вижу листья, свет сквозь дырки друшлака. Веревка протянута от гвоздя к трубе. Слышу, как кот грызет рыбу. 6.02.78 Нужно следовать поведению кота или не нужно? 5.04.78 Я думаю об удивительном вокруг... миг... по стене ползет таракан. 17.05.78 Имеет ли таракан какую-либо цену? 7.12.80 Искусство: листья красят деревья, но снег их украшает. 1.01.78 Этот снег все падает и падает... и хочет нас укрыть, чтобы мы беспокоились". Участок, который я убирал, был в Молочном переулке. Как-то утром пришла грузовая машина, нужно было грузить мусор, скопившийся под окнами общежития ткацкой фабрики. С бабами-дворниками я стал грузить мусор в машину. Такое количество использованных консервных банок я не видел никогда, оно скопилось за годы. Мне пришла мысль написать натюрморт с консервными банками. "Банки". 83х110 х.м. 1979 г. Отложив в сторону штук двадцать банок, я затем отнес их к себе. Для естественности в построении натюрморта разбрасывал банки из ведра на пол веранды. Услышав раскаты странного грохота, прибежал сосед с первого этажа. Писать было неудобно, не было отхода. Натюрморт находился на полу веранды, а я сидел, поджав ноги в позе японского борца, в кухне. Болели щиколотки, но это мне нравилось, не давало успокоиться. На веранде был светло-серый старый пол из широких, с отполированными временем сучками, досок. Я написал серию натюрмортов на этом полу: "Консервные банки", "Камни", "Орудия труда". Однажды после уборки улицы, принес подметочную пыль в ведре, высыпал ее на пол, опрокинул ведро, рядом положил совок и веник. Это были мои дворницкие орудия труда, простые вещи, связанные с моей жизнью. Каждый день я держал их в руках, они меня кормили, одевали и понимали. "Орудия труда" 72х100 х.м 1979 г. Натюрморт я написал хорошо, до сих пор смотрю на него с удовлетворением. Михаил Рогинский научил меня видеть в самых простых вещах предмет достойный живописи. Вещь, редко писанная художниками, давала свежесть взгляда, освобождала от штампа, приносила творческую свободу. В это время сильное влияние на меня оказала живопись Александра Морозова, выставку которого я увидел в зале на ул. Вавилова. Поразили его работы: "Буксир в Химках", мартовские пейзажи Масловки 30-х годов. На выставке я встретил и самого художника. Стоя у картины он рассказывал, по волжски окая, как писал: "Холст клоду на землю. По углам клоду кирпичи, чтобы ветром не перевернуло. Выливаю на холст лак. Пишу большими кистями, ножом-мастихином, ладонью, кулаком". Обладая мощным темпераментом, Морозов мог написать трёхметровый холст в один приём. Рядом с моим домом, через два соседних, в Коробейниковом пер. находилась пивная, лучше сказать советский паб. Пивная "Шаляповка" в Коробейниковом пер. (после закрытия) 1980-81 гг. Это было независимое место встреч и общения местных жителей, московской интеллигенции, оригинальных и интересных людей. Исторический центр Москвы в застойные брежневские времена еще не был окончательно изуродован и сломан, а бедные коренные москвичи не были безжалостно выселены на окраины города нуворишами. Я проводил свободное от учебы в художественном училище и работы дворником время в этой пивной. В ней кипела жизнь с утра и до закрытия. Как водится, распивалось не только пиво; портвейн и водка приносились с собой, разливались из-под полы. Тогда я пил в основном портвейн. В пивной гремела посуда, стоял особый гул, в котором сливалась речь десятков мужчин, разогретые алкоголем они душевно беседовали между собой. Так, за пивом, я познакомился с двумя людьми. Рядом со мной, у стойки бара стояли два арбатских типа. Одному, помоложе, на вид можно было дать лет двадцать; выше среднего роста, в очках, он был узкоплеч, сутулился, разговаривая, немного картавил. Второму было лет пятьдесят, он был тоже высокого роста, худ, в очках, в сером плаще и широкополой шляпе. Первый представился Сергеем Кусковым. Рядом с ним стоял его отец, художник-график, иллюстратор исторических романов Мигеля Сервантеса, Чарльза Диккенса, Александра Дюма - Иван Кусков. После знакомства с Сергеем и Иваном я стал бывать у них в гостях, встречались у меня, пили портвейн, говорили о живописи. Оба они жили в прилегающих к Метростроевской улице переулках, в разных коммунальных квартирах. Сергей обитал в коммунальной квартире, в маленькой темноватой комнате, окном во двор, на втором этаже в Пожарском пер. (современное название). В этой же квартире, в другой комнате, проживала его полуглухая, подслеповатая бабка, которая, когда мы приходили с портвейном, гоняла меня, ворчала, почему-то называя "бандитом". Кусков предлагал мне спрятаться от бабки в большом гардеробе, в его комнате, что я и делал. Сергей Кусков. Прокуренная комната, в которой жил и творил художник Иван Кусков, отличалась необычным убранством, особым колоритом, арбатской аурой. Иван называл свое жилье каютой. В небольшой, 13 кв.м., комнате, справа от двери стояла кровать, рядом старый книжный шкаф, по центру комнаты - круглый стол, с висевшим над ним абажуром, около окна находилась небольшая конторка красного дерева. Все стены, потолок, стол, абажур, вещи на столе, даже подставка под чайник имели прикосновение рук художника хозяина. Потолок был разрисован умброй и марсом коричневым, цвета увядшей листвы, вязью осенних листьев. На стене висели скрещенные старые рапиры. Подставка на пробках под чайник сделана из ткани, имитирующей кожу; с надписью: "Де Артаньян, Портос, Атос, Арамис". Портреты Дон Кихота, французских мушкетеров, иллюстрация к Чарльзу Диккенсу и другая графика, украшали стены кусковской каюты. Иван был в душе романтик, жил в мире образов героев своих иллюстраций. Его отец Сергей Кусков (к сожалению не знаю отчества), потомственный московский интеллигент, был врачом, писал стихи. Вот несколько поэтических строк Сергея Кускова - старшего: "Встретим огненною влагой Бурный день и ночь невзгод, И гортань смочив малагой, Смело кинемся вперёд! Пусть над бездной мировою Наши души веселя, Разноцветною игрою Грань сверкает хрусталя!" 24.05.1941 г. Сын Ивана Кускова Сергей был талантливым искусствоведом. Светлая голова, с энциклопедическими знаниями, одарённый, он нашел свой особенный поэтический стиль изложения. Жизнь художника Ивана Кускова закончилась трагически. Во времена "перестройки", когда в продаже не было спиртного, он, с каким-то бывшим капитаном дальнего плаванья (я подозреваю, что это был бес в образе капитана) купил и выпил левый спирт. На девять лет, до самой смерти, ослепший Иван Кусков был прикован к постели. Искусствоведа Сергея Кускова вынудили обменять жильё на "золотом километре" Остоженки на Рязанский проспект. После смерти отца он оказался в Краснодарском крае и умер от рака поджелудочной железы в возрасте 53 лет. ___ Куда катится жизнь – уже не дни мелькают, а годы. В зеркале отражается незнакомая одутловатая рожа с бородавками, залысинами, красноватым носом в синих прожилках, дурацкими усишками. Вглядываешься в неё, видишь всё меньше прежних черт. А какое было лицо прежде, двадцать, сорок, пятьдесят лет назад - сложно представить, вспомнить. Разные люди обладали этим лицом. Время ускоряется. Будто, как в детстве, зимой, сел на санки перед спуском с горы. Толкаешься ногами, санки не едут. Потом, с трудом, возникает медленное ускорение. Затем – быстрее, быстрее, наконец мчишься вниз с горы - дух захватывает от скорости, ветра. Вот ухаб и головой в сугроб. Куда катится жизнь… но тогда из канавы можно было, смеясь, выбраться. Я открыл глаза. Понял, что лежу на полу. В полумраке громоздились разветления зелёных труб и винтелей. На одной из труб висели женские трусы салатового цвета. Вера налила в стакан портвейна. Я содрогнулся, выпил и пошёл на выход. Подвальная цементная лестница из боллерной круто вела наверх. От яркого солнечного света закрылись глаза. Я постоял немного и пошёл через двор бывшего Зачатьевского монастыря к себе в Коробейников. На ветках тополей шевелились ярко-зелёные листья. Всё это – солнечный свет, листья, было ошеломительной, но приятной неожиданностью. Видимо потому, что попал в подвал в последние серые дни весны, когда шёл, таял снег. И вдруг такое цветение… У Рембрандта есть замечательная картина, из серии анатомические опыты профессора Тульпа. Изображён лежащий на катафалке сероватый труп, ногами на зрителя, со вспоротым и прикрытым белой тряпицей животом. Вокруг врачи-хирурги. Но Главный у изголовья. Он изображён без башки – голова отрезана верхней линией холста. Осталось туловище в чёрном кафтане, в руках желтая чашка черепа, отпиленного при трепонации. На меня эта вещь Рембрандта производила большое впечатление. Сделал с репродукции вольную копию на холсте 90х120. Мечтал рисовать трупы в морге. Зарабатывал тем, что давал два раза в неделю уроки рисунка и живописи. Попадались способные ребята. Как-то говорю: кто хочет пойти со мной рисовать трупы в морг. Два бесшабашных парня согласились. Приехали утром на Пироговку к моргу 1-го медицинского института. Переждали, пока отъехал автобус с покойником. Спустились в полуподвал. Я позвонил. Через какое-то время железная дверь покойницкой открылась и перед нами предстала фигура огромного роста, в белом халате, бритой головой, с глазами навыкате. Справа, за его спиной, на белом кафеле выступа-стола стояла сковородка и жарилась яичница-глазунья Запах формалина, жареной яичницы вызывал рвотный позыв. Я тихо сказал двухметровому монстру в халате, что хотел бы с учениками порисовать трупы в его заведении. Помолчав в недоумении, невнятно выругавшись, чудовище захлопнуло перед моим носом дверь… Я закоченел, очнувшись утром на деревянных ступенях лестницы. Вспомнил – потерял ключи, открыть дверь не смогу. Где я их мог потерять? Одеревеневшими руками залез в карманы телогрейки, там было пусто. Посмотрел вверх на дверь – заиндевевшие ключи торчали в замке. В пивной на разливе была очередь, она расступилась – моя рожа была серая, как у покойника. От зловония пивной мутило. Держа две кружки перед собой, вышел на улицу. Сделав несколько шагов, упал навзничь в мягкий снег. Услышал реплику прохожего: «Хорошо прилёг». Две руки с кружками торчали из сугроба. Я умудрился не пролить пиво... Был летний вечер, часов пять. С остатка дворницкого аванса за отпуск, я взял вина - два портвейна и шампанское. Отправился к Жене Турунцеву в Лопухинский переулок. Взобрался на третий этаж, позвонил в разрисованный мной когда-то звонок. Турунцева не было дома. Сел на лестнице, подумал, откупорил шампанское, глотнул шипящие пузырьки. Через какоето время на лестнице послышались шаги и пред мной предстал цыган Инерций. Тёмные волосы у него были связаны в косичку. «Што пьёшь один?» - сказал он. Выпили, поговорили. Вспомнили поэта Сашу Кузьмина, проживающего в Ессентуках. Когда вино закончилось, Инерций говорит: «На Казанском у меня есть знакомые – касса, проводники. Если хочешь, езжай в Ессентуки». Я спал на третьей полке плацкартного вагона. Ранним утром поезд прибыл в Ессентуки. При выходе из вагона, слегка помятый, предложил проводнице рубль. «Спасибо, он тебе больше пригодится» - сказала она. Кузьмин работал грузчиком в винном магазине. Чтоб не бить баклуши, я стал ему помогать. С утра мы разгружали ящики с вином из машины в подвал магазина. Выпивали, обедали. Как-то я споткнулся и уронил ящик с вином. Бутылки три разбились, мы слегка повздорили. Больше я не стал приходить в магазин. Поехал в Егорьевск к Инерцию. Застал его голым, сидячим в плетёном кресле на веранде дома. Потом из Нальчика отправился на автобусе в ущелье Цей. Шофёр, рыжий осетин, вёл автобус по ущелью с открытыми дверьми. Сидело несколько старушек в чёрных платках, зверски сжимавших металлические дуги кресел. С собой у меня был небольшой, старинный, свиной кожи портфель, которым я щеголял в последнем классе школы. В портфеле были бутерброды. Я бодро взбежал с портфелем в гору. Полюбовался горным видом. Постоял у камня с надписью в честь погибших на траверзе горы Алан-Хол альпинистов. Забрался на ледник, прошёл по нему. Вершина с завихрениями позёмки снега была рядом. Спускаясь вприпрыжку, встретил группу альпинистов с тяжёлыми рюкзаками, верёвками, кошками. Один из них сказал: «В школу опаздывает». В июле жизнь зашла в тупик. С утра пиво, затем портвейн, стояние в пивной. Я подумал, единственное спасение - ехать, куда глаза глядят. Собрал трофейный рюкзак. Утром поехал на велосипеде по Садовому кольцу в сторону Казанского вокзала. Руль не слушался, велосипед «Украина» вилял из стороны в сторону, машины гудели. Поехал назад в Коробейников. Припарковался, ввалился с рюкзаком в пивную, выпил кружку. В магазине на Метростроевской взял две бутылки 0,8 портвейна «Абрикосовый аромат». Иван Кусков был дома. Велосипед поставил в коридоре его коммуналки. Понеслось! Мы пили, рассматривали графику, примеряли шляпу, гляделись в мутноватое зеркало шкафа, слушали Луи Армстронга… Вечером, разогретый и взбудораженный я приехал к маме. Попросил её дать сорок рублей. Связал дощечки оргалита, кисти, темперу. Взял снасти для рыбалки. На следующий день, доехав на велосипеде до Казанского вокзала, сел в электричку Москва-Рязань. Проехал по Рязани, переехал мост через Оку. Далее прямое шоссе с красивыми далями (60км). Затем, свернул на песчаную лесную дорогу. Ехал по ней, иногда увязая в песке (35км). За лесом открылась деревня Деулино. Стал накрапывать дождь. Я переехал деревянный мост через реку и углубился в лес. Шёл и ехал по тропе около четырёх километров. Под вечер, в лесу, поставил одноместную палатку, подальше от тропы. Замечательная началась жизнь. Сразу же я поймал под дождь несколько окуней. Выудил на школьные снасти, в яме у берега, золотистого килограммового карася. На другой день наловил пескарей на тесто, поставил жерлицы. Вечером взяла щука. Оказалось, провидение занесло меня в нужное место – палатку я поставил между двух излучин реки. По утрам на реке курлыкали журавли, их следы я разглядывал на песке. Я бродил десятки километров по лесным дорогам, меня нещадно жрали комары. Я рисовал лубки, кормил рисовой кашей лесных мышей, наблюдал за ужами, ел чернику и ежевику, дышал воздухом с ароматом смолы, пережидал грозу под ёлкой, смотрел на солнечный луч на коре сосны. Так, уехав «куда глаза глядят», неожиданно для себя, я пожил в Мещере, на реке Пре… ----В 1987 году у меня состоялась совместная с Андреем Медведевым выставка "Живопись". Она прошла в зале творческого объединения "Вернисаж", в доме культуры где-то на окраине Москвы. На выставке были представлены картины, написанные мной в период с 1979 - 1987 гг. Я выставил серию натюрмортов: "Консервные банки", "Орудия труда", "Патефон", "Камни", "Бездомные вещи", серию из четырех картин: "Загон ", лубки. Из серии «Загон» №1 х.м. 112х150 1982г. Ицхак Зусман Еврейские мудрецы в истории народа Встречи и беседы с моими друзьями и знакомыми, приехавшими в страну в 90-х годах прошлого века, убедили меня в грустном факте: подавляющее большинство евреев, приехавших из бывшего Советского Союза, совершенно незнакомы с историей народа, к которому они принадлежат. Советская власть сумела полностью вытравить из нас еврейское сознание, еврейскую культуру и историю и, главное, лишила нас желания восстановить этот пробел. Среди нас имеются блестящие знатоки истории России и русской литературы, русской философии и поэзии, но очень немногие знакомы с историей еврейства, с древними еврейскими философами - мудрецами, которые заложили основы современной цивилизации. Я хотел бы в меру своих сил и способностей восполнить этот пробел, хотя бы частично. С этой целью я предлагаю вашему вниманию краткий экскурс в недавно опубликованную серию книг по истории еврейских мудрецов, начиная с 5-го века до новой эры (н.э.). Речь идет о книгах, которые написал д-р философии раввин (далее - р.) Биньямин (Бени) Лау, под общим титулом "Мудрецы". В старые времена этот титул присваивался раввинам, которые отличились в своей жизни не только глубокими познаниями в Танахе, но и оставили след в истории тем новым, что они привнесли в еврейскую философию. [Танах (Ветхий Завет) понятие собирательное. Слово Танах на иврите представляет собой аббревиатуру из начальных букв трех книг: Тора, Навиим (Пророки) и Ктувим (Писания)] Бени Лау родился в 1961 г. в Тель-Авиве. Его отец Нафтали, уроженец Польши, старший брат Меира Лау, в прошлом главного раввина Израиля, с которым он вместе пережил ужасы нацистских лагерей смерти. Р. Бени Лау возглавляет религиозную школу (Бейт хаМидраш, ешиву) в Иерусалиме, как часть сети религиозных школ Бейт Мораша. Он работает раввином синагоги им. Рамбана в Иерусалиме, и ведет курс по изучению Талмуда в университете Бар Илан. Он читает лекции в Открытом университете и постоянно выступает перед школьниками Иерусалима. Круг его интересов охватывает исследование религиозных (галахических) постановлений, увязывая их актуальность с меняющимися реальностями современной жизни. Первый том называется "Мудрецы. Эпоха второго Храма". Книга р. Лау прослеживает методично весь период второго Храма: от времени Эзры и Нехемьи (вернувшихся в Израиль в середине 5-го века до н.э.), через Маккавеев (со 166 г. до н.э.) и Ирода (73 г. до н.э. – 4 г. н.э.) ко времени разрушения второго Храма (70 г. н.э.). И все это связывается с философией мудрецов. Перед нами книга, которая позволяет читателям выполнить заповедь: не забывай деяний прошедших поколений. И здесь, пожалуй, уместно сказать в подражание А. С. Пушкину: "Да ведают потомки всех евреев истории своей забытые страницы". Эта книга открывает перед нами эпоху великих мудрецов в еврейской истории, эпоху, когда у народа была своя страна, которую он потерял. Книга открывает новые страницы в нашей истории и как бы объясняет, что нам следует ожидать от нашей возрожденной страны. Глава 1: От пророчества к законам. Эта глава вводит читателя во времена возникновения института мудрецов (Торы). Она охватывает период от деятельности членов Великого Собрания (500 – 300 гг. до н.э.) до времени разрушения второго Храма (70 г. н.э.). Деятельность мудрецов начинается со времени исчезновения пророков в Израиле. Мудрецы понимали, что им предстит возродить в народе утерянную духовность, хотя бы для того, чтобы сохранить в поколениях преемственность традиций отцов. Осознание исторической ответственности, которую они возложили на свои плечи, проявилось в создании религиозных постановлений, обязательных для всех евреев. Параллельно возрождалось исполнение всех традиций. Это нашло свое отражение в создании сборника наставлений "Трактат отцов", который воспринимался как голоса забытых пророков, которые и сегодня кажутся вполне современными. Немного истории. В 539 г. до новой эры (н.э.) персидский царь Кир завоевал Вавилон. Началось формирование персидской империи, которое совпало с окончанием вавилонского пленения (после разрушения первого Храма в 586г. до н.э.) и началом возвращения евреев в страну Сиона. Заканчиваются семьдесят лет рассеяния евреев. Кир разрешает евреям вернуться, и возникает первая волна возвращения в Израиль. Решение Кира вернуть евреев на их родину было продиктовано отнюдь не его расположением к народу израильскому. Это была часть политики, когда каждый народ, населявший в те времена персидскую империю, должен жить на своей родине. Каждый народ имел право поклоняться своим богам и управлять своей автономией, платя исправно налоги в имперскую казну. Возвращение в Израиль происходило несколькими волнами. Первая волна была организована в 539 г. до н.э. Она сопровождалась большими надеждами, но закончилась столь же большим разочарованием. Возвращавшиеся евреи были раздроблены на отдельные группы, среди них было очень много нищих. Другая большая группа состояла из успевших ассимилироваться евреев вследствие смешанных браков. В целом эта волна репатриантов насчитывала всего-навсего несколько десятков тысяч человек. Во главе их стояли Зрубавель бен Шалтиэль и первосвященник Иегошуа хаКоген. Они заложили основы Храма в Иерусалиме, но сам Храм не построили. Этот период, от провозглашения указа царя Кира до возвращения в Израиль священника Эзры (в 458 г. до н.э.), представляется исследователям весьма туманным, и от него не осталось никаких письменных свидетельств. С возвращением в Израиль Эзры и затем Нехемьи (в середине пятого века до н.э.) начинается новый период в истории народа, известный как Великое Собрание мудрецов. Они продолжили работу последних пророков, но у них уже не было просветлений и прямого "общения" с Богом. В хронологическом аспекте, деятельность этих мудрецов охватывала период от возвращения Эзры в Израиль до появления на исторической сцене греков (около 300 гг. до н.э.). Единственный мудрец из этой группы, чье имя осталось в истории, был Шимон хаЦадик. Все остальные вошли в историю безымянными. Мудрецам Великого Собрания пришлось столкнуться с двумя проблемами одновременно: перейти от изучения Торы в Храме к изучению её в народе, и изменить метод изучения. Вместо пророков учителями выступали мудрецы. Вместо выслушивания откровений Бога из уст пророков, народу приходилось слушать и запоминать поучения мудрецов. Происходит преобразование религиозной жизни. Мудрецы Великого Собрания сочинили новые молитвы и благословения, разделили дни на святые и будничные. Эзра внес исправления в чтение Торы: её стали читать в субботу днем, а также в понедельник и в четверг. Эзра не удовлетворился введением еженедельного чтения Торы, но решил изменить и характер её написания. Считается, что Бог дал Тору, написанную на древнем иврите. Эзра постановил писать её на арамейском (разговорном языке тех времен), но ивритскими буквами ассирийского написания. Это позволило простому народу читать Тору и понимать её тексты. Одновременно с распространением Торы и изучением её во всех концах страны, мудрецы настаивали на возвращении народа к соблюдению законов Торы. Духовный уровень развития возвратившихся в Сион евреев оставлял желать много лучшего. Повсеместная ассимиляция из-за смешанных браков, незнание Торы и забвение её законов – все это отдаляло евреев от религии и делало их жизнь слишком похожей на жизнь соседних народов. Нехемья видел осквернение субботы в Иерусалиме. В винодельнях давили виноград, в полях вязали снопы. Иными словами, суббота была обычным рабочим днем. Ни о какой святости субботы речи не было. Люди даже не знали смысл самого понятия "суббота", как прекращение всякой работы – "шабат". Можно предположить, что борьба за выживание в новых условиях, вынудила вернувшихся евреев ввести семидневную рабочую неделю и работать все 365 дней в году. Город без передышки. Так выглядел Иерусалим в начале существования Великого Собрания. Отказ народа от Торы был настолько распространенным, что реформу нельзя было ограничить косметическим изменением правил чтения Торы. Была необходимость в основательных изменениях, которые вернули бы народ к первоисточникам. Нехемья не был демократом и не нуждался ни в чьих советах. Он внедрил субботу в повседневную жизнь народа в приказном порядке. В четвертом веке до н.э. на арену истории выходят греки-эллинисты. Захватнические войны Александра Македонского на востоке привели к падению персидской империи. На Ближнем Востоке наступила совершенно иная жизнь, началась новая эпоха. Изменения проявились в характере власти, культуре и религии. Гигантская империя Александра Великого не продержалась долго, и после его смерти распалась на несколько государств. В Сирии и прилежащих землях правила династия Селевкидов. Они, в частности, ввели в обращение письменное летоисчисление, которое начиналось с установления самого государства в 312 г. до н.э. Страна Израиля в то время не имела самостоятельности и была частью империи Селевкидов. Район был охвачен непрерывными войнами: Птолемеи воевали с Селевкидами за право владеть землей Израиля, как пограничной областью между империями. И в течение нескольких веков Израиль находился под властью то одной империи, то другой. Понятно, что характер власти, деньги, язык и культура в стране соответственно менялись. С воцарением культуры эллинистов в стране стали появляться города (полисы). Евреи перенимали культуру населявших их греков и старались во всем подражать им. Греческий язык проникает в культуру евреев. Греки принесли с собой их книги, песни, философию, науку. В стране все это расцвело пышным цветом, и все было на греческом языке. В эту эпоху самым впечатляющим является образ Шимона хаЦадика, как одного из последних мудрецов Великого Собрания. В его образе отражается связь между храмовыми священниками и новым политическим и духовным руководством общества. Во всех первоисточниках Шимон хаЦадик фигурирует как духовный (религиозный) и политический лидер. Семьдесят лет проживания в Вавилонском царстве привели к отдалению еврейства от земли израильской. Это позволило инородцам самаритянам, которые прибыли в эту землю вследствие политики ассирийцев заселять покоренные земли, утверждать, что земля принадлежит им и что они коренные жители её, а не вернувшиеся из Вавилона израильтяне. Когда земля была захвачена греками, самаритяне пытались утвердиться на этой земле путем наговоров на израильтян, обвиняя их в сопротивлении властям. Александр разрешил самаритянам построить свой храм. Принято отмечать "день горы Гризим" как результат победы дипломатии Шимона хаЦадика, благодаря которой Александр отвернулся от самаритян и повернулся в сторону евреев. Легенда заканчивается описанием разрушения храма самаритян на горе Гризим и окончательным поражением самаритян в их войне против израильтян. В образе Шимона хаЦадика отражен как бы водораздел между старым и новым миром, между миром, где господствовал божий дух, и миром современным, где стал господствовать человек. Шимон хаЦадик еще несет с собой воспоминания о былых временах пророков и появлении перед ними духа божьего. Отсюда его сила. В еврейском обществе той эпохи не было никого другого, кто был бы способен поддерживать мир в народе (и предотвращать распри между выходцами из разных колен). Речь не идет о смешении власти (духовной и политической), как это случилось во времена Маккавеев, так как еще нет самостоятельного государства. Шимон хаЦадик вовсе не ратует за национальное самоопределение. Израильское общество тех времен не требует независимости, его вполне устраивает свобода отправлять еврейские обряды. Общество просит сохранить верховную духовную власть Храма в Иерусалиме, и оно готово принять новую административную власть не как врага, а как партнера. Победа Шимона – это победа Бога израильского над богами других народов, населявших тогда землю израильскую, и, прежде всего, над самаритянами. И неважно, кто властвует на этой земле в данный момент. Главное, чтобы власть знала, что в Иерусалиме есть Храм, в котором свободно совершаются религиозные службы в честь еврейского Бога. От эпохи мудрецов Великого Собрания мы переходим к эпохе сильного греческого влияния на еврейство Израиля. В те времена, третий-второй века до н.э., в стране уже было немало видных евреев с греческими именами. Например, Ополем, Антигон, и даже первосвященник Ясон. Понятно, что евреи переняли у греков не только имена, но и образ жизни, и духовные ценности. Как часть противостояния духовному влиянию греческой культуры, мудрецы той эпохи должны были сохранять в народе основы иудаизма как религии. В этой обстановке, в 3-м веке до н.э., Антигон из Сохό решил обнародовать свои философские взгляды на религию. Мы ничего не знаем о его окружении. Единственное, что обращает на себя внимание, что израильское общество того времени активно обсуждало проблемы сохранения религиозной принадлежности, проведение обрядов, поощрение праведников, фанатично выполняющих все заповеди, и наказание уклоняющихся от их исполнения. Антигон утверждал, что нет никакой связи между выполнением заповедей Торы и получением награды за это. Учение Антигона распалось на несколько ветвей, и каждая из них имела немало последователей, которые старательно пытались понять, как можно осуществлять работу без получения оплаты (служить Богу без воздаяния). Само понятие "работа" основано на принципе платы за вложенный труд. Раз кем-то что-то сделано, сделавший должен получить плату за проделанный труд. В конце концов, даже рабы получали оплату в виде еды, одежды и крова. Ученики понимали, что в утверждении Антигона о бесплатном труде есть какой-то другой смысл, скрытый от простого понимания. Они пытались найти ответ в Торе. Но все примеры о вознаграждении за труд отметаются учениками. Если нет будущего, т. е. загробного мира, все старания в этом мире напрасны. Простой смысл учения Антигона сводился к требованию, чтобы служение Богу не сводилось только к вознаграждению и страху. В описании Рамбама мы находим явное одобрение работы, которая возвышает человека, работающего без оплаты. Антигон наиболее яркий проповедник такого подхода к служению Богу, когда человек становится полноценным и достигает вершин совершенства. Поиски связи между человеком и Богом, параллельно со стремлением к новой, хотя и чужой, культуре, проникшей в страну, привели к возникновению групп людей с разнообразной идеологией. Жизнь без пророчеств сопровождалась поисками волшебного ключика: как находящиеся внизу (социальной лестницы) могут повлиять на происходящее наверху. Молитвы становятся обыденным делом. На вопросы собираются ответы, частные и общественные, которые передаются выше. Мудрецы направляют народ и указывают ему правильную дорогу. Вместе с тем в этом аспекте служение Богу вызывает разочарование. Человек заканчивает молитву и не уверен, смог ли он повлиять на что-то. Заявление (Бога) "если будете следовать Моим заветам, пролью на вас обильный дождь" ясно для всех, даже без пророков, что есть связь между поведением людей и деяниями Бога. И тем не менее людей терзают сомнения, и они ищут что-то более вещественное. Знакомство с человеком по имени Хони Меагель и его взглядами вводит нас в мир религиозных желаний, в котором человек молится и одновременно оценивает, способен ли он повлиять на решения Бога. Хони Меагель, живший в первом веке до н.э., известен как преданный Богу человек и напоминает своим рвением пророков,. Во время засухи он мог вызвать дождь. И это идет в разрез с укоренившимися представлениями в Талмуде, что дождь зависит не от человека, а только от воли Бога. Есть вещи, не подвластные воле человека и не поддающиеся его желанию. Они как бы находятся в частном ведении Господа Бога, хранятся в Его хранилище, ключи от которого находятся в Его руках. Речь идет о таких явлениях, как дождь, рождение человека и воскрешение мертвых. И как ведет себя Хони? Он вырывает яму, спускается в неё и заявляет во всеуслышание, обращаясь к Богу: "Я не сдвинусь с этого места, пока Ты не сжалишься над Твоими сыновьями". Такое заявление вступает в противоречие с общепринятыми представлениями. Выясняется, что есть человек, который в силах заставить Бога сделать что-то полезное людям и именно тогда, когда хочется это человеку. Человек по имени Хони в чем-то похож на пророка Илью, который держит в своих руках ключи от дождя. Параллельно с Хони в истории еврейства того же времени известна другая фигура – р. Шимон бен Шатах. Этот человек олицетворял судебную власть. Опасения Шимона бен Шатаха перед влиянием Хони основывались, в первую очередь, на понимании, что благодаря ему проявляется притягательная гигантская сила. Образ этого человека в устной Торе приравнивается к образам великих пророков Торы письменной, пророков, которых так не хватало народу в эпоху мудрецов. Опасения Шимона бен Шатаха были не напрасны. Слухи о том, что есть кто-то, у кого в руках ключи от дождя и который способен погасить гнев Бога, избаловали народ. Что-то нехорошее происходит в народе, который привыкает обращаться за помощью к сыну, постоянно прося его обратиться к Отцу. Забыты другие возможности. Люди становятся грубыми и теряют ощущение собственной значимости. Мир мудрецов породил новые отношения между человеком и Богом. Но даже в мире божественных рабов существует иерархия, и есть рабы с разной степенью рабства. На вершине пирамиды расположились священники как советники царя и его министры. Они не принадлежат к правящему семейству, но занимают высокое положение. Они сидят рядом с царем, объясняют внутренние и внешние проблемы, и помогают ему править страной. Но есть другие рабы у Бога. Они не министры, и не ведут себя как сыновья Бога. Они Его личные слуги, которые с ним в самые интимные моменты. В мире мудрецов этих слуг представлял р. Ханина бен Доса, ибо его вера в Бога и преданность Ему предшествовали появлению мудрости. Он, кстати, историческая личность, которая хронологически относится к поколению, жившему после разрушения второго Храма (конец 1-го века н.э.). Клятва в верности Богу – это проявление доброго устремления, которое у богатого проявляется в том, что он покупает жертвенное животное и отправляет его в Храм. Раввин Ханина беден, и нет у него денег купить себе жертвенное животное. Единственное, на что он способен, это обтесать камень. Но он не в состоянии даже нанять рабочих, чтобы отнесли этот камень в Храм. Когда он выражает готовность отдать Богу свою руку или пальцы, он получает от Бога благословение на перемещение камня в Иерусалим. Чудо перемещения камня в Иерусалим отражает преданность р. Ханины Богу и его горячее желание сделать Ему приятное. Способности р. Ханины не знают границ. Он способен творить чудеса в любое время. Образ р. Ханины бен Доса поднимается высоко-высоко над остальными людьми. И секрет его силы и влияния скрыт в его простоте, прямодушии и скромности. Он никогда не стремился быть образцом для кого бы то ни было. Ханина – человек простой и прямодушный. И именно поэтому он стал настолько привлекательным образом в истории народа еврейского, что даже в Талмуде говорится о нем, что "со смертью р. Ханины перевелись люди, творящие великие чудеса, и не стало более людей деятельного благочестия". Глава 2: Период парности: между религией и государством. В этой главе рассматриваются процессы, которые претерпевал наш народ под властью греков: ограничения сирийского царя Антиоха, восстание Маккавеев (Хасмонеев), воссоздание еврейского государства и его распад. В истории устной Торы эта эпоха характеризуется возникновением парности среди мудрецов. Роль священников (служителей Храма) резко упала в результате прихода в страну греческой власти и греческой культуры. Сан священника можно было просто купить за деньги. Параллельно с этим зарождается парность в руководстве народом. В середине этого периода возникают три больших течения: фарисеи, саддукеи и ессеи. Фарисеи прокладывают себе дорогу к управлению народом путем декларирования внимания к его повседневным заботам, экономике, проблемам внешних отношений и безопасности страны. Саддукеи стараются сохранить обычаи, которые были приняты до деятельности Эзры и мудрецов Великого Собрания. Они концентрируются вокруг Храма, и пытаются усилить его роль и влияние в народе. Ессеи замыкаются в своем тесном мире старых традиций и обособляются от народа. Немного истории. Время – второй век до нашей эры. Начало века характеризуется распространением в стране греческого влияния и восстанием Маккавеев (Хасмонеев). Власть в стране переходит в руки евреев. Для усиления власти производят слияние сана Верховного священника с престолом правителя. Первые годы возникновения парности мудрецов совпадают с правлением сирийского императора Антиоха Епифана (175 – 163 гг. до н.э.). Он властвовал жесткой рукой. Его принципом был девиз: все должны быть едины и подчиняться империи Селевкидов. Верхушка еврейского общества считала его своим другом. И неудивительно, так как первосвященник Ясон, например, купил свой сан у Антиоха за обещание превратить Иерусалим в греческий полис и построить в нем стадион-гимназию. Иерусалим превращался в греческий город с его законами. Например, закон предусматривал обязательное образование, что служило условием предоставления гражданства. Параллельно с еврейскими именами, все большее распространение получали имена греческие. В 171 г. до н.э. сирийский царь Антиох Епифан лишил короны еврейского царя Ясона и короновал вместе него Менелая, бывшего казначея в Иерусалимском Храме, так как тот заплатил за это назначение намного больше, чем предлагал Ясон. В народе возникли волнения, когда стало известно, что Менелай, чтобы заплатить свой долг Антиоху, вывез из Храма его сокровища: золотой жертвенник, семисвечник, стол, золотую и серебряную посуду. Многие евреи, даже не отличавшиеся слишком большой религиозностью, восприняли ограбление Храма как святотатство и покушение на "Святая святых" иудаизма. Недовольство евреев властью было подогрето поступком Антиоха, запретившего исполнение каких бы то ни было религиозных отправлений, кроме поклонения греческим богам. В 167 г. до н.э. в иерусалимском Храме вместо жертвенника установили мерзкую для евреев статую идола – бога язычников. И в этот период появляется первая пара мудрецов: Йоси бен Йоэзер из Цреды и Йоси бен Йоханан из Иерусалима. Место жительства влияет на человека. Цреда располагалась в западной части Шомрона, вдалеке от центров греческой ассимиляции евреев. Цреда – это глухая провинция, недалеко от которой вспыхнуло восстание Маккавеев. В трактате "Хагига" Йоси бен Йоэзер назван "хасидом в священниках". Это выражение приписывает ему духовное руководство людьми, обязывающее его сохранять в народе еврейство, в частности, путем соблюдения законов о греховности и чистоте. Добавление к имени Йоси бен Йоэзера слова "хасид" (праведник) сразу относит его к движению хасидизма времен второго Храма, из которого вышли руководители восстания Маккавеев. Йоси бен Йоэзер утверждал, что все должны изучать Тору и ее законы. Если шкаф в доме набит свитками греческих писателей, полки в детской комнате заполнены книжками греческих сказок, в подвале есть спортивный зал, а во дворе есть бассейн, такой дом не может быть приютом для мудрецов Торы. Характер дома определяет культурную принадлежность человека. Гораздо менее радикальным был другой мудрец: Йоси бен Йоханан из Иерусалима. Он подчеркивал необходимость разобрать стены дома, который превратился в крепость, крепость для Торы. Такой дом не в состоянии влиять на происходящие вокруг события, и остается маленьким и элитным домом для избранных. Он требовал открывать дома для бедных, чтобы эти люди чувствовали себя желанными в таких домах. Его лозунг "бедные (должны быть) членами твоего дома" объяснялся следующим образом: дай в своем доме работу бедным и не держи чужих слуг. Открытый дом требует много рабочих рук: пусть в нем работают бедные люди, но евреи. Ответ Матитьягу известен: "Все, кто за Бога, ко мне!" (Слова Моше, произнесенные им, когда он увидел пляшущих вокруг золотого тельца евреев). Так началось восстание Маккавеев. Первая фаза восстания завершилась захватом Иерусалима и очищением Храма в 164 г. до н.э. В Иудее установилась власть клана Хасмонеев (или Маккавеев). Восстание возглавлял Иегуда (один из сыновей Матитьягу). На определенной фазе борьбы греки вынуждены были пойти на уступки. Ненавидимый народом Верховный священник Менелай был убит. Иегуда Маккаби стал правителем страны. Греко-сирийский царь Антиох V провозгласил официально новую политику в отношении еврейского государства. Это затишье было временным. Его нарушил Дмитрий Сотер, который в 160 г. до н.э. занял царский престол, убив своего племянника Антиоха V. Первосвященником был назначен Эльяким, который купил эту должность у Дмитрия, пообещав ему ввести в Иудее прежние порядки и всецело поддерживать политику Дмитрия. Согласно талмудической традиции, этот первосвященник был племянником Йоси бен Йоэзера. Наместником Дмитрия в стране был греческий военачальник, который работал в тесном контакте с Эльякимом и насаждал прежнюю политику поголовной ассимиляции евреев. Первым шагом в этом направлении было убийство шестидесяти хасидских священников. Одним из казненных был Йоси бен Йоэзер, дядя первосвященника. Прежде чем переходить к новой паре, задержимся среди саддукеев. Именно в это время появились первые ростки разногласий между ними и мудрецами Торы. Это было время укрепления власти Маккавеев, время появления и расширения сект саддукеев и ессеев. Вполне вероятно, что возникновение сектантства связано с провозглашением в стране государственной независимости. После долгих лет кровопролитий в стране воцарилась власть верховных священников. Ессеи нас почти не интересуют, так как они сами отгородили себя отшельнической стеной. Это была уединенная и обособленная группа религиозных фанатиков, погруженная в саму себя, которая не имела никакого влияния на народ и не хотела попадать в зависимость от народа. Саддукеи, наоборот, представляли собой не секту, а класс. Само имя саддукеев свидетельствует, что они происходят из социальной прослойки священников, возможно, как потомки первосвященника Цадока, возглавлявшие службу в Храме со времён царя Давида и до антиеврейских указов царя Антиоха. Речь идет о священниках аристократах, стремившихся вернуть Храму его центральную роль в жизни народа. Духовная революция, которую провел Эзра и мудрецы Великого Собрания лишили Храм этой привилегии. Параллельно с Храмом выросло поколение мудрецов, которые повели за собой народ путем привлечения его к Торе. Служба в Храме свелась к выполнению религиозных обрядов. У священников не было возможности оказывать какое-то влияние на народ. Саддукеи прилагали максимум усилий не допустить зарождающиеся традиции обучения Торы в ешивах. Большинство из написанного саддукеями сводится к определению понятий трефного (греховного) и чистого и к обсуждению понятия святости Храма. Для сравнения полезно рассмотреть постановления, написанные в ешивах первой парой мудрецов: Йоси бен Йоэзера и Йоси бен Йоханана. Разногласия между саддукеями и учением р. Йоси бен Йоэзера особенно четко проявляются в их стремлении углубить смысл понятий греховности и чистоты в Храме. Например, согласно воззрениям саддукеев, вода, стекающая с жертвы, становится святой, и простым людям запрещено было касаться её. Йоси бен Йоэзер не соглашался с подобными взглядами, разрешая касаться этой воды, и поэтому получил прозвище "Йоси разрешающий", которым наградили его противники саддукеи. Мы сталкиваемся в этом отрывке с самыми первыми признаками разногласий между саддукеями и фарисеями. Речь идет не о секте, которая будоражит спокойное выполнение религиозных обычаев в отдельных городах. Перед нами священнослужители Храма, влияющие на жизнь каждого еврея. Эти люди стремятся помешать распространению нового течения в отношении изучения Торы, которое внедряли в народ Эзра и мудрецы Великого Собрания. До сих пор мы говорили о саддукеях и мудрецах. Но мудрецы во многих первоисточниках называются другим именем: фарисеи. Это имя вызывает многочисленные толкования среди исследователей. В свете сходства между фарисеями и ессеями, следует признать вполне логичным утверждение некоторых исследователей, что это имя первоначально было дано членам Кумранской общины, которые отошли от народа. (На иврите "прушим = отошедшие"). С годами это имя (прушим или фарисеи) перешло на хранителей законов Торы, отсчитывающих свою историю от мудрецов Великого Собрания. Мы переходим ко времени, когда в стране утвердилась власть Маккавеев и страна стала независимой. После смерти Иегуды восстание евреев возглавил его брат Йонатан. Длительная война вынудила греков признать его полноправным властителем Иудеи. Следует помнить, что Йонатан не принадлежал к потомству Цадока, которые до завоевания страны Грецией поставляли первосвященников в Храм и правили народом. После смерти Йонатана, третий брат из семейства Хасмонеев – Шимон занял его престол и правил страной с 142 до 134 г. до н.э. Во время его правления было проведено общенародное собрание во дворе Храма. Собрание постановило признать всех трех представителей семейства Хасмонеев законно избранными и дать им право занимать пост главы Храма. Тем самым было узаконено объединение в одних руках власти политической и общественной, военной и религиозной. Сын Шимона Маккавея, Йоханан Горканос (134 – 104 гг. до н.э.), сумел расширить границы еврейского государства. При нем евреи установили господство над всей территорией древнего Израиля (от Галилеи на севере до Негева на юге). Завоевания проводились под лозунгом возврата евреев на земли своих предков. Это движение началось еще при жизни Шимона Маккавея. Когда сирийский правитель Антиох VII попенял ему за чрезмерное расширение новых еврейских поселений, Шимон ответил известным посланием: "Ни земли инородцев, ни их собственность мы не забираем. Мы возвращаем себе поселения праотцев наших, которые были несправедливо захвачены в свое время врагами нашими". Во втором поколении после восстания Маккавеев усилилось стремление заселять все уголки земли, завещанной Богом, а не жить только вокруг Иерусалима. В этот период в сознание народа вновь возвращается стремление ощущать себя евреями. У людей появилась надежда. Переходим ко второй паре мудрецов: Иегошуа бен Прахья и Нитай Арбели. В соответствие с годами жизни отдельных мудрецов, первая пара мудрецов, Йоси бен Йоэзер и Йоси бен Йоханан, работали во времена восстания против греков (первая половина 2-го века до н.э.). Мудрецы второй пары жили в конце второго – начале первого века до н.э., во время правления царя Йоханана, который провозгласил независимость еврейского государства под предводительством царей из династии Хасмонеев. В Галилее до сих пор сохраняются могилы Нитая бен Арбели и Иегошуа бен Прахьи. Учение Нитая Арбели отражало ответ на бедствия, которые свалились на головы мудрецов по вине властителей Хасмонеев. В своем учении он предостерегал людей избегать плохого соседа и остерегаться злодеяний. Он утверждал, что ему нечего искать в Иерусалиме, управляемом интриганами саддукеями. Он не жалуется на бедность в ожидании лучших времен. Его современник, Иегошуа бен Прахья, вынужден был бежать в Египет, так как его участие в сопротивлении режиму Хасмонеев было слишком открытым. Различия в мировоззрениях Иегошуа бен Прахья и Нитая Арбели концентрируются вокруг представлений о борьбе с бедностью. Нитай Арбели утверждал, что человек должен удалиться от центров концентрации власти, так как они пронизаны злом. Иегошуа бен Прахья, наоборот, учил, что только активное участие может улучшить жизнь людей и исправить мир. Это было ново для тех времен. Мудрецы третьей пары, Иегуда бен Табай и Шимон бен Шатах, жили в середине первого века до н.э., во времена царствования Шломцийон хаМалка, вдовы царя Яная, которая была, кстати, сестрой Шимона бен Шатаха. Шимон бен Шатах был председателем Верховного суда, тогда как Иегуда бен Табай был президентом синедриона. Шимон бен Шатах предпринимал немало усилий для создания основ судебной системы в стране. Он стоял на охране справедливости судейских решений, и не позволял властям заниматься самоуправством и нарушать судебные законы. Шимон бен Шатах был инициатором реформ в системе образования, узаконив всеобщее обязательное образование для еврейских детей. Он также составил новые правила для написания брачной ктубы. Четвертая пара мудрецов, Шемая и Автальон, жили и работали во второй половине первого века до н.э., в эпоху острых противоречий внутри израильского общества. В то время римский император Помпей завоевывал одну за другой страны Ближнего Востока. Он завоевал Сирию и вступил в Иудею, не встретив никакого сопротивления. Дни независимого еврейского государства пришли к концу. Правление Хасмонеев бесславно завершилось. Ставленник Рима Гордус (Ирод) в 37 г. до н.э. завладел царским троном в Иерусалиме. Представители четвертой пары мудрецов были детьми геров, не евреями по рождению, и считались чужеземцами. Их возвышение может служить примером того, что уже тогда было движение за изъятие Торы из элитарной группы людей и передачу её тем, кто будет ревностно охранять её и следовать её законам. И неважно, каково происхождение этих людей и из каких слоев населения они пришли. Шемая и Автальон отобрали Тору у народа. Они внесли Тору в ешивы, и оттуда собирались влиять на устойчивость духовного мира, и это в то время, когда в стране царило всеобщее разочарование в правителях, да и в духовных наставниках. Глава 3: Шамай, Гилель и их ученики. Следующая пара мудрецов – Шамай и Гилель. Они жили в конце 1-го века до н.э. и в начале 1го века н.э. Это был период перехода от правления Хасмонеев к правлению римлян, точнее, римского наместника в Иудее. Еврейским царем был Гордус, прославившийся градостроительством, перестройкой Храма и в тоже время своей параноидальной жестокостью по отношению к своим близким. За время его правления десятки строительных объектов были возведены в стране. Он построил два новых города: Себастья и Кейсарию. Первый стал столицей страны, а второй служил морским портом. Из частных строений, можно упомянуть Масаду и дворец в верхней части Иерусалима. Но все это меркло перед тем, как он перестроил Храм. Именно о заново отстроенном Храме было сказано: "Кто не видел строение Гордуса, тот не видел прекрасное". Иудея при Гордусе становилась все более и более космополитной с проникновением эллинистской культуры в жизнь общества. Часть из учения Гилеля было создано под влиянием этой культуры. В то время мудрецы не увлекались политикой, и вместо обсуждения недостатков во властных структурах, что занимало умы предыдущей пары мудрецов, мудрецы этой пары обсуждают проблемы религиозного отправления в обществе. Их интересуют проблемы порядка и содержания молитв, дни праздников, проведение субботней церемонии, различия между трефным и кошерным. Мы встречаем Гилеля, когда Тора закрыта (для народа), спрятана и передается только членам элитной группы людей. Героизм его поступка в том, что он проповедовал, что каждый человек должен учить Тору. Он открыл ешивы для каждого, кто хотел в них учиться. Его современник Шамай ратовал за сохранение традиций и введение более суровых религиозных постановлений. Школа Шамая превратилась в элитарную, для избранных, куда принимались ученики по принципу одаренности, скромности, родовитости. Между школами Шамая и Гилеля были разногласия в отношении правил исполнения молитв и в оценке отношения к душе и к телу. Шамай и его последователи считали, что душа пребывает в теле человека как божественное отражение. При этом тело дано нам не для радости жизни, а для выполнения необходимых действий, чтобы поддерживать существование души. Главное в человеке – это его душа, все направлено на её поддержание и все идет за нею. Иначе понимал это Гилель. Тело тоже играет важную роль в поддержании жизни, ибо сказано "по божьему образу" был создан человек. В религиозной еврейской среде принято следовать постановлениям и законам школы Гилеля, но стараться приспособить их к меняющимся реалиям жизни, чтобы сократить, по возможности, разрыв между законами, принятыми две тысячи лет назад и повседневной жизнью в наше время. В современных публикациях принято указывать, каково происхождение того или иного закона: относится ли он к школе Гилеля или придерживается направления школы Шамая. Принадлежность к школе Шамая подразумевала сохранение верности традициям, тогда как имя школы Гилеля связано с введением новшеств в религиозные законы, новшеств, которые были обусловлены изменившимися реалиями жизни. Школа Шамая требовала четко разграничивать праздники и будни, тогда как школа Гилеля находила святость в повседневной жизни. Это естественно отражало законы поведения людей в создаваемых каждым из них школах. Развивается разный подход к отправлению религиозных обрядов. Создается впечатление, что мы имеем дело с разной религией и совершенно разным поведением людей, хотя и верящих в одного и того же Бога. Учение школы Гилеля, требующее присутствия святости в будничных делах (человека), практически было стерто. Одно из требований современного религиозного сионизма гласит вернуть этому постулату школы Гилеля главенствующее место в преподавании. Необходимо растить новое поколение приверженцев школы Гилеля, которое будет видеть служение Богу во всех своих делах. Глава 4: Усиление разногласий в Израиле. Согласно принятой традиции, четыре президента (синедриона) правили в эпоху второго Храма: Гилель, Шимон, Гамлиэль и Шимон (младший). Рабан Гамлиэль (старший) и рабан Шимон бен Гамлиэль жили и работали во второй половине первого века нашей эры. О Гилеле много говорилось в предыдущей главе. Но нам почти ничего неизвестно о Шимоне, сыне Гилеля и отце Гамлиэля старшего. Весь этот период в первоисточниках называется как время учеников Шамая и Гилеля, без указания имен и дат. Трактат Тосефта рассказывает, что это был период усиления разногласий между мудрецами. При анализе общества того времени бросается в глаза отсутствие руководителей у народа, и захват власти маргинальными силами. Вырисовывается грустная картина: священники замкнуты в своем Храме, фанатичные идеологи сотрудничают с преступниками и насильниками, а мудрецы молчат. Первое десятилетие после смерти Гордуса (4 г. до н.э. – 6 г. н.э.) вошло в историю как цепь бесконечных восстаний евреев и их жестоким подавлением римскими солдатами. Рим объявил Иудею провинцией римской империей и назначил править ею своего наместника. С годами на этом посту сменилось множество наместников. Пожалуй, самым известным из них в истории был Понтий Пилат, который правил в стране от 26 до 36 гг. н.э. При нем снова прервалось затишье, царившее в стране в первые два десятилетия правлении наместников. Он пролил немало еврейской крови, и в конце концов был смещен. Гай Калигула, вошедший в историю как символ сумасшедшего правителя, решил возобновить "культ императора". Некоторые из верноподданных императора Калигулы в Явне решили поставить его бюст в центре города. Но жители города с возмущением разбили бюст на куски, так как видели в этом проявление идолопоклонства. В ответ разгневанный император заявил, что он поставит свой бюст в иерусалимском Храме, провозгласив известный лозунг: "По заслугам и воздаяние". Сопротивление этому решению императора охватило весь народ и все его слои: фарисеи и саддукеи, ессеи и высокообразованные ассимилированные евреи – все как один встали против решения императора. Единение было даже более сильное, чем во времена восстания Маккавеев. Наблюдавшееся в те дни единение народа оказало большое влияние на последующие события, такие как Большое восстание (66 – 70 гг.), сопротивление защитников Масады и восстание Бар Кохбы (135 – 137 гг.). В итоге, статуя не была поставлена в Храме. Это было время правления в Израиле царя Агриппы (37 – 44 г. н.э.), который был внуком Гордуса и Мирьям из Хасмонеев. Его мать Береника приходилась Гордусу племянницей. События тех времен описываются довольно подробно в трактате Таанит. Это самый древний источник, кроме Танаха, который был записан. Авторы стремились записать все события, свидетелями которых они были, главным образом, вследствие войн Хасмонеев. Свиток Таанит написан (или скомпонован) мудрецом по имени Хананья бен Хезкия. При нем прекратили создавать новые законы в школе Шамая. Благодаря нему сохранилась книга пророка Иехескеля. И ему, вернее, его любви к описанию проблем, мы обязаны появлению трактата Таанит. Светлые, или праздничные, дни, упоминаемые в трактате, ассоциируются с днями сияния власти Хасмонеев: освящение Храма (праздник Хануки, 25-го числа месяца Кислев – декабрь), день Никанора (13-го числа месяца Адар – март, в память о поражении римлян во главе с их предводителем Никанором в 165 г. до н.э.), бегство царя Антиоха из Иерусалима (28-го числа месяца Шват – февраль), захват Маккавеями иерусалимской крепости (24-го числа месяца Ияр – май). Но почему-то все эти даты были забыты религиозными постановлениями, и остался в памяти народа только праздник Хануки. Похоже, что намерение записать в книге все события эпохи Хасмонеев отражает напряжение, которое царило в то время между двумя главными партиями в Иерусалиме. Партия мира призывала народ приспособиться к жизни под властью чужеземцев. Партия сторонников восстания стремилась вновь зажечь в народе стремление к борьбе против чужой власти, на этот раз против римлян. Сторонники сопротивления чужой власти вышли из школы Шамая. В недалеком будущем из их рядов выйдут руководители Большого восстания. Это был смутное время, когда не было духовных лидеров у народа. Это были дни сомнений, хотя и предпринимались попытки сохранять верность законам Торы, чтобы они стали обязательными для всего народа. На этом фоне начинает жить и действовать рабан Гамлиэльстарший. Когда мы вчитываемся в его учение и присматриваемся к его деятельности, создается впечатление, как будто он жил и творил в эпоху существования независимого еврейского государства. И нет у этого государства никаких проблем с соседними странами, и нет внутренних проблем, подобных братоубийственным распрям между учениками Шамая и учениками Гилеля. И нет римских солдат, постоянно напоминающих о своем присутствии, и нет римской власти, обкладывающей народ непосильными налогами. Сохранился длинный список законов, принятых синедрионом по инициативе рабана Гамлиэля. От чтения текстов, посвященных деятельности р. Гамлиэля, остается впечатление, что речь идет о лидере, который был принят с одинаковым радушием всеми слоями народа. На фоне неспокойных лет, описанных вкратце выше, становится понятным величие этого человека и та ответственность, которую он нес на своих плечах. Он работал среди других руководителей народа, не занимаясь политикой. Ему удалось создать такие нормы поведения для лидеров, которые сохранили свою актуальность на протяжении всей истории народа, вплоть до наших дней. Под руководством рабана Гамлиэля составлялся годовой календарь, и принимались законы, которые иногда шли в противоречие с законами Торы. Например, в Торе говорится, что женщину можно выдать замуж повторно только в присутствии двух и даже трех свидетелей, а рабан Гамлиэль утверждал, что и одного достаточно, чтобы разрешить женщине снова выйти замуж. Для чего нужны свидетели? Чтобы ни у кого не было сомнения, что её первый муж умер или погиб на войне. Во всяком случае, требовалось подтверждение его смерти. Изменения, внесенные р. Гамлиэлем в существующий порядок разрешения на повторный брак, были сделаны, чтобы облегчить одинокой женщине дальнейшее существование. Своим решением р. Гамлиэль не претендует на выдачу удостоверения о смерти первого мужа, но пытается освободить её от уз первого брака и позволить ей вторично выйти замуж и создать новую семью. В Мишне записано, что если муж посылает с нарочным письмо жене с извещением о разводе, он вправе передумать и отменить развод, если это извещение не было доставлено непосредсвенно в руки жены. До изменений, внесенных р. Гамлиэлем, муж мог известить суд даже без присутствия жены, что он отменяет свое предыдущее решение о разводе. Все это создавало немало тяжелых ситуаций. Например, жена еще не знала, что муж раскаялся в своем предыдущем решении и решил отменить развод. Она снова выходит замуж и рожает детей, которые считаются незаконнорожденными, так как развод не был утвержден, и женщина числится замужем за первым мужем. Изменения, внесенные р. Гамлиэлем, должны были изменить ненормальную ситуацию: муж не имел права отменить свое решение о разводе без присутствия жены. Рабан Гамлиэль хочет изменить мир, сделать жизнь в нем более удобной для людей. Это явилось поворотным пунктом в устремлениях мудрецов. Теперь они не пассивные исполнители воли Бога и просветители народа, но становятся активными участниками общественной жизни. Они создают новые законы в рамках соблюдения законов Торы. Они только слегка подправляют эти законы, приспосабливая их к изменившимся условиям мира. В эпоху, когда разногласия (между мудрецами) растут и размножаются, кто-то должен был объединить разные школы, чтобы Тора не распалась на две части. И эту задачу берет на себя рабан Гамлиэль. Это накладывало на него двойную ответственность. С одной стороны, он должен был продолжать дело своего великого деда и обновлять законы Торы в соответствие с велением времени. С другой стороны, он должен был следить за тем, чтобы обновленные законы выполнялись всеми людьми. Если, например, он обновлял годовой календарь, который не соблюдался, это был равносильно, как будто он не изменил его. Если не будет соблюдаться новое правило о разводах, какая польза в его постановлении? Секрет духовного влияния мудрецов в том, что создание новых законов шло параллельно с их принятием и соблюдением всем народом. Мы вступаем в эпоху обострения фанатизма в народе. Это было время усиления группы фанатиков, называемых "сикарии" по имени ножа ("сика" на иврите), подвешиваемого под одеждой. Их лозунгом было требование убивать всех, кто только подозревался в сотрудничестве с римлянами. Переплетение идеологии с экономическими затруднениями играло на руку фанатикам, так как оно только разжигало в сердцах народа ненависть к богатым и, главным образом, к римским угнетателям. Огонь фанатизма уже полыхал по всей стране и, наконец, достиг стен Иерусалима. По стране бродили разнообразные группы сопротивления, и общим между ними была ненависть к римлянам и к их окружению. Ощущение, что заповеданная (Богом) земля топчется ногами враждебных чужеземцев, разожгло пламя восстания, которое, кстати, никогда полностью не угасало и только тлело в течение прошедших ста лет. В одной из предыдущих глав разбирались различия в учениях школ Шамая и Гилеля. Одно из таких отличий касалось фанатизма. Школа Шамая считалась прибежищем фанатиков, тогда как школа Гилеля отличалась умеренными взглядами. Проблема фанатизма намного глубже, чем это может казаться на первый взгляд. С одной стороны, фанатизм отдельных групп и национализм народа в целом проникли глубоко в сознание людей. С другой стороны, страх перед властью фанатиков парализовал мудрецов и позволил действовать на сцене истории другим силам. На этом фоне понятна молитва р. Ханины, призывающего к сохранению целостности государства, ибо он видит продажность духовенства: "Если бы не страх перед законом, люди бы глотали друг друга". Многое в борьбе зависит от лидеров, которые умеют или не умеют взять на себя ответственность перед народом и перед историей. Руководство, готовое взять на себя ответственность, способно повести за собой народ. И неважно, кто будет в его рядах: идеалисты или фанатики, провозвестники нового или сторонники традиций. Лидеры, которые замыкаются в своем узком кругу и даже исчезают с главной сцены, окружают себя сомнительными элементами, способными только разжигать пламя фанатичной войны. В этом случае невозможно избавиться от этих элементов. И тогда огонь фанатизма пожирает свободу. Глава 5: Разрушение. Разрушение Храма не было неожиданностью. Ему предшествовали внутренние процессы распада его изнутри и давление римской власти извне. Пятидесятые годы новой эры совпадают с правлением в Иудее римского наместника Феликса. Этот период вошел в историю как время резкого обострения отношений с римской властью, как в религиозном, так и в экономическом плане. Катализатором к началу борьбы против Рима послужило решение императора в споре между евреями и греками в Кейсарии. Этот спор за власть в городе между жителями длился много лет, еще со времен Гордуса. В 60-м году дело было передано на рассмотрение императора Нерона. Судопроизводство длилось шесть лет. Весной 66-го г. Нерон решил спор в пользу греков. Это послужило толчком к началу войны в стране. Все началось после массового убийства евреев греками Кейсарии. Эта резня открыла клапан, перекрывавший ненависть евреев к идолопоклонникам. Страна запылала от убийств чужестранцев, грабежа и разбоя. Одновременно наместник потребовал передать ему деньги из Храма якобы для возмещения убытков, которые нанесли евреи римлянам. Ответ евреев не заставил себя ждать. Поначалу, они окружили крепость Антония, расположенную рядом с Храмом и символизировавшую римскую власть и бывшую святой для римлян, и закрыли доступ к ней римлянам. Затем они решили прекратить приносить ежедневную жертву в Храме в честь императора и всего римского народа. Одним из великих мудрецов Израиля в эпоху начавшегося Большого восстания был рабан Йоханан бен Закай. Его имя не связано с созданием новых законов. Но во времена глубокого раскола в обществе он сумел спасти народ от тотального исчезновения как самостоятельной нации. В Талмуде описывается, как р. Йоханан выбрался из осажденного римлянами и охраняемого еврейскими фанатиками Иерусалима и как он встретился с Веспасианом, который в будущем станет императором. От него р. Йоханан получил разрешение на устройство ешивы для своих учеников. Он хочет создать духовный центр "Явне и мудрецы", который будет символизировать продолжение власти президентов (синедриона) из потомков р. Гамлиэля. Он просит также сохранить в городе врачей для лечения заболевшего р. Цадока. Тем самым р. Йоханан обеспечивает возможность оказания медицинской помощи будущим жертвам при разрушении Храма. Образ р. Йоханана окутан туманом истории. Он не происходил из семьи президентов и никогда не занимал этот пост. Он ограничивался титулом "рабан", составлял новые толкования старых законов, писал указания по выполнению традиций, и готов был целовать все, что осталось после разрушения Храма. Свои начальные шаги в духовном руководстве народом он сделал в мире Торы, в годы перед Большим восстанием. Талмуд рассказывает, что у Гилеля-старшего было восемьдесят учеников, среди которых самым молодым был Йоханан бен Закай. На протяжении всего периода существования второго Храма шла борьба между саддукеями и фарисеями. И не было мира между ними. Саддукеи закрылись в мире Храма и в их представлении о святости, всеми силами сопротивлялись любому влиянию извне, справедливо опасаясь за сохранение своей веры и своих законов. Из всех мудрецов первого века н.э. рабан Йоханан бен Закай выделяется как самый опасный противник саддукеев. Он описан в литературе как победивший их в нескольких диспутах о правильности исполнения тех или иных законов Торы. После победы восставших евреев над сирийскими войсками в районе Бейт Хорона, после захвата верхней и нижней частей Иерусалима, разрушения дворцов Агриппы и первосвященника, после отказа приносить жертву за здоровье императора, после всего этого уже не было дороги к отступлению. Восстание развернулось во всю его силу. На этой стадии еще слышны были голоса, призывающие к созданию правительства, способного руководить восстанием. При этом сами руководители восстания не должны были в него входить. Это правительство было создано зимой 66-го года и пало под напором фанатиков через два года, зимой 68-го года. Правительство было избрано на всенародном собрании. В него входили: первосвященник Ханан бен Ханана, Йосеф бен Гурион, Иегошуа бен Гамла и Шимон бен Гамлиэль. Они были избраны в силу своего положения в обществе и родовитости их семей. Этот список заставляет подозревать, что он был заранее подготовлен представителями аристократических кругов Иерусалима. В этом списке не было фанатиков. В это время саддукеи начинают действовать в полном согласии с действиями фарисеев. Представители обоих движений входят в переходное правительство: первосвященник Ханан бен Ханана из саддукеев прекрасно уживается с представителем фарисеев рабаном Шимоном бен Гамлиэлем, президентом синедриона. Рабан Шимон бен Гамлиэль занимал место своего отца как духовного лидера народа во времена восстания до самой своей смерти. До наших дней дошло малое число рукописей, описывающих деятельность рабана Шимона бен Гамлиэля в эпоху второго Храма. Он занимался составлением указов и следил за соблюдением всех религиозных обрядов в повседневной жизни народа. Согласно Иосифу Флавию, он примкнул к лагерю поддерживающих восстание и скончался во время самого восстания. У нас нет никакой дополнительной информации о его взглядах, кроме фразы из трактата Авот: "Я вырос среди мудрецов и не нашел ничего лучшего для себя, чем молчание". О каком молчании идет речь? На фоне описанных в книге событий, в годы перед разрушением второго Храма, на фоне высказываний священников, прихода к власти фанатиков и деградации влияния богатых людей, можно было бы ожидать, что мудрецы выскажутся. Создается положение, когда мудрецы оказываются привязанными к существующей системе власти, что заставляет их молчать. Результатом такого поведения является осознание народом, что мудрецы оказываются лишними на исторической сцене. Они не соответствуют изменившейся ситуации в стране. Но все же священник р. Цадок из танаев, за которого просил рабан Йоханан бен Закай у Веспасиана, достоин того, чтобы о нем знали многие. Первое упоминание о р. Цадоке относится к концу эпохи второго Храма. После трагического происшествия, когда один из священников убил другого из-за права первым возложить на жертвенник свою жертву, р. Цадок встал на возвышении в Храме и обратился к присутствующим с речью, полную укоров и обвинений. Рав Цадок взвалил на свои плечи ответственность, которая возлагалась ранее на старейшин, которые видели пролитие крови невинными, видели людей, творивших эти злодеянии, и молчали. Убийство на жертвеннике послужило поворотным пунктом в жизни р. Цадока. После этого случая он превратился из человека, вовлеченного в жизнь и все дела в общине, лидера и третейского судьи, в человека сомневающегося и уединенного. Он не пошел с рабаном Йохананом в его бегстве из осажденного Иерусалима, и не принял участие в развернувшейся в городе братоубийственной войне между евреями. Он сидел себе возле каких-то ворот, будучи погруженным в свой мир и пытаясь установить контакт с Богом. Некогда напористый человек, который заведовал хозяйством в Храме и порицал людей в открытой речи, возложил на себя обет поста из-за грозящего разрушения Храма, и выглядел при этом ужасно. Раби Цадок представлен в рассказе как своего рода еврейский Геркулес. Он сидел в воротах города, и весь земной шар держал на своих плечах. Беда в том, что он был одинок. У него не было соратников. Судьба Иерусалима была предрешена, и раби Цадок вынужден был покинуть город и присоединиться, не испытывая никакой радости, к своим коллегам в Явне, к школе рабана Йоханана бен Закая. Раби Цадок не смирился с разрушением Храма и не мог простить Богу, допустившему это злодеяние. В Талмуде приводится краткий рассказ, что по ночам слышно одно и то же львиное рычание: "Страшно зарычит Он на обитель Свою". Речь идет о Боге, потерявшем свой дом на земле. У него, правда, осталось жилище в небесах, но оно не может заменить ему утерянный им дом на земле (имеется в виду Храм в Иерусалиме). Храм выступает здесь как воплощение присутствия Бога на земле. И в отсутствии Храма нам ничего не остается, как только представлять себе Бога, рычащим в небесах на его пути к земле. И все же с наступлением субботы р. Цадок возносит благодарственную молитву. Эта молитва означала, что после всего перенесенного и виденного, после разрушения Иерусалима и сожжения Храма, после гибели его детей, раби Цадок находит утешение и успокоение в краткой субботней молитве. Мятущаяся душа его находит для себя успокоение в субботе. Он надеется снова обрести веру, надежду и любовь. Коль скоро Бог плачет, не иссякла надежда. Из серии «Загон» №2 х.м. 112х150 1982г. В день открытия выставки я приехал за два часа до вернисажа и привёз с собой легендарный красный патефон с несколькими пластинками, сохранившимися у меня со времени проведения уличной выставки в 1974 году на Гоголевском бульваре. Я поставил патефон на сцену, которая была в зале, подкрутил его черную ручку. Как сквозь помехи времени, шипя и щёлкая, зазвучала знакомая мелодия старинного танго, с художественным свистом в завершении. Эта мелодия во мне что-то зацепила, стало грустно, на душе повисла такая тоска. Я вдруг ощутил полное одиночество, свою ненужность в мире, в пустом выставочном зале, среди картин с изображением бездомных вещей и камней. Я составил стулья и лег на них, закрыв глаза. Однажды у меня уже была такая тоска. Из серии «Бездомные вещи» х.м. 100х130 1987г. Это было 13 августа 1969 года. После окончания средней школы, я гостил у Сергея Миллера на даче, на станции Совхоз, под Загорском. Мы с Сергеем готовились к поездке на дорожных велосипедах по городам "Золотого кольца". Вечером катались и, когда стало смеркаться, зачем-то остановились на пустынном шоссе, слезли с велосипедов. Перед нами было большое поле, уходящее под наклоном к железной дороге. По ней от Загорска к Москве, с горящим светом в окнах, с перестуком колес, мчалась электричка. Я глядел на электричку, и в грудь откуда-то пролилась черная тоска, перехватило дыхание, стало трудно дышать. У меня появилось сильное желание уехать в Москву. На следующее утро к нам на дачу приехала однокашница ИринаИшкова и сказала, что мне надо ехать домой. Ничего у неё не спросив, я понял, что случилось что-то непредвиденное и непоправимое. За всю дорогу к Москве, сидя напротив друг друга в вагоне электрички, мы с Ирой не сказали ни слова... Я поднялся на лифте, зашел в квартиру, сделал два шага по комнате к окну..., навстречу мне шёл дед Сидор с нелепо расставленными в стороны руками и плакал. Вчера вечером умер мой отец, у него случился инфаркт. Как объяснить, что находясь за шестьдесят километров от Москвы, я чувствовал смерть отца? С тех пор мысль о том, что невидимые волны окружают земной шар, наматываясь на него, как нитки на клубок, не покидает меня. Пример тому звуковые и радиоволны, но есть наверно десятки других волн, с другими свойствами, параметрами, возможностями, информацией.

