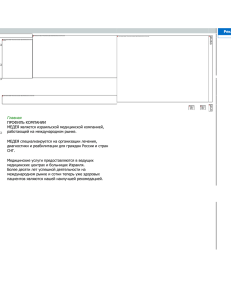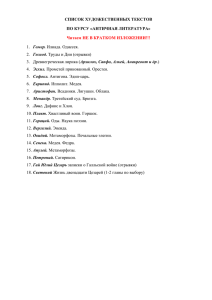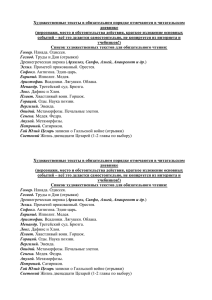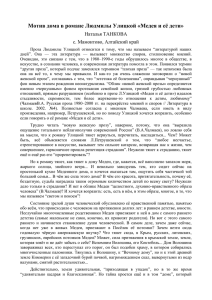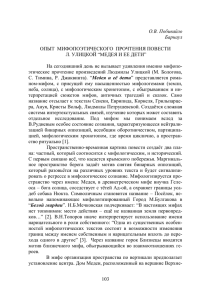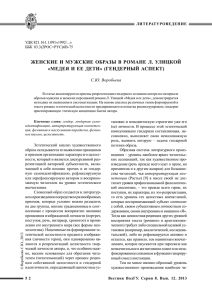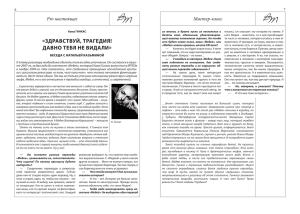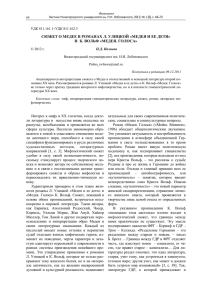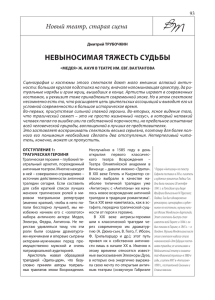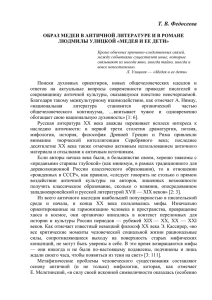Медея и ее дети»x
реклама
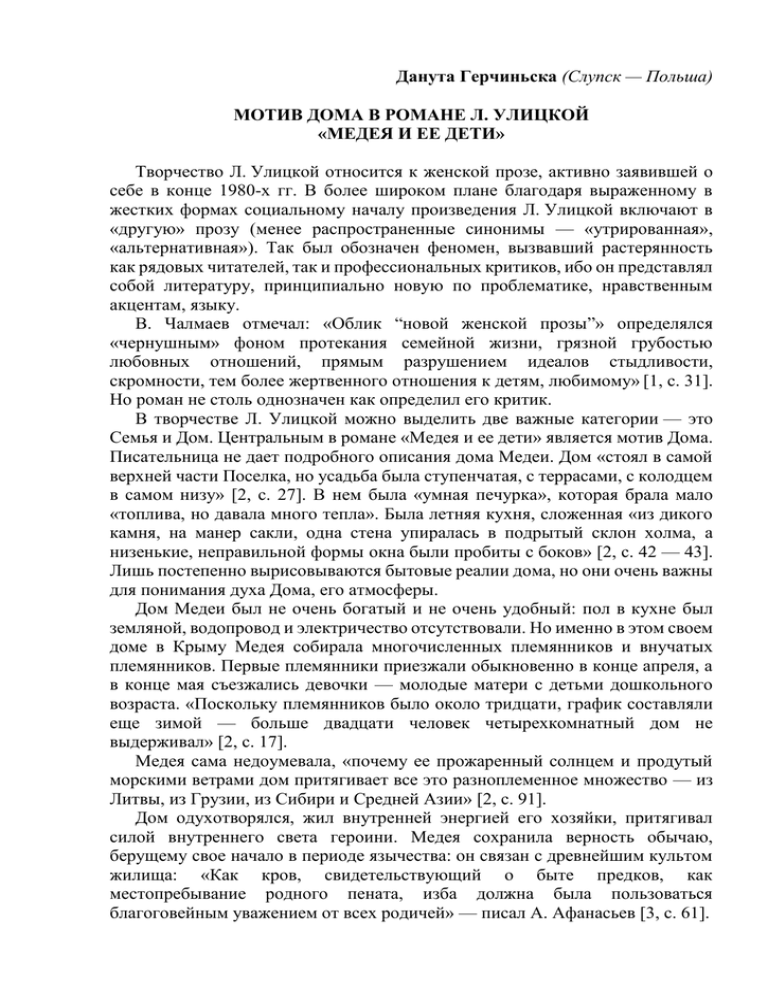
Данута Герчиньска (Слупск — Польша) МОТИВ ДОМА В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ» Творчество Л. Улицкой относится к женской прозе, активно заявившей о себе в конце 1980-х гг. В более широком плане благодаря выраженному в жестких формах социальному началу произведения Л. Улицкой включают в «другую» прозу (менее распространенные синонимы — «утрированная», «альтернативная»). Так был обозначен феномен, вызвавший растерянность как рядовых читателей, так и профессиональных критиков, ибо он представлял собой литературу, принципиально новую по проблематике, нравственным акцентам, языку. В. Чалмаев отмечал: «Облик “новой женской прозы”» определялся «чернушным» фоном протекания семейной жизни, грязной грубостью любовных отношений, прямым разрушением идеалов стыдливости, скромности, тем более жертвенного отношения к детям, любимому» [1, с. 31]. Но роман не столь однозначен как определил его критик. В творчестве Л. Улицкой можно выделить две важные категории — это Семья и Дом. Центральным в романе «Медея и ее дети» является мотив Дома. Писательница не дает подробного описания дома Медеи. Дом «стоял в самой верхней части Поселка, но усадьба была ступенчатая, с террасами, с колодцем в самом низу» [2, с. 27]. В нем была «умная печурка», которая брала мало «топлива, но давала много тепла». Была летняя кухня, сложенная «из дикого камня, на манер сакли, одна стена упиралась в подрытый склон холма, а низенькие, неправильной формы окна были пробиты с боков» [2, с. 42 — 43]. Лишь постепенно вырисовываются бытовые реалии дома, но они очень важны для понимания духа Дома, его атмосферы. Дом Медеи был не очень богатый и не очень удобный: пол в кухне был земляной, водопровод и электричество отсутствовали. Но именно в этом своем доме в Крыму Медея собирала многочисленных племянников и внучатых племянников. Первые племянники приезжали обыкновенно в конце апреля, а в конце мая съезжались девочки — молодые матери с детьми дошкольного возраста. «Поскольку племянников было около тридцати, график составляли еще зимой — больше двадцати человек четырехкомнатный дом не выдерживал» [2, с. 17]. Медея сама недоумевала, «почему ее прожаренный солнцем и продутый морскими ветрами дом притягивает все это разноплеменное множество — из Литвы, из Грузии, из Сибири и Средней Азии» [2, с. 91]. Дом одухотворялся, жил внутренней энергией его хозяйки, притягивал силой внутреннего света героини. Медея сохранила верность обычаю, берущему свое начало в периоде язычества: он связан с древнейшим культом жилища: «Как кров, свидетельствующий о быте предков, как местопребывание родного пената, изба должна была пользоваться благоговейным уважением от всех родичей» — писал А. Афанасьев [3, с. 61]. Невольно напрашивается сопоставление с отношением к Дому героини В. Распутина Дарьи из «Прощания с Матерой». Это женщины, чья стойкость, достоинство, сила самостояния питаются из одного источника — любви к родному очагу, к корням. Медея сохранила связь с древними обычаями, верованиями. Она кровно связана с землей, своим домом: «Своими подошвами она чувствовала благосклонность здешних мест. Ни на какие другие края не променяла бы она этой приходящей в упадок земли и выезжала из Крыма за всю свою жизнь дважды, в общей сложности на шесть недель» [2, с. 12]. Куда бы она ни уезжала, она тянулась к дому, чувствовала тоску вдали от него. В ее доме был давно заведен странный распорядок: «ужинали обыкновенно между семью и восьмью, вместе с детьми, рано укладывали их спать, а к ночи снова собирались за поздней трапезой, столь не полезной для пищеварения и приятной для души» [2, с. 43]. Медея — это родной дом, его суть, его душа, это какая-то чистая эманация доброты и одухотворяющей все вокруг любви. «Это удивительно приятное чувство – принадлежать к семье Медеи, к такой большой семье, что всех ее членов даже не знаешь в лицо и они теряются в перспективе бывшего, не бывшего и будущего» [2, с. 574]. У Медеи особый дар общения с предками. Л. Улицкая настойчиво акцентирует культ предков, вплетая эту тему в свою философию родовой преемственности, В соответствии с архаическими языческими представлениями мертвые и живые соучаствуют в общей жизни. В двадцать шестом году в октябрьские дни, задремав на лавочке, Медея увидела всех троих — мать, отца и умершую сестру. «Они были к ней ласковы, но ничего не сказали, а когда исчезли, Медея поняла, что она вовсе не дремала... в воздухе ощутила чудесный смолистый запах, древний и смуглый... они благодарили ее за то, что она сохранила младших, и как будто освобождали ее от каких-то полномочий, которые она давно и добровольно взяла на себя» [2, с. 62 — 63]. Когда один из племянников Георгий отправился на кладбище, ему «не удалось найти неполадки – Медея, как всегда его опередила: ограда была покрашена, цветник вскопан и засажен дикими крокусами, взятыми на восточных холмах» [2, с. 37]. Медея являет в художественной концепции Л. Улицкой образец христиански праведной жизни: «ее иконописное лицо, маленькая голова, уже тогда повязанная шалью, плоская, на вкус феодосийских мужчин, худоба не привлекали к ней поклонников» [2, с. 173]. Самуил Яковлевич говорил Медее: «Я почувствовал, что рядом с вами нет страха» [2, с. 123]. Ее нравственные принципы на протяжении всей жизни были ясными и стойкими. «Медея прожила свою жизнь женой одного мужа и продолжала жить вдовой» [2, с. 99]. «Овдовела она давно, но больше не выходила замуж, храня верность образу вдовы в черных одеждах» [2, с. 8]. Медея — человек глубоко верующий: «ей было нетрудно встать в воскресенье до света, отмахать двадцать верст до Феодосии, отстоять там обедню и вернуться домой к вечеру» [2, с. 9]. Она обращается к Богу не с просьбами, а с благодарностью: «Господи, благодарю тебя за все благодеяния твои, за все посылаемое тобою, и дай мне все вместить, ничего не отвергая...» [2, с. 383]; «Господи, благодарю, что ты не оставляешь меня во всех моих путях, посылаешь мне своих дорожных ангелов» [2, с. 381]. После смерти мужа Медея весь год читала Псалтирь. «Псалтирь у нее была старая, церковнославянская, сохранившаяся от гимназических времен... Еще была в доме русско-еврейская... Медея иногда пыталась читать Псалтирь порусски, и хотя некоторые места были яснее по смыслу, но терялась таинственная красота затуманенного славянского...» [2, с. 341 — 342]. Медея спокойно относится к смерти, чему научил ее долгий жизненный опыт: «За свою долгую жизнь они (Медея и ее сестра Александра. – Д. Г.) к смерти притерпелись, сроднились с ней: научились встречать ее в доме, занавешивая зеркала, тихо и строго жить двое суток при мертвом теле, под бормотанье псалмов, под световой лепет свечей...» [2, с. 565]. Муж Александры обеих сестер считает праведницами, но Сандрочка поправляет мужа: « — Праведница у нас была одна...» [2, с. 574]. В романе достаточно ясно выражена идея «переоценки» нравственных принципов в мире «праведных» людей. Образы Медеи, Маши и Ники — это как бы живые примеры исторического процесса перехода от того, что ясно, мудро и справедливо, к тому, что неизвестно, сомнительно и угрожающе, что ведет к катастрофе. Маша, совершая самоубийство, умирает с ощущением полета: она «сосредоточилась и как будто включила кнопку — тело стало очень медленно отрываться от горы, и гора немного помогала ей в этом движении. И Маша полетела тяжело, медленно, но уже было совершенно ясно, что именно делать, чтобы управлять скоростью и направлением полета, куда угодно и бесконечно... Человеческую свободу и неземное счастье Маша испытала от этого нового опыта, от областей и пространств, которые открывал ее ангел, но при всей новизне, невообразимости происходящего она догадывалась, что запредельное счастье, переживаемое ею в близости с Бутоновым, происходит из того же корня, той же природы» [2, с. 542 — 543]. И удивительно созвучными концепции свободы как любви и смерти оказываются последние стихи: Когда меня переведет Мой переводчик шестикрылый И облекутся полной силой Мои случайные слова, Скажу я: «Отпускаешь ныне Меня, в цвету моей гордыни, В одежде радужной грехов, В небесный дом, под отчий кров» [2, с. 549]. Когда православный священник отказался отпевать Машу, Медея обратилась к иеромонаху – греку, который велел привозить девочку и обещал сам совершить отпевание. Таким образом, как отмечает М. Черняк, «главная героиня осуществила некую функцию соединения двух миров: земного и небесного домов» [4, с. 176]. В образной системе романа Медея, Маша и Ника выражают идею связи и преемственности поколений в утверждении или отрицании традиционных национальных духовных ценностей. Каждая из трех героинь выражает свою точку зрения на происходящие события и является представителем определенной позиции по отношению к интересующим писательницу нравственно-философским проблемам. В эпилоге племянник Медеи Георгий строит на горе «выше Медеиного» новый дом, в котором все как бы пронизано духом Медеи, все повторяет ее жилище: «Летняя кухня очень похожа на Медеину, стоят те же медные кувшины, та же посуда. Нора научилась собирать местные травы, и так же, как в старые времена, со стен свисают пучки подсыхающих трав» [2, с. 572]. Жизнь Медеи была ненапрасной, если и после ее смерти Дом продолжает жить, если не прерывается связь времен и все многочисленные племянники, их дети и внуки соединены одним понятием — дети Медеи. _________________________ 1. Чалмаев В. Русская проза 1980 — 2000 гг. на перекрестке мнений и споров / В. Чалмаев // Литература в школе. 2002. № 4. 2. Улицкая Л. / Л. Улицкая // Медея и ее дети. — М., 2006. 3. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу: В 2 т. / А. Афанасьев. — М., 1868, Т. 2. 4. Черняк М. Женский почерк в современной прозе / М. Черняк // Современная русская литература / М. Черняк. — СПб.-М., 2004.