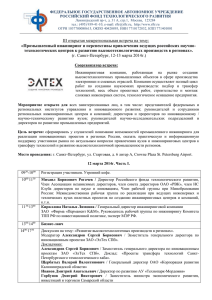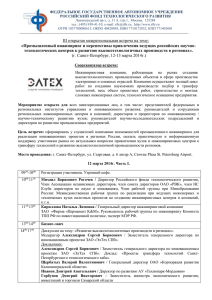Иконография "
реклама

Иконография "пляски смерти". Одна историческая параллель Лидия Сыченкова доктор исторических наук, зав. лабораторией истории культуры Казанского государственного университета В процессе становления современной историко-культурологи- ческой мысли в исследованиях отечественных и зарубежных ученых все большее место занимают проблемы, связанные с осмыслением важнейших констант человеческого бытия: жизни, смерти, любви, дружбы, брака, восприятия социума, истории, пространственновременного континуума и т.д. По мнению крупнейших культурологов XX в., Й.Хейзинги, Ж.Ле Гоффа, Ж. Делюмо, Ф.Арьеса и М.Вовеля, представления о смерти и жизни являются наиболее значимым показателем, отражающим этапы развития человеческого сознания. Обращение к столь необычной до недавнего времени тематике потребовало от ученых не только разработки оригинальных методик исследования, но и включения в поле исследовательской практики нетрадиционных источников, в числе которых оказалась также иконография "пляски смерти". Тема "danse macabre" появляется в западноевропейском искусстве в XIV в. На фресках, гравюрах, в стихах, танцах, пантомимах, театральных мистериях, в скульптурных изображениях на порталах готических церквей и соборов смерть в образе скелета вступает в танец со своим партнером. Сохранившиеся гравюры и фрески французских и немецких мастеров (среди них работы Г.Маршана, Г.Гольбейна-мл., А.Дюрера и др.) в качестве потенциально богатых, но неосвоенных источников обращают на себя все более пристальное внимание и вызывают множество вопросов у современных исследователей. Разгадать скрытый символизм, заключенный в сериях "danse macabre", стремились, как оказывается, не только западные, но и отечественные культурологи. В этой статье мы попытаемся сопоставить различные интерпретации "пляски смерти", предложенные в произведениях Й. Хейзинги, Ф.Арьеса и российского культуроведа И.Иоффе [1]. Ставя перед собой научные задачи, эти ученые подходили к интересующей нас теме с разных методологических позиций. Не менее важным является то, что они предложили самостоятельные варианты интерпретации "danse macabre" в разное историческое время: голландский культуролог Й.Хейзинга - в 1919 г. [2], российский искусствовед И.Иоффе - в 1934-37 гг., французский историк Ф.Арьес - в середине 1970 гг. [3]. Несмотря на различие подходов и несходство задач, решаемых Й.Хезингой, И. Иоффе и Ф.Арьесом, весьма любопытно могло бы оказаться про- ведение сравнительносопоставительного анализа их концепций, тем более, что уже при предварительном ознакомлении с их трудами обнаруживается примечательное совпадение в промежуточных выводах и независимых наблюдениях. Каждый из названных исследователей считывает только ему очевидный информационный пласт скульптурной, живописной или графической серии; и это лишний раз свидетельствует в пользу ее смысловой сложности и многослойности. Нам представляется, что лишь интеграция идей российского и западноевропейских ученых приблизит нас к разгадке символики "пляски смерти". Высказывания и рассуждения Й.Хейзинги, И.Иоффе и Ф. Арьеса по поводу "пляски смерти" в сущности не выходят за пределы общего тематического и проблемного поля. Историки обсуждали следующие вопросы: 1) этимология словосочетания "danse macabre"; 2) возникновение темы смерти в средневековом искусстве; 3) "пляска смерти" как поминальный обряд и театральная мистерия; 4) история создания персонифицированного образа смерти; 5) сюжет "пляски смерти" и его смысл; 6) стилистика иконографических произведений. По этим позициям мы можем провести сопоставительный анализ интересующих нас концепций. Этимология словосочетания "danse macabre" Термин "danse macabre" не имеет буквального перевода; его этимология не может считаться окончательно установленной [4]. "Смерть" по-французски - "la mort", а не "macabre". История проникновения во французский язык слова "macabre", а также возникновение странного словосочетания "пляска смерти" до сих пор является предметом оживленных дискуссий между историками и филологами различных направлений и школ. В отличие от прочих исследователей. И.Иоффе акцентирует внимание не на последнем, "macabre", а на первом слове этой лексемы, "la danse". Действо, в рамках которого объединились два несовместимых друг с другом явления - танец и смерть, - вызвало к жизни необходимое для своего обозначения кентаврическое, оксюморонное сочетание слов. И.Иоффе полагает, что слово "la danse" употреблено здесь не столько в его производном и более позднем значении "мирного марша", "хоровода", "кружения", "пасторали", сколько в исконном значении "борьбы", "схватки", "драки". Действительно, в словаре современного французского языка, помимо общеупотребительных значений слова "la danse" - "пляска", "танец", - можно найти и другое, присущие ему в разговорном контексте значение "драки", "боя", "схватки", значение, вполне совпадающие с тем, какое приписывает ему И.Иоффе. Новая этимологическая трактовка позволяет российскому исследователю иначе объяснить скрытый смысл, заключенный в анализируемом им словосочетании "danse macabre", - объединение и взаимная обусловленность веселья и скорби. Словосочетание "пляска смерти" указывает на связь смерти с тризной: пиром, борьбой, синкретическим спортивным состязанием, связь "идеи смерти с идеей регенерации и возрождения", ту связь, какой связана смерть с обильной едой и питьем во время поминок. Состязание-агон способно наполняться разным, в частности, остро социальным содержанием. На основе своего перевода И.Иоффе трактует "пляску смерти" как одну из возможных форм социального протеста в эпоху позднего средневековья. Культурнолингвистический анализ термина "la danse" во многом определяет оригинальность, а отчасти даже и уникальность концепции И.Иоффе; подавляющее большинство западноевропейских исследователей, в частности Й.Хейзинга, Ф.Арьес, Ж.Ле Гофф и П.Динцельбахер, полностью исключают в "пляске смерти" какую бы то ни было идеологическую, а также социально-политическую мотивацию. В отличие от И.Иоффе, Ф.Арьес анализирует последнюю составляющую словосочетания "danse macabre". Арьес предлагает следующую этимологию интересующего его термина: "С моей точки зрения он имел тот же смысл, что и слово macchabee в современном французском народном языке, сохраняющем немало старинных речений. Нет ничего удивительного в том, что к началу XIV в. "мертвое тело" (слово "труп" тогда совершенно не употреблялось) стали называть по имени св.Маккавеев: издавна их почитали как покровителей умерших, ибо считалось… будто именно они изобрели молитвы заступничества за мертвых. Память о связи Маккавеев с культом мертвых долго еще жила в народном благочестии" [5]. Й.Хейзинга также дает собственную трактовку слова "macabre". Во 2 половине XIV в. появляется странный термин "macabre или "Macabre", как он первоначально звучал. "Je fis de Macabre la danse" /"Я написал Макабрский пляс"/, - говорит в 1376 году парижский поэт Жан Ле Февр. С этимологической точки зрения, это имя собственное, что и следует иметь в виду в отношении данного слова, вызвавшего в современной науке столько споров. Лишь значительно позже из словосочетания "la danse macabre" выделилось прилагательное, которое приобрело в глазах современных исследователей смысловой оттенок такой остроты и такого своеобразия, что это дало им возможность соотносить со словом "macabre" все позднесредневековые видения смерти [6]. Осуществленный Й.Хейзингой и Ф.Арьесом культурно-лингвистический анализ термина "danse macabre" основан на сопоставлении данных исторического языкознания, ритуалистики и этнографии; современная им простонародная культура Франции в изобилии сохранила остатки обрядов позднесредневековых традиций. Возникновение темы смерти в средневековом искусстве По вопросу о возникновении темы смерти в средневековом искусстве И.Иоффе, Ф.Арьес и Й.Хейзинга (в тех немногих пассажах, где касаются интересующих нас проблем) демонстрируют очевидную близость исходных позиций. Общим является мнение, что тематика смерти, Страшного суда, ада и рая не была открытием позднесредневекового искусства; этот тематический комплекс присутствовал в христианской культуре на протяжении тысячи с лишним лет ее истории. Тематический репертуар эсхатологии христианства сложился очень рано. Однако в действительности использовалась и развивалась только та или иная его часть, именно та, которую в определенное историческое время отбирала для себя коллективная практика. Развитие комплекса тем, связанных с индивидуальной и коллективной смертью, осуществлялось в частности общецерковными догматами (например, догмат о чистилище 1439 г.) и местными постановлениями, которые в свою очередь находились в более или менее прямой зависимости от сложившейся социально-политической ситуации. В этот комплекс входили и хилиастические чаяния масс, надежды на пришествие тысячелетнего царства Христова, имплицитно присущие общецерковной доктрине, но более интенсивно окрашивавшие собой "низовое", приходское христианство; в них нашли отражение сокровенные мечты средневекового человека об установлении социального равенства и всеобщей справедливости. Мечты эти, добавим от себя, зачастую напоминали скромное изобилие масленицы и осеннего праздника урожая. "Пляска смерти" как поминальный обряд и театральная мистерия В качестве определенного факта искусства "пляска смерти" сложилась в общем семиотическом, фольклорно-мифологическом и ритуальном пространстве средневековой европейской культуры. Она выросла (и здесь независимые выводы Й.Хейзинги и И.Иоффе полностью совпадают друг с другом) из массовых театрализованных представлений, мистерий. "Пляски смерти", - писал российский историк культуры, - которые мы теперь знаем по отдельным разрозненным искусствам, в виде фресок или гравюр, изображающих танцы, в виде стихов, в виде песен, были единым духовным действием" [7]. "Моралитэ "пляски смерти" разыгрывались, по-видимому, в дни поминовения мертвых; это были или процессии, где смерть, играя на флейте вела за собой людей всех сословий, начиная от папы … или хороводы, также всех рангов, где каждый живой имел своей парой смерть … или же танцы парами, где смерть каждого в отдельности приглашает танцевать с ней" [8]. Разрабатывая эту же версию, Й.Хейзинга подкрепляет ее популярной в начале XX века теорией французского искусствоведа Э.Маля. Теория Маля сводилась в общих чертах к тому, что именно театральные постановки вдохновляли художников, подсказывая им сюжет, группировку, позы, жесты и костюм изображаемых лиц. Сюжеты и их "реалистическая трактовка", все это, - по мнению Маля, - идет из театра, от постановки на площади [9]. Несмотря на то, что теория Э.Маля в свое время была подвергнута сокрушительной критике со стороны бельгийского искусствоведа Л.ван Пейфельде и берлинского историка культуры М.Германа, Й.Хейзинга считает, что все же следует признать ее правоту в узкой сфере, относительно происхождения "danse macabre": представления разыгрывалось раньше, чем были запечатлены на гравюрах. История создания персонифицированного образа смерти Как, однако, в европейской иконографии возник образ смерти в виде скелета? Й.Хейзинга и И.Иоффе отмечают, что несмотря на популярность темы смерти в средневековом искусстве, ее образ долгое время имел весьма расплывчатые очертания. Сначала она выступала в облике апокалиптического всадника, проносящегося над грудой поверженных тел, затем в виде низвергающейся с высоты Эринии с крылами летучей мыши, далее в образе демона, который лишь в XV в. сменяется образом черта, а в последствии и скелета [10]. Возникновение персонифицированного образа с отвратительной и устрашающей внешностью ознаменовало не только новый этап в отношении к смерти, но и новую фазу в развитии позднесредневекового сознания. Смысл этой фазы Й.Хейзинга и И.Иоффе понимают по-разному. По Хейзинге, появление скелетоподобного облика смерти связано с формированием новой маньеристической эстетики, главный принцип которой, любование безобразным, получение чувственного наслаждения от созерцания отвратительного и ужасного, был выражением психологического состояния европейца на рубеже XV-XVI вв. По И.Иоффе, в позднесредневековой иконографии смерти запечатлена некая пародийная тенденция. Вместо ее абстрактного малопластичного представления в образе "ангела, уносящего душу, крылатого гения с потухшим факелом или женщины в трауре, словом, в виде идеального посланника неба" развивается ее конкретно-телесное восприятие "в уродливой форме посланника ада" [11]. Такая знаковая трансформация связана с перевоплощением смерти из существа трагического в существо комическое и инфернальное. Отныне "она лишена мрачной силы и величия, она танцует, играет, поет пародийные куплеты … Ее ужимки, поклоны, нежные объятия, вкрадчивые улыбки и глумливые призывы - все говорит о дьявольской, шутовской ее сущности. В ранних фресках Базеля, Любека, Берна она дается как худая телесная фигура, одетая в трико трупного цвета, с явно разрисованными ребрами и маской безглазого черепа" [12]. Сюжет "пляски смерти" и его смысл В работах Й.Хейзинги, И.Иоффе и Ф.Арьеса осмысление иконографии смерти тесно связано с интерпретацией сюжетного действия "danse macabre". В самом факте появления гравюрных серий "пляски смерти" Й.Хейзинга видит симптом кризисного мироощущения средневекового человека, жизнебоязнь, страх перед красотой, поскольку, в его представлении, с ней связаны боль и страдание. Популярность "макабрической" символики в эпоху "осени средневековья" Й.Хейзинга объясняет жестокостями столетней войны и чумными эпидемиями, самая страшная из которых, "Черная смерть" 1347-53 гг., унесла жизнь более 24 миллионов человек. Ф.Арьес, напротив, видит в демонстрации изображений скелетов и гниющих трупов своего рода противовес той жажде жизни, которая нашла выражение в возросшей роли завещания, предусматривающего, помимо прочего, пышные похороны и многочисленные заупокойные мессы. Отметая в "пляске смерти" какую бы то ни было социальнополитическую и идеологическую мотивацию, Ф.Арьес резюмирует свои выводы следующим образом: "Искусство "macabre" не было … выражением особенно сильного переживания смерти в эпоху больших эпидемий и большого экономического кризиса. Оно не было также всего лишь средством для проповедников, чтобы внушить страх перед адскими муками и призвать к презрению всего мирского и глубокой вере. Образы смерти и разложения не выражают ни страха смерти, ни страха перед потусторонним, даже если они и использовались для достижения этого эффекта. Мы склонны видеть в этих образах знак страстной любви к миру здешнему, земному, и болезненного сознания гибели, на которую обречен каждый человек" [13]. Выводы Ф.Арьеса, в частности относящиеся к иконографии "macabre", были подвергнуты критике российским историком-медиевистом А.Гуревичем, а также французским историком, занимающимся историей восприятия смерти М.Вовелем. Первый полагает, что, реконструируя картину мира отдаленного прошлого, недопустимо полагаться только на иконографические источники: "Необходимо сопоставление разных категорий источников, понимаемых при этом, разумеется, в их специфике" [14]. Что касается М.Вовеля, то свои замечания он излагает в статье "Существует ли коллективное бессознательное?" Вовель упрекает Ф.Арьеса в недопустимой, по его мнению, экстраполяции ментальных установок элиты на всю толщу общества, в игнорировании народной религиозности и особенностей восприятия смерти необразованными [15]. Как и историк-марксист М.Вовель, И.Иоффе видел свою научную задачу в установлении связи между ментальностью и социально-экономическими и демографическими структурами. Акцентируя внимание на мотивах социального протеста, Иоффе трактовал "пляску смерти" как одну из форм демократизации культуры и рассматривал ее как один из каналов проникновения народных мистических представлений в элитарную среду. По мнению И.Иоффе, Реформация в Германии стимулировала развитие демократического искусства, которое стало не только способом выражения художественных вкусов народных масс, но и средством политической борьбы. Возникли новые агитационные жанры как в области живописи и графики, так и художественной словесности: ярмарочные листки, снабженные гравюрными изображениями и стихотворным текстом, политические частушки и песни. "Если Лютер превратил хорал в боевую песнь…", то также и "крестьяне свои сатирические песни, частушки, исполнявшиеся вместе с танцами на базарах и ярмарках под волынку и барабан, превращают в боевые песни" [16]. С появлением гравюры, снабженной сатирическим куплетом, И.Иоффе связывает развитие реалистических тенденций в искусстве. Именно смерть-мститель, по Иоффе, становится лейтмотвом гравюрных серий Г.Гольбейна-мл., А.Дюрера, М.Дейтша и Э. Мейера. "Под религиозной формой ведется критика феодального мира - папы, императора, короля, рыцарей, всей теории нерушимости, незыблемости их господства и могущества. Смерть и дьявол, как Христос и бог, привлечены для революционной борьбы. Смерть выступает как грозный, карающий судья, произносит обличительные речи, а власть имущие, застигнутые врасплох, стоят перед ней жалкие, униженные, поверженные; они добыча дьявола и тлена" [17]. Перед смертью все равны, придет смертный час, и он уравняет богатых и бедных, - именно эту идею "плясок смерти" выделяет И.Иоффе в качестве доминирующей. Уже сами названия отдельных гравюр: "Смерть и папа", "Смерть и император", "Смерть и купец", "Смерть и судья". "Смерть и пахарь" свидетельствуют в пользу уравнительной направленности "danse macabre". В этом смысле показательна свойственная "пляскам смерти" тенденция перебирать снизу доверху все без исключения сословия средневекового общества: герцог и герцогиня, папский легат, рыцарь, мэр, судья, каноник, врач, ростовщик, торговец, музыкант, бедный хромой язычник, иудей, слепец, шут, калека и т.д. ("La danse des morts", 1756г.). Каждый человек, невзирая на его социальный статус и состояние, приговорен к смерти. Неслучайно во многих гравюрных сериях фигурируют песочные часы, обычный для средневековой культуры символ скоротечности времени. Надо признать, что выводы, к которым пришел И.Иоффе на материале "пляски смерти", в большой мере созвучны выводам, сделанным некоторыми западноевропейскими медиевистами на материале других жанров искусства позднего средневековья. Современные немецкие историки К-Ф.Гайер, Ф.Гетц, П. Динцельбахкер, отмечают, что за изображением скелета с песочными часами в руке, - символом, получившим широкое распространение в XV-XVI вв., - стоит не только недавно появившаяся потребность в точном измерении времени, но и переживание преходящести мира, свойственное христианской культуре в целом и невероятно обострившееся в эпоху Столетней войны, чумных эпидемий и предреформационного кризиса католицизма. Точно измеренное "время все еще оставалось связанным с теологическими представлениями о преходящести всего сущего на земле" [18]. Стилистика иконографических произведений В отличие от Й.Хейзинги и Ф.Арьеса, И.Иоффе уделяет большое внимание художественным достоинствам анализируемых произведений. В частности он предлагает сопоставительный анализ исполнительских манер Г.Гольбейна-мл., А.Дюрера и М.Дейтша. В годы подъема реформационной волны в "пляску смерти", как и европейское искусство тех лет в целом, все больше проникают реалистические и сатирические тенденции. Г.Гольбейна-мл. И.Иоффе определяет как мастера типизации. "Здесь еще нет индивидуальных портретов, но движения, жесты имеют типический характер, дают испуг, изумление, гнев соответствующих сословных фигур, захваченных внезапно. Острый, гибкий рисунок говорит о реалистическом наблюдении не только условий жизни, но и манеры держать себя людей различных сословий, профессий, возрастов … Все слои общества и, главным образом власть имущие, захватываются врасплох за неправедными делами и, невзирая на крики и протесты, увлекаются танцующим скелетом". [19] Еще дальше по линии реализма и сатиры идет немецкий художник и поэт Н,Мануэль Дейтш. Согласно Иоффе, в его фресках на тему "пляски смерти" в Берне, мы имеем портреты императоров Франциска I и КарлаV, папы КлиментаVII, портреты известных кардиналов и монахов, торгующих индульгенциями. Обретя не только конкретность, но также объем и телесность, их фигуры располагаются в трехмерном пространстве. Четверостишия под фресками полны откровенно реформационных идей, выпадов против католицизма, папы и его духовных вассалов. [20] Впрочем, столь радикальные идеи, запечатленные как в иконографических памятниках "пляски смерти", так и в народных комедиях и моралите на ее тему не могли надолго увлечь бюргерских художников и поэтов. Низовое искусство с присущим ему реализмом и "конкретным содержанием" (термин И.Иоффе) все резче противопоставляет себя искусству бюргеров с его этическими и гедонистическими тенденциями. После некоторого перерыва, в середине XVII в., тема "danse macabre", тема смерти - судьи и мстителя - возникает в немецком искусстве с новой силой. Стойкая популярность этого сюжета объясняется не столько политическими, сколько историко-культурными причинами. В "пляске смерти" нашла реальное воплощение идея сознательного синтеза отдельных искусств, воссоздававших своими средствами на новом историческом витке архаический синкретизм народных комедий. В этих последних угадывается нерасчлененное единство декламации, пения, танца, акробатических трюков и ритуальных потасовок-агонов. Идея синтеза заявлена уже в посвящении к сборнику "Зерцало смерти" Э.Мейера, где сказано: "Я приношу вам, достопочтенный и высокоуважаемый, произведение искусства трех родных сестер - живописи, поэзии и музыки. Произведение имеет название пляски, но "Пляски смерти …" [21]. Проведенный нами сравнительный анализ интерпретаций "danse macabre" в отечественной и западноевропейской исторической науке позволяет говорить о сложности и многослойности ее художественного мира. Именно этот факт дает возможность ее разного истолкования в несходных культурно-исторических условиях, при подходе с разных методологических позиций и постановке различных научных задач. Задача Й.Хейзинги состояла в раскрытии игрового и символического характера средневековой культуры; "danse macabre" является, в его представлении, своеобразной театрально-маскарадной формой выражения "жизнебоязни", поразившей европейца в эпоху войн, политических кризисов и эпидемий. В свою очередь И.Иоффе, понимая "пляску смерти" XV-XVI вв. как особый синтетический жанр, подчеркивает ее социально-сатирическую направленность. В "макабрической" эмблематике гравюрных серий Иоффе ощущает некую "подпочвенную струю" народных мистических представлений, сдерживаемых христианскими догматами и институциями и культивируемых нелегальными ересями. Полной противоположностью идеям Й.Хейзинги является концепция Ф.Арьеса. По Арьесу, "пляска смерти" воплотила в себе необычайную любовь и жажду жизни человека позднего средневековья. Обостренное переживание ценности земного, посюстороннего бытия явилось следствием рационализма и возросшего меркантилизма эпохи первичного накопления капитала. В поэтапном обращении Й.Хейзинги, И.Иоффе и Ф.Арьеса к теме "пляски смерти" отразилась общая логика развития европейской исторической мысли XX в. Говоря сегодня о российской медиевистике и российской традиции изучения истории ментальностей, по-видимому, имеет смысл вспомнить и о наследии ленинградского культуролога И.Иоффе. В 1937 г., в безнадежное и глухое время сталинского тоталитаризма, изъятый из потока современной ему философской и культурологической мысли, Иоффе интуитивно нащупывает передовые, как в тематическом, так и методологическом отношениях, рубежи европейской науки. Одним из первых в СССР он использует иконографический материал в качестве источника для изучения культуры Германии эпохи Реформации и Контрреформации. Значение этого вида источников было в полной мере оценено лишь несколько десятилетий спустя, в конце 70 - начале 80 гг., на новом этапе изучения истории ментальности в работах А.Гуревича, Ю.Бессмертного, Г.Кнабе, В.Даркевича и др. Примечания и библиография 1. Иоффе Иеремия Исаевич (1888-1947) - искусствовед, культуролог, с 1933 по 1947 гг. профессор Ленинградского университета, зав.кафедрой истории искусств, автор теории синтетического изучения искусства. Главные работы - "Культура и стиль" (1927), "Синтетическое изучение искусств" (1932), "Синтетическая история искусств и звуковое кино" (1937). Свою интерпретацию "пляски смерти" Иоффе изложил в книге "Мистерия и опера (немецкое искусство XVI-XVIII веков)", которая, по его собственному признанию, выросла из подготовки концерта-выставки немецкой музыки XVI-XVIII вв. в Театре Эрмитажа весной 1934 г. В эти годы, в конце 20-начале 30 гг., И.Иоффе работал зав. сектором западноевропейского искусства в Эрмитаже, где получил доступ к работе с подлинниками гравюрных серий "danse macabre". Это дало ему возможность собрать богатый иллюстративный материал для своей книги, где воспроизведены оригиналы работ Г.Гольбейна-мл., А.Дюрера, Э.Мейера, Даниеля Ходовецкого и др. 2. Хейзинга Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. - М., 1988. 3. Французский историк Филипп Арьес начал разработку этой темы в 1975 г. (см.: Aries Ph. Essais sur l'histoire de la mort en Occident de Moyen Age a nos jours. H., 1975;) Русский перевод: Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - М., 1992) 4. В комментариях к русскому переводу "Осени средневековья" Й. Хейзинги предлагается новая этимология термина "macabre". Автор комментария Э.Д.Харитонович пишет: "Ныне наиболее достоверной считается этимология, производящая это слово от арабского "makbara" ("усыпальница") или из сирийского "maqabrey" ("могильщик"). Выражения эти могли попасть во французский язык во время Крестовых походов". (См.: Харитонович Э.Д. Комментарии/ Хейзинга Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. - С.486.) "Восточная" трактовка термина "macabre", по-видимому, обязана своим происхождением Ж.Делюмо, который считает, что "пляска смерти" возникла под влиянием плясок мусульманских дервишей" (См.: Delumeau J-Le peche: la culpabilisation en Occident (XIII-eXVIII-e siecles).-P., 1983. - P.90; См. также: Каплан А.Б. Зарождение элементов протестантской этики в Западной Европе в позднем средневековье // Человек: образ и сущность (гуманитарные аспекты). М.:ИНИОН. - 1993. - С.103. 5. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - С.129. 6. Хейзинга Й. Осень средневековья. - С.156-157. 7. Иоффе И.И. Мистерия и опера. - С.70. 8. Там же. 9. См.: Гвоздев А.А. Театр эпохи феодализма // История европейского театра. - М.,Л., 1931. - С.521-526; здесь же подробно рассматривается теория Э.Маля. 10. Хейзинга Й. Осень средневековья. - С.156; Иоффе И.И. Мистерия и опера. - С.68. 11. Иоффе И.И. Мистерия и опера. - С.68. 12. Там же. 13. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - С.138-139. 14. Гуревич А.Я. Предисловие. Филипп Арьес: смерть как проблема исторической антропологии// Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. - С.19. 15. В той же статье А.Я.Гуревич ссылается на работу М.Вовеля "Существует ли коллективное бессознательное?" (См.: VovelleM/ Y a-t-il un inconsient collectif? // La pensee. -№205. - 1979.- P/125-136). 16. Иоффе И.И. Мистерия и опера. - С.65. 17. Там же. - С.68-69. 18. ДинцельбахерП. История ментальности в Европе. Очерк по основным темам // История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в образах и рефератах. - М., 1996. - С.188 19. Иоффе И.И. Мистерия и опера. - С.76. 20. Там же. 21. Там же. - С.126.