образ китая в русской поэзии харбина
реклама
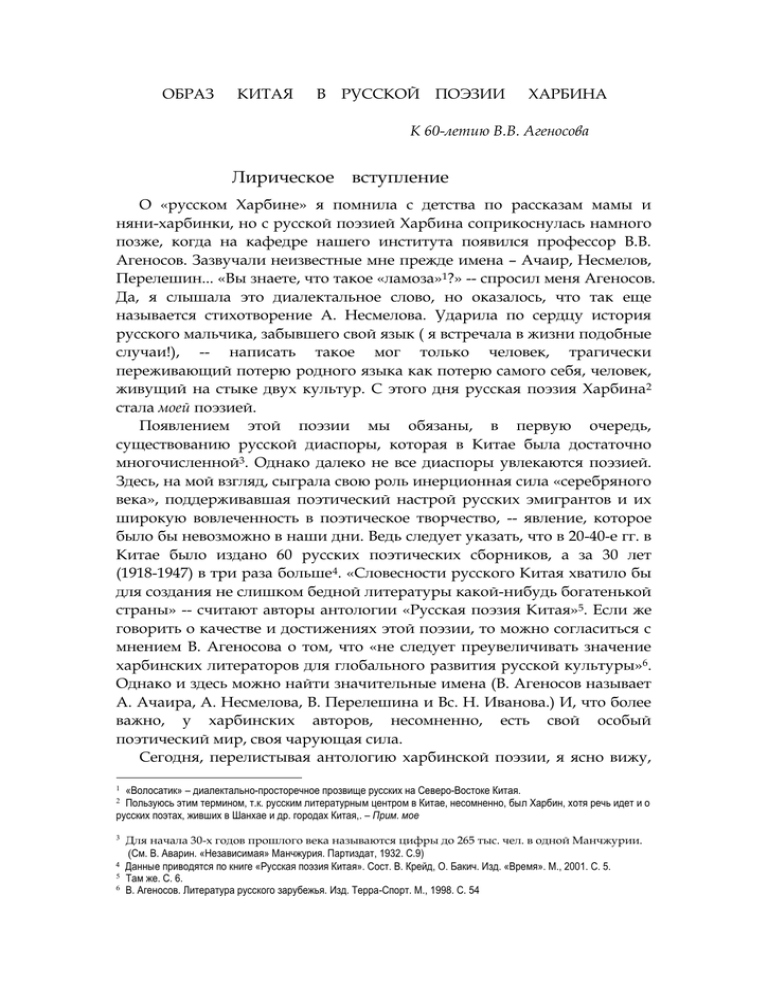
ОБРАЗ КИТАЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ХАРБИНА К 60-летию В.В. Агеносова Лирическое вступление О «русском Харбине» я помнила с детства по рассказам мамы и няни-харбинки, но с русской поэзией Харбина соприкоснулась намного позже, когда на кафедре нашего института появился профессор В.В. Агеносов. Зазвучали неизвестные мне прежде имена – Ачаир, Несмелов, Перелешин... «Вы знаете, что такое «ламоза»1?» -- спросил меня Агеносов. Да, я слышала это диалектальное слово, но оказалось, что так еще называется стихотворение А. Несмелова. Ударила по сердцу история русского мальчика, забывшего свой язык ( я встречала в жизни подобные случаи!), -- написать такое мог только человек, трагически переживающий потерю родного языка как потерю самого себя, человек, живущий на стыке двух культур. С этого дня русская поэзия Харбина2 стала моей поэзией. Появлением этой поэзии мы обязаны, в первую очередь, существованию русской диаспоры, которая в Китае была достаточно многочисленной3. Однако далеко не все диаспоры увлекаются поэзией. Здесь, на мой взгляд, сыграла свою роль инерционная сила «серебряного века», поддерживавшая поэтический настрой русских эмигрантов и их широкую вовлеченность в поэтическое творчество, -- явление, которое было бы невозможно в наши дни. Ведь следует указать, что в 20-40-е гг. в Китае было издано 60 русских поэтических сборников, а за 30 лет (1918-1947) в три раза больше4. «Словесности русского Китая хватило бы для создания не слишком бедной литературы какой-нибудь богатенькой страны» -- считают авторы антологии «Русская поэзия Китая»5. Если же говорить о качестве и достижениях этой поэзии, то можно согласиться с мнением В. Агеносова о том, что «не следует преувеличивать значение харбинских литераторов для глобального развития русской культуры»6. Однако и здесь можно найти значительные имена (В. Агеносов называет А. Ачаира, А. Несмелова, В. Перелешина и Вс. Н. Иванова.) И, что более важно, у харбинских авторов, несомненно, есть свой особый поэтический мир, своя чарующая сила. Сегодня, перелистывая антологию харбинской поэзии, я ясно вижу, «Волосатик» – диалектально-просторечное прозвище русских на Северо-Востоке Китая. Пользуюсь этим термином, т.к. русским литературным центром в Китае, несомненно, был Харбин, хотя речь идет и о русских поэтах, живших в Шанхае и др. городах Китая,. – Прим. мое 1 2 3 4 5 6 Для начала 30-х годов прошлого века называются цифры до 265 тыс. чел. в одной Манчжурии. (См. В. Аварин. «Независимая» Манчжурия. Партиздат, 1932. С.9) Данные приводятся по книге «Русская поэзия Китая». Сост. В. Крейд, О. Бакич. Изд. «Время». М., 2001. С. 5. Там же. С. 6. В. Агеносов. Литература русского зарубежья. Изд. Терра-Спорт. М., 1998. С. 54 что меня лично притягивает, – это, прежде всего, образ родного мне Китая, который возникает почти на каждой странице, у каждого автора. «Из-за географической разобщенности Русского Зарубежья – пишет известный американский исследователь Марк Раев, – в его поэтическом хоре можно было расслышать пражскую, берлинскую, главную – парижскую, а также, может быть, харбинскую ноты» 7 . Позволю себе оспорить это «может быть» и сказать, что именно китайские мотивы и образ Китая, озвученный в русских рифмах, создают неповторимую «харбинскую ноту», придают своеобразие произведениям даже второстепенных харбинских поэтов. Попробую аргументировать это утверждение. 1. Китай – сказка и реальность Всякий образ создается из деталей. Для харбинской поэзии это, в первую очередь, китайские реалии, широкое использование «звучной восточной лексики» (выражение В. Агеносова8), которое характерно не только для стихотворений В. Перелешина, но и практически для всех харбинских поэтов. Здесь можно увидеть полный набор русских заимствований из китайского языка (чай, фанза, кан, гаолян, тайфун, рикша, кули, лама и т.п.), и многочисленную лексику, связанную с Востоком и экзотическими южными странами (будда, кумирня, паланкин, мандарин, богдыхан, лотос, бамбук, джонка, сампан, иероглифы и т.д.). Страна «шелков, и чая, и лотосов, и вееров» (В. Перелешин), страна «иероглифов, драконов и тревог» (А. Паркау) становится объектом эстетизации и поэтизации. Поэты любуются тонкими черточками причудливой природы: Лепестки глициний стелют просинь На увитой лозами тропе; Золотые рыбы хлеба просят В медленно струящейся воде. (К. Батурин. Гу-пан Гун-шу) И задумчивые ивы В зеркале озер Наблюдают сиротливо Лотосов ковер. (М. Коростовец. Пекин); ищут новые эстетические ощущения: Смотри, как красиво у острова джонки слепились, как грозди, в ажуре сетей!.. (А. Ачаир. В фруктовой лавчонке.) Отсюда так прекрасны вдалеке Минувших лет немые очевидцы – И сонный павильон на островке, И древняя ладья императрицы. (В. Перелешин. Чжунхай.) Эстетизированный Китай -- это «забытая сказка», «страна мерцающей загадки», где встают видениями древние дворцы, загибающие к небу кровли черепичных крыш, где в темноте храмов таинственно блещут позолоченные статуи будд, где нас влекут по глади четкой -- Тсс... не надо слов... Ярко убранные лодки Вглубь восьми веков. (М. Коростовец. Пекин) Богдыханы, мандарины, нежные, как цветок, принцессы с крохотными ножками, едущие в паланкинах... Все это ассоциируется с Марк Раев. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919-1939. Изд. «Прогресс-Академия». М., 1994. С. 147 8 См. В. Агеносов. Литература русского зарубежья. Изд. Терра-Спорт. М., 1998. С. 60 7 повествованиями Марко Поло, с «Соловьем» Х. Андерсена и «Принцессой Турандот» К. Гоцци, с картинками «на чайной банке голубой». Но, выходя за пределы сказки, вокруг разворачивалась реальная жизнь, которую трудно было не заметить – ведь «стал нам родиной второй Китай с коробки чайной», по словам А. Серебренниковой. И хотя Харбин сохранял черты старого русского города, но и в нем существовали обширные китайские кварталы с глинобитными фанзами, с закоптелыми харчевнями, страшными опиекурильнями, где на циновках корчились и умирали люди. А дальше уже джонки на Сунгари, гаоляновые просторы, «легкий дым манчжурских деревень» -- огромная живая страна, манящая непонятным бытом, красочными традициями, незнакомой культурой. И вот уже поэзия осторожно спускается со ступеней дворцов и храмов в узкие грязные улочки, где «мелькающие пятки потных рикш чарльстонят по веселому асфальту» (Н. Светлов. Весной.), на пыльные деревенские дороги, где «свиньи черные у фанз ложатся мордами на север» (А. Несмелов. Наша весна.). С поэтических страниц, рожденных «в этом странном и шумном раю», доносятся «немолчный звон цикады», «тяжкий скрип арбы китайской», гортанные крики разносчиков... Пробирается к носу настойчивый Запах масла, жаровен, бобов. (О. Скопиченко. Шанхайское захолустье), И гремят с заката до заката Частой дробью шумные хлопушки. (А. Паркау. Лунный Новый год). В этот гомон и шум совершенно естественно вписываются словечки харбинского диалекта, или, точнее, «pidgin Russian» – ломаного русского языка, которым пользовались для общения между русскими и китайцами не только в Харбине, но и в 20-30-х гг. в Приморье: ходя (от кит. хоцзи – приказчик) ; джангуйда – хозяин; ханшин – китайская водка; хунхуз (кит. хунхуцзы – букв. рыжая борода) – бандит, разбойник -- и даже капитан в знач. начальник (До чудесных далеких стран, Где и угольщик – капитан. – А. Несмелов. Около Цицикара.) Китайский говор сталкивается в стихах с русским просторечьем: -- А сабля, гляди, на ем... золотая! Знать, чин охвицерский... -- Кан-ка пуе9!.. (Н. Светлов. На улице.) Таким образом, экзотика Востока, увлекавшая поэтов «серебряного века», теряет на харбинской почве свой идеализированный, абстрактный облик и приобретает вполне осязаемую, ощутимую фактуру: Паруса – одеяла; бобы и мешки... Запотелая голая грудь... (А. Ачаир. Сунгари). В бумаге поднято окно, И на циновке детский стол, И флейта плачется светло, А музыкант на ней – слепой. (Б. Бета. Маньчжурские ямбы) Ворота. Пес. Прочавкали подковы, И замер скрип смыкающихся створ... Какой глухой, какой средневековый Китайский этот постоялый двор. (А. Несмелов. Из китайского альбома.) Под давлением прозаически-грубой реальности сказка уходит вместе с бродячими кукольниками, которые прячут ее в свой потертый 9 Не смотри, не трожь – ломаный кит. цветной коробок (А. Паркау. Сказка веков). Контраст между сказкой и явью иногда воспринимается трагически: И от тихих легенд, от мечтательных будд -- Явь забилась в слезах и песке... – пишет А. Ачаир. (Сунгари.) Но большинство харбинских поэтов все же пытается, как М. Спургот, перекинуть мостик от «видений чудищ и богов» к живым китайцам, сидящим рядом с ними в харчевнях, старается соединить два лица загадочной для них страны: Сижу с китайцами в харчевнях, Ведя бесед несложных ряд, И странной радостью напоен Мой каждый в быт Китая взгляд! (М. Спургот. «Сижу с китайцами в харчевнях...») Закрытость эмигрантской диаспоры и ее внутренняя самодостаточность, казалось, позволяли оставить за краем зрения иноязычный, сложный мир с его горестями и бедами. Но, тем не менее, что-то заставляло интеллигентных молодых людей с офицерской выправкой и начитанных барышень с томиками Гумилева в руках переносить в свою поэзию фигуры полуголых погонщиков, пропахших потом огородников и нищего старика, кладущего на тряпье заплаты. На мой взгляд, в этом, без сомнения, сказались гуманистические традиции русской литературы с ее вниманием к маленькому человеку и уважением к труженику, будь то «бегущий рысцою рикша» или «стайка кули с говором болтливым». Лишь изредка мы видим у авторов пренебрежительное сознание собственного превосходства по отношению к китайцам (полудикарь, китаез), но гораздо чаще проявляются сочувствие (Под корзинами гнется ходя – тащит овощи на базар. -- Е. Недельская. Из окна поезда.), сострадательность (Китайчата босые раскосые Копошатся у лужи с водой, А за ящиком грязным с отбросами Спит, раскинувшись, нищий больной. -- О. Скопиченко. Шанхайское захолустье. С косичкой тонкой на макушке Поет бродяга-китайчонок И в лад под песню колотуши Дрожат в озябнувших ручонках. -- В. Март. У моря), добрая усмешка (Это духов злых и вредных От своих фанзешек бедных Гонит прочь китайский люд. – Н. Светлов. Новый год Китая.), любование молодостью и физической красотой (А. Паркау. На шаланде.), уважение к нелегкому труду (А. Несмелов. Наша весна.) Лаконичными, но выразительными штрихами создается национальный образ китайцев – это желтокожие, узкоглазые «кроткие люди» с «мистическими лицами» и мирной речью. Очень точное описание крестьянского характера дает А. Несмелов: Китаец, до пояса голый, Из бронзы загара литой, Не дружит с усмешкой веселой, Не любит беседы пустой. Уронит гортанное слово И вновь молчалив и согбен – Работы, заботы суровой Влекущий, магический плен. (Гряда.) За молчаливостью и замкнутостью кроется глубокое внутреннее достоинство. Елизавету Рачинскую в стихотворении «Лотос» поразил «Китая бедный сын, оборванный и грязный», который царственно небрежным жестом отказался продать за деньги прекрасный цветок лотоса и тут же протянул его поэтессе, как дар. «Узких глаз мгновенный блеск и жар» выдают скрытую силу воли и чувств. «О, как во всем мы разны, но сблизила нас странно красота», -- размышляет поэтесса. Сближают не только красота, но и общие беды. Когда в начале 30-х годов в «золотой и голодный Китай» (эпитет В. Перелешина) вторгаются чужеземные войска под знаменем, на котором «алеет кровь и круг», Алексей Ачаир с болью восклицает: «О Азия, горишь в огне, мой желтый бедный друг!» (Барабанная дробь.) А Александра Паркау, наблюдая вступление японской армии в Харбин, с содроганием описывает, как под вражескими пулями валятся на землю «бедные замученные дети нищенских китайских деревень»: Застывали мертвые, нагие Без могил, без гроба, без имен… А в Харбин входили уж другие, Шелестя полотнами знамен. (Бегство.). Эти «другие» принесли страдания и беды не только китайскому, но и русскому населению. Как правильно указывает Вадим Крейд, «с приходом японцев началось разорение русских и вытеснение их из Харбина» 10 . Надежды на спокойное существование в полюбившейся стране рухнули. «Катастроф напиток терпкий», поднесенный по второму кругу суровой реальностью, развеял последние иллюзии: «В кровавом столетье мы сказок не знаем, и нет у нас сказочных снов», -- подвела горький итог О. Скопиченко. 2. Дыхание древней культуры Русские эмигранты несли в душе глубокий надлом. Вырванные с корнем из родной земли, они мучались не только и не столько от неустроенности быта, сколько от чувства потерянности, невозможности найти свое место в этом мире. Горестные скитальцы, изгнанники, бродяги, чужаки – без конца повторяют о себе харбинские поэты. Во многих стихотворениях звучит желание поменять судьбу, обрести пусть неказистое, но устойчивое бытие. И если Таисия Баженова готова стать русской бабой – сторожихой, а Алексею Ачаиру кажется, что «Проще в лесу», то Валерий Перелешин мечтает о том, чтобы родиться «в городе южном – в Баошане или Чэнду», жить и стареть в тесном патриархальном мирке китайской семьи. А Леонид Ещин перед русскими иконами молится о простейшем китайском счастье: 10 Русская поэзия Китая. С.11. Матерь Божья! Мне тридцать два... Двадцать лет перехожим каликою Я живу лишь едва-едва, Не живу, а жизнь свою мыкаю. И, занывши от старых ран, Я молю у Тебя пред иконами: «Даруй фанзу, курму и чифан В той стране, что хранима драконами». (Беженец.) И хотя тяготы эмигрантской жизни не шли ни в какое сравнение с каторжным трудом и беспросветным существанием китайского люда, но и ему завидуют русские поэты, потому что китайцы – в своей стране! Гряда, частокол да мотыга, Всю душу в родную гряду! Влекущее, сладкое иго, Которого я не найду! (А. Несмелов. Гряда.) Смятение сердец, обожженных «злобным ветром», эмигрантская усталость и тоска требуют успокоения. «Спокойствия! Забвения! Вина!» -рвется крик из глубины души. (М. Колосова. Все о том же.) Одни ищут сказочный маяк «в глазах лукавых и раскосых», стремясь забыться в женской любви; другие – вдыхая обманчивый дым опия. Борис Бета находит еще один путь: На скользкую циновку сесть, Свинину палочками есть И чаем горьким запивать; Потом курить и рисовать, Писать на шелке письмена – И станет жизнь моя ясна, Ясна, как сами письмена. (Маньчжурские ямбы.) Так поиски тишины и покоя естественным образом приводят к китайской культуре, в которой покой является одной из глубинных ценностей, не только выраженной в философии буддизма, но и витающей в самой атмосфере древних дворцов и пагод. «Тишина» -- одно из ключевых слов у Перелешина, который находит ее повсюду: на картине китайского мастера, под белоствольными соснами храма Лазурных облаков, на холмах Сянтаньчэна, у любимых пекинских озер. Здесь он желал бы «обрести прибежище в грозу», «вздохнуть и успокоиться навек». С огромной эмоциональной силой передано растворение в нирване у А. Ачаира, когда в окружении священных буддистских храмов и сказочного пейзажа Ханьчжоу поэт ощущает: и был только он – только отдых. И сон, и полет в беспредельность, и скрипки, и лютни, и цитры, и радостный крик окарины, и дрожь трепетавшего гонга, и млечность, и вечность, и цельность, и – облачный ладан, и звезды, и – путь в поднебесье орлиный. (Ханьчжоу.) Русские интеллигенты понимали, что при всей бедности и нищете, в которых барахтался тогда Китай, за ним стоят тысячелетия истории, «ушедшая мудрость веков». Упоминания о древности, мудрости, вечности Китая встречаются у многих поэтов: «седая земля», «мудрая страна», «складки многолетья», «морщинистая рука» Пекина и т.п. Вс. Иванов с помощью поэтической гиперболы проецирует историю Китая в отдаленные мифические времена, когда «летали те грозящие драконы, и знал китаец их на облаках огромных – от дивных дней последний человек». (Дракон.) На китайской земле, как нигде, ощущается связь времен, непрерывность истории. «Императорский мост хранит легенды тысячелетий», – пишет К. Батурин. (В пути.) В. Перелешин слышит в китайских соснах «шорохи столетий». А для А. Несмелова связь веков воплощается в образе крестьянина и быка, которые и тысячу лет назад вот так же шли, «опустив глаза, наклонив над дорогой лбы» (Около Цицикара.) Русская историческая память протягивает нити от сегодняшних дней в татаро-монгольское прошлое. Мария Коростовец видит, как в пекинских парках «бродит Кубилай», как скачет по лессовым пустыням Тамерлан, а Ольга Скопиченко считает, что в возвышающуюся над Пекином кумирню «молиться ходил Чингисхан» (хотя Пекин был завоеван только при его внуке Хубилае). Для китайской истории монгольская династия Юань относится к временам не столь уж отдаленным – китайские поэты в своих исторических ассоциациях могли бы пойти и дальше, но, учитывая, что отсчет русско-китайских связей начинается именно с периода Монгольской империи, можно сказать, что в этом отношении художественная образность русских поэтов не ошибается. Ощущение непрерывности времени, привязанность к родной земле в китайском национальном сознании воплощаются через связь с предками. Очень точно пишет об этом Лидия Хаиндрова в стихотворении «Китайская пашня», где «дедовские холмики средь пашен … шепчут внукам вещие слова», передавая своим потомкам «мудрость предков и покой земли». Вообще удивительно это проникновение в глубины китайского духа! Описывая средневековый ритуал казни, сохранившийся еще в 30-е годы, Вс. Иванов раскрывает в нем древнее мистически-философское отношение к смерти, когда смерть понимается не как конец, а как начало нового цикла вечной жизни (Казнь.) А. Ачаир передает восприятие жизни как Тропы Судьбы, по которой «караваном стелется поток живых людей», и подчеркивает: «Проводников в туманном мире нет – есть предначертанность и предопределенье». (Тропа Судьбы.) И это тоже очень свойственно фаталистическому взгляду на Судьбу, укорененному в душе китайцев. Особое место в художественном мире русских поэтов Харбина занимает китайская классическая поэзия. «Поэзия народа, в течение пяти тысяч лет живущего культурной жизнью и, можно сказать, всю душу вложившего в свою письменность, представляет собой безбрежный океан» – указывает прекрасный знаток китайской культуры В. Перелешин 11 . Харбинские поэты отважились начать плавание в этом притягательном для них море-океане, они переводили стихи древних китайских авторов, выпускали сборники и антологии. Так, в 1926 г. первую антологию издал Я. Аракин, в 1938 г. другую антологию «Цветы китайской поэзии» выпускают супруги Серебрянниковы. В. Перелешин, уже находясь в Бразилии, создает две своих антологии «Стихи на веере» и «Тень на занавеске». Такой углубленный интерес к китайской поэзии, естественно, не мог не отразиться и на собственном творчестве харбинцев. В их стихотворных произведениях мы находим классическую тематику китайских стихов – это описание поездок в достопримечательные места (В. Перелешин. Поездка в Дунлин. В Шанхайгуане. Вид на Пекин из Би-юнь-сы.; А. Ачаир. Ханьчжоу.; М. Щербаков. Японский храмик.; многочисленные стихи, посвященные Пекину и т.д.), пейзажные зарисовки; стихи, навеянные созерцанием предметов искусства (М. Щербаков. Китайская вышивка. Стихи императора Юань-хао-сянь.; В. Перелешин. Картина.; М. Коростовец. Китайская шкатулка.; Т. Андреева. В храме Ми-Син.), отдаленными звуками музыки (В. Перелешин. Хуцинь.) Тема дружеского чувства, взаимопонимания, доходящего до полного единства душ, – одна из самых распространенных в китайской классике – очень ярко представлена стихотворением Михаила Волина «Свиданье друзей», в котором друзья после долгой разлуки испытывают «радость просветленных душ» и совместного полета высокой мысли в начертании иероглифа. Китайское влияние проявляется также в тональности и образности стихов. Здесь выступают такие поэтические метафоры, как круг луны, персиковый цвет, звуки лютни, полет диких гусей (или журавлей). Этот полет, по канонам китайской классики связанный с тоской по родине, стремлением вдаль, вызывает томительную ностальгию и у русских поэтов. В. Янковская пишет о крике диких гусей, пролетающих над городом: Этот звук всегда одно и то же: Беспокойная тоска, стремленье вдаль… Весь инстинкт бродяжий растревожит, Сдернет память драпируюший вуаль. (Гуси.) В. Перелешин, тоскующий в осенние дни по родине, смотрит на север: Оттуда – из этой родной и забытой земли – Забытой, как сон, но во веки веков незабвенной – Ни звука, ни слова – лишь медленные журавли На крыльях усталых приносят привет драгоценный. (Ностальгия.) Китайский исследователь харбинского зарубежья Ли Яньлинь отмечает, что поэзия Харбина испытала влияние философичности и 11 В. Перелешин. Стихи на веере. Посев. 1970. С. I. лаконизма китайской поэзии, размывающей грань между настроением и пейзажем и предлагающей краткий философский вывод в заключительных строчках стиха12. В качестве примера можно указать «На середине моста» Перелешина, которое начинается описанием («Есть мостики горбатые в Китае.»), а заканчивается философской моралью: «Учись, учись же на возвратном склоне Благодарить за ломкость каждый миг!» «Плененный речью односложной (Не так ли ангелы в раю?..)», Перелешин создает «Подражание китайскому», нанизывая в стихотворные строчки односложные русские слова. Однако, с нашей точки зрения, более плодотворными оказываются не такие формальные изыски, а переосмысление китайских образов и аллегорий. Так, обращаясь к последнему лотосу в садах Бэйхая, Перелешин пишет: Стой. И не бойся ран. Стой, гордый и отвесный, Как древний великан, Держащий круг небесный! (Последний лотос.) Здес, лотос, вопреки китайской традиции, сделавшей его символом чистоты и незапятнаности, становится аллегорией мужества и стойкости – качеств, которые в китайской классике связаны с другими растениями – сосной или бамбуком. Пропущенные через призму русской поэзии, китайские образы получают иное преломление. А. Несмелов, исходя из традиций русского фольклора, в необычном ракурсе показывает хунхуза – это не страшилище-бандит, каким его знает китайская молва, а лихой молодец, бросивший дом и семью ради разбойничьей воли (Хунхуз). Отрубленная голова хунхуза, воздетая на жердь, с угрозой у губ, неоднократно фигурирует в поэтических строчках Несмелова, и, как бы перекликаясь с этой реалией китайской жизни, возникает страшная метафора Перелешина – «отрубленная голова неумирающей России». Каждый поэт открывает что-то свое, переосмысливая на свой лад китайскую классику. Борис Волков, вдохновленный поэмой Ли Ци 13 , писавшего в жанре «пограничной поэзии», создает в цикле стихов «Дракон, пожирающий солнце» образ воина, погибающего среди пустынь, передавая трагедию обреченности и воинского долга, созвучную переживаниям самого поэта. Юстина Крузенштерн-Петерец обращается к истории Ян Гуэй-фэй, фаворитки Танского императора, и, отталкиваясь от знаменитой поэмы Бо Цзюи «Песня вечной тоски», дает свою собственную трактовку известной исторической коллизии. И если великий китайский классик смотрит на происходящее глазами мужчины и историка, то русскую поэтессу больше волнует трагедия женщины – Ян Гуэй-фэй. Легендарный поэт Ли Бай (Ли Тай-бо), известный в Ли Яньлинь. Коротко о русской литературе Харбина. Доклад на научной конфеоенции Китайской ассоциации исследователей русской литературы. Ноябрь 1999 г. 13 Ли Ци (Ли Чи) (? – 757 г. н.э.) – выдающийся поэт Танского периода. 12 истории китайской литературы как «небожитель» и романтик, у Ю. Крузенштерн-Петерец описывается как «первый из самых отчаянных пьяниц», шокирующий знать своей беспардонностью и почти русским разгулом. Поэтесса выделяет в его образе то, что близко русской душе, -«Не нужно ему ни почета, ни денег, Соскучился он по просторам зеленым» -- и подчеркивает: «Бродягу и пьяницу знал современник, Поэт Ли Тай-бо – это тысячелетьям». И, действительно, китайская классическая поэзия всегда поддерживает душу в тяжелые минуты. Уехавший в Советский Союз и сгинувший там в начале 30-х, Федор Камышнюк в предвидении надвигающейся темноты обращается к древнему поэту: Наступает желанный искус, Наплывает на сердце боль, Будь же ты путеводной искрой В топях жизни – ты, Ли Тай-бо! 3. Китай и Россия Китай и Россия в русской поэзии Харбина неразрывно связаны сложными противоречивыми отношениями. Для этих образов характерна не только различная эмоциональная окраска, но и совершенно разная цветовая гамма – если Китай на поэтической палитре окрашен в ровный золотисто-желтый цвет, отливающий бронзой, то Россия встает в сине-бело-красных отсветах своего триколора. Говоря о Китае, поэты пишут о желтом закате, желтых вечерах, желтоводной или желтокожей реке, желтоглазой ночи, о бронзовеющей груди и бронзовом солнце, о золотистом небе и золотых глазах Будды, и даже любимая девушка-китаянка – нежно-золотая, как закат. Когда же речь касается России (вечная тема харбинской поэзии!), то возникают такие образы, как синий вечерний туман, сине-голубые озера, васильковое синее поле, синеющий вдали сосновый бор. Россия и снег – в поэтической памяти понятия нерасторжимые. Русская земля затерялась среди снегов в узорах инея, занесенная метелями на глади снеговой постели, в снежном цветении тундры. «Снег на горах и хвоя – бело-зеленый цвет» -вспоминает о таежном походе Борис Волков. Но нередко чистая белизна окрашивается цветами алого, и не только потому, что снег в России может быть аметистово-розов от рубиновых зорь, но чаще оттого, что «небо кровью пожарищ объято, закровавлено зорь острие» (Ф. Камышнюк). Кровь, пожары – горящая, мятежная страна. «Мы с родимых пожарищ, мы пропитаны дымом» (Б. Волков.). «Россия: пламя, вихрь, огонь!» -обобщает Георгий Гранин, а Федор Камышнюк, обращаясь к Святой Руси, охватывает ее цвета одним словом – огнесинеющая. Занесенные обжигающим вихрем на чужбину, поэты-эмигранты остро ощущают свою связь с родной землей, чувствуют биение русской крови в сердце. Вокруг чужие равнины, чуждые китайские поля, и, как признается Николай Щеголев, «в часы лихие, в болезни, в гнете и тоске все мнится мне, что я в России, а не в маньчжурском городке». И какое же счастье, что существует этот город – «уютный маленький Харбин», как бы про запас выстроенный русскими. В Харбине «слышнее звон Москвы, виднее зорька золотая» (М. Колосова), «руссейший облик» города мирит с горьким изгнаньем (М. Шмейссер). Привязанность к Харбину – один из лейтмотивов русской поэзии Китая, звучащий и в таких незатейливых, но задушевных строчках у Елены Даль: Русской бури путь зловещ и долог, Но меня, как тысячи других, Ты, Харбин, родной земли осколок, Защитил, укрыл от вихрей злых. … … И теперь ни от кого не скрою, Милым городом покорена, Что мне стала родиной второю Приютившая меня страна. (Второй родине.) Это постепенно развивающееся ощущение «второй родины» разделяют многие поэты. Особенно для младшего поколения, выросшего, «не зная запаха земли родимой» (Л. Хаиндрова.), Россия все больше отдаляется, уходит в далекие сны, в размытые воспоминания. Харбинская молодежь уже готова «перепутать с Рязанью Харбин» (И. Лесная. Далекий сон.). На берегах Сунгари Нева встает всего лишь отдаленным видением, и Россия для многих «только имя, придуманное бытие» (В. Перелешин. Россия.). «И скоро станет родиной изгнанье, а родина – как стелющийся дым» -- замечает Л. Хаиндрова. И вправду -умирающая в Пиринеях от чахотки, Эмма Трахтенберг в «Письме матери» заверяет: «Ведь я такою же осталась и родиной зову Китай». На просторах Китая просыпается и подает смутный голос другая – азиатская – половинка русской души. Е. Яшнов пишет о своем киргизском взоре. В. Янковская чувствует «предка в себе, Чингисхана» и убежденно говорит о том, что Годы не могут отчерпать из крови Влитую Азией в тело струю, И над глазами раскосыми – брови Часто чернеют в славянском краю. Вполне закономерное врастание в новую почву (то же самое происходило с русскими эмигрантами в Париже, Нью-Йорке и в др. «местах рассеяния») старшим поколением в лице Арсения Несмелова воспринимается как трагедия. Провидческая тема исчезновения русской диаспоры, растворения ее в китайской среде не дает поэту покоя (Ламоза. Старое кладбище. Стихи о Харбине и др.). Как погребальный колокол, звенит эта тема в стихотворении «Эпитафия», создающем образ хищной желтоводной реки, подмывающей дачи россиян, и заканчивающемся пессимистическими строчками: И через сколько-то летящих лет Ни россиян, ни дач, ни храма – нет, И только память обо всем об этом Да двадцать строк, оставленных поэтом. Но в тоже время и у Несмелова мы находим просветленно-спокойное настроение, когда поэт, обращаясь к китайским горам и рекам, говорит: Но сладок ваш простор, покой, уют, Вам наша благодарность за приют! (В закатный час.) По-иному подходит к проблеме взаимодействия двух культур Валерий Перелешин, который старается вобрать в себя живительные соки другой родины, «ласковой мачехи» – Китая, оставаясь «до костного мозга» русским. Вместе с некоторыми другими поэтами он ищет сближения с Китаем не только через проникновение в его культуру, как уже отмечалось выше, но и через любовь к женщине (Красные листья под инеем. Южный ветер. Предел и др.). Как у К. Батурина, Н. Светлова и др., образ возлюбленной в этих стихотворениях сливается с образом ее страны. Но при этом, несмотря на взаимное тяготение и искренность чувства, лирические герои всегда ощущают невозможность до конца соединиться с любимой, неодолимый предел, положенный судьбой «нам, нетождественным по цвету кожи, по тяжести наследственной в крови», и В. Перелешин невольно задается вопросом: Ужели в красоте раскосой, В обетованьях смуглых тел Голубоглазой, светлокосой Одной России я хотел? (Россия.) Да, Россия всегда остается главной любовью, но поэт тем не менее не может сопротивляться таинственному притяжению окружающей его страны. Позднее, уже приняв Бразилию в качестве «последней родины», Перелешин в мыслях продолжает стремиться к Китаю. Широко известны его исповедально-щемящие строки: «Невозвратное счастье! Я знаю спокойно и просто: В день, когда я умру, непременно вернусь в Китай.» Скрытые силы, таящиеся за «китайской недвижностью», «медленной вечностью», приковывают внимание Михаила Волина. В песне рыбака, похожей на стон, ему слышится смутная угроза: Подожди, мы еще не проснулись, Подожди, наше время придет. Мы, как пчелы, закрытые в улей, Копим мщения сладостный мед! (Стихи о Китае) В другом стихотворении под тем же названием поэт сравнивает Китай с тяжелым буйволом, в теплой трясине уснувшим до срока. Но вот придет некий день, и этот буйвол Встанет, рога распластавши на вые, И заревет, напружинивши ребра, И покривятся кресты Византии, И пошатнутся тогда небоскребы. Эти «забытые пророчества», озвученные Волиным, можно трактовать по-разному. Гораздо прозрачнее выглядит евразийская окрашенность стихотворений Е. Яшнова, самого старшего по возрасту из харбинских поэтов. Евгений Яшнов -- «из Европы беглец, отпрыск культуры постылой», как называет он сам себя, – много путешествовавший и глубоко изучивший Китай, с надеждой и вопросом вглядывается в эту страну, где царят «пракультура, праглушь», чувствуя «в гаме верблюдов, коней и овец потенциальные силы». «Жатва – на западе, в Азии – жнец!» – возвещает он. В самое критическое для китайской нации время Яшнов не теряет веры в ее будущее: «Как тень пройдут враги. И золоту из-за запретных стен вновь улыбнется май», -- уверенно говорит он и заканчивает стихотворение мажорным аккордом: Все в мире суета и тлен, Недвижим лишь Китай. («Зажги, Пекин, вечерние огни...») Эти и многие другие строки харбинских поэтов не могут не вызвать резонанса в душе у китайского читателя. Наверное, именно по этой причине в Китае говорят о том, что поэзия русского Харбина родилась на нашей земле и поэтому она «наполовину наша»14. Инна Ли (Ли Иннань), Проф. Пекинского университета иностранных языков 14 См.прим. 12.