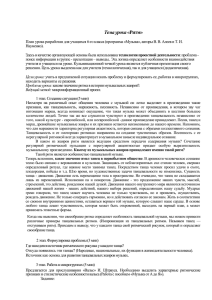Valsx
реклама
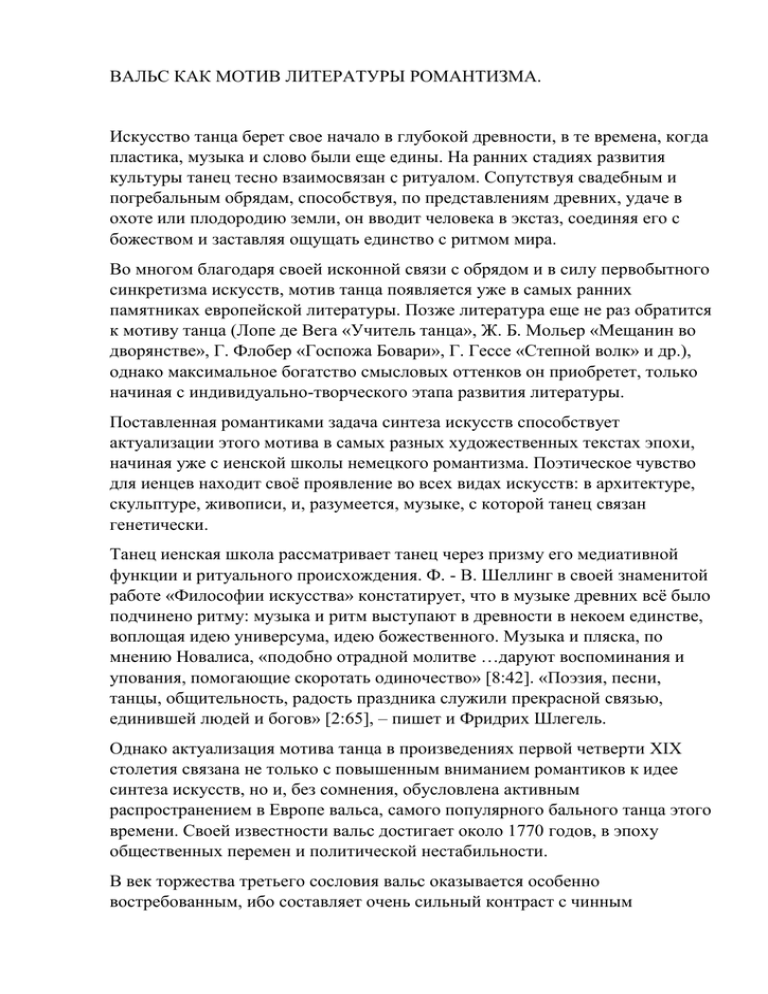
ВАЛЬС КАК МОТИВ ЛИТЕРАТУРЫ РОМАНТИЗМА. Искусство танца берет свое начало в глубокой древности, в те времена, когда пластика, музыка и слово были еще едины. На ранних стадиях развития культуры танец тесно взаимосвязан с ритуалом. Сопутствуя свадебным и погребальным обрядам, способствуя, по представлениям древних, удаче в охоте или плодородию земли, он вводит человека в экстаз, соединяя его с божеством и заставляя ощущать единство с ритмом мира. Во многом благодаря своей исконной связи с обрядом и в силу первобытного синкретизма искусств, мотив танца появляется уже в самых ранних памятниках европейской литературы. Позже литература еще не раз обратится к мотиву танца (Лопе де Вега «Учитель танца», Ж. Б. Мольер «Мещанин во дворянстве», Г. Флобер «Госпожа Бовари», Г. Гессе «Степной волк» и др.), однако максимальное богатство смысловых оттенков он приобретет, только начиная с индивидуально-творческого этапа развития литературы. Поставленная романтиками задача синтеза искусств способствует актуализации этого мотива в самых разных художественных текстах эпохи, начиная уже с иенской школы немецкого романтизма. Поэтическое чувство для иенцев находит своё проявление во всех видах искусств: в архитектуре, скульптуре, живописи, и, разумеется, музыке, с которой танец связан генетически. Танец иенская школа рассматривает танец через призму его медиативной функции и ритуального происхождения. Ф. - В. Шеллинг в своей знаменитой работе «Философии искусства» констатирует, что в музыке древних всё было подчинено ритму: музыка и ритм выступают в древности в некоем единстве, воплощая идею универсума, идею божественного. Музыка и пляска, по мнению Новалиса, «подобно отрадной молитве …даруют воспоминания и упования, помогающие скоротать одиночество» [8:42]. «Поэзия, песни, танцы, общительность, радость праздника служили прекрасной связью, единившей людей и богов» [2:65], – пишет и Фридрих Шлегель. Однако актуализация мотива танца в произведениях первой четверти XIX столетия связана не только с повышенным вниманием романтиков к идее синтеза искусств, но и, без сомнения, обусловлена активным распространением в Европе вальса, самого популярного бального танца этого времени. Своей известности вальс достигает около 1770 годов, в эпоху общественных перемен и политической нестабильности. В век торжества третьего сословия вальс оказывается особенно востребованным, ибо составляет очень сильный контраст с чинным менуэтом, который был придворным, аристократическим танцем. Менуэт с его церемониальными па не нес в себе никакого индивидуального, интимного начала. В этом танце было легко проследить иерархическую структуру общества: тот, кто выходил танцевать менуэт первым, имел, как правило, самый высокий социальный статус. В вальсе, напротив, общественное положение не имело особенного значения: акцент делался не на общем рисунке танца, а на гармонии внутри пары и индивидуальности каждого танцора. Вальс еще в восемнадцатом столетии вызывает колоссальный общественный интерес, о чем свидетельствует в частности упоминание этого танца в одной из самых нашумевших книг эпохи, «Страданиях юного Вертера» (1774) Гёте. Сентименталистский взгляд на личность, повышенное внимание позднего Просвещения к тонким эмоциональным переливам диктует закономерную взаимосвязь в романе мотива танца и темы несчастной любви. Прерванный танец в романе – как предчувствие дальнейшей развязки: Лотта становится женой другого, а Вертер в финале романа уходит из жизни. А вальс тем временем продолжает свое триумфальное шествие по Европе. Вслед за озорным танцем в костюм конца XVIII – начала XIX века приходит «нагая мода». Освободившись от пышных нарядов и тесных корсетов, дамы надевают прозрачные туники прямо на обнаженное тело. Стоит ли удивляться, что с такой модой во Франции в начале XIX века вальс разрешили танцевать только замужним дамам, а при дворе его и вовсе запретили из соображений приличия? Вслед за постепенным распространением вальса в Европе, пристальное внимание на этот социальный феномен обращает и романтическая литература, и одним из первых Новалис, который вводит мотив танца в свой неоконченный роман «Генрих фон Офтердинген» (1802). Биографы писателя утверждают, что Фридрих фон Гарденберг прекрасно танцевал на маленьких балах, но в тексте Новалиса мотив вальса приобретает не столько автобиографическое, сколько символическое звучание. В туманном и полном поэтических аллегорий романе Новалиса вальс, однако, напрочь лишен чувственного аспекта, присущего ему в социокультурном контексте. Материальная стихия танца одухотворяется Новалисом, и соединяясь со стихией музыки, приобретает мистический смысл. Первый вальс становится для Генриха и Матильды настоящим откровением, сакральным моментом единения с божеством. Однако суть единения – это деперсонализация. В стремительном кружении вальса герои Новалиса не обретают полноты характера (неслучайно Матильда здесь как бы срастается с образом голубого цветка), не становятся участниками типичной жизненной ситуации, оставаясь в большей степени идеальными возлюбленными, встреча которых предрешена во сне: «Генрих был рад танцевать без конца. Как ненаглядной розой любовался он тою, с которой танцевал. Её чистые очи отвечали ему без всякой уклончивости. В пленительном девичьем облике как бы таился дух её отца» [8:59]. Как и в «Страданиях юного Вертера», мотив вальса выступает в «Генрих фон Офтердингене» в неразрывном единстве с мотивом любви, однако, в духе модного среди немецких романтиков неоплатонизма они лишаются присущей им телесности. Но путь романтиков – это путь разочарования, и со временем, когда разрыв между идеалом и действительностью становится всё заметнее и непреодолимее, романтизм отчётливо ощущает, что любовь, попавшая в земную реальность, теряет свои идеальные качества. Именно поэтому после Новалиса мотив вальса все реже звучит гармоничным аккордом встречи двух душ, рассмотренный поздним романтизмом через зеркало романтической иронии. Так происходит, например, в новелле Э.Т. А. Гофмана «Песочный человек» (1816), где мотив танца оформляется в соответствии с господствующей в новелле стихией готического ужаса (о колдовской магии вальса автор «Житейских воззрений» знает не понаслышке: его дневники пестрят упоминаниями о танцах с Юлией Марк). Излюбленный Гофманом мотив двойничества реализуется в «Песочном человеке», в частности, через дуализм женских образов. Кукла Олимпия, которую обманутый волшебным стеклом Натаниэль предпочитает самостоятельной и жизнерадостной Кларе, с удивительной легкостью заменяет его настоящую, живую возлюбленную. Она не просто занимает место Клары в мыслях Натаниэля, но и, что еще страшнее, подменяет её в самом естественном, в самом индивидуальном и самом интимном – в танце. «Когда танцы начались, он, сам не зная, как, очутился подле Олимпии, которую еще никто не пригласил, и, едва будучи в силах пролепетать несколько невнятных слов, взял ее за руку. Как лед холодна была рука Олимпии; он содрогнулся, почувствовав ужасающий холод смерти; он пристально поглядел ей в очи, и они засветились ему любовью и желанием, и в то же мгновение ему показалось, что в жилах ее холодной руки началось биение пульса и в них закипела живая горячая кровь. И вот душа Натанаэля еще сильнее зажглась любовным восторгом; он охватил стан прекрасной Олимпии и умчался с нею в танце» [4:125]. Для Гофмана танец с автоматом, как и исполнение музыки механической машиной, свидетельствует об омертвении человеческой души, страшной для романтиков потере индивидуальности: «Соединить живого человека с мертвыми фигурами, которые только копируют форму и движения человека ...В этом для меня заключено что-то тяжкое, зловещее, даже совсем жуткое. Воображаю себе, что можно, встроив внутрь фигур искусный механизм, научить их ловко и быстро танцевать, вот и пусть они исполняют тогда танец вместе с живыми людьми..., так чтобы живой танцор подхватывал деревянную танцовщицу и носился с ней по залу – разве ты выдержал бы такое зрелище хотя бы одну минуту?» [5: 201–202]. Впрочем, то, что в «Автоматах» (1814) рассматривается как гипотетическая возможность, в «Песочном человеке» становится уже пугающей художественной реальностью. И это не единственная вариация мотива вальса у Гофмана. В новелле «Выбор невесты» (1818 – 1819) скептическое отношение к вальсу оказывается одной из идентификаций для прозаичного и погруженного в мир сухой книжной мудрости героя – Тусмана. Мотив танца традиционно рассматривается Гофманом в матримониальном ключе. Однако, если в «Генрих фон Офтердингене» вальс становится для героя высшим переживанием, попыткой юного протагониста приблизиться к божеству, то в «Выборе невесты» у сорокавосьмилетнего правителя канцелярии нет ни единого шанса на обретение через танец долгожданной свободы и гармонии. То ли одураченный ювелиром Леонгардом, то ли опьянённый изрядной порцией выпитого, Тусман видит, как наяву: в окнах ратуши, в подвенечном платье «неприлично быстро» с незнакомым ему молодым человеком кружится в вальсе Альбертина – дочь советника коммерции, девушка, которую он мечтает сделать своей женой: «Вальс безнравственный, непристойный танец, – возмущается начальник канцелярии, – а сейчас я видел, как девица Альбертина Фосвинкель, и притом в подвенечном наряде, вальсировала с молодым человеком, да еще так, что у меня в глазах помутилось. И все же я не могу от нее отказаться, нет, не могу!» [4:257]. Лицом к лицу столкнувшийся с волшебным миром, в бешеном кружении вальса незадачливый правитель канцелярии совершенно теряет себя, обезличиваясь во множестве своих собственных копий: «Не успел я произнести эти слова, как проклятый золотых дел мастер так меня толкнул, что я волчком завертелся на месте и, словно подхваченный непреодолимой силой, принялся вальсировать взад и вперед по Шпандауэрштрассе, обнимая вместо дамы противную метлу, о которую исцарапал себе все лицо, а тем временем чьи-то невидимые руки насажали мне синяков на спину; вокруг кишмя кишело правителями канцелярии Тусманами, и все они танцевали с метлами» [4:257]. Танец в данном контексте лишается своей гармонизирующей функции, превращаясь в романтический гротеск, в дьявольское, ритуальное безумие. Если в Австрии и Германии вальс вскоре становится неотъемлемой частью культуры, то Англии вальс кажется поначалу не только откровенным, но и достаточно сложным заморским танцем. Немецкий вальс (от нем. «walzen» – кружиться) непохож на чопорные танцы, принятые в консервативном британском обществе. Хотя в Англии обучение танцам было нормой, но в начале 19 века здесь танцуют, в основном, шотландский рил и английский контрданс. Увлечение новым немецким танцем не остается незамеченным и в литературной среде. Всегда чутко реагирующий на явления действительности, в 1812 году небольшую сатирическую поэму «Вальс» пишет Дж. Г. Байрон. Поэма Байрона содержит в себе явную установку на смеховое начало, которая в сочетании с достаточно густым эротизмом и введением многочисленных бытовых деталей, придаёт произведению ярко-выраженную ироническую тональность. С лукавой двойственностью английский поэт рассказывает о том, как «вальс очаровательный, на цыпочках, походкой зажигательной» пересекает границы, покоряя Москву и Лондон. Хотя Байрон и не даёт однозначной оценки вальсу, но в немецком танце английского лорда, воспитанного в духе кальвинизма, явно смущает его предельная телесность: Рука партнера может очень лихо Украдкой проскользнуть под вырез лифа, Иль беспрепятственно погладить талию, Иль... помолчим мы скромно... и так далее. А дама может ручкою своею Партнеру сжать плечо и даже шею. О, как они изысканно скользят Лицом к лицу, встречая взглядом взгляд. [1] Вальс в поэме вновь выступает в смысловом единстве с мотивами вина и страсти, но не ограничиваясь этой тематикой, Байрон привносит в своё произведение многочисленные элементы социальной реальности, успевая попутно с темой танца обсудить литературные пристрастия своего времени (упоминает, к слову, и пресловутый вальс Лотты и Вертера) или новый свод законов против луддитов. Впрочем, даже невзирая на иронически-вольное отношение к выбранному материалу и широкий охват действительности, в финале поэмы автор предрекает безоговорочную победу вальса, а заодно – не без легкой доли бахвальства – и свою собственную. Поэтическое предчувствие Байрона в скором времени становится реальностью. С легкой руки Венского конгресса вальс уже в 1814–1815 году получает официальный статус. От конгресса, где решались судьбы не только вальса, но и послевоенной Европы, сложно было ожидать другого решения. Его представители так часто танцевали вальсы, что в это время даже родилась поговорка: «Конгресс танцует, дело не движется». К первой четверти XIX века вальс не только захватывает танцевальные залы Вены, но и покоряет Париж. К тридцатым годам девятнадцатого столетия танец достигнет пика своей популярности во Франции, о чем красноречиво свидетельствует, в частности, написанная на закате романтизма «Исповедь сына века» (1835) Альфреда де Мюссе. Как и более ранние романтики, Мюссе еще не отказывается в своём романе от неоплатонической трактовки темы любви: «Любовь – это вера, это религия земного счастья, это лучезарный треугольник, помещенный в куполе того храма, который называется миром» [6:63]. Однако эта тема, равно как и мотив вальса, обретает в его романе известную двуплановость, прорастая в соответствии с принципом романтической иронии, разнообразнейшими телесными оттенками. «Не успел я войти, как вихрь вальса увлек меня. Это чудесное физическое упражнение всегда меня восхищало. Я не знаю другого танца, который во всех своих деталях был бы исполнен такого благородства, был бы более достоин молодости и красоты танцующей пары. Все танцы по сравнению с ним нелепая условность и предлог для пустой болтовни. Полчаса держать женщину в объятиях и увлекать ее за собой, трепещущую помимо ее воли, увлекать так, что нельзя сказать с уверенностью, оберегаете вы ее или совершаете над ней насилие, – это, право же, значит в какой-то степени обладать ею…. Должно быть, Германия, придумавшая этот танец, – страна, где умеют любить» [6:134]. В «Исповеди сына века» вальс становится скорее одним из плотских искушений на пути героя, который потеряв единственный смысл в жизни, начинает подменять его суррогатами, навязанными ему обществом. Точно так же, как вальс становится для героя всего лишь «физическим упражнением», «физическим упражнением», как пишет Мюссе в другой части романа, становится для потерянного поколения послереволюционной Франции и любовь. Октав восхищается прекрасной танцовщицей, обманчиво принимая телесную близость за близость души. Однако магия танца иллюзорна, и итальянка Марко оказывается холодной, бездушной куклой, которая с тем же ленивым равнодушием, с которым она кружится в вальсе, готова разделить ложе с только что встреченным любовником, как будто невзначай забывая о том, что накануне скончалась её мать. Разумеется, упоминания вальса в романтической литературе не ограничиваются лишь вышеназванным списком, ареал бытования этого мотива значительно шире. Впервые описанный в романе одного из главных кумиров романтиков, вальс становится заметным символом новой эпохи. Опираясь на теоретические работы иенской школы, романтическая литература обращается к мотиву танца в контексте общих представлений о синтезе искусств, и, прежде всего, в связи со своим излюбленным искусством, музыкой. Полемика, связанная с постепенным распространением вальса на территории Европы, находит непосредственное отражение на страницах литературы начала девятнадцатого столетия. Оформленный романтиками в духе руссоистского возвращения к природе, мотив танца демонстрирует известную симметрию с хореографическими характеристиками вальса как танца, не несущего на себе четкого отпечатка социальной иерархии, и модой начала века с её культом «нагого», а значит индивидуального тела. Однако, танец для романтиков оказывается не только сугубо индивидуальным, интимным переживанием, коим он был в cоциуме. Мотив танца актуализует в художественных текстах эпохи романтизма свои исконные потенции, иллюстрируя собой ритуальный опыт единения с божеством, становясь мистическим предвестником истинного чувства (Ф. Шлегель, Новалис). Впрочем, такая трактовка мотива романтизмом крайне недолговечна. Уже начиная с Байрона, мотив вальса в романтической литературе заметно снижается, становится двузначным, знаменуя собой неизбежное торжество массы над индивидуальностью (Гофман, Мюссе). Еще не успев окончательно утвердиться в Европе, танец уже лишается у романтиков своей свободной, стихийной сущности, оказываясь не только божественным откровением, но и чувственной иллюзией с несомненным привкусом телесности. Библиография 1. Байрон Дж. Г. Вальс. Поэма. //Звезда. N 7, 2004,// magazines.russ.ru/zvezda/2004/7 2. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. – Л., 1973. 568 с 3. Гёте И. В. Стихотворения. Страдания юного Вертера. Фауст. М.,1998, 765 с. 4. Гофман Э.Т. А. Библиотека мировой новеллы. М.,2000, 352 с. 5. Гофман Э.Т.А. Крейслериана. Новеллы. М., 1990, 400 с. 6. Корнилова Е.Н. Мифологическое сознание и мифопоэтика западноевропейского романтизма. – М., 2001. 447 с. 7. Мюссе А. Исповедь сына века. М., 2002, 442 с. 8. Новалис. Генрих фон Офтердинген. М., 2003, 280 с. 9. Шульц Г. Новалис, сам свидетельствующий о себе и о своей жизни. Челябинск., 1998, 327 с.