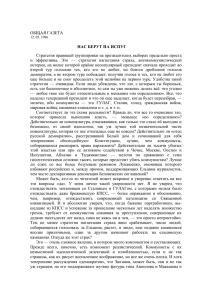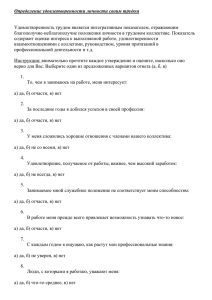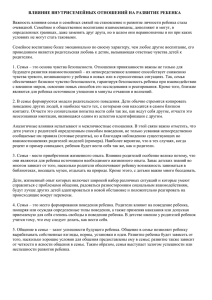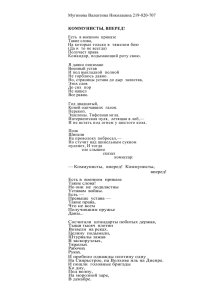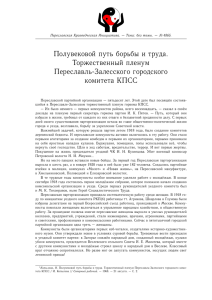« Л Е В Ы Е » И ... Выступление на семинаре В.Ф.Хрустова 30.10.1999. Не публиковалось.
реклама
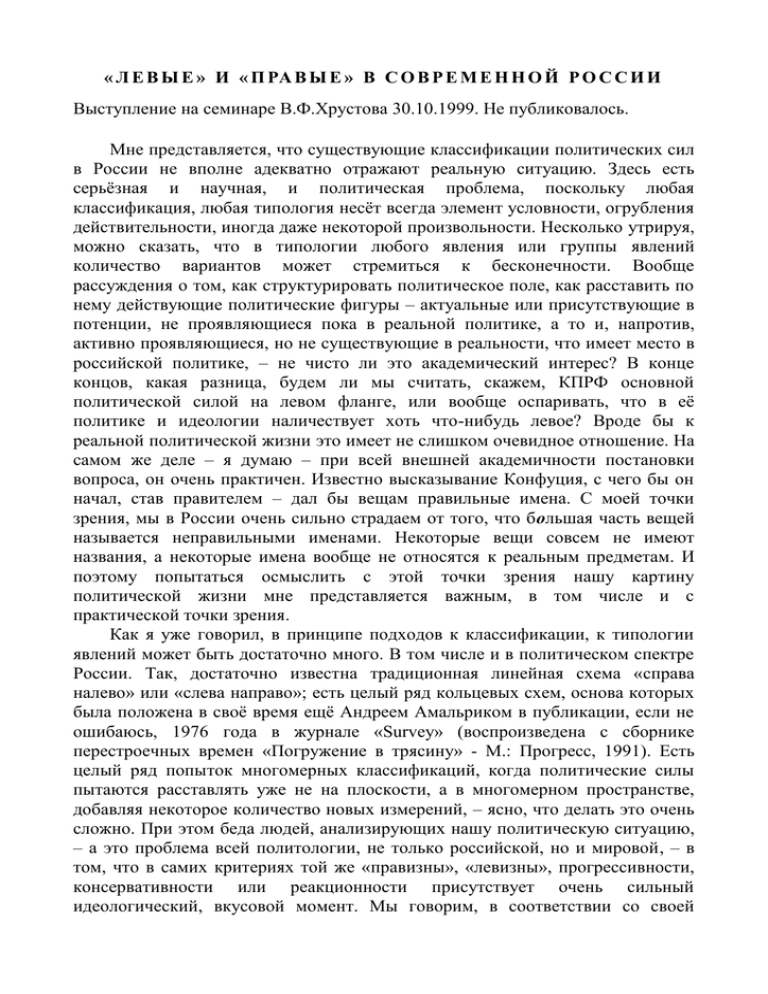
« Л Е В Ы Е » И « П РА В Ы Е » В С О В Р Е М Е Н Н О Й Р О С С И И Выступление на семинаре В.Ф.Хрустова 30.10.1999. Не публиковалось. Мне представляется, что существующие классификации политических сил в России не вполне адекватно отражают реальную ситуацию. Здесь есть серьёзная и научная, и политическая проблема, поскольку любая классификация, любая типология несёт всегда элемент условности, огрубления действительности, иногда даже некоторой произвольности. Несколько утрируя, можно сказать, что в типологии любого явления или группы явлений количество вариантов может стремиться к бесконечности. Вообще рассуждения о том, как структурировать политическое поле, как расставить по нему действующие политические фигуры – актуальные или присутствующие в потенции, не проявляющиеся пока в реальной политике, а то и, напротив, активно проявляющиеся, но не существующие в реальности, что имеет место в российской политике, – не чисто ли это академический интерес? В конце концов, какая разница, будем ли мы считать, скажем, КПРФ основной политической силой на левом фланге, или вообще оспаривать, что в её политике и идеологии наличествует хоть что-нибудь левое? Вроде бы к реальной политической жизни это имеет не слишком очевидное отношение. На самом же деле – я думаю – при всей внешней академичности постановки вопроса, он очень практичен. Известно высказывание Конфуция, с чего бы он начал, став правителем – дал бы вещам правильные имена. С моей точки зрения, мы в России очень сильно страдаем от того, что большая часть вещей называется неправильными именами. Некоторые вещи совсем не имеют названия, а некоторые имена вообще не относятся к реальным предметам. И поэтому попытаться осмыслить с этой точки зрения нашу картину политической жизни мне представляется важным, в том числе и с практической точки зрения. Как я уже говорил, в принципе подходов к классификации, к типологии явлений может быть достаточно много. В том числе и в политическом спектре России. Так, достаточно известна традиционная линейная схема «справа налево» или «слева направо»; есть целый ряд кольцевых схем, основа которых была положена в своё время ещё Андреем Амальриком в публикации, если не ошибаюсь, 1976 года в журнале «Survey» (воспроизведена с сборнике перестроечных времен «Погружение в трясину» - М.: Прогресс, 1991). Есть целый ряд попыток многомерных классификаций, когда политические силы пытаются расставлять уже не на плоскости, а в многомерном пространстве, добавляя некоторое количество новых измерений, – ясно, что делать это очень сложно. При этом беда людей, анализирующих нашу политическую ситуацию, – а это проблема всей политологии, не только российской, но и мировой, – в том, что в самих критериях той же «правизны», «левизны», прогрессивности, консервативности или реакционности присутствует очень сильный идеологический, вкусовой момент. Мы говорим, в соответствии со своей 2 политической ориентацией: вот это левые, и это хорошо, или, наоборот, вот правые, и это хорошо и так далее. Вообще за последнее десятилетие с небольшим мы видели, как меняются ориентиры. В начале перестройки мы очень чётко понимали, что консервативные коммунисты, которые ратовали за сохранение «социализма», а то и хуже того, за возврат к жёстким формам сталинского правления, – это правые, а те, кто против, – те левые. Потом все как-то довольно плавно поменялось, даже момент трудно установить, когда это произошло, какое-то время все определения «плыли». И вдруг – коммунисты стали «левыми». До сих пор мы наблюдаем странные с точки зрения традиционного «линейного» подхода «право-левые» блоки – как гласные, так и в ещё большей степени негласные, когда казалось бы антиподы по политическому спектру в реальности выступают если не вместе, то рядом. Хотя опять-таки европейская история такие примеры знает. Достаточно напомнить участие германских коммунистов вместе с нацистами в некоторых массовых акциях против Веймарской демократии, о призыве коммунистов голосовать против социалдемократического кандидата на президентских выборах (что по факту означало действия в пользу Гинденбурга) и т.д. Те принципы структурирования, которые хочу предложить я, связаны с моей оценкой историко-социальной ситуации, переживаемой современной Россией. Для того, чтобы её понять, нужно немного уйти вглубь истории и сказать несколько слов о характере русской революции и того общества, которое существовало в нашей стране до недавнего времени. Я противник того, чтобы жёстко делить русскую революцию, скажем, на Февральскую и Октябрьскую. Я считаю, что был, во-первых, большой революционный цикл, достаточно примерно датируемый 1902 - 1934 годами, а в его рамках были большие революции в более узком смысле. Сначала революция 1905 - 1907 годов, незавершённая, добившаяся позитивных результатов лишь частично, прежде всего в виде создания специфически российского «полупарламента» в виде Думы, и подтолкнувшая столыпинскую земельную реформу и ряд других социально-экономических реформ, ускоривших, хотя и недостаточно, капиталистическую модернизацию России. Затем произошла вторая революция – 1917 - 1922 годов, которая была, с моей точки зрения, многослойной – опять-таки при том, что все политические силы России, активно игравшие в ней, так или иначе выступали за модернизацию России в разных формах. Наиболее ярко ратовали за модернизацию в виде европеизации на буржуазном пути развития кадеты. Ряд других политиков выдвигали варианты модернизации с социалистическим идеологическим обоснованием. Основные три: крестьянский социализм народников, прежде всего эсеров; в меньшей степени – в силу малой влиятельности партии – энесов; опять-таки, путь демократической капиталистической модернизации с дальним прицелом на переход к социализму у российской социал-демократии (меньшевиков). Наконец, большевистская модернизация через социалистическую, по их терминологии, 3 революцию. В то же время, поскольку российская революция была в действительности массовым, действительно народным движением, она несла в себе и мощнейший антимодернизационный заряд. Именно потомку, что само это массовое движение было в значительной мере глубоко народной реакцией на модернизацию, на её противоречия, на угрозу традиционным формам существования, – и в этом смысле русскую революцию вполне можно сопоставлять с иранской революцией конца 1970-х годов. То есть речь идёт о революционном процессе, несущем в себе зёрна глубокой и жестокой реакции. С этой точки зрения, когда представители демократического крыла социалистического движения оценивали Октябрьский переворот как контрреволюцию, они, в общем-то, были правы. Потому что в значительной мере именно Октябрьский переворот открыл дорогу этой самой низовой антимодернизационной, антиевропеистской волне и положил началу возрождению глубинных, или – как я их называю – «глуповских» начал в российской истории (с прямой отсылкой на гениальное, по-моему, произведение Салтыкова-Щедрина, где он потрясающе, с точностью до деталей, предсказал то, что получится в России. Помните город Непреклонск с двумя основными праздниками: ранней весной приготовления к бедствиям будущим, а поздней осенью воспоминания об уже происшедших бедствиях? Причём праздники от будней отличаются усиленными упражнениями в маршировке). В этом отношении большевистская власть тоже оказалась крайне двойственна. С одной стороны, несомненно, коммунисты осуществили целый ряд преобразований в России, которые традиционно оцениваются как проявление модернизации. Изменение структуры занятости, когда большинство активного населения стало занято в современных отраслях промышленности и в меньшей степени – в сфере услуг (что особенно важно – социальных услуг); урбанизация; массовое образование; внешние формы модернизации быта, хотя это приняло заметные, массовые масштабы уже на излёте коммунистического режима, начиная с 60-х годов. Вместе с тем это была очень своеобразная, консервативная модернизация, поскольку при изменении внешних форм жизни, при подтягивании к передовым мировым образцам, к которым также существовало крайне амбивалентное отношение – своего рода подражание-отталкивание (мы, дескать, враги капиталистического образа жизни, но мы стараемся заимствововать у него всё, что только удаётся), – всё это сопровождалось возрождением архаичных форм общественных связей. Последние, кстати говоря, опять-таки в превращённой форме, а отчасти и в той же самой, продолжают существовать и сейчас. Не случайно всё чаще в нашей публицистике и в научной литературе звучат слова о «феодалоподобности» тех или иных отношений – общественных, экономических, политических – в современной России. Скажем, один из наиболее проницательных аналитиков современной ситуации Юлия Латынина в своих журналистских работах, в фантастических романах «Сто полей» и «Колдуны и министры», которые совсем, вроде бы, не о России, а также в 4 трилогии об Ахтарском меткомбинате, представляющей своеобразный симбиоз детектива, производственного романа и учебника по современной российской микроэкономике, очень глубоко показывает эти квазифеодальные черты в нашей нынешней реальности. Действительно, то, что мы получили в результате революции-реакции и происшедшей внутри неё контрреволюции, – поскольку сталинский режим несомненно был как продолжением, так и отрицанием первоначальной большевистской революции, – было своеобразной репликой феодального общества на нетрадиционной для феодализма технологической основе, это был индустриальный феодализм. Это проявлялось не только в таких экстремальных формах, как массовое использование рабства и крепостного труда в сталинский период, но и более широко: в сущности, вся система распределения в советском обществе была построена на принципах статуса. Я думаю, что в значительной мере та сохраняющаяся по сей день ориентация на получение ренты, которая господствует в нашем обществе, коренится в том же советском периоде, когда доход человека зависел не столько от его личных усилий – в этом смысле не было общества более далёкого от принципа распределения по труду, чем советское, – а от занимаемого места в сложной общественной иерархии. Когда заработок зависел от региона, отрасли, конкретного предприятия и т.д., где находился человек, когда действительно реализовывался – об этом также очень остроумно пишет Латынина – и реализуется отчасти сейчас принцип, что деньги в разных руках стоят по-разному. Это вполне феодальное явление: деньги не как всеобщий эквивалент, а деньги как выражение определённого общественного статуса. Я думаю, что эта оценка советского «коммунизма» как своеобразной запоздалой реминисценции феодализма в мировой истории, заставляет несколько иначе отнестись к структурированию того самого политического поля, с которого я и начал своё выступление. Потому что, если смотреть с этой точки зрения – феномен, когда значительная часть политических сил либо прямо призывает к возврату к той или иной форме коммунистического прошлого, либо фактически стремится законсервировать какие-то очень существенные черты, унаследованные нами от этого прошлого, являющиеся тормозом очередного этапа модернизации России, заставляет непривычно взглянуть на проблему «прогрессивности-реакционности» и «левизныправизны». Одно дело, ежели мы оцениваем то общество, от которого мы так трудно и мучительно уходим, как некое, пусть несовершенное, но всё-таки воплощение социалистического идеала, как некоторое явление посткапитализма, которое было прорывом вперёд в историческом развитии, и совсем другое дело, если мы то же самое общество оцениваем как форму социального регресса, и при всей уродливости того, что ныне происходит в России, всё-таки понимаем, что даже такой капитализм, опутанный феодальными пережитками, уродливый, дикий, грабительский – сколько угодно можно подыскивать эпитетов – всётаки шаг вперёд по сравнению с неким «хорошим» феодализмом. Рискну даже 5 на такую историческую аналогию между концом ХХ века и второй половиной века ХIХ. Если мы посмотрим общественные дискуссии, скажем, 60-х, 70-х, 80х годов прошлого века, то увидим, что в логике тогдашних российских консерваторов и реакционеров было очень много здравого. Действительно, крепостной крестьянин, по крайней мере у хорошего помещика, был куда сильнее защищён с социальной точки зрения, его существование было куда более гарантированно, чем у временнообязанного, а потом «свободного» (с гигантскими ограничениями конечно) крестьянина или у городского пролетария. Сделали бы мы из этого вывод, что российский реакционеркрепостник, вещавший: «При крепостном праве было лучше, и вообще ваш этот капитализм только народ мучает», – хотя сам он, вроде бы, выступал как раз в защиту того же народа, за повышение социальной защищённости, если говорить модными сегодня словами, – был ли он более «прогрессивен», чем русский либерал или правый социал-демократ в лице легальных марксистов, которые говорили, что нужно пойти на выручку русскому капитализму, пережить, перестрадать этот момент, что русский народ в большей мере страдает от недостаточного развития капитализма, чем от его развития? И удивительное просто совпадение существует, в программах, скажем, «Московских ведомостей» 1880-х годов и наших нынешних, извините за выражение, «защитников трудового народа» – коммунистов, а отчасти и консервативных реформаторов типа «Отечества». Приведу такую цитату: «Консерваторы противопоставляли либеральной программе свои планы укрепления основ народного самодержавия, в частности – путём развития промышленности в сочетании с упрочением общинного землевладения в деревне. «Московские ведомости» проповедовали создание национальной экономики, отгороженной от Запада высокими таможенными барьерами, выступали за усиление государственного вмешательства, ужесточение контроля за биржевыми операциями и частным предпринимательством, введение табачной и винной монополии, выкуп железных дорог в казну, требовали финансовой поддержки поместного дворянства и сохранения бумажно-денежного обращения». Если немножко поменять: поддержку поместного дворянства и укрепление общинного землевладения на поддержку аграрного сектора в виде колхозов и совхозов, а сохранение бумажноденежного обращения назвать по-современному контролируемой эмиссией, – то вообще различий почти не увидишь. Парадоксальным образом оказывается, что воистину Зюганов – наследник вовсе не Герцена, Чернышевского, Лаврова, Михайловского, Плеханова и даже не Ленина, что интересно, – а наследник Каткова, Победоносцева, Александра III и иже с ними. Опять-таки – обращение коммунистов к имперской державной традиции, так же, как и у Сталина, совсем не случайное, они же его очень любят за то, что он покончил с «интернациональным коммунизмом» РКП(б) и основал новый «коммунизм» – державный и национальный. На самом деле покончил, потому что весь интернационализм сталинской внешней политики был просто 6 замаскированным выражением чисто имперского, традиционного для царизма, подхода. Это отдельный вопрос, его нужно рассматривать особо. В ситуации, когда мы переживаем период не то что незавершённой, но даже не успевшей толком начаться антифеодальной демократической революции, структурирование политического поля приобретает совершенно другую форму – то есть в лучшем случае шкала разламывается, у нас есть две разных шкалы «правых» и «левых», отчасти перекрывающих друг друга: одна – те действующие политические силы, которые так или иначе ориентированы на феодалоподобное прошлое. При этом крайне правыми выступают, с одной стороны, коммунисты откровенно сталинистского толка, а с другой стороны – люди, мечтающие о восстановлении традиционной, ещё додумской, монархии (и тут эта шкала как бы раскалывается, расслаивается); несколько левее оказываются люди, которые признают, что ушедшее ушло и нужно как-то приспосабливаться к реалиям современного мира, стараясь сохранить как можно больше из того, что было в советском «коммунизме». А другая шкала «правые – левые» применяется к организациям, идейным построениям и людям, которые пытаются, может быть, в чем-то даже в менее адекватной форме, чем представители первой шкалы применительно к своим ориентациям, жить понятиями современного общества, где действительно категории «левого – правого» относятся к типу политики, к способу осуществления политического синтеза в интересах тех или иных социальных слоёв и групп. Правда, здесь есть очень большой элемент виртуальности в условиях, когда сама социальная структура общества недосформирована. В этом смысле наша несчастная социал-демократия, в общем, к сожалению, находится в том же виртуальном поле, что и «Союз правых сил». Я глубоко сожалею об обоих фактах: не только о том, что у нас в России нет нормальной социалдемократии, но и о том, что нет нормальных современных «правых», точнее, есть, но очень слабые. (На вопрос о Жириновском): Жириновский - тоже очень интересный феномен, потому что он отчасти выламывается из намеченной структуры – с одной стороны, он, несомненно, если попытаться реконструировать хоть что-то внутренне связанное в его речах и заявлениях (а это достаточно сложно и происходит только с большими потерями смысла, точнее, у него несколько таких смысловых ядер, совершенно не связанных друг с другом и полностью взаимно отрицающих), то можно сказать, что Жириновский играет сразу на нескольких полях: он и ярый традиционалист, он и модернизатор в определённых отношениях. Кстати, если говорить о культурной составляющей, культурнопсихологической, то можно видеть, что наши коммунисты в культурном плане - глубокие консерваторы. Не случайно следующее. У меня жена занималась обрабатыванием данных предвыборных опросов по целому ряду одномандатных округов как столичных, так и провинциальных, и по ним чётко прослеживалось, что для подавляющего большинства коммунистического электората любые перемены – к худшему. То есть имеет место глубокий 7 консервативный синдром. Люди считают, что перемены вообще не нужны, не сознавая, насколько это противоречит их нынешнему положению и их собственному политическому поведению. Они готовы голосовать за партию, которая на словах выступает именно за перемены – пусть и назад – но при этом считают, что любые перемены – только к худшему. Тогда логичнее было бы голосовать за партию власти... (Ответ на вопрос о характере опроса): С моей точки зрения, по данным этой анкеты, которая сделана достаточно квалифицировано, опрос отражает реальное разорванное сознание и некоторую шизофреничность нашего общества. Вопрос носил характер психологического теста, выявление некоторых глубинных ориентаций людей на перемены либо на «стабильность» по принципу «не было бы хуже». На самом деле это специфика массового восприятия. Люди уже привыкли к тому, что есть реальные достижения в результате перемен, они для них были как бы всегда, а вот то, что раньше было хорошее, то ушло. У них этот образ «светлого прошлого» на самом деле включает многое из того, что на самом деле появилось даже не после 1985, а после 1992 года. Многие коммунисты находят общий язык с православными фундаменталистами в вопросе отношения к абортам и контрацептивам. Кстати, тот же Жириновский, пытаясь включить в свой электорат всех, кого только можно, играет сразу и ярого либертарианца в вопросах нравственности, и ярого консерватора – в зависимости от ситуации. В действительности его очень трудно вообще уложить в какой-нибудь политический спектр. Поскольку если представить такую маловероятную вещь, скажем, как приход ЛДПР к власти (хотя это сейчас и есть единственная воистину «партия власти», которая есть в России из опорных партий), то её политика, скорее всего, будет антимодернизационная, хотя бы потому, что эта политика будет направлена против продолжения открытости России в мир, против индивидуальной свободы, – и в этом смысле против глубинных и важнейших проявлений модернизации в нашей стране. Так вот, как мне представляется, если выстраивать политический спектр по линии «реакция – прогресс», имея в виду модернизацию России, то у нас действительно можно сделать существенные выводы для тех людей, которые работают и хотят работать на то, чтобы в России появилась социал-демократия, – выводы о ближайших политических «соседях» и возможных союзниках. Как и для Западной Европы (где этот процесс происходит в силу других причин), для нас оказывается актуальным поиск нового социалистически-либерального синтеза. Летом этого года появился такой известный документ Блэра-Шрёдера "Третий путь - Новый центр" (есть его перевод, его можно подвесить на сайт), где делается попытка совершить очередной этап такого синтеза. (Вообще, если мы посмотрим, немного отвлекаясь от основной темы, на историю развития социалистической мысли и социалистического движения по отношению к социализму и либерализму, то мы увидим несколько этапов такого синтеза, обогащавшего обе стороны, начиная от освоения социалистами 8 идеи политической демократии как самоценного явления, и кончая освоением сейчас неолиберальной экономической мысли. Здесь беда как раз в том, что не удаётся найти достаточно убедительного синтеза, который был бы именно синтезом, а не механическим пристёгиванием некоторых социальных довесков к неолиберальным построениям. Пока что, в сущности, мы видим только последнее, когда социалистические и социал-демократические партии, приходя к власти и в Западной, и в Восточно-Центральной Европе, вынуждены проводить неолиберальную в основе политику, несколько корректируя её в социальную сторону. Это отдельный большой и больной вопрос, почему так происходит. Одна из причин, конечно, та, что при значительной моральной изношенности неолиберализма реальных и доведённых до инструментального уровня альтернатив ему просто пока не выработано. Может быть, как раз один из вариантов этой выработки – на пути преодоления поглощением, включением всего того ценного, что дала неолиберальная экономическая мысль и практика. Этого нельзя недооценивать: она дала много чего ценного, при всех издержках неолиберальной волны 70-80-90-х годов). Для нас оказывается актуальной та же самая проблема – в другой ситуации, на другой стадии модернизации и при модернизации иного типа. Как я уже отмечал, «модернизация» – ключевое слово во всех теоретических и прагматических построениях того же Шрёдера. Наличествует и общность интересов – потому что, я думаю, нужно чётко понимать, что для социалдемократа буржуазный порядок и пусть несовершенная, но демократия – ближе и естественней как среда существования, чем феодализм и деспотия. И здесь нужно понимать, что если с силами реакции, консервации и отчасти консервативного реформирования у нас не так много точек пересечения, то при всех наших разногласиях с либералами и современными консерваторами западного типа (хотя, как было сказано, в их положении в России есть некоторый элемент виртуальности) мы найдём гораздо больше общего, если понимать социал-демократию как силу прежде всего модернизации. Хотя это тоже вопрос достаточно неоднозначный, и на Западе есть элементы того, что можно определить несколько оксюморонным словосочетанием «консервативный социал-реформизм», когда политика социал-демократических партий направлена в большей мере на сохранение ранее достигнутого, нежели на переход к какому-то новому качеству, которое ещё нужно определить и найти. Тем не менее, с этой точки зрения мне кажется, отчасти в порядке самокритики, наша задача по поиску своего места в российском политическом спектре начинает выглядеть, может быть, несколько непривычно и по-новому. Так, для социал-демократии может оказаться катастрофичным, если она начнёт ассоциировать себя с именами Лужкова и Примакова, и напротив того, для нас, как это на первый взгляд ни парадоксально, Чубайс или Гайдар – куда более близкие враги-союзники, чем коммунисты или консервативные реформаторы из «Отечества». Вот основные идеи, которые я хотел предложить на ваше обсуждение, и буду благодарен за критику. 9