Постмодернизм как литературный феномен
реклама
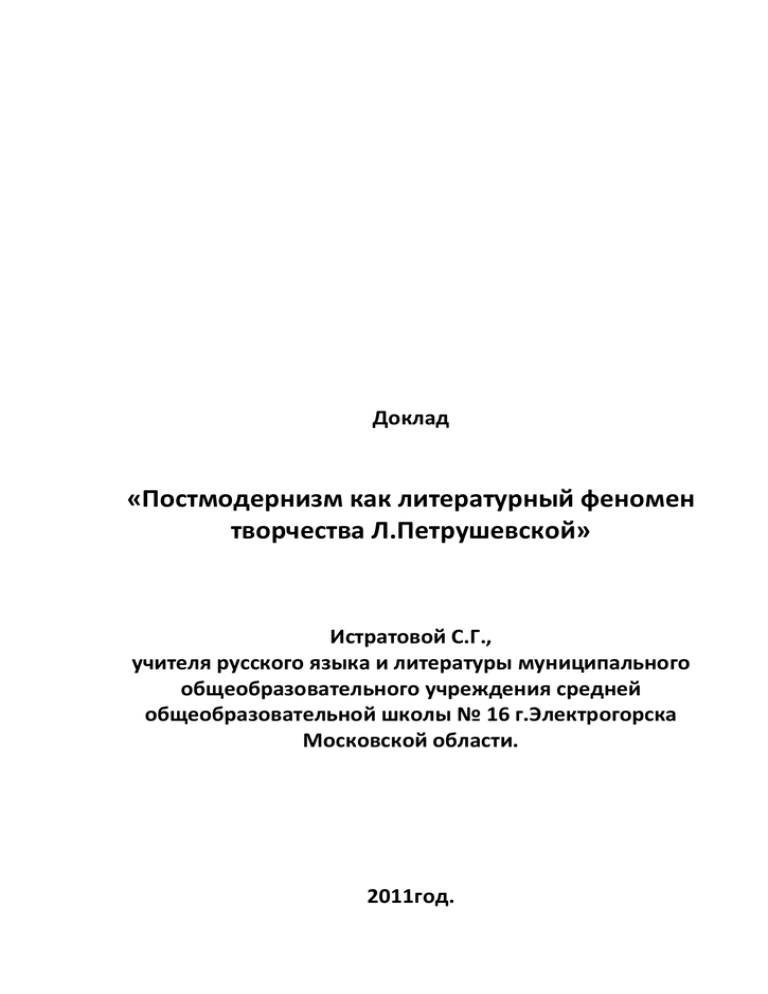
Доклад «Постмодернизм как литературный феномен творчества Л.Петрушевской» Истратовой С.Г., учителя русского языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 г.Электрогорска Московской области. 2011год. Писатель сам говорит про себя. Его надо лишь внимательно прочитать. В.Бондаренко. Постмодернизм как литературный феномен творчества Л.Петрушевской Петрушевская Людмила Стефановна (26.05. 1938г.) Прозаик, драматург. Родилась в семье служащего. Прожила тяжелое военное полуголодное детство, скиталась по родственникам, жила в детдоме под Уфой. После войны вернулась в Москву, окончила факультет журналистики Московского университета. Работала корреспондентом московских газет, сотрудницей издательств, с 1972 - редактором на Центральной студии телевидения. …Военное детство, уличное воспитание, без матери, без денег, «еда», собранная по помойкам, детдом, затем долгие поиски путей выживания уже на профессиональном поприще, потом личная трагедия, потеря мужа после его долгого неподвижного угасания, безденежье, болезни детей, запреты на издания… Петрушевская рано начала сочинять стихи, писать сценарии для студенческих вечеров, всерьез не задумываясь о писательской деятельности. Впервые опубликовалась в газете “Московский комсомолец”. В середине 60-х гг. начала писать рассказы. Первым опубликованным произведением был рассказ "Через поля", появившийся в 1972 в журнале "Аврора". С этого времени проза Петрушевской не печаталась более десятка лет. Созданные за два с лишним десятилетия рассказы собраны в книге “По дороге бога Эроса” (1993). Используя “нейтральное письмо”, Петрушевская художественно исследует “прозу” жизни, лишенной духовного начала и радости. Особое внимание уделяет феномену отчуждения, бездушию и жестокости в человеческих взаимоотношениях. С начала 70-х гг. Петрушевская выступает и как драматург. Член студии А Арбузова. Неформальный лидер поствампиловской “новой волны” в драматургии 70—80-х гг. Возрождает в русской драматургии традиции критического реализма, соединяя их с традициями игровой литературы, использует элементы абсурда. Испытывает тяготение к жанру “сценки”, анекдота, создает одноактные пьесы “Уроки музыки” (1973, “Чинзано” (1973) “День рождения Смирновой” (1977), циклы “Квартира Коломбины” (четыре одноактные пьесы: “Лестничная клетка”, 1974; “Любовь”, 1974; “Анданте”, 1975; “Квартира Коломбины”, 1981), “Бабу-ля-блюз” (пять одноактных пьес: “Вставай, Анчутка”, 1977; “Я болею за Швецию”, 1977; “Стакан воды”, 1978; “Скамейка-премия”, 1983; “Дом и дерево”, 1986). К ним примыкает многоактная пьеса “Сырая нога, или Встреча друзей” (1973—1978). Первые же пьесы были замечены самодеятельными театрами: пьеса "Уроки музыки" (1973) была поставлена Р.Виктюком в 1979 в театре-студии ДК "Москворечье" и почти сразу запрещена (напечатана лишь в 1983). Постановка "Чинзано" была осуществлена театром "Гаудеамус" во Львове. Профессиональные театры начали ставить пьесы Петрушевской в 1980-е: одноактная пьеса "Любовь" в Театре на Таганке, "Квартира Коломбины" в "Современнике", "Московский хор" во МХАТе. Долгое время писательнице приходилось работать "в стол" - редакции не могли публиковать рассказы и пьесы о "теневых сторонах жизни". Не прекращала работы, создавая пьесы-шутки ("Анданте", "Квартира Коломбины"), пьесыдиалоги ("Стакан воды", "Изолированный бокс"), пьесу-монолог ("Песни XX века", давшую название сборнику ее драматургических произведений). Главное средство характеристики персонажей в пьесах Петрушевской — язык, обладающий свойством “магнитофонного эффекта”, воссоздающий особенности живой разговорной речи современников, выявляющий характерные черты их душевного склада, но повернутый своей комедийной стороной, иногда абсурдизируемый. Пьесы Петрушевской с трудом пробивали дорогу на сцену. Например, комедия “Три девушки в голубом” (1980) — современный парафраз чеховских “Трех сестер” — сдавалась в Ленкоме цензуре пять раз на протяжении двух лет. С этой пьесы и начинается движение Петрушевской в направлении постмодернизма. Принципы его поэтики опробованы в пьесе “Квартира Коломбины” (1981), в которой посредством игры с масками итальянского театра “дель арте” обнажается моральное разложение советского общества. Спектакль “Квартира Коломбины” в театре “Современник” в 1985 г. приносит Петрушевской шумный успех и признание. Театры постепенно перестают бояться ставить ее произведения. В 1988 г. выходит сборник пьес Петрушевской “Песни XX века”, в 1989 г. — сборник пьес “Три девушки в голубом”. На рубеже 80—90-х гг. Петрушевская обращается в основном к прозе. В “Новом мире” публикуется ее повесть “Время ночь” (1992, премия Букера за 1992 г.), рассказы, сказки. В 90-е гг. все более заметен интерес Петрушевской к “странной” прозе, “маргинальным” ее ветвям. Вернувшись в драматургию, Петрушевская создает одноактные пьесы “Что делать?” (1993), “Опять двадцать пять” (1993), “Мужская зона” (1994). Последняя из них — явление постмодернистского миноритарного театра. Кроме произведений для взрослых, Петрушевская пишет пьесы для детей: “Два окошка” (1975), “Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает” (1975), “Золотая богиня” (1986). Произведения Петрушевской получили известность во многих странах мира. Наиболее удачные, по мнению самого автора, зарубежные постановки последних лет — “Чинзано” в Глазго; “Три девушки в голубом” в Тампере, Хайльбронне и Будапеште; “Брачная ночь” в Париже. Петрушевская удостоена международной премии имени А Пушкина (за литературное творчество), премии “Москва — Пенне” (за книгу “Бал последнего человека”) Когда Л.Петрушевская в 1968 году принесла первые рассказы («Такая девочка», «Слова», «Рассказчица», «История Клариссы») в «Новый мир», результатом стала резолюция А.Т. Твардовского: «Талантливо, но уж больно мрачно. Нельзя ли посветлей. – А.Т.» и «От публикации воздержаться, но связи с автором не терять». Понятно, что «социальная проза» Л.С.Петрушевской неслучайна и имеет «наглядный референт» – все то, о чем довольно подробно написано в том же «Девятом томе», книге вообще много объясняющей: военное детство, уличное воспитание, без матери, без денег, «еда», собранная по помойкам, детдом, затем долгие поиски путей выживания уже на профессиональном поприще, потом личная трагедия, потеря мужа после его долгого неподвижного угасания, безденежье, болезни детей, запреты на издания… Понятно, стало быть, и стремление писателя говорить об «обыкновенном человеке», о том, что «так бывает» (одно из самых любимых присловий Людмилы Петрушевской ), – и говорить так, как этого не делали в литературе социалистического реализма (да и потом). Однако тогда, в 60-х годах, «Девятого тома» не было, не было и прецедента, на который можно было бы равняться в оценке, и Твардовский так и не допустил ни одного рассказа к публикации. Впервые произведение Л. Петрушевской (повесть «Свой круг») было опубликовано в «Новом мире» лишь 20 лет спустя. С начала 1970-х годов начинается «театральный роман» прозаика: по предложению МХАТа Петрушевская пишет пьесу «В обед» (позднее будет автором уничтожена), а затем «Уроки музыки», которую О.Н. Ефремов не поставил, однако (ситуация в рифму) «связи с автором не терял». Л. Петрушевская вступает в студию А. Арбузова, пьеса «Уроки музыки», не пошедшая во МХАТе, была поставлена Романом Виктюком. В 1983 году Марк Захаров поставил в Ленкоме пьесу «Три девушки в голубом», сегодня уже вошедшую в школьные программы по литературе. Несколько лет подряд запрещаемая к постановке, пьеса стала событием современной драматургии. В сегодняшнем литературоведении «Три девушки…» позиционируются как шаг Петрушевской к постмодернизму, хотя выбор именно этой пьесы для обозначения подобного рубежа достаточно условен. Во-первых, был ли подобный рубеж в творческой эволюции Л. Петрушевской ? Во-вторых, была ли вообще эволюция? Конечно, пьеса дает много поводов для анализа ее именно с позиций постмодернистской диалектики, толкования ее как игры – со всеми присущими этой игре атрибутами: интертекстуальностью, концептуальностью, скептицизмом… «Три девушки в голубом» (краткое содержание) Три женщины «за тридцать» живут летом с маленькими сыновьями на даче. Светлана, Татьяна и Ира — троюродные сестры, детей они воспитывают в одиночку (хотя у Татьяны, единственной из них, есть муж). Женщины ссорятся, выясняя, кому принадлежит половина дачи, чей сын обидчик, а чей — обиженный… Светлана и Татьяна живут на даче бесплатно, зато на их половине течет потолок. Ира снимает комнату у Федоровны, хозяйки второй половины дачи. Зато ей запрещено пользоваться принадлежащим сестрам туалетом. Ира знакомится с соседом Николаем Ивановичем. Тот ухаживает за ней, восхищается ею, называя королевой красоты. В знак серьезности своих чувств он организует строительство туалета для Иры. Ира живет в Москве с матерью, которая постоянно прислушивается к собственным болезням и попрекает дочь тем, что та ведет неправильный образ жизни. Когда Ире было пятнадцать лет, она убегала ночевать на вокзалы, да и сейчас, приехав с больным пятилетним Павликом домой, оставляет ребенка с матерью и незаметно уходит к Николаю Ивановичу. Николай Иванович тронут рассказом Иры о её юности: у него тоже есть пятнадцатилетняя дочь, которую он обожает. Поверив в любовь Николая Ивановича, о которой он так красиво говорит, Ира едет за ним в Коктебель, где её возлюбленный отдыхает с семьей. В Коктебеле отношение Николая Ивановича к Ире меняется: она раздражает его своей преданностью, время от времени он требует ключи от её комнаты, чтобы уединиться с женой. Вскоре дочь Николая Ивановича узнает об Ире. Не в силах выдержать дочкину истерику, Николай Иванович прогоняет надоевшую любовницу. Он предлагает ей деньги, но Ира отказывается. По телефону Ира говорит матери, что живет на даче, но не может приехать за Павликом, потому что размыло дорогу. Во время одного из звонков мать сообщает, что срочно ложится в больницу и оставляет Павлика дома одного. Перезвонив через несколько минут, Ира понимает, что мать не обманула ее: ребенок один дома, у него нет еды. В симферопольском аэропорту Ира продает свой плащ и на коленях умоляет дежурного по аэропорту помочь ей улететь в Москву. Светлана и Татьяна в отсутствие Иры занимают её дачную комнату. Они настроены решительно, потому что во время дождя их половину совершенно залило и жить там стало невозможно. Сестры снова ссорятся из-за воспитания сыновей. Светлана не хочет, чтобы её Максим вырос хлюпиком и умер так же рано, как его отец. Неожиданно появляется Ира с Павликом. Она рассказывает, что мать положили в больницу с ущемлением грыжи, что Павлик оставался один дома, а ей чудом удалось вылететь из Симферополя. Светлана и Татьяна объявляют Ире, что теперь будут жить в её комнате. К их удивлению, Ира не возражает. Она надеется на помощь сестер: ей больше не на кого рассчитывать. Татьяна заявляет, что теперь они по очереди будут закупать продукты и готовить, а Максиму придется прекратить драться. «Нас теперь двое!» — говорит она Светлане… Разумеется, пьеса определена автором как «комедия». Разумеется, чеховские три сестры, перенесенные драматургом на современную почву, довольно длительное сценическое время выясняют родственные отношения, права на скудное наследство, страдают от безденежья и бесприютности, не слыша друг друга, маются от одиночества… Разумеется, если у Чехова «четырежды ничего не происходит», то у Петрушевской ничего не происходит дважды (пьеса состоит из двух частей), несмотря на все усилия действующих лиц каким-то образом изменить сложившуюся ситуацию. Пользуясь словами из рассказа Л. Петрушевской «Маня», «все кончилось совершенно так, как все и предвидели, но все кончилось настолько именно так, настолько точно и безо всяких отклонений, без особенностей, что у всех осталось чувство какой-то незавершенности, какое-то ожидание чего-то большего. Однако ничего большего не произошло». (По словам Л.С. Петрушевской , однако, расхожее объяснение литературоведами этой пьесы как интерпретации чеховских «Трех сестер» не вполне верно, и это «столь же три сестры, сколь и три мушкетера, три танкиста или три поросенка, просто число 3 удобно. Это натяжки и издержки литературоведения. На самом деле “Три девушки в голубом” как название взято из голливудской кинокомедии “Three girls in blue” в виде контраста, как в свое время “Чинзано”» [из личной переписки].) Тем не менее, «Три девушки в голубом» вовсе не первая пьеса, использующая средства и приемы, которые можно обозначить как постмодернистские. В более ранней пьесе «Любовь» (1974), например, читатель наверняка отметит ремарку: «Фраза производит действие, которое вполне можно назвать как бы звуком лопнувшей струны» (кстати, как эту шутку интерпретировать режиссеру?!). Символическое раскачивание на качелях над сценой, представляющей квартиру Козловых, главных героинь Нины и Нади в финале «Уроков музыки» (1973) – чем не постмодернистский ход? Не говоря уже о ремарках, которые можно встретить, например, в пьесе «Вставай, Анчутка!» (1977): «А н ч у т к а. Всё, я рассыпаюсь прахом! (Рассыпается прахом.)» (пожалеем режиссера еще раз)… О становлении своей концептуальной драматургии Л.С. Петрушевская вскользь говорит сама опять же в «Девятом томе»: «Мне этот перевод с французского принес режиссер МХАТа Игорь Васильев, увлекавшийся Ионеско и Беккетом и воспитывавший меня на лучших образцах абсурдизма <…>, и там были такие фразы: “над сценой проплывают розовые и голубые глупости”» (Л.С. Петрушевская : «В оригинале было: “над сценой проплывают розовые и голубые члены”. Речь шла об Арто»). «Странная драматургия» стала для Петрушевской исходным пунктом; более того, к поздним пьесам 1990-х годов (триптиху «Темная комната», например), которые разные литературоведы трактуют как окончательное воцарение постмодернистской эстетики в ее драматургии, подобные элементы даже ослабляются. Вероятно, в который раз в позициях разных теоретиков наблюдается несогласованность в том, какими понятиями оперировать, говоря о постмодернизме как литературном феномене. Энциклопедически, словарно (хотя, может быть, и не менее условно) эти инструменты суть: «мир как хаос и постмодернистская чувствительность, мир как текст и сознание как текст, интертекстуальность, кризис авторитетов и эпистемиологическая неуверенность, авторская маска, двойной код и пародийный модус повествования, пастиш, противоречивость, дискретность, фрагментарность повествования (принцип нонселекции), провал коммуникации (или, в более общем плане, – коммуникативная затрудненность), метарассказ» (см. Литературную энциклопедию терминов и понятий). Если понимать постмодерность театра Петрушевской таким образом, то опять же ни о какой эволюции от ранних к поздним пьесам (по степени концентрации или освоенности соответствующих приемов) найти нельзя. Напротив, Л.С. Петрушевская негативно относится к явлению «приема» как принципа: «…всегда понимаю и не люблю, когда открыто пользуются приемом – где угодно, в живописи, в театре, в литературе». Вряд ли Людмилу Петрушевскую интересует «мир как текст» – ей, по ее собственным словам, значительно более интересен «произносимый миром текст», и в этом смысле постмодернистская игра с читателем (зрителем) для нее вторична: как объект, так и адресат Петрушевской не имеют игрового начала. Многое из того, что по разным причинам приписывается постмодернизму как методу, в драматургии Людмилы Петрушевской найти можно. Однако ей удается так дозировать, растворять в своих текстах всевозможные тактические ходы, приемы, средства, что они кажутся не имеющими никакого отношения ни к авангарду, ни к постмодернизму, и, не переставая заявлять о себе как об одном из основателей «нового театра»,Петрушевская продолжает казаться временами настолько реалистически архаичной, что неореалист М. Горький со своей знаменитой фразой: «Эх… испортил песню… дур-рак!» («На дне» – 1902 год!) – кажется в сравнении с ней куда более прогрессивным постмодернистом, в арсенале которого оказываются и ирония (сарказм), и мир как хаос, и кризис авторитетов. А качели Л. Петрушевской , маячащие над сценой, померкнут в сравнении с роялем, висевшим когда-то над головами декламировавших странные стихи поэтов-футуристов… Кстати, о кризисе авторитетов. «Предшественников» у Л. Петрушевской много, она сама их называет довольно часто – так или иначе: Гоголь, Пушкин, Достоевский, Чехов, Булгаков, Пастернак, Платонов, Зощенко, Хармс… Практически вся русская (и зарубежная: Шекспир, Пруст, Джойс, Беккет, Манн…) классика – и ни разу никого Петрушевская не пожелала сбросить с корабля современности. Совершенно не попостмодернистски она говорит о величии гениев и «счастье чтения». Театр, к которому принадлежит, с удовольствием называет «поствампиловским». Ни кризиса, ни иронии. «Главное для нас – это работать для литературы» – той самой литературы, которую формировали предшественники. Чем же Л. Петрушевскую привлек театр, и в чем секрет ее неповторимой художественной интонации? Каковы ее средства? Очевидный ответ на подобные вопросы один – язык: «…ни на какой магнитофон это не запишешь никогда, этот язык. Я его собираю, это жемчужина живой настоящей речи, ее непреднамеренный комизм – всю жизнь коплю эти фантастические сцепления слов типа “не играет никакого веса”». Театр дает возможность воспринимать события именно через язык – полилоги героев. «Высокое косноязычие» (или не высокое) Петрушевской , конечно, также оправдано традицией (Л. Петрушевская : «Нет не косноязычных писателей. Косноязычие есть стиль»). От Гоголя, Достоевского, Лескова до Зощенко, Платонова, Вен. Ерофеева разговорный язык не переставал быть объектом самого пристального писательского изучения, и то, что слова в разговоре смешиваются, «образуя нелепицы, которые, однако, всем понятны», и эта речь имеет самостоятельную эстетическую ценность, доказывать не нужно. Таких примеров в театре Петрушевской более чем достаточно. Это и элементы деревенского и городского фольклора (пословицы, поговорки, крылатые фразы, разнообразная идиоматика), и те самые экспонаты лингвистического музея, которые писатель собирает всю жизнь. К слову, если уж говорить о некой творческой эволюции Людмилы Петрушевской , то подразумевать под ней надо прежде всего развитие чувства меры в демонстрации упомянутых экспонатов. Логично, когда писатель говорит: «Пишу тем языком, который слышу, и нахожу его – язык толпы – энергичным. Поэтическим, свежим, остроумным и верным». Однако каким бы он ни был настоящим и остроумным, в литературе эксплуатировать его нужно крайне деликатно. Когда в одной из первых пьес («Лестничная клетка»), в контекст стилистически ровного, нейтрального (насколько это возможно у Петрушевской ) разговора персонажей вдруг врывается реплика: «Ю р а. Тогда надо признаться, что вам это тоже нужно не хуже меня. Мы ведь не притворяемся тут в жмурки?», – в это как-то не верится. В позднейших пьесах подобные нюансы и переходы прописаны значительно тоньше. Объектом лингвистического анализа у Петрушевской стало и арго, условные социальные диалекты стремящихся к некому психологическому обособлению групп: подростков, наркоманов, какой бы то ни было «элиты» (см., например, «Анданте»). (Конечно, нельзя не назвать здесь и «Лингвистические сказочки», давно используемые практикующими преподавателями-лингвистами в качестве наглядного пособия по грамматике и словообразованию русского языка. Опыт настолько удачный (даже эмоционально), что, например, слово «некузявый, -ая, -ое, -о» очень скоро вошло в молодежный жаргон.) Есть в театре Петрушевской и еще один связанный с языком сюжет – наверное, в самом деле постмодернистский, где есть место и иронии, и пародии. Речь идет о пьесе «Вставай, Анчутка!», где конструируется (с частичным заимствованием у А. Блока) псевдосакральная модель заговоров, которые можно услышать из уст иных деревенских «бабушекцелительниц», бормочущих над больным этот условный национально маркированный текст, представляющий собою смесь христианских молитв, причетов и языческих обрядовых песен. Позднее, в «Песнях восточных славян» опыт якобы фиксации фольклора будет продолжен уже на содержательном уровне, а в данном случае Людмила Петрушевская выступает именно как сочинитель речи старицы-целительницы: «А н ч у т к а. Фуфырь-чуфырь бобырь мозырь. <…> Громы, громницы, девы, девицы, вихри могучие, ветры враждебные, все скрыто, заглажено, чуфырь, бобырь». В этом тексте явно видна авторская ирония, направленная сразу на две цели: на целительное кликушество, в котором слышится этакая барочноузорчатая, сказочная ритмика, и от которого веет былинной мудрой стариной, – и в то же время на субъект кликушества, бабку Анчутку, в сознание которой естественно влетели наравне со словами «волшебными» слова явно другого лексикона – ненавистного Петрушевской соцреализма. В этой связи можно вспомнить подобные опыты (первый из которых – более ранний) Венедикта Ерофеева с его названиями коктейлей в «Москве – Петушках» (1970) и названиями цветов в «Вальпургиевой ночи» (1985): «Мымра краснознаменная», «Пленум придурковатый», «Дважды орденоносная игуменья незамысловатая», «Гром победы, раздавайся» и т. д. По своей лубочно-диалектной стилистике этот текст Петрушевской предвосхищает подобный опыт Татьяны Толстой: роман «Кысь» целиком написан таким же замкнутым, сконструированным, специфичным языком. Кстати, примерно в то же время, когда Т. Толстая создавала свой роман, Л. Петрушевская писала «Карамзина (Деревенский дневник)», в котором есть, между прочим, такие слова: «я по телевизору смотрел // люди голые живут/ дома из прутьев// на пеньках// они туда шныряют// едят червей». В данном случае интересно даже не то, что у двух писателей был один источник (в самом общем смысле; еще раньше мотив поедания червей одичавшими интеллигентами встречается, скажем, в антиутопии А. Адамовича), а то, что, в основном творчестве методологически не схожие, они на каком-то этапе решали определенную творческую задачу по одному и тому же алгоритму. Людмила Петрушевская в пьесе “Мужская зона” обращается к самым радикалистским формам постмодернистского искусства. Как и Сорокин, она избирает своим методом шизоанализ, но в отличие от Сорокина одновременно осуществляет и деконструкцию классических текстов (Шекспира, Пушкина), и деконструкцию имиджей реальных исторических лиц (Ленина, Гитлера, Бетховена, Эйнштейна), создает комедийноабсурдистский бриколаж. В заглавие пьесы входит название книги Сергея Довлатова “Зона”, в которой лагерная зона предстает как метафора всего советского общества. И там и там — изоляция от мира, и там и там — отсутствие свободы, и там и там — “режим” и “трудящиеся”, и там и там — насилие над личностью, и там и там — один и тот же язык. Сюжетная коллизия, воссоздаваемая в пьесе Петрушевской, — репетиция спектакля в зоне — также цитатна по отношению к рассказу “Представление”, входящему в книгу “Зона”. “Мужская зона” вбирает в себя закодированное в названии довлатовской книги. Но Петрушевская развертывает именно метафору “зоны”, наделяя ее расширительно-обобщающим культурологическим значением.. Масса языковых формул, ходовых выражений, известных по “лагерной” литературе и фольклору, с легкостью позволяет “опознать” в “зоне” СССР. Однако здесь же пребывают Гитлер, Эйнштейн, в речи которых мелькают обороты, позволяющие “опознать” в “зоне” нацистскую Германию. Это дает основания видеть в “мужской зоне” гибрид двух разновидностей тоталитаризма. Но в тексте пьесы содержится также упоминание о “женской зоне” и — в связи с ней — о Голде Меир. Следовательно, помимо мужской, или тоталитарной, зоны, в мире предполагается наличие и иных. Государства, отгороженные друг от друга тщательно охраняемыми границами, закрытые общества тоже можно рассматривать как “зоны” ( с более мягким или с более жестким “режимом”). Говорят ведь о “зонах влияния”, “пограничных зонах”, “свободных зонах” и т. п. Перекодированный культурный знак “зона” включает в себя все эти значения, но отнюдь не сводится к ним. Очень и очень напоминает “мужская зона” Петрушевской одно из отделений ада, где царят поистине “лагерные” нравы и порядки, однако есть и своя “культурная часть”. На это намекают и касающееся Гитлера сообщение: “Он у нас вообще-то кипит в котле…”, и пародийная пушкинская цитация в речи Надсмотрщика: “Как будем вечность проводить? Бездарно будем проводить?” (с. 80). Но, хотя лагерь — действительно прижизненный ад, присутствие в пьесе Бетховена и Эйнштейна, которые ада явно не заслуживают, побуждает отказаться от отождествления “мужской зоны” и ада. В “кабаре” “мужской зоны” для участия в спектакле “Ромео и Джульетта” Шекспира отобраны только знаменитости: Ленин, Гитлер, Бетховен, Эйнштейн. Петрушевская соединяет несоединимое, сводит вместе тех, кто — в представлении большинства — ни по каким параметрам в один ряд не выстраиваются. Свести их возможно только в реальности текста и как “тексты”. Персонажами пьесы и являются не реальные люди, а имиджи Ленина, Гитлера, Бетховена, Эйнштейна, созданные массовой культурой и существующие в качестве устойчивых стереотипов массового сознания. На “текстовую” природу персонажей-симулякров указывает их гибридноцитатный язык. Он состоит из кодов исторической, историкобиографической, мемуарной литературы, шекспировских и пушкинских цитации, просторечия и блатного жаргона, подвергаемых пародированию. Именно цитатно-пародийный язык является главным средством деконструкции используемых Петрушевской имиджей исторических лиц. Образы двоятся, троятся, мерцают; в них нет “окончательности”. Деконструкция осуществляется в направлении снижения имиджей, их абсурдизации и буффонадизации. Каждый из деконструируемых имиджей соединяет в себе черты реального исторического лица — как они отразились в массовой литературе — и зека-блатного, причем показанного в момент исполнения совсем не подходящей для него роли: Гитлер — Кормилицы из трагедии Шекспира “Ромео и Джульетта”, Ленин —Луны, образ которой появляется в речи Ромео, Бетховен — Джульетты, Эйнштейн — Ромео. Так что на самом деле сводит воедино Петрушевская зеков Ленина/Луну, Гитлера/Кормилицу, Бетховена/Джульетту, Эйнштейна/Ромео, действующих по “режиссерскому” указанию Надсмотрщика. Прием бриколажа способствует созданию шизо-абсурдистской, балаганно-буффонадной текстовой реальности. Культурный знак “мужская зона” оказывается в этом контексте олицетворением авторитарной, омассовленной, клишированной культуры, пользующейся примитивнооднозначным языком лжеистины. Противопоставляя этому языку гибридноцитатное многоязычие, где все языки равноправны, Петрушевская показывает, что ни один из языков в отдельности не несет в себе истины, к ней приближает пародийная деконструкция окаменевшего, замкнутого в самом себе. По-видимому, именно процесс деконструкции получает наименование “кабаре” как обозначение свободной творческой театрализованной игры с культурными кодами и знаками. Истинность/неистинность используемых кодов и знаков обнажает эстетический критерий. Постмодернистские пьесы Петрушевской и других авторов способствуют обновлению русской драматургии, делают ее богаче и разнообразнее. Миновала перестройка, прошло лихолетье 1990-х, уже постмодернизм переживает кризис, а Л.С. Петрушевская как была писателем уникальным, так и остается Лидирует на современном этапе постмодернистская проза. Проза Петрушевской продолжает ее драматургию в тематическом плане и в использовании художественных приемов. Ее произведения представляют собой своеобразную энциклопедию женской жизни от юности до старости: "Приключения Веры", "История Клариссы", "Дочь Ксени", "Страна", "Кто ответит?", "Мистика", "Гигиена" , "Музыка ада","Надька","Гимн семье","Белые дома","Жизнь это театр","Мост Ватерлоо", «Смотровая площадка» и многие другие. В 1990 был написан цикл "Песни восточных славян", в 1992 - повесть "Время ночь". Книга "Дом девушек","По дороге бога Эроса" Пишет сказки как для взрослых, так и для детей: "Жил-был будильник", "Ну, мама, ну!" - "Сказки, рассказанные детям" (1993); "Маленькая волшебница", "Кукольный роман" (1996), книга сказок "Настоящие сказки" Она живописец бытового ада. Так уж устроена.Какой-то осколок кривого зеркала залетел ей в глаз в пору молодости, да так и остался .О чём бы ни писала Людмила Петрушевская, она живописует человеческий ад,_трудно привязать это к критике советской действительности. Во-первых, вся нынешняя ее постперестроечная проза демонстрирует читателю уже новых монстров, да таких, что в советской жизни ею и не замечались. Вовторых, так уж устроен ее талант, что окажись она американкой, пишущей о жизни тамошних богатеев, такие бы несчастные судьбы выявились, такие бы злобные хари проявились, что сразу бы оказалась в лидерах «грязного реализма». Впрочем, приглядитесь ко многим героям советской прозы Петрушевской. Как правило, это кандидаты или доктора наук, жены замминистров, музыканты, инженеры. Отнюдь не изгои. Так называемый средний класс. Но они несчастны, потому что в прозе Людмилы Петрушевской нет, и не может быть счастливых людей. На нее легко писать пародии. Скажем: «Красная шапочка» в изображении Петрушевской. Или «Иван-царевич и серый волк»… Скажем так, это мироощущение сломанной, сдавшейся, несчастной женщины. И даже, если вдруг эту несчастную судьба вынесет к сияющим вершинам, сделает лауреаткой многих премий, престижным автором престижных издательств, она и на этих вершинах не перестанет быть той же самой тоскливой неудачницей, которой от роду «недодано». Ее беда в том, что она катастрофически не любит человека, включая, очевидно, самое себя. Она не показывает дно жизни, какие-нибудь притоны или ночлежки. Она в каждом человеке ищет его грязное дно, в каждой квартире ищет притон. Как философия: человек изначально несчастлив, и ничего нельзя с этим поделать. Человек с нормальным мироощущением не может долго читать прозу Петрушевской. Во-вторых, не поверит ни ей, ни ее героиням. Во- вторых, ему надоест однообразие сюжетов, ибо бытовой ад, особенно бытовой женский ад однообразен. Аборты, брошенные мужья, брошенные дети, брошенные родители, брошенные любовницы. Заброшенность гуляет по её прозе. Приглядевшись внимательнее, замечаешь, что случай с Петрушевской типичен. Таково ныне мироощущение многих и многих женщин. Комплекс недоданности и зависти к окружающим, а отсюда и злость, стервозность, истеричность. Конечно же, это разновидность чисто женской прозы. Но не сюсюкающей, розовой, сентиментальной, как новые прокладки с крылышками, а стервозноистеричной, ненавидящей существование мужчины, но ненавидящей и свою зависимость от него. Не случайно тема латентного неосуществленного лесбиянства перелетает из рассказа в рассказ в Петрушевской. Ибо, ведь, и бабы-то оказываются не лучше. Иной читатель скажет: хорошего бы мужичка ей в жизни. Но такая героиня и от хорошего мужика быстро уйдет. Это проза чрезвычайно одинокой женщины. Такая проза сегодня популярна на Западе, не случайно за рубежом Петрушевскую знают и любят больше, чем в России. Нам еще она, к счастию, не понятна. Мы еще не дошли до такого распада души, до такого бытового ада. Даже, живя в коммуналках и хрущебах, еще находим радость от жизни. Петрушевская лишь тоскует о такой радости, искренне мечтает о ней, сочиняет ее в своих сказках. Своей раздавленностью, своим богоотступничеством, своим житейским пессимизмом Людмила Петрушевская явно выделяется среди своих сверстников, детей 1937 года. Что ни говори, но ни Владимира Высоцкого, ни Игоря Шкляревского, ни Беллу Ахмадулину, ни Александра Проханова, ни даже наиболее близкого ей Владимира Маканина к надломленным людям не отнесешь. Да и все поколение детей 1937 года никак сломанным поколением не назо14А14нн. Она судьбой своей опередила сверстников, споткнулась о жизнь, как спотыкаются сотни тысяч одиноких брошенных женщин, и изначально определила свое неприятие счастья как такового. Уже в следующем поколении писателей, Виктора Ерофеева и Евгения Попова, такой отказ от человека стал даже модным, потом наступила эра виртуальной реальности, когда человек в прозе постмодернистов как бы и не значился, когда пошла тотальная игра вместо реальности, как таковой. Самой Людмиле Петрушевской отказывать в серьезности ее попыток реального изображения человека никак нельзя. Просто ее реальность — это погубленная реальность. Ее герой, а чаще всего это героиня — погубленная героиня. Ее мир — это достоверный мир тысяч женщин, считающих себя несчастными. Она как бы заранее оплакивает своих героинь, только успевших родиться. Не случайно целый раздел книги «Дом девушек» она назвала «Реквиемы». Заупокойная месса в католицизме как нельзя лучше подошла к циклу рассказов, посвященных неизбежной смерти героинь. При этом она лишена даже налета религиозности. Людмила Петрушевская — тотально атеистична, о чем бы она ни писала. Не случайно даже ценящие ее критики сравнивают ее прозу с прозой самых воинственных атеистов XIX столетия. И это не игра в сатанизм, как у Владимира Сорокина, не ерофеевские цветы зла, а искреннее трагическое сугубо 14Атериалистическое мироощущение. Там, где романтик ищет идеалы, там, где религиозный писатель ищет веру, Петрушевская, как тургеневский Базаров, режет лягушку, ищет бытовую причину случившегося. «Как объяснить, если все это прошло через Васю и через грешную Светочкину постель, но что же не через постель получается в семье, что же не через постель — спросите вы и будете правы». И на самом деле, что такое жизнь? «Все желудок, желудок, желудок, худел, все ссорился на работе. Вроде бы ему не дают заниматься прямым делом. Зарезали докторскую. — И что же в этом ненормального? — спокойно сказала Пульхерия. — Это обычно» («По дороге бога Эроса»). Зло обычно в мире Петрушевской. Ее голос всегда звучит за кадром Она сама вживается в роли своих героинь. То она старуха Грозная, выживающая своих детей из квартиры, то Али-Баба, хронический псих, мечтающий о нормальном человеческом счастье между очередными суицидными приступами. Но более всего автор проглядывает в детской писательнице Ане из повести «Время ночь». Это на самом деле время Петрушевской — сумеречное сознание, суициды, пьяные драки, боли, переживания. Весь комплекс Петрушевской целиком. Аня и живет ради своих детей, и одновременно их выживает. Что только не делала детская поэтесса, чтобы выкинуть ненавистного зятя из квартиры. Даже его любовь к собственному родившемуся сыночку, по всем понятиям лишь укрепляющая брак, выглядит для несчастной женщины чем-то мерзким. «Подлец привязался к Тимочке. Он его полюбил плотской любовью, он его купал, он им гордился… Он его любил!» И что же в результате? Баба Аня говорит своей дочери: «Имей в виду, твой муж с задатками педераста. Он любит мальчика… Он любит не тебя, а его. Это противоестественно». Вот это и есть естественный мир Людмилы Петрушевской. Любит сына — педераст. Любит жену — хочет квартиру. Любит мать — хочет быстрее отправить ее на тот свет. Друг — предаст. Жена — изменит. Дети — пьяницы и наркоманы. Отец поцеловал ребенка в трамвае. Аня подняла крик на весь вагон: «Развратные действия с несовершеннолетними! Изнасилование детей!.. Слава Богу, он отвлекся на меня, он горит теперь другим желанием, задвинуть мне кулаком по харе. И может быть, теперь каждый раз, когда он захочет подвергнуть ласкам свою дочь, он вспомнит меня и переключится на ненависть. И опять я спасла ребенка! Я все время всех спасаю!» Это крик самой Петрушевской. Это она искренне своей прозой хочет предупредить людей, что вокруг зло, что любви нет, что дети обманут и выгонят из квартиры, что мужья все изменники. Это разве не музыка ада? Не случайно яростная феминистка Арбатова восторгается Петрушевской: «Это про меня». Значит, не игра, не эстетство, а тип психологического сознания, тип правды отторженных. Тип истеричных спасателей заблудшего человечества. И опять сама Петрушевская: «Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой.., всегда ко всем с насмешкой». Героинь Петрушевской всегда не любят в их же обществе, в их семьях, в их окружении. Если каждая главная героиня частично альтер-эго самого автора, то Петрушевская фиксирует и отношение к себе самой своего же окружения. А иначе откуда же взяться правде ощущений? Если мы согласились, то в прозе Людмилы Петрушевской перед нами живой мир живой реальности, а не некий ассоциативный текст, не растлевающая ирония постмодернистов, то нам интересны истоки подобной живой реальности. Как любит говорить Сергей Аверинцев в своих лекциях: дьявол нам предлагает две руки, в одной якобы зло, в другой — добро. На выбор. Это и называется: бес попутал. Любая правда с любой руки дьявола — бесовская правда. А как устоять, если Бога не чуешь? Сколько истинной желчи звучит в голосах ее любимых героинь? Если дочка студентка, то обязательно вместо лекций бежит на тайный аборт, если сын талантливый ученый, то обязательно сопьется, если подружка привязывается, то от тайного лесбиянства. Как-то раньше не обращали внимания на этот комплекс латентного, невыявленного лесбиянства в прозе Петрушевской, но когда прочитали — перечитали вновь подряд все ее лучшие рассказы и повести, ощутили постоянство этой темы. От ненависти к мужикам к феминизму, от феминизма к иным грехам. Нина из рассказа «Музыка ада», сбежавшая от несчастной любви со студенческим отрядом на стройку, попадает там не к мальчикам, которые все как один представляли «брак природы, умнейшие из умных, но без сил, без воли к воспроизведению себе подобных. Из них не перла бугром страсть, не взбухала спер16А — как сомнамбулы…» А тут гуля, пьяная Гуля, а полнее Глюмдальклич, видавшая виды, со своим девичьим гаремом. Но влюбившаяся в Нину и даже желающая от нее «совсем уже кошмарное, типа «сделай мне ребенка». И Нина бежит от нее, и в то же время думает про нее, и все перемешано: «Скажи ты мне.. Что любишь меня…» Надька, героиня рассказа «Надька», наоборот, сама обожает женщин. «Она, правда, не бреется, этого нет, до этого дело не докатилось, как у некоторых женщин-коблов (так именуют в лагерях и по тюрьмам лесбиянокмужчин) — да и неизвестно, есть ли у нее любовницы, подруги.. И ей, скорее всего, никто не нужен — кроме ее любимых парикмахерш». То есть, каждый раз, вроде бы намек есть, тип есть, этакая тяга друг к другу, а вернее, подружки к подруге- есть, но все замирает. Все – под спудом, как возможный, всегда возможный вариант выхода из женского одиночества. А так — подруги как подруги — «Лайла и Мара», или две сестры спят с одним мужем «Гимн семье», или две девочки, снова сестры Ира и Зоря, обе родившие в пятнадцать-шестнадцать лет, обе оставившие детей, одна прямо в роддоме, вторая в доме ребенка — и то хорошо… Это еще одна навязчивая тема в рассказах Петрушевскойоставленные дети. Оставленные кем угодно – девочками, женщинами, бабушками, крысами. Вереница, или какая-то эстафета – мать оставляет рожденную дочку, та через поло16А16нные пятнадцать-семнадцать лет сама оставляет уже свою… Что делать. «Вера жила как все студентки, аборты, танцы, любови каждую зиму, к весне пустота и ожидание…» Это уже не виртуальная, надуманная пустота Пелевина, а пустота обесцененной человеческой жизни. Да и откуда взяться иной, если все, как правило, «в очень плохих отношениях» друг с другом, если мир составляют проститутки и развратники, злобные старухи и спившиеся отцы, и даже дети переполнены злом. В рассказе «Белые дома»… «Дениска в пять лет стал совершенно неуправляемый, бесился, бил трехлетку Катю, кидался в цепных собак кирпичами, причем стоя на месте и целеустремленно». А в шесть лет уже «бьет и бьет детей, никого буквально не жалея. Вера в ответ заплакала над своей судьбой, держа Дениску за ручку. И они тихо пошли домой, мама и сынок, а что оставалось им делать». Если идти от старой мысли, что душа любого человека- это арена борьбы добра и зла, то и литература этого человека, если он оказывается писателем, тоже продолжение арены. И если не находится добра в душе писателя, то и литература его оказывается литературой зла. В случае с Людмилой Петрушевской звучит априорно утверждение — литература как зло Мы не знаем, когда Петрушевская ожглась, и на каком горячем молоке, но теперь уже из года в год, из рассказа в рассказ она дует на воду. Как брошенная собака из подворотни ожидает пинка от любого прохожего. Как изнасилованные дети с великим трудом восстанавливают веру в жизнь.Согласны с Петрушевской в одном: человек, прошедший через зло, редко становится добрым. Из бомжа редко вырастет настоящий друг, он всегда готов предать. Нынешние два миллиона бездомных, оборванных детей скорее укоренятся в своем зле, чем найдут дорогу к добру. И потому так важно добро, принесенное людям, а особенно детям. Людмиле Петрушевской недодали… Не знаем, кто, не знаем, почему, в каком возрасте, и уже звучит в ее ушах лишь музыка ада, другой музыки не слышит. Мы уже обратили внимание на однообразие ее сюжетов. Схема всегда одна и та же. Мать стареющая и давно брошенная. У нее дочь и сын, или две дочери, или одна дочь. Муж неизвестно где, или приходит поколачивает и вышибает деньги, или претендует на квартиру. Мать все деньги тратит на детей, но они ее ненавидят. Сын обязательно алкоголик, или сидел, или будет сидеть, дочь с пятнадцати лет по вокзалам, вся в болезнях, абортах и случайных любовниках, муж у нее появляется, производит детей, уже внуков героини, и сразу же исчезает. К концу рассказа или повести эта брошенная озлобленная женщина бредет с ребенком – внуком ли, дочкой ли, сыном и не знает, как жить. При всем зле, которое окружает героев ее прозы, к концу повествования Петрушевская любит этакие морализованные финалы. Как в баснях Крылова. Вот финал рассказа «Йоко Оно»: «А где-то сидит и пьет в унаследованной квартире молодая тридцатилетняя Зоря, и где-то бродит в вечной тьме ее слепая детдомовская дочь, а еще дальше, в неведомых далях, вернее в мыслях Оли, витает образ хазарки Кати, которая задает Оле сложный вопрос о судьбах народов и пятнадцатилетних дочерей этих народов, то есть чего ждать для Йоко Оно и существует ли общенациональная судьба, общенациональный путь и некая гибель нации через поведение ее, нации, подростков — или же нет, и можно еще на что-то надеяться». Вот финал другого рассказа «Жизнь это театр», где героиня, устав от жизни с надоедливой свекровью, кончает с собой. Еще одна главнейшая тема Петрушевской – самоубийства, и не такие уж неизбежные. Ладно бы нечто трагедийное произошло, смерть ребенка, болезнь, хотя бы семейная драма. Нет же. Муж любит и ценит, растет ребенок, не сложилась судьба в театре. Так не всем же звездами быть. Работает помрежем, выходит в массовке — как все. Кому она хотела возразить? «А ведь был выход, был: отнестись ко всему как к мимо проходящему, как к театру (Как Шекспир), но что-то, видимо, не дало Саше так легко отнестись к своей жизни, что-то помешало не страдать, не плакать. Что-то толкнуло ответить раз навсегда, покончить с этим». Еще один вариант самоубийства. Уже из молодежной среды. Некая Бацилла, имени никто и не помнил, старая системщица кололась, курила, что могла, где-то как-то родила, где-то оставила девочку, живет в Системе, играет на флейте в подземных переходах, пишет стихи. Но даже системщики, которые принимают всех и прощают всех, изгнали Бациллу. Даже в Системе она стала отверженной, которой нет никуда хода. Сама она стала московской легендой, но даже среди «циничных людей Системы, не желающих долго жить, среди апологетов быстрой смерти.., больных, грязных, вшивых… — даже среди этих смертников Бацилла была страшна». Система стала выдавливать Бациллу вон. Камикадзе, один из системщиков « сказал Гнусу свое всегдашнее правило: кто упал — подтолкни, слабым места нет на земле, неживучим». Подтолкнули и Бациллу. Вот финал: «Через четыре дня она из какого-то окна в чьем-то подъезде шагнула прочь и умерла от огорчения, ударившись об асфальт, как сказал Камикадзе, умерла именно от огорчения». Такие вот несчастные герои у Петрушевской. По отношению к персонажам ее прозы на самом деле справедливо правило системщика Камикадзе. Оказывается, ее герои не только заброшены, одиноки, несчастны, но еще и нечеловечны. Слабых эти несчастные героини забивают в один присест. Разве ее Грозная — по сути сюжета не убийца? Разве детская писательница Аня не оставляет свою помешанную мать на верную смерть? Кто имел дело с немощными стариками, тот знает, как это тяжко, и как тянет спихнуть их куда-то в интернат на верную смерть. Мотивы могут быть разными, не нам судить, но слабые в мире Петрушевской быстрее уходят при поддержке ее обездоленных героинь. И это верно: несчастные не способны ни на героизм, ни на помощь кому-то Они равнодушны ко злу. Если им приходится оставлять, убивать, бросать, они быстро погружаются забвением. Несчастные лишены радости, они всегда злы. Это не условия жизни. Это — типаж. «Водка, видно, ей дает то забвение, какое полагается всем». Мир, где жены рубят своих детей топором, где проверяя стойкость, выносят младенцев голыми на мороз, где никто не замечает смерть ненужного человека – такой мир, если он не придуман, а взят из нашей реальности, значит, это тоскливая реальность автора. Это внутренний мир Людмилы Петрушевской, в котором она живет, нанизывая из газет и хроник, из телевидения и соседских разговоров лишь свой ракурс, лишь свою правду. Искренне жаль этого человека, живущего так зло, несчастно и жестоко. Это же ее, Петрушевскую, так обижают. Ей , наверное, также плохо, как ее героине из рассказа «Никогда», которую в обычном подмосковном селе, мужики и бабы почти довели до смерти. Все были злые, старуха, у кото- рой остановилась героиня Леночка, парни, которые хотели ее избить, а то и изнасиловать, милиция, которая заподозрила в ней преступницу… А может, это героине все кажутся злыми? Может, это фантомы и неврозы еще одной несчастной, которой противен весь мир.Может, такова ее жизнь? И вот несмотря на все ее премии и европейскую известность, ее жалеешь больше, чем какого-нибудь нищего в метро. Сколько ожесточенности в ее душе, так и хочется сказать, сходите в церковь, Людмила, исповедуйтесь, легче станет. Не случайно Марина Кудимова, почти сверстница и коллега Петрушевской по писательскому цеху пишет о некромире в ее произведениях. О мертвости ее персонажей. Страшно жить в таком оцепеневшем мире. Ненужном, бросовом, лишнем. В мире, где в добре даже не нуждаются, ибо не верят в него изначально. Проза Людмилы Петрушевской- это отрицание Бога и мира , им дарованного. А все хорошее где-то за окном, где- то в нарисованных картинах, где-то в кино, как в рассказе «Мост Ватерлоо», где все такая же ее типичная героиня баба Оля, у которой, естественно, если зять, то «ничтожный фотограф», а муж, естественно, бросил все и не появлялся, да внучки с дочерью не особо жаловали (сюжет Петрушевской на все сто), находит отдушину в иностранном кино, где «полное нежности и заботы лицо Роберта Тейлора». Этот «Мост Ватерлоо» подарил ей иную неземную жизнь, и даже она как бы сама встретила Роберта Тейлора после сеанса где-то у черта на куличках. «И действительно, если подумать, кто еще мог таскаться искать свою любимую, когда о ней забыли в целом мире.., какой бедный и больной призрак в маловатом пальто, брошенный всеми, бродил, чтобы явиться на мосту Ватерлоо самой последней душе, забытой всеми, брошенной, используемой как тряпка или половик, да еще и на буквальном последнем шагу жизни, на отлете…» Как это по-женски, «используемая как тряпка», а всего- то от бабы Оли требовалось — помочь дочери с двумя внуками. Этим, видно, и привлекает проза Петрушевской многих женщин, что иногда почти любой из них хочется побыть несчастненькими, «используемыми как тряпки». Да и детализация в рассказах всегда чисто женская. Какой мужчина будет так подробно описывать страдания от гвоздя в сапоге: «Артемида рассматривала свои потери в виде залитого кровью чулка… Кровь была потому, что хромать Артемида себе не разрешала и только ходила какая-то скучная, а железное острие тем временем сидело в живом мясе, пока Лидка не сбегала за куском картона — но такие ли еще муки бывают!» Вот и переживают женщины всерьез, зачитываясь Петрушевской как тоже своего рода неправдой, или же преувеличенной правдой про них. Петрушевская изображает то, что искренне видит, а особенно для западных женщин, ее проза как своего рода ужастик, но на тему женской жизни. Получает пригоршнями именно западные премии, от фондов, помешанных на женской теме. Кому нужны на Западе наши страдания всерьез? А те страдалицы, которым и впрямь близки темы Петрушевской, ее и близко в руки не возьмут. И без того тоска. Им-то как раз нужны розовые сказочки. Как и самой Петрушевской. Которой иногда тошно от себя самой становится. Чувствует же нутром, какая она мегера, не любит, наверное, в себе это зло, а в жизни своей другого не видит. Вот и сочиняет, выдумывает добрые сказки. Вот вам совсем иная Людмила Петрушевская, где злая ненавистница, вроде ее самой, изображена в образе Вальки, брошенного крысеныша, несущего людям такую же злую нелюбовь. После книги «Дом девушек!', написанной как бы с позиций этой самой крысы вальки, книга сказок «Настоящие сказки» — это как бы мечты сладкие и нереальные несчастного человека. Читая «Дом девушек» поневоле «…шуткой-смехом, шуткойсмехом, как говорит одна незамужняя библиотекарша, шуткой-смехом, и все-таки болит сердце, все ноет оно, все хочет отмщения. За что, спрашивается, ведь трава растет, и жизнь неистребима вроде бы. Но истребима, истребима, вот в чем дело». Этим финалом из «Смотровой площадки» мы как бы прощаемся со злой ненавистью автора рассказов и укрываемся от ненависти в ее же «настоящих сказках»… Нет такой женщины, которая не была бы хоть на миг также несчастна, как героини Петрушевской, тем более, что одиночество женщин становится все более значимым фактором в жизни страны. Но также нет, или почти что нет в России таких женщин, которые бы были столь несчастливы всю жизнь. Даже у беспросветной нищенки наберется побольше радостных моментов, чем в мире прозы Петрушевской. Хоть волшебный мастер Амати старался превратить из крикливого крысеныша доброе существо, хоть наши премиальные волшебники и делают все, чтобы «этот потомок нерадивой крысы мог защитить себя в любых обстоятельствах», но для нас неисправимая Валь20А, делающая ставку на злобу и ненависть людей, стала как бы прототипом автора всей музыки ада. Это же Вальке нужны для телепередачи «дети с родителями.., не боящиеся крови — ни своей, ни тем более чужой, дети и родители, любящие совместные просмотры боевиков и ужастиков…» В сказочной повести «Маленькая волшебница» Людмила Петрушевская как бы пародирует самое себя в образе злой волшебницы Вальки, несчастной, брошенной, а позже и бросившей уже своего ребенка Силу Грязнова. Но от плохого рождается только плохое, вот и объединились Валька и ее отпрыск Сила Грязнов против добрых волшебников и добрых людей, мечтая покорить своим злом весь мир. Но как в сказках положено, добрые волшебники мастер Амати, кукла Маша, да и умелец дедушка Иван с помощью добрых людей побеждают зло. В итоге всем достались и новые квартиры, и новые машины, многие поисправлялись, добро воцарилось. Те же чудеса происходят во всех других сказках. И опять в сестре Крапиве видна злая рассказчица Людмила Петрушевская, а в ее сестре Малине — автор добрых сказок. Правда, злая Крапива последним своим действием спасает Малину, перед читателем счастливый конец. Счастливая любовь. Счастливые семьи. Счастливые матери. А если злодеи и злодейки появляются, похожие на героев взрослой прозы, то они обязательно терпят поражение. Осознанно пародирует сказочница Петрушевская своих же героинь, да и саму себя в отрицательных сказочных персонажах. В сказке «Верьба-хлест» злая королева потому злая, «что у неё было тяжёлое детство, так как мамаша порола ее ивовым прутом… Это была такая дикая семейка. Короче говоря, Королева была настоящая выдра…» \ В рассказах Петрушевской герои так бы и пошли навязывать несчастья на несчастья. В сказках всегда найдутся герои и гении, мужественные и добрые люди. Это мир Петрушевской наоборот. Это ее выдуманный мир, где она отдыхает от своих комплексов взрослой прозы. Есть ли еще у нас столько раздвоившийся писатель? Сказочница, воитель с развратом, с пошлым телевидением, мастер добрых дел, автор «настоящих сказок» и… злой сочинитель музыки ада. Даже глаза на фотографии книги сказок добрые и мягкие в отличие от тоскливых глаз автора книги «Дома девушек». Может быть, пришла пора добрых дел? Сказки-то многие появились в самое последнее время. Может быть, как в рассказе «Мост Ватерлоо» добрая баба Люда Петрушевская, несмотря на упреждающие крики поклонниц- феминисток и иных подозрительного пола Надек, в связи с подкатившим первым крупным юбилеем стала не чужие фильмы смотреть, а нам показывать волшебный добрый мир, где люди видят все свои мечты, себя, молодых и чистых, и ту жизнь, которую она почему-то не прожила, но которая обязательно должна быть. И по дороге вальс при свечах вместо музыки ада. Может быть, у этой доброй сказочницы бабы Люды все впереди? И все же остается ощущение какой-то недосказанности, недоразгадки образа писателя.. Нет высокой трагичности. А трагедии невымытого пола, порвавшихся колготок и даже брошенного мужа на нас не производят впечатления. В мире Петрушевской нет места любви. Пусть трагической, пусть драматической, пусть комической. Есть какая-то тос21А по любви, есть требование любви, есть уничтожение любви. Но нет самой любви. Но если не случилась большая любовь , то должна была найтись любовь к Богу, любовь к природе, любовь к жизни. Отсутствие этой простой любви вырабатывает мнимую трагичность, приводит прямиком к музыке ада. Если у современных русских женщин возобладает такое отношение к жизни, если они капитулируют, то и мир не удержится. Людмила Петрушевская выпала из мира традиции. Почему часто были счастливы крестьянки в старой России, несмотря на их откровенно тяжелую жизнь? Они жили в очерченном кругу традиционного мира. Они умели прощать и смиряться. Героини Петрушевской вышли из традиционного общества, но никакого другого не нашли. Они позабыли старые песни, а новым не научились. Мир Петрушевской — антипоэтичный мир, они могут знать стихи, но они не живут стихами. Нет стихов, нет мотива, нет любви. Остается злобный мир цивилизации. Музыка ада… Произведения Петрушевской хохота не вызывают – даже читаемые подряд (чего делать, однако, не стоит). Мимо читателя, зрителя тоже проплывают «гробы»: пусть даже только портреты («Слова», «Цикл», «Странный человек»…), только пунктирные сюжетные зарисовки («История Клариссы», «Отец и мать», «Платье»…), только краткие, без полноценного развивающегося действия и персонажного мира, рассказы и пьесы, – но этого оказывается достаточно. Ужас читателя таких рассказов, как «Страна», «Дитя», «Бедное сердце Пани», повести «Время ночь» и многих других, – ужас его может быть даже невыносимым, но хохотом он не спасется. С этим теперь жить. «Литература не занимается счастьем». Так считает Людмила Стефановна Петрушевская – драматург, прозаик, публицист, сказочник, художник, академик Баварской академии искусств, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства… Классик. «Уроки музыки» краткое содержание В небогато обставленную квартиру Гавриловых возвращается из тюрьмы Иванов, сожитель тридцативосьмилетней Грани. Он говорит, что хочет увидеть свою недавно родившуюся дочь Галю и зажить спокойной семейной жизнью. Гавриловы не верят ему. Особенно непримиримо настроена против пьяницы Иванова старшая дочь Грани, восемнадцатилетняя Нина. Она вынуждена была уйти из школы, теперь работает в гастрономе и нянчит маленькую Галю. Несмотря на недовольство Нины и увещевания любопытной соседки Анны Степановны, Граня решается пустить Иванова. В квартиру зажиточных соседей Козловых возвращается из армии единственный сын Николай. Родители рады возвращению сына. Отец требует, чтобы сын сыграл что-нибудь на пианино, и сетует, что тот так и не закончил музыкальную школу, несмотря на все старания родителей, которые ничего для него не жалели. Радость омрачается тем, что Николай привел с собой Надю, которая вызывает открытую неприязнь у отца Федора Ивановича и у бабки. Мать, Таисия Петровна, держится с подчеркнутой любезностью. Надя работает маляром, живет в общежитии. Она курит, пьет вино, остается ночевать в комнате Николая, держится независимо и не пытается понравиться родителям жениха. Козловы уверены, что Надя претендует на их жилплощадь. На следующий день Надя уходит, не простившись. Николай бросается за нею в общежитие, но она заявляет, что он ей не подходит. Нина не хочет жить в одной квартире с пьяницей Ивановым. Весь день она стоит на улице у подъезда. Здесь её видит Николай, которого когда-то дразнили её женихом. Николай равнодушен к Нине. Надеясь отвадить сына от Нади, Таисия Петровна приглашает Нину в гости и предлагает остаться. Нина рада возможности не возвращаться домой. Зашедшей за дочерью Гране Козлова объясняет, что у них девушке будет лучше, и просит больше не приходить. Три месяца спустя Граня снова появляется в квартире Козловых: ей надо лечь в больницу на аборт, но не с кем оставить маленькую Галю. Иванов пьет. Граня оставляет ребенка Нине. К этому времени Козловы уже поняли, что Николай живет с Ниной от скуки. Они хотят избавиться от Нины, попрекают её своими благодеяниями. Увидев Галю, Козловы окончательно решают отправить Нину домой. Но в этот момент появляется Надя. Ее с трудом можно узнать: она беременна и выглядит очень плохо. Мгновенно сориентировавшись, Таисия Петровна объявляет Наде, что Николай уже женился, и предъявляет Галю в качестве его ребенка. Надя уходит. Нина слышит этот разговор. Испугавшись неожиданного появления Нади, Козловы требуют, чтобы Николай срочно женился на Нине. Оказывается, он знает о беременности Нади и о том, что она пыталась отравиться. Николай отказывается жениться на Нине, но родители не отстают. Они уговаривают и Нину, объясняют ей: важно взять мужика на привязь, родить ему ребенка, а потом он привыкнет к месту и никуда не денется — футбол будет смотреть по телевизору, изредка выпьет пива или сыграет в домино. Выслушав все это, Нина уходит домой, оставив подаренные ей Козловыми вещи. Родители боятся, что теперь Николай женится на Наде. Но сын вносит ясность: раньше, может быть, он и женился бы на Наде, но теперь отношения с ней оказались слишком серьезными и он не хочет «вязаться с этим делом». Успокоившись, Козловы садятся смотреть хоккей. Бабка уходит жить к другой дочери. Над потемневшей сценой раскачиваются качели, на которых сидят Нина и Надя. «Если на них не обращать внимания, они отстанут», — оживленно советует Таисия Петровна. Николай ногами отталкивает налетающие качели. «Свой круг» краткое содержание Дружеская компания много лет собиралась по пятницам у Мариши и Сержа. Хозяин дома, Серж, талант и общая гордость, вычислил принцип полета летающих тарелок, его приглашали в особый институт завотделом, но он предпочел свободу рядового младшего научного сотрудника института Мирового океана. К компании принадлежал и Андрей-стукач, работавший вместе с Сержем. Его стукачество не пугало собравшихся: Андрей обязан был стучать только во время океанских экспедиций, на суше же он не нанимался. Андрей появлялся сначала с женой Анютой, потом с разными женщинами и наконец с новой женой Надей, восемнадцатилетней дочерью обеспеченного полковника, по виду напоминающей испорченную школьницу, у которой от волнения выпадал на щеку глаз. Еще одним участником пятничных сборищ был талантливый Жора, будущий доктор наук, еврей наполовину, о чем никто никогда не заикался, как о каком-то его пороке. Всегда бывала Таня, валькирия метр восемьдесят росту, которая маниакально чистила белоснежные зубы по двадцать минут три раза в день. Двадцатилетняя Ленка Марчукайте, красавица в «экспортном варианте», почему-то так и не была принята в компанию, хотя и втерлась было в доверие к Марише. И наконец, к компании принадлежала героиня со своим мужем Колей, закадычным другом Сержа. Десять ли лет прошло в этих пьяных пятницах, пятнадцать ли, прокатились чешские, польские, китайские, румынские события, прошли политические судебные процессы, — все это пролетело мимо «своего круга». «Иногда залетали залетные пташки из других, смежных областей человеческой деятельности» — например, повадился ходить участковый Валера, неизвестно кого выслеживавший на вечеринках и мечтавший о скором приходе «хозяина», подобного Сталину. Когда-то все они любили походы, костры, вместе жили в палатках у моря в Крыму. Все мальчики, включая Колю, с институтских пор были влюблены в Маришу, недоступную жрицу любви. На закате общей жизни Коля ушел к ней, бросив жену. Серж к тому времени оставил Маришу, продолжая, впрочем, поддерживать видимость семейной жизни ради горячо любимой дочери Сонечки, вундеркинда с выдающимися способностями к рисованию, музыке и стихам. Семилетний сын героини и Коли, Алеша, никаких способностей не имел, чем ужасно раздражал отца, видевшего в сыне свою копию. Героиня — человек жесткий и ко всем относится с насмешкой. Она знает, что очень умна, и уверена: то, чего она не понимает, не существует вообще. Она не питает никаких иллюзий будущего и участи своего сына, так как знает, что больна неизлечимой болезнью почек с прогрессирующей слепотой, от которой недавно в страшных муках умерла её мать. Убитый горем отец умер от инфаркта вскоре после матери. Сразу после похорон матери Коля как раз и предложил жене развестись. Зная о своей скорой смерти, героиня не рассчитывает на то, что её бывший муж позаботится о сыне: в свои редкие посещения он только кричит на мальчика, раздраженный его неталантливостью, а однажды ударил его по лицу, когда после смерти дедушки и бабушки ребенок начал мочиться в постель. На Пасху героиня приглашает «свой круг» в гости. Пасхальные сборища у нее и Коли всегда были такой же традицией, как пятничные — у Мариши и Сержа, и никто из компании не решается отказаться. Прежде в этот день она готовила вместе с мамой и папой много еды, потом родители брали Алешку и уезжали на садовый участок в полутора часах езды от города, чтобы гостям было удобно всю ночь есть, пить и гулять. В первую после смерти родителей Пасху героиня везет сына на кладбище к бабушке и дедушке, без объяснений показывая мальчику, что ему надо будет делать после её смерти. До прихода гостей она отправляет Алешку одного на дачный участок. Во время привычной общей пьянки героиня вслух говорит о пороках «своего круга»: бывший муж Коля удаляется в спальню, чтобы унести оттуда простыни; Мариша приглядывается к квартире, размышляя, как её получше разменять; преуспевающий Жора снисходительно разговаривает с неудачником Сержем; дочка Сержа и Мариши Сонечка отправлена на время вечеринки к сыну Тани-валькирии, причем все знают, чем занимаются эти дети наедине. А лет через восемь Сонечке предстоит стать любовницей собственного отца, которого сумасшедшая любовь к дочери «ведет по жизни углами, закоулками и темными подвалами». Героиня мимоходом сообщает, что собирается отдать сына в детдом, чем вызывает общее возмущение. Собравшись наконец уходить, гости обнаруживают на лестнице под дверью Алешу. На глазах всей компании героиня бросается к сыну и с диким криком до крови бьет его по лицу. Ее расчет оказывается верным: люди «своего круга», которые могли бы спокойно разрезать друг друга на части, не выносили вида детской крови. Возмущенный Коля забирает сына, все хлопочут над мальчиком. Глядя им вслед из окна, героиня думает о том, что после её смерти всей этой «сентиментальной» компании неловко будет не позаботиться об её осиротевшем ребенке и он не пойдет по интернатам. Ей удалось устроить его судьбу, отправив без ключа на дачный участок. Мальчику пришлось вернуться, а роль матери-изверга она разыграла точно. Навсегда расставаясь с сыном, героиня надеется, что он придет к ней на кладбище на Пасху и простит за то, что она ударила его по лицу вместо благословения. В один прекрасный момент мать не встала будить сына, а равнодушно осталась лежать в постели, так они и спали, мать и трусливо вжавшийся в подушку двадцатипятилетний сын, ожидающий даже во сне, что с него сдернут одеяло и начнут лить холодную воду на голову, такая пытка и такой метод побудки вот уже с восьмого класса (т.е. более десяти лет, старшие классы, весь институт и теперь аспирантура, в восьмом классе он как раз отказался вставать утром, мать занервничала и т.д.).Мать, как все матери, да еще и бывшая красавица, гроза стариков в чинах, тому подтверждением фотографии на стене, где она рядом с видными пожилыми знаменитостями всего мира — эта мать не всегда была такой толстой бабой с загривком мощной львицы, с корявыми от артрита руками, а была небесной красоты девушкой-ребенком в прическе а-ля Брижит Бардо, лохматая золотая грива, большие глаза и рот вкупе с маленьким курносым носиком, чудо, плюс два иностранных языка и большие ожидания.Получилось же вот что: ранняя беременность, мать поддержала, затем: муж подлец давно ушел, старшая дочь старуха под пятьдесят тоже с пьющим мужем, и давно все отношения с ними порваны, даже варить им варенье как раньше не имеет смысла, зятек все равно все пропьет и слопает, детям не оставит, а вникать в их разухабистую жизнь, разводить их надоело, все проехало, остался только телефон, по которому мать звонит старухе-дочери и жалуется на непосильную тяжесть жизни с сыном, это раз. Второе — это как раз тот самый сын, младший сын-поскребыш, последняя удача в жизни, единственная любовь и счастье сорокалетней роженицы, чудо в три с половиной кило с длинными ресницами, кудрями и нежным голоском уа-уа — вот он как раз перестал вставать по утрам в школу абсолютно и бесповоротно. Решительно лежал, лежал и без одеяла, политый из холодного чайника, холодный, без признаков воли, но лежал не вставая, это был начальный этап. Второй этап был такой, что он все-таки вскакивал и в драке с матерью отвоевывал мокрое одеяло и бросался обратно на постель, сворачиваясь в позу головастика или эмбриона, на пять минут, как он убеждал временно потерявшую силы мать, пять маленьких минуток. Далее, третий период, как в хоккее, начинался с того, что мать с новыми силами набрасывалась на него, расслабившегося и спящего, и сдирала все покровы, а тут уже рядом стоял кофе с булочкой на подносе на столике, все благородно, ну выпей, съешь, что ты.Ежедневный ритуал подъема заканчивался полной победой матери, сын даже успевал на первый урок, подумать только! Больше десяти лет борьбы по утрам и борьбы по вечерам идти ложиться спать, так как сын не желал ложиться спать и боялся этого как смерти (вспомним, что утром его ждали три периода борьбы), он упорно делал то, делал се, смотрел последние новости, затем читал в уборной, долго пил чай, доводил дело до двух ночи и все в таком роде, пока мать не являлась грозная бороться с ним за свое право на отдых тоже! Вечером свалка и утром при пробуждении борьба. День у них проходил, кстати сказать, нормально, сын на учебе, или в библиотеке, или в неустановленном месте, его собачье дело. Мать же вся в беготне и хлопотах переводчицы-синхронистки, крупного гида, которого знали по всем гостиницам и все ей улаживали, т.к. она выглядела светской львицей и была таковой на всех посольских приемах, презентациях, вернисажах, театральных премьерах (не забывая в перерывах сбегать купить что-то на ужин, в прачечную, в химчистку и тому подобное). Счастливая, крупная, с коротко стриженной вот именно львиной гривой, со следами былой красоты, с тяжелой нижней челюстью, набрякшими веками, роскошными бровями, и волосы всегда чистые, светлые; сияющие, золотые. Да у нее могли быть и любовники, все так считали, но у нее был только сын, такие дела. Она ради него держала марку, одевалась, бегала на педикюрманикюр, к лучшему парикмахеру Вадиму, у нее везде были друзья, все ради сына: неопрятную старуху никто не возьмет переводчицей, вокруг полно молоденьких почти что кинозвезд с чуть ли не тремя языками, готовых для заработка на все, выучить четвертый, довести себя диетами до размера 6090-60, но старики, деятели культуры и науки, которых обслуживала наша Диана, они ценили верность, надежность, безукоризненность пожилой львицы, рядом с ней отрадно было покрасоваться, она была в сам раз молодой для них, точно на десяток лет пониже возрастом, не на оскорбительные сорок—пятьдесят, как эти профуры на тонких ножках, птички в маленьких костюмах и с непонятной лексикой, которые готовы были с восторгом внучек на все подвиги,— нет. Старцы помнили Диану (и себя) в молодости, помнили ее ослепительную, но всегда надежную красоту, никогда не подведет и ничего никому не расскажет — также ее помнили и в правительствах, которые менялись, но только поверху, а главное всегда оставалось на месте. Диана их тоже помнила на мелких ролях в составе делегации, теперь же для них распахивались дверцы лимузинов. Диана казалась вечной.Но и у нее было все как у других тяжело пашущих женщин — муж паразит на шее, никогда его не заставишь вбить гвоздь или поменять лампочку, затем дочь привела в дом квартиранта так называемого, поселенца, совершенно не ровню себе (все-таки у дочки и отец — тот отец, родной — и мать из хороших семей, языки, воспитание, одежда), но нет, она в противовес всему раскопала где-то на дне рождения подруги это сокровище, по-мужски пьющее и курящее, т.е. без продыху, муж Дианы тоже попивал, но и он растерялся.Диана распласталась в лепешку и пробила дочери квартиру, причем даже на вырост, в расчете на прибавление семьи, двухкомнатную, живите. Они съехали, потребовали себе мебель, Диана им купила, езжайте, вы!Пока была жива Дианина мать, курящая героиня, на все руки мастер, то худо-бедно, с попреками и скандалами, но семейная жизнь тлела, и даже временами они усаживались играть в покер: мать в шали как поэтесса, с сигаретой в зубах, Диана, уже не курящая по состоянию здоровья, затем муж научный работник, который много лет не давал ничего на хозяйство и не платил за квартиру после одного скандала, этот муж был одержим гордой мыслью, что он сам себя содержит, т.е. в холодильнике вечно лежало «его» в пакетиках и сверточках, что не мешало ему исправно жрать общие котлеты и суп. Четвертой была Дианина подруга, с мордой как у крокодила, тренер по теннису Гала. Познакомились на собачьем выгуле во дворе.К этому крокодилу и ушел муж Дианы, переселился в том же дворе в новый дом.Все было нормально, встречались на собачьей почве опять-таки, Диана все порывалась спросить Галу, дает ли ей ее сожитель на питание, но удерживалась. Потом умерла мать, в одну ночь, все забегали, увезли старуху, переполошились, затем схоронили.Сын, кстати, перешел в новую школу, из дворовой в дальнюю, хорошую, престижную. Диана постаралась, так как в местной школе все учительницы перестали говорить «приведи отца», а приглашали на собрания именно маму персонально. Владик как-то туманно об этом упомянул, Диане два раза повторять было не надо.В новой школе, куда Владик попал в середине второй четверти, его начали преследовать тамошние парни. Диана ни о чем не догадывалась, это всплыло год спустя, когда Владик задумчиво сказал, что Хвоста все-таки посадили. Кто такой, что за Хвост, да он у меня всегда деньги вычищал из карманов, скромно сознался Владик, какие деньги, постой? Я же тебе давала завтрак! Завтрак тоже съедали, сказал Владик просто. А били? Били, отвечал Владик. А сейчас? А сейчас-то как когда.Год Диана с ума сходила по поводу Владикова поведения, он не желал вставать по утрам и не желал ложиться по ночам, а тут вот какое объяснение. Объяснились, но утром Владик все равно не встал. В другую школу заново страдать переходить Владик отказался наотрез. Хочешь, переговорю с директором — тогда меня вообще убьют, отвечал Владик. И все-таки это, оказывается, тоже была жизнь, бывали свои тихие вечера по пятницам и субботам и тихие утра по субботам и воскресеньям, никто не укладывал и не будил Владика, он спал до пяти вечера и ложился в шесть утра, такие у него были его поддинные биологические часы, не совпадающие с остальным человечеством — однажды их поломали, видимо, и теперь они шли по-своему, наперекор общепринятому времени.Однако, повторяем, это тоже была жизнь, Владик в своей аспирантуре шел напрямую к защите диссертации и к стажировке в Англии, так устроила мать, только бы сынок не подкачал, она бдила каждую ночь и утро, спроваживая его на занятия. Диана все еще котировалась в министерстве, ее иногда вызывали, она тяжело снималась с места и топала на своих толстых львиных лапах, ловила машину — пешком да еще и в метро она уже не могла передвигаться, сердце и ноги, болезнь старых львиц.Диана прирабатывала к пенсии, хлопотала, задорно улыбалась, показывая хорошего фарфора верхнюю челюсть, ее глаза под тяжелыми веками поблескивали, переводила она как всегда прекрасно, точно соблюдая язык и стиль подопечных и поправляя их только на волосок, на миллиметр где надо: умела руководить государственными деятелями, ее научили в одном интересном месте, что промахи надо корректировать, ошибок не замечать, и каждый раз она получала инструктаж, но об этом молчала.Однако дома ее ожидало все то же разваливающееся хозяйство, драки и брань с сыном, бессонница. Дома Диана ходила с проваленным ртом, фарфор лежал в стаканчике, десны-то мягчели и съеживались, богатый и тяжелый фарфоровый комплект давил, натирал их, а новый был не по карману.Диана бы боролась и с этим со свойственной ей последовательностью, однако утра и ночи, посвященные Владику, лишали ее сил, и в одно прекрасное утро она поступила как Владик, т.е. не встала, не проснулась.Владик проспал до пяти вечера согласно своему внутреннему будильнику, с ужасом встал, пошел посидел в уборную с текстами, затем заглянул в кухню и съел все бананы (гулять так гулять) и выпил кофе с конфетами, ополовинил материн запасной шоколадный набор, подарочный так называемый фонд. Затем Владик сел к телевизору и опомнился только в два часа ночи, что никто его не будил и никто не укладывает. Мать мирно спала на высоких подушках, но немного неудобно свесив голову, даже слишком свесив голову. Владик убрал свою голову из ее двери, всунулся обратно в свою комнату и стал размышлять. Он размышлял до своих обычных шести утра, а затем срубился и заснул на неубранной тахте среди газет и текстов — как всегда, страшась пробуждения.Пробуждение последовало в четыре вечера, и опять никто не поднял Владика. К матери он побоялся заглядывать.Последовал обычный ритуал, немеряное время в туалете с текстами на коленях, немеряное время в кухне — он жил по воскресному расписанию, доел мамашину коробку конфет и начал новую. Тут Владик вспомнил, что на дворе-то уже вечер пятницы и надо что-то предпринять, поскольку он прогулял два дня преподавания.Владик включил телефон, решив позвонить материному знакомому врачу-психиатру, не даст ли он бюллетень по психастении, как обычно просила мать, если Владика не удавалось поднять никакими силами или если она сама лежала больная. Врач оказался дома и тут же согласился дать бюллетень задним числом, мало ли, у его больных бывали и не такие выпадения из времени, не двое суток, а два года, мало ли. Владик состоял у этого врача в пациентах со студенческого периода, когда Диана боялась несдачи экзаменов и отправления Владика в армию.Врач, в свою очередь, спросил, как здоровье мамы, именно с ней он всегда имел дело, всегда в отсутствие Владика, поскольку еще на первом курсе тот был раз и навсегда потрясен тем, что мать завела на него карточку в психдиспансере. Никакими словами не удалось убедить несчастного новозаписанного пациента, что он совершенно здоров и только его двойка заставила мать принять меры на случай отчисления. Диана устроила ему диагноз вялотекущая циклофрения с суицидальными попытками, каковых больных армейские врачи боялись, и справедливо. Диана вспомнила еще мальчишескую демонстрацию Владика, когда он чуть не вышел в окно, дело происходило дома после очередного крика. Подлая, она припомнила все!Итак, врач спросил о здоровье Дианы, так как она его никогда не забывала, приглашала на все премьеры в Дом кино, в театры, Диана доставала ему дорогой французский препарат для жены, больной чем-то там, доставала антисекс для кошки и т.д. Диана, судя по всему, звонила ему иногда и по собственным вопросам, до того дошло дело. Диана в хорошие минуты рассказывала Владику, что врач говорил ей, что ее-то семья нормальная, что ненормально в семье, когда полная тишина, и что у него дома всегда тихо, тихо учащийся сын, тихо болеющая жена, только кошка орала у них как сумасшедшая, что было с ее стороны нормально. Итак, врач спросил Владика, как здоровье мамы, на что Владик ответил, что не знает.Как не знает, спросил затем врач насторожившись, видимо заметил в интонации Владика кое-что по своей части.Владик тогда поведал всю историю очень подробно, как пойманный с поличным преступник, как пациент, наконец допрашиваемый врачом после долгого одиночества, он ничего не утаил, даже долгого сидения на унитазе с текстами. Он рассказал все врачу как историю своей болезни.Врач возразил, что его состояние ему понятно, но надо вызвать «скорую» для Дианы — Владик-то думал, что в больницу надо укладывать его лично как сумасшедшего. Ведь все, что пророчила ему мать, все произошло — прогул на работе, полный распад личности (пожирание двух почти коробок конфет и всех бананов семьи, хождение босиком и в халате, неубранная кровать и то, что Владик не заглядывал в ванную, не чистил зубов, не говоря уже о том, что он ни разу не принял душ).Владик все как на духу рассказал врачу, но врач обычным голосом велел вызвать «скорую помощь» для матери, на его признания врач не обратил никакого внимания, а ведь Владик в первый раз в жизни произнес сам свой диагноз! Вялотекущая циклофрения и т.д.! Это все крайне удивило Владика, и он продолжил свой рассказ, выкладывая все новые подробности своих двух последних дней, относительно ночного просмотра порнопрограммы, и о том, что за этим последовало. Владику явно не хотелось класть трубку и прерывать эту живительную связь с голосом врача, но врач очень мягко и сочувственно сказал, что займется Владиком в понедельник, а сейчас надо набрать 03 и вызвать «скорую». Владик, кстати, знать не знал как это делается и, разъединившись с голосом врача, позвонил сестре, что мать спит вот уже двое суток. Сестра (как водится) наорала на Владика за то, что тот до сих пор не позвонил, она сама якобы звонила, но телефон был отключен, что они с Васей (ее муж) должны были вести мать к педикюрше по поводу вросшего ногтя, но вот уже два дня телефон вырублен, как это так! Мать почти не могла ходить из-за нарыва на пальце, и они с Васей диву давались, куда это Владик с матерью ускакали, думала я (старая Владикова сестра, имевшая преимущество над Владиком в двадцать два года). Владик, ты урод сумасшедший, мы с Васей всегда это говорили, ты доведешь мать до гибели, она хоть дышит?Короче, сестра сама взялась вызвать «скорую» и сказала, что немедленно приедет, хотя у Сашки грипп и температура и Вася ходит с вывихнутой челюстью вторую неделю, не ест ничего, кашку манную и сырое яйцо. Хотел разнять драку друзей, миротворец поганый, теперь ест через трубочку из «Макдоналдса», не ругается хоть, и то спасибо.Сестра скоро прислала «скорую помощь», и вот тут, из-за спины врача, Владик осмелился посмотреть на мать. Она попрежнему спала, свесив голову в неудобной позе, так что как бы выехала ее нижняя челюсть.Врач сказал, что будут госпитализировать, принялся звонить, тут уже приехала сестра Владика, во всем похожая на мать и почти не различимая по возрасту, причем мать лежала (врач поправил ей голову) и лицо ее было гладкое, белое и красивое, а у дочери морда была как комковатая подушка, надо следить за собой, говорила Диана, вызывая у дочери могучий протест, как это с двумя детьми и с Васей можно следить еще и за собой!Сестра не согласилась отдать мать абы куда и стала требовать направления в самую лучшую неврологическую клинику, вы не знаете, кто это лежит перед вами, по этому поводу врач не мог ничего сказать и уехал, сестра же что-то сделала с матерью, перестелила ей новые простыни и тоже уехала, жалуясь на то, что в пятницу вечером ни фига не добьешься, а с понедельника она все устроит, но из больницы в больницу переводить труднее. Сестра обещала приехать завтра с утра и велела Владику пока что поить больную водой с вареньем и переменять ей белье, а врач посоветовал протереть тело водкой почему-то с шампунем, чтобы избежать пролежней. Владик, когда все ушли, пошел на кухню и доел все шоколадные конфеты. Еда стояла в холодильнике, суп и какие-то макароны, этого Владику есть не хотелось, конфеты он ел тоже нехотя, просто потому что в животе было пусто. Он иногда посматривал на Диану через коридор, но подходить к ней не собирался. Утром все сделает сестра. Ему очень хотелось перезвонить психиатру, однако было уже поздновато, первый час ночи. Ему хотелось рассказать врачу о том, что он совершенно не боится лежащего полутрупа, раньше он бы содрогнулся от такой ситуации, а сейчас хладнокровно существует рядом с этим нечеловеком, вот что интересно. Мужество какое-то пробудилось, думал Владик. И почему-то совершенно не хочется шоколадных конфет, раньше бы он при такой свободе накинулся и выел бы все коробки до последней (у Дианы был еще запас где-то в спальне под ключом). Какой-то нарождается новый человек, размышлял Владик, даже усмехнулся. Он с интересом ждал проявлений этого нового, уже без матери, существа, которое пока что в нем дремало, подавленное с восьмого класса. Он хотел дать этому существу свободу, может быть, я прирожденный убийца, думал Владик, садист или маньяк, любопытно, что это будет. Или донжуан без матери, мало ли. Женщины его не интересовали до этих пор, мужчины? вряд ли, думал Владик, наблюдая за собой как-то со стороны. Владика знобило от будущего, от свободы. Может, буду вообще лежать не вставая, если захочу, сказал он себе. Днем спать, ночью лежать. К черту диссертацию, работу. Надо будет как-то сделать доверенность на сберкнижку, у Дианы там денег чертова уйма, наверно. Опередить сестру. Сделать это еще при жизни Дианы, и поскорее. Заверить в университете, что ли. Подделать подпись и более ранним числом, не позавчерашним (Владик давно умел расписываться за мать).Когда закончилась программа TV, Владик прошелся по квартире, попил чаю из носика чайничка, что Диана категорически запрещала, но во рту было гадко от шоколада, и потом, кто Владику теперь был указ? Затем Владик по старой привычке заглянул к матери, проверяя, дома ли она, и вдруг испугался, увидев полутруп с распахнутым ртом, с головой, свалившейся набок.Владик зашел к изножию кровати, увидел мать целиком, голова ее свисала как у повешенного, рот был открыт как-то косо. На тумбочке возле кровати стоял металлический чайник, страшный чайник, орудие пытки — из него мать по утрам поливала Владика, и два дня назад она, ложась спать, видимо, уже приготовила все что необходимо, воду для побудки.Владик давно хотел уничтожить, выкинуть, растоптать этот чайник, искал его повсюду, но у матери был в спальне, наверно, тайник. И вот теперь чайник был перед Владиком, совершенно беззащитный. Владик осторожно, как бы боясь разбудить мать, потянулся к чайнику. Поневоле пришлось нагнуться. И вдруг Владик увидел, что мать наблюдает за ним сквозь щелку в веках. Один глаз ее явно был приоткрыт. Владик задрожал от ужаса.— Попить, попить хочешь?— забормотал он, беря чайник.Затем он поднес носик к ее распахнутому рту и увидел, что этот рот иссох как пещера, язык лежал темный и какой-то грязный. — Попить, а?— бестолково повторял Владик.— Я попоить хотел.— Он всунул носик чайника в распахнутый рот матери и щедро полил, как поливаютзасохший цветок в горшке.Тут же мать захлебнулась и страшно, как взорвавшись, закашлялась, вернее, заклокотала, не открывая глаз. Кашлять она не могла, видимо, она именно взрывалась как вулкан. На подушку вылилась вода.Владик отскочил в ужасе в коридор. Он что, убил мать? Что же делать? Врачи вскроют, найдут воду в легких. Что же делать? Он вернулся и рывком поднял материну голову, подставил плечо под ее тяжелую спину. Мать все так же клокотала, но теперь потише. Владик долго простоял так, согнувшись в три погибели, подпирая спиной спину матери. Постепенно ее дыхание успокоилось, хотя протекало все с тем же клокотанием.Владик, онемев от напряжения, сообразил положить голову Дианы на подушку, подбил повыше, и рука его скользнула по чему-то ледяному.Подушка-то была облита!Как же она будет лежать на такой дряни, подумал Владик, сбегал за своей подушкой, положил ее под материнскую мокрую голову, а старую, облитую подушку бросил тут же на пол. Диана дышала как-то треща, как пергамент рвался у нее в горле. Один глаз ее так и был приоткрыт, стало быть, она ничего не заметила. Рот у нее снова высох.Владик, как умный человек, решил теперь действовать иначе. Он прижал носик чайника к углу рта Дианы и наклонил чайник совсем немного. Капля, как он и рассчитывал, скатилась к гортани, и Диана вдруг затрепетала и тяжело сглотнула. — Молодчина!— нежно сказал Владик и еще подлил каплю воды. Диана опять проглотила, как-то всполошившись. Видно было, что ей это трудно. Владик поил мать довольно долго, потом задумался, пошел в кухню и налил в чайник свежей кипяченой воды. Мать всегда говорила ему, что пить такую воду можно только четыре часа, затем она по санитарным нормам не годится. Она всегда настаивала на том, чтобы Владик пил только свежую водичку, тиранка.Владик поил и поил Диану, а потом услышал вдруг явственно разнесшийся запах свежей мочи. — Э, друг мой,— сказал Владик,— вы, мадам, обоссалися,— и он покачал головой. Далее он принес свежие простыни и долго, пыхтя, переворачивал бесчувственное тело, причем на ходу соображая, что рубашку тоже придется снять, что надо бы обтереть тело чем-то влажным, вспомнил совет врача про водку с шампунем, открыл материну сумочку, нашел там ключи, и один из них подошел к дверце шкафа. Там он нашел стопку коробок конфет и, о счастье, водку, шикарную подарочную водку в хрустальной бутылке, «это подойдет,— бормотал он,— это подойдет».Он капнул в водку шампунь, причем делал это с двойным удовольствием, первое, что водка эта была из драгоценного подарочного фонда Дианы, для врачей, и шампунь был какойто сверхдорогой, стоял рядом с водкой, правда, початый; второе, что она не понимает ни фига в обтирании тела водкой с шампунем, это уже чисто его, Владиково, знание, его приобретенная мудрость.Он обтер тело своей матушки этой приятно пахнущей дорогой смесью, использовав пока что сухую половину обмоченной простыни. Так, теперь она чистая, но это ненадолго, подумал он и сбегал снял клеенку с кухонного стола, а грязную посуду составил всю на пол. Клеенку он как-то умудрился подостлать под Диану, валял ее как бревно, пришлось вытащить из-под матери мокрый тюфяк, он его пока бросил на пол рядом с подушкой и так и ходил по всему этому босыми ногами, но справился. Теперь Диана в чистой рубашке лежала у него на чистой простыне, под которой была клеенка, и еще он подложил ей под гузно свернутое полотенце, как-то все сообразил.Он накрыл мать ее легким атласным одеялом, пододеяльник тоже был чистый, а на полу образовалось целое побоище, белье, простыни, подушка и тюфяк. Время было уже ближе к утру, у Владика болела спина, но глаза не слипались, нет. Владик был на подъеме.Он даже прочел в медицинской энциклопедии раздел «уход за больным» и запоздало понял, как можно было управиться гораздо легче, и эту лекцию пытался преподнести сестре, которая пришла к двенадцати дня виноватая, начала оправдываться, однако, увидев картину в материной комнате (открытая совершенно мутная водка, распахнутый шкаф, все как после обыска на полу), и такую же картину на кухне (вся посуда грязная и опять же на полу), она воспряла духом и долго кричала на Владика, таская простыни в стиральную машину, отмывая тюфяк и подушку и готовя матери кашку, такую же, как своему мужу с вывихом челюсти. Покормивши мать, сестра, однако, смягчилась, они с Владиком попили чаю с конфетами и печеньем все из того же тайника, затем в который раз пришлось перестилать матери постель и т.д., Владик опять пытался прочесть сестре лекцию по уходу за больным, они поскандалили, потом помирились, и к вечеру сестра ушла совершенно измочаленная, а Владику было хоть бы хны.Затем приехала вызванная сестрой дежурная врач из поликлиники, рассказала что будет делаться, придет с завтрашнего дня медсестра с уколами, вот что надо купить в аптеке и т.д., все завертелось, Владик действовал как часы, успел в дежурную аптеку, все купил, даже подкладное судно, в воскресенье опять довольно поздно пришла сестра, плакала на кухне, курила, они вдвоем резали старые простыни на пеленки и т.д., крутилась стиральная машина, мать лежала чистенькая, красавица, в кружевной рубашке под красивым пододеяльником: куколка! Владик появился на кафедре ненадолго в понедельник с утра, все сказал, его окружили женщины и хором давали советы, у каждой, как оказалось, был опыт, умирали долго их отцы, бабки, матери, но кому такое расскажешь, только такой родне по несчастью, другим незачем. Через три дня Владик поздно ночью позвонил сестре и сказал: — Ты знаешь, мы умеем пить. Поздравь нас. Она тянет прямо губами из носика. — С ума сошел, будить людей. Из носика, победа. Кстати, послезавтра, наверно, освобождается место в неврологии, я выбила.У Владика от гнева зашумело в голове. — Да зачем,— сказал Владик,— я не отдам ее, ты что. В больницу еще. И он быстро положил трубку и выключил телефон.