Круглый стол «Современная поэзия: имена, проблемы, тенденции»:
реклама
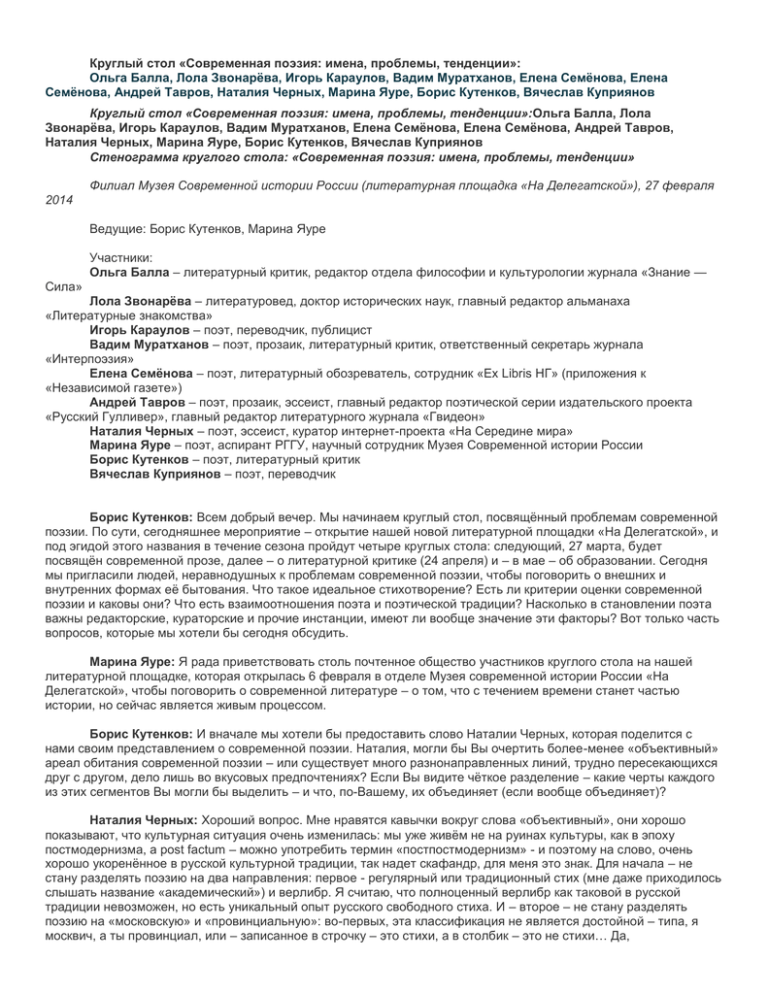
Круглый стол «Современная поэзия: имена, проблемы, тенденции»: Ольга Балла, Лола Звонарёва, Игорь Караулов, Вадим Муратханов, Елена Семёнова, Елена Семёнова, Aндрей Тавров, Наталия Черных, Марина Яуре, Борис Кутенков, Вячеслав Куприянов Круглый стол «Современная поэзия: имена, проблемы, тенденции»:Ольга Балла, Лола Звонарёва, Игорь Караулов, Вадим Муратханов, Елена Семёнова, Елена Семёнова, Aндрей Тавров, Наталия Черных, Марина Яуре, Борис Кутенков, Вячеслав Куприянов Cтенограмма круглого стола: «Современная поэзия: имена, проблемы, тенденции» Филиал Музея Современной истории России (литературная площадка «На Делегатской»), 27 февраля 2014 Ведущие: Борис Кутенков, Марина Яуре Участники: Ольга Балла – литературный критик, редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание — Сила» Лола Звонарёва – литературовед, доктор исторических наук, главный редактор альманаха «Литературные знакомства» Игорь Караулов – поэт, переводчик, публицист Вадим Муратханов – поэт, прозаик, литературный критик, ответственный секретарь журнала «Интерпоэзия» Елена Семёнова – поэт, литературный обозреватель, сотрудник «Ex Libris НГ» (приложения к «Независимой газете») Aндрей Тавров – поэт, прозаик, эссеист, главный редактор поэтической серии издательского проекта «Русский Гулливер», главный редактор литературного журнала «Гвидеон» Наталия Черных – поэт, эссеист, куратор интернет-проекта «На Середине мира» Марина Яуре – поэт, аспирант РГГУ, научный сотрудник Музея Современной истории России Борис Кутенков – поэт, литературный критик Вячеслав Куприянов – поэт, переводчик Борис Кутенков: Всем добрый вечер. Мы начинаем круглый стол, посвящённый проблемам современной поэзии. По сути, сегодняшнее мероприятие – открытие нашей новой литературной площадки «На Делегатской», и под эгидой этого названия в течение сезона пройдут четыре круглых стола: следующий, 27 марта, будет посвящён современной прозе, далее – о литературной критике (24 апреля) и – в мае – об образовании. Сегодня мы пригласили людей, неравнодушных к проблемам современной поэзии, чтобы поговорить о внешних и внутренних формах её бытования. Что такое идеальное стихотворение? Есть ли критерии оценки современной поэзии и каковы они? Что есть взаимоотношения поэта и поэтической традиции? Насколько в становлении поэта важны редакторские, кураторские и прочие инстанции, имеют ли вообще значение эти факторы? Вот только часть вопросов, которые мы хотели бы сегодня обсудить. Марина Яуре: Я рада приветствовать столь почтенное общество участников круглого стола на нашей литературной площадке, которая открылась 6 февраля в отделе Музея современной истории России «На Делегатской», чтобы поговорить о современной литературе – о том, что с течением времени станет частью истории, но сейчас является живым процессом. Борис Кутенков: И вначале мы хотели бы предоставить слово Наталии Черных, которая поделится с нами своим представлением о современной поэзии. Наталия, могли бы Вы очертить более-менее «объективный» ареал обитания современной поэзии – или существует много разнонаправленных линий, трудно пересекающихся друг с другом, дело лишь во вкусовых предпочтениях? Если Вы видите чёткое разделение – какие черты каждого из этих сегментов Вы могли бы выделить – и что, по-Вашему, их объединяет (если вообще объединяет)? Наталия Черных: Хороший вопрос. Мне нравятся кавычки вокруг слова «объективный», они хорошо показывают, что культурная ситуация очень изменилась: мы уже живём не на руинах культуры, как в эпоху постмодернизма, а post factum – можно употребить термин «постпостмодернизм» - и поэтому на слово, очень хорошо укоренённое в русской культурной традиции, так надет скафандр, для меня это знак. Для начала – не стану разделять поэзию на два направления: первое - регулярный или традиционный стих (мне даже приходилось слышать название «академический») и верлибр. Я считаю, что полноценный верлибр как таковой в русской традиции невозможен, но есть уникальный опыт русского свободного стиха. И – второе – не стану разделять поэзию на «московскую» и «провинциальную»: во-первых, эта классификация не является достойной – типа, я москвич, а ты провинциал, или – записанное в строчку – это стихи, а в столбик – это не стихи… Да, действительно, современная русская поэзия – это очень разнообразное явление, и современная филология не вполне знает, что с ней делать. Ареал – это понятие пространственное: он может быть более или менее чётко определённым. Если говорить об ареале обитания поэзии, то предполагается, что поэзия имеет границы, однако все классики и современники говорят, что поэзия безгранична. Поэзия – это и found-poetry, и голосовая поэзия, и текстовые импровизации; есть также и видеопоэзия. Получается парадокс. Конечно, этот парадокс должен быть: антики определили для поэзии гору Парнас, двадцатый век – улицу большого города. Так что вполне можно определить места локализации – не столько поэзии, сколько стихов. Поэтому я сейчас буду говорить о стихах. С чего начнём? С мест, которые не имеют материальной локализации, но имеют локализацию, так сказать, виртуальную. Это – сетевые порталы, радиопередачи, телевидение. Из сетевых порталов самый известный – это «Stihi.ru» - так называемая «Стихира»: один из старейших порталов поэзии. Ему не уступает «Вавилон», который намного лучше организован, информация там вызывает большее доверие, и материалы там представлены сразу в связке: то есть если вы набираете имя автора на «Вавилоне», то сразу видите критику о нём, его биографию и прочее. «Новая литературная карта России», «Полутона»: последний сайт затевался как региональный, место его локализации – Калининград, но по составу авторов это уже образование международное. Также «Сетевая словесность» и портал «Мегалит»: последний – хороший соперник «Журнальному Залу» и по количеству журналов, и по количеству материалов, и даже по редактуре. Хотя «Журнальный Зал» - это явление в современной литературе, но «Мегалит» буквально наступает на пятки. Теперь о радио- и телевизионных передачах. Особенно хочется выделить недавно возникшую «Движение слов» на «Радио Культура»: автор идеи, ведущий – отец Сергий Круглов. Очень интересная передача. Советую просто набрать её название в поисковике и ознакомиться с материалами. Передача хороша своей нетенденциозностью: там есть Воденников, есть и поэты, противоположные Воденникову. Телевидение: это прежде всего «Игра в бисер» (хотя там не только поэзия, а ещё и проза, но было несколько передач, посвящённых поэзии). Хочу особенно выделить «Вслух» с Александром Гавриловым: на мой вкус, передача себя не оправдала, и вовсе не потому, что меня там нет. Вот в чём дело: «Вслух» показывает зрителю очень интересных современных поэтов, но из очень узкого круга. Это передаче в минус, это очень тенденциозная передача, и эта тенденциозность ничем не подтверждена. Телевидение – это не литературный вечер, и там нужны другие критерии. Вторая причина, по которой передача себя не оправдала – это лично моё мнение – при общей красоте студийной картинки общего впечатления гипноза не возникает. Так что получается – в плохой передаче показали интересных поэтов. Это антиреклама скорее передаче, а не поэтам. Особенно запомнилась передача с Галиной, Веденяпиным, Машарыгиным и Горшковой: совершенно интеллигентный, умный, тонкий Веденяпин, который прекрасно смотрелся – и абсолютно прекрасный Машарыгин, в которого оператор словно бы влюбился, эти серые распахнутые глаза… Оставалось только сидеть и смотреть: какие у нас поэты, какие у нас поэты… Но в любом случае – эта передача нужна. И есть передача «Решето» с Кириллом Решетниковым (Шиш Брянский, автор и исполнитель хулиганско-скоморошеских песен): этот человек очень в теме, и слушать его всегда интересно. Можно вспомнить также «Школу злословия», где поэты так или иначе возникают: тут всё понятно, потому что Авдотья Смирнова – филолог, это Московский университет; вполне можно говорить об этой передаче как о встроенной в культурный поэтический контекст. О невиртуальных местах локализации современной поэзии: это клубы, библиотеки, лито, музеи. Это места скорее консервативные, но это вовсе не значит, что там собираются поклонники только традиционного стиха, как могло бы показаться и как мы все думали в конце 90х. Именно в библиотеках происходили первые собрания молодых поэтов 90х и начала 2000х: например, «Авторник» Дмитрия Кузьмина, который сейчас пытаются возрождать, реанимировать, так сказать. Эти места, как мне кажется, возвращают сейчас своё утраченное в связи с наступлением клубов значение. Каждая библиотека обладает уже сложившейся аудиторией, что для литературного клуба очень даже полезно: это и есть расширение границ. Литературный клуб – это совсем не то что клуб, где проходит мероприятие: литературный клуб мобилен, он сравнительно легко перемещается с места на место. Так называемая «клубная эпоха» 2000х началась у нас открытием «Проекта ОГИ» в 1998м году: в основе лежал элементарный квартирник. Клубная эпоха стала продолжением салонов – центров культурной жизни 70-х, отчасти - 80-х. Эта «неофициальная жизнь» была тесно сплетена с жизнью уголовников и так называемых «официальных структур» позднего СССР. Все эти черты в разной степени унаследовала и клубная эпоха. Фотоснимок земли из космоса, картинка с пятнами облаков – вот такая примерно метафора современной поэзии. Её производители и потребители – офисные гуманитарии: вспомним немецких экспрессионистов, наиболее удачно оперировавших индустриальными терминами и образами в поэзии, а также Александра Ерёменко с его «металлургическими лесами». Да, наши авторы и слушатели – по преимуществу офисные гуманитарии: в основном по образованию. Днём этот гуманитарий тянет лямку офисной жизни, вечером, как сказала одна молодая фея, «у него возникает нечто вроде отчаяния, и он садится писать стихи». Меня лично настораживает эта офисность, и я уверена, что офис тут ни при чём, а при чём – новая норма жизни и новая норма поведения человека: это важнее. Была фабрика, НИИ, теперь офис. Офис требует гораздо более быстрой реакции, чем НИИ, так что офис подразумевает или недостаток базовых знаний в культуре, или то, что они стираются. Это, конечно, отражается на языке современной поэзии, которая очень насыщена смыслами и впечатлениями, но всё это как бы налезает одно на другое, и возникает эффект битья посуды о посуду. Так что очень трудно отделить не то что один стиль от другого, а даже стихотворение от стихотворения. В общем, это касается и рифмованной поэзии, и свободного стиха. Я бы не стала разделять поэзию по стилям: всё в общем ритме. Кожа – это не только одна плёночка, а очень сложный организм. Полностью снять кожу практически невозможно, вы всё равно снимаете и сосуды, и часть мышц. Кстати, если поэт сознательно выбирает себе один стиль и в нём пишет, то в нём больше, чем сто лет назад – за пятьдесят не знаю - чувствуется влияние других стилей, и это какие-то очень гипнабельные стихи. Насколько это хорошо – судить не мне: варваров не выбирают. Хочу добавить, что это не столько признак увядания культуры, сколько признак увядания одной культуры и вырастания другой. Новая поэзия – которой, по большому счёту, лет пятьдесят – много взяла у городского фольклора, у уличной песни и, как ни странно, из православного церковного богослужения, так как в СССР церковь считалась антигосударственным институтом. Примеры: Александр Миронов, поэт более молодого поколения Сергей Завьялов (который в 1991-м вообще писал с «ятями»); всё названное можно найти и в стихах Генриха Сапгира («Псалмы» 1965-го года - прекрасная книга), Всеволода Некрасова и других замечательных поэтов второй половины 20-го века. Хотелось больше поговорить немного об «уличной поэзии», которая в последнее время мне интересна: конец 80-х – начало 90-х годов. Марина Яуре: Спасибо, Наталия. В продолжение беседы об ареале обитания поэтов, о месте бытования стихов хотелось бы поговорить о том, возможно ли представить «прообраз» идеального стихотворения. Борис предложил термин «прообраз», но я думаю, имелся в виду скорее всего «инвариант». Есть ли укорененные в традиции критерии для идеального стихотворения или поэзия каждый раз начинается с новой точки? Об этом хотелось бы спросить Андрея Таврова. Андрей Тавров: Я выбрал эту тему, так как я задал как-то такой вопрос Алексею Парщикову, с которым мы дружили, и он ответил так: «Это моё стихотворение, которое я ещё не написал, но обязательно напишу». Мне очень нравится такая формулировка, но я сегодня скажу какие-то, быть может, более мудрёные вещи. Я выделил для себя четыре пункта, по которым определил бы стихотворение как идеальное: давайте думать, что оно, в принципе, несуществующее, но если оно удовлетворяет всем этим четырём пунктам, - к нему можно стремиться как к идеалу. Первое свойство идеального стихотворения: оно должно обладать максимальным числом перекодировок. Допустим, я читаю «Евгения Онегина» в 15-летнем возрасте – это один текст, я читаю его в институте – это другой текст. Происходит перекодировка. Я читаю в 30 лет – это третий текст, а в 50 – уже четвёртый. Тем не менее – они сохраняют идентичность при перекодировках. Но если мы вспомним высказывание Мишеля Фуко о том, что каждая историческая система обладает некоторой замкнутостью по отношению к последующей исторической культурной системе – это как бы монады Лейбница, у которых нет окон, они друг друга не видят. Двустишие Катулла – «Ненавижу и люблю» («Odi et amo»), путешествуя по временам и культурным эпохам, каждый раз прочитывается как новый текст, попадая из одного контекста в другой, и в следующий, и в следующий, - помимо того, что разными людьми в разные периоды оно читается как разный текст. И это ещё не самое большое число перекодировок: самое большое – у китайского поэта Ли Бо: иероглифическая, идиоматическая запись. Это совсем другое мышление – тем не менее, каким-то чудом мы его читаем в переводах, и каким-то образом он сохраняет свою идентификацию, он доходит до нас. Вот это чудесные вещи. Потому что, если стихотворение лишено возможности перекодировок, оно не путешествует во времени, от читателя к читателю. Идеальное стихотворение подстроится под любого читателя: это неважно, что сегодня средний читатель читает Басё в том жанре, в котором написаны какие-нибудь поздравительные открытки, и не делает разницы, но его можно перекодировать и так, уйти от глубины смысла – и он всё равно будет интересен. Это первое свойство – максимальное количество перекодировок. Второе – стихотворение должно быть преступно, оно должно совершать некое преступление. Почему я об этом говорю? Потому что энергия всегда развивается тогда, когда есть канон и есть отступление от канона – художественного, нравственного и так далее. Допустим, мы знаем не всех футуристов, но мы знаем, что они себя вели скандально; они отступали от правил поведения, принятых обществом, и тем привлекали к себе внимание. Когда поднимается мост вместе с фаллическим символом – это тоже покушение на преступность, на нарушение этикета. Но дело в том, что в современном мире не осталось чего нарушать. Больше того – в классическом стихотворении всегда идёт преступление жизни против смерти. Это преступление живого источника жизни, у которого совершенно свои правила, - «как беззаконная комета в кругу расчисленном светил», - вот эти расчисленные светила, которые предлагает человеческое общежитие в рамках окостеневших нравственных норм, - поэтический космос нарушает их. И вот на этом отступлении возникает бешеная энергия. Это говорит о том, что стихотворение живо: оно помнит канон, но оно настолько мощно, что, удаляясь от него, натягивает пружину, не теряя отношения к канону. Потому что если отношение к канону будет потеряно и чувство отступления будет потеряно, - то пружины не будет, этой энергии просто не возникнет. Это второе качество идеального стихотворения. Третье качество – идеальное стихотворение должно обладать способностью травматической и терапевтической. Эта способность идеально обозначена в пушкинском «Пророке». Что происходит с поэтом для того, чтобы он начал писать хорошо? Он переживает некую травматическую операцию. Что делает серафим? Он вырывает поэту язык, он вставляет новое сердце – «угль, пылающий огнём». Сплошная травма: если это представить, это очень болезненная операция. Она восходит к операции соприкосновения, описанной в 6-й главе книги пророка Исайи: там ангел соприкасается с человеком, и человеку хочется убежать, потому что находиться ограниченному человеку рядом с существом безграничным – это очень мучительно, об этом писал Рильке. Это травма. Но когда эта травма принята поэтом и читателем, следующий этап – это терапия. И вот преображённый пушкинский пророк дальше глаголом жжёт сердца людей, - но для того, чтобы они духовно исцелились. И вот любое стихотворение несёт в себе два заряда: травматический заряд сбивает с толку. Вообще, стихотворение само по себе неудобно: мы идём в магазин, мы общаемся по телефону – и вдруг с нами начинают говорить на каком-то неудобном языке, где есть рифмы, где словарь какой-то непохожий, язык неудобный по отношению к речи бытовой… С этого начинается травма, начинается дискомфорт. Потом травма увеличивается, если это стихотворение нас захватывает. Но чтобы нас исцелить, надо нас травмировать: это двуединый процесс, процесс инициации во всех древнейших культурах. Пока поэзия не потеряла этот процесс травмы и излечения, она живёт. Это третье. И четвёртое свойство стихотворения заключается в способности разрыва. Литература живёт в некотором литературно-критическом замкнутом континууме. Это замкнутый литературный процесс. И, если этот процесс замкнут, - а он чаще всего замкнут, - у него есть своя система источников, это система аппликаций, наложения одних культурных вариантов на другие культурные варианты, на третьи, на четвёртые. Есть определённая референтная группа, которая определяет, насколько удачно это сделано. Так вот, эта аппликационная система всегда будет существовать в замкнутом поле, и система аппликаций может дать удачные с точки зрения интеллекта продукты. Но давайте не забывать, что интеллект всегда обращён в прошлое, он оперирует категориями, устремлёнными в прошедшее время. Такая замкнутая система литературного процесса ничего нового создать не может. Она способна остроумно комбинировать уже созданное. Я думаю, больше половины современной поэзии относится к поэтике аппликаций: это комбинация и рекомбинация уже сложившихся систем, которые, повторяю, ничего нового не дают. Для того, чтобы осуществить в стихотворении прорыв в новизну, нужна поэтика разрыва. Нужно такое стихотворение, в котором присутствует что-то большее, чем интеллект; присутствует тот элемент, который осуществляет связь пишущего с тем, что находится глубже интеллекта, вот с этим родничком, откуда мы вышли и куда мы все идём. Настоящий поэт всегда осуществляет эту связь – будь то Данте, будь то Вергилий. Это всегда поэтика разрыва. Это всегда прорыв литературной данности и выход туда, куда интеллект не войдёт; в современном мире об этих вещах рассуждать чрезвычайно трудно, поскольку современный мир систематичен, и вся современная филология стремится к систематизации, потому что это – безопасно, это – научно и это – удобно. Удобно для того, чтобы щаг за шагом писать какие-то книги статистические. Кто прошёл дальше, чем интеллект? Я бы сказал, что это Хлебников, который осуществил прорыв туда, где находится пространство, ещё не облечённое в слова, и он пил из этого родника напрямую. Это, конечно, Осип Мандельштам – глубочайший интуит, который никогда себе не позволял вторичности, он строил из первоматерии самого бытия. Вот эти четыре принципа и образуют, на мой взгляд, идеальное стихотворение. Я повторю, что это максимальное число перекодировок; это способность быть преступлением жизни против смерти; это способность к терапии и травматизму; и это способность к разрыву. Спасибо. Марина Яуре: Спасибо большое Андрею Таврову. Хотелось бы узнать, что думает о возможности идеального стихотворения и о взаимоотношениях поэта и традиции Ольга Балла? Ольга Балла: На самом деле мне очень нравится точка зрения Андрея Таврова, но я всё-таки рискну буркнуть, что эта точка зрения – при всей её чрезвычайной близости мне – исторически определённая. Читателям надо было проделать известный исторический путь, чтобы к такой точке зрения прийти. Иначе говоря, критерии идеального стихотворения, если и существуют, - всегда ситуативны. Они привязаны к определённой культуре, к определённому уровню понимания, к определённым ценностям. Наверняка найдутся люди, которые предложенных критериев не разделяют, и у них будет своя правда. На мой взгляд, поэзия не имеет массы покоя, поэтому никогда невозможно сказать, что будет идеальным стихотворением для всех времён и народов. Начаться поэзии с принципиально новой точки, думаю, тоже никогда не удастся, потому что для этого пишущему – даже если он, допустим, Мандельштам – пришлось бы забыть всё, что он знал. Рискну сказать, что, когда мы отталкиваемся от уже написанного – это вторичный жест; прийти к полной свободе в этом смысле не удавалось даже Хлебникову, хотя он максимально к этому приблизился. В чём свойство гения? В том, что он начинает двигаться от уже наработанного непредвиденными шагами в неожиданные стороны. А точка начала и отталкивания всегда предзадана. Поэтому мой ответ на вопрос о существовании идеального стихотворения: оно невозможно, но такой идеал существует, и его существование необходимо, просто каждая эпоха его по-своему моделирует. Оно существует как идея, но у него нет раз и навсегда заданных критериев. Марина Яуре: Уточняющий вопрос: как же быть со стихотворениями, пережившими не одно тысячелетие? Ольга Балла: На мой взгляд, это всё-таки вопрос рецепции, потому что, если бы дело было в самих стихотворениях, то кто-нибудь когда-нибудь описал бы те признаки, которые соответствуют идеальному стихотворению. По-моему, этого ещё никто не сделал, и слава Богу. Поскольку дело всё-таки в оптике. Бывает такое, что поэт в определённую эпоху читается, а потом выпадает из читательского оборота. В своё время очень активно читался Надсон, а кто сейчас способен читать Надсона без насилия над собой? Но мы не знаем – может быть, в 23-м веке, если человечество будет живо, откроют этого Надсона, и у них будет такая настройка оптики, что они откроют то, чего мы не видим. И хочу сказать, что на самом деле поэзия – это что-то вроде неток набоковских – когда подносишь к зеркалу некий странный предмет, и зеркало вдруг показывает осмысленный образ. Событие происходит тогда, когда совпадают нетка и зеркало, и к одной и той же нетке может быть подобрано множество разных зеркал. Борис Кутенков: Продолжая тему поэта и традиции. Мне вспоминаются слова, которые Игорь Волгин часто говорит начинающим поэтам: «Вы должны выбирать в соперники Пушкина и Мандельштама, а не своих сверстников». То есть – сразу ориентироваться на большие величины. В связи с этим у меня вопрос: должен ли поэт видеть себя в контексте, в некоей системе творческих связей? И что вообще для него значит этот контекст – взаимоотношения с теми, кто правит бал сегодня, или же в первую очередь взаимоотношения с поэтической традицией? А может быть, одно не мешает другому? Что думает по этому поводу Марина Яуре? Марина Яуре: На самом деле о соотношении традиции и новаторства было сказано уже много замечательных слов. Я могу поделиться только мнением поэта-провинциала, это мой основной литературный опыт, и в первую очередь выделить важнейшую педагогическую составляющую традиции, потому что каждый молодой автор, когда чувствует в себе желание писать, проходит, как эмбрион в утробе матери, определённые стадии, как бы эти девять месяцев. Он должен побыть рыбкой, птицей, побыть тритоном, у которого есть хвост. И, несомненно, он должен сначала укорениться в традиции. Когда Борис предложил порассуждать на эту тему, я обратилась к своему опыту. Мне повезло, когда я свои детские стихи принесла в библиотеку, мне попался очень наставник, который и порекомендовал посоревноваться с испанцами эпохи барокко, с английскими романтиками и скандинавскими скальдами… С этой попытки освоения всего, от фольклора до современной поэзии, начался путь движения вообще к себе. Поэтому традиция и попытка укоренения в ней – это необходимый этап развития. Действительно, нужна эта укоренённость, знание парадигм художественности, через которые проходило человечество, и знакомство с тем, что происходит сейчас в литературном процессе. Несколько лет назад я выпускала молодёжный интернет-журнал «Культурный слой», рассчитанный именно на ребят, живущих и пишущих в провинции. Хотя Наталия Черных и высказала мнение, что не стоит разделять поэзию на провинциальную и московскую, основаниями для новаторства и эксперимента, поводами для гневных статей и споров становились такие эпизоды, которые в Москве были бы просто невозможны. Скажет молодой поэт матерное слово со сцены – и это становилось на протяжении полугода поводом для полемики, ожесточённой и очень агрессивной. Так что знакомство с современным литературным процессом – следующий этап развития поэта: вот он вышел, как из утробы матери, из литературной традиции, и начинает познавать то, что актуально сейчас. Правда, современный ребёнок вряд ли вспомнит, что когда-то ездили на извозчике, он будет скорее думать об автомобилях. Вспоминается мне рассказ Чуковского, как ребёнок узнал, что Золушка ехала на карете, и спросил: неужели она была больна, неужели она ехала на «карете скорой помощи»? Вот так и современный поэт должен уже в какой-то момент пересесть с золушкиной кареты в автомобиль – увидеть тот контекст, в котором он должен существовать. Но закалку традиции – вот этот период рыбки, птички, тритона, обезьянки – он тоже должен в себе хранить, поскольку это «внутриутробное» развитие задаёт некий уровень художественности. Потому что художественные критерии сейчас очень формализованы и достаточно относительны: о любом произведении, вне зависимости от его объективных достоинств, можно рассуждать как о чём-то эстетически ценном. Вспомнился давний критический разбор в «Литературной учёбе», когда некий ученический текст исследовался как перл творения, однако же понятно, что ни по какому из критериев он не мог бы считаться текстом качественным, профессиональным, открывающим. Однако этот отрыв от традиции ведёт к полнейшему релятивизму оценок. Традиция нужна, традиция необходима и потому, конечно, что сражаться надо с противником, который сильнее тебя. Дмитрий Быков, рассуждая о творчестве Солженицына, постоянно повторяет одну мысль: когда Солженицын сражается против СССР – он хороший писатель, когда он сражается против смерти – он велик. Моё отношение к Солженицыну неоднозначно, но, может быть, действительно надо выбирать в соперники Мандельштама, чтобы преодолеть Мандельштама или, может быть, Катулла с «Odi et amo», а не Асадова, к примеру. Хотя кому-то не под силу преодолеть и Асадова. Борис Кутенков: Возвращаемся к разговору о внешних формах существования поэзии, удачно начатому Наталией Черных. С одной стороны, кажется, что рецепция поэзии сейчас ограничена кругом подлинных ценителей, и постоянно ставятся вопросы, что нужно сделать поэзии, чтобы выйти из этого видимого гетто? Существует такая точка зрения, которая часто исходит от представителей, условно говоря, консервативного лагеря, от представителей старшего поколения, что поэзии нужно быть более доступной, так как она по природе своей является разговором от сердца к сердцу. Должна ли поэзия снова взять на себя публицистические задачи, как в шестидесятые? Или она просто не может быть столь популярной, поскольку время не то? Свою точку зрения мы попросим изложить Лолу Звонарёву. Лола Звонарёва: Мне кажется, что поэзия сегодня действительно запирается внутри узкого круга в тот момент, когда она очень востребована, и необходимо искать формы её включения в повседневную жизнь. Вот я помню, что Римма Фёдоровна Казакова незадолго до своего ухода договорилась с руководством Центрального округа нашей столицы, и в московских лицеях проводились уроки поэзии. Она очень часто брала молодых поэтов, приглашала их к себе - и раз в неделю в течение часа читались стихи, говорилось о поэзии. Мой опыт работы с юными авторами – а я с 90-го года курирую разные детские журналы – показывает, что именно поэзия способна до высочайшей степени взволновать юную душу. И недавно был такой опыт: мы проводили презентацию альманаха «Серебряные сверчки», собрали детей из шести школ и их сверстники, старшеклассники – почитали свои стихи, поговорили… После презентации подошло несколько подростков с просветлёнными лицами и признались в том, что в своих школах они чувствуют себя чужаками. Вскоре они пришли в редакцию «Серебряных сверчков», и там, по их признанию, обрели круг единомышленников, а значит, жизнь подлинную. Мне тоже не близко противостояние московского и провинциального. Поскольку мы в редакциях детско-юношеских изданий, подготавливаемых юными авторами, всегда говорили, что, если тебе стихи прислал талантливый человек из региона, ты должен его в первую очередь опубликовать, поскольку ему совсем некуда прийти, а у тебя много вариантов в Москве. Недавно исполнилось двадцать лет литературному объединению «Феникс» в Рязани, которое ведёт талантливый бард, художник и поэт Нурислан Ибрагимов. Из этого «Феникса» вышло много достойных людей, некоторые из которых поступили в Литературный институт… Всё это получилось потому, что Нурислану удалось создать атмосферу сосредоточенного чтения классики, чтения текстов друг друга, - участники порой жёстко критиковали друг друга, но старались понять то заветное, что иногда формулировалось; пытались найти традицию, к которой прислонился тот или иной человек… Я вспоминаю, как жёстко в свое время травили талантливого поэта Ивана Семёновича Киуру, просто не понимая, что он шёл от финской поэзии ещё в 80-е годы. И поэтому мне кажется, что у нас путь один – это школы и работы с юными авторами. Мы не обязательно получим поэтов, мы получим читателя благодарного, который не мыслит жизнь без поэзии. И здесь, мне кажется, велика роль фестивалей. Мне жаль, что идёт такой печальный процесс уничтожения детских библиотек – их в последние годы закрыто около 400; вместе с ними «съедаются» и такие детские фестивали, как «Дети и книги» в Геленджике, организованный ещё в начале 90-х благодаря активности директора геленджикской детской библиотекари Екатерины Курс и поддержанный влиятельным детским писателем Романом Сефом. Этот фестиваль перестал существовать, а ведь в течение более десяти лет в Геленджике на фестивали собиралось до 600 пишущих подростков, и загорались такие звёздочки, как Елена Погорелая, когда-то выступавшая и там, и в «Фениксе»… Эта система детских литературных фестивалей, детских изданий, которую должны поддерживать писатели старших поколений, мне кажется, очень важна. Вот сейчас мы хотели провести в Литературном институте на семинаре Галины Ивановны Седых презентацию детско-юношеского альманаха «Серебряные сверчки». Очень важно помочь ребятам почувствовать себя одним поколением, как это произошло с нами, когда в 90-м году нас пригласил в журнал «Пионер» Анатолий Степанович Мороз, и было создано замечательное литературное общество молодых детских писателей «Чёрная курица». Многие мои ровесники, писатели среднего поколения – Лев Яковлев, Юрий Нечипоренко, Владимир Друк, Борис Минаев, Марина Бородицкая, Марина Москвина, Александр Дорофеев – писали его манифест, опубликованный миллионным тиражом в журнале «Пионер». Мы переживали, что хорошая книга уходит, и мы поехали выступать по детским домам, повезли свои книжки, свои журналы. Была потрясающая встреча, когда мы приехали в один из детских домов, и оказалось, что до нас писатели проводили «Неделю детской книги» 25 лет назад. Здесь есть огромное поле деятельности, и мне кажется, что если мы будем внимательны к младшему поколению как пишущих, так и читающих людей, то сможем поддержать их и помочь в дальнейшем себя высказать в поэзии и прозе. Марина Яуре: Но так ли необходимо для поэта признание профессионального цеха? Должна ли проходить его легитимация через разные инстанции вкуса – редакторские, кураторские? Что скажет по этому поводу Игорь Караулов? Игорь Караулов: Добрый день. Я бы хотел поговорить для начала о поэтическом успехе, призвании и признании. Пару лет назад у меня был довольно странный опыт: мы поехали милой поэтической делегацией в Абхазию. У нас была своя делегация – люди уже не очень молодые, но в маечках, джинсиках: я, Федя Сваровский, Коля Звягинцев и т.п., – и напротив нас абхазская делегация: суровые мужчины в галстуках, которые представляли друг друга так: «Вот это наш уважаемый поэт села такого-то…», «А это наш уважаемый поэт села такого-то…», «Абхазская литература умирает: двадцать лет назад в моём родном селе было восемнадцать писателей, а сейчас осталось всего тринадцать…» Вот это два мира поэзии: там, где сохранилось ещё понятие поэтического успеха, и там, где его нет и на него уже не обращают особого внимания, - точнее, не понимают, как это было. У многих поэтов есть такой опыт жанра «Бобик в гостях у Барбоса»: то есть поэт в гостях у радиоведущего – не у специалиста подобно Сергею Круглову, который знает, о чём говорить – а у такого весёлого мальчика, у которого задача – общаться с творческими людьми. Допустим, до меня он общался со стилистом Сергеем Зверевым или с каким-нибудь модным ресторатором. Обязательно в таких случаях ведущий спросит: «А можно ли зарабатывать стихами деньги?» На этот вопрос надо уже готовиться отвечать, потому что он обязательно будет: некоторые зарабатывают, например, Вера Полозкова – новое для них имя, - или Дмитрий Быков – имя для них уже, может быть, не новое… Ну а в остальном - зарабатывать стихами мы не можем: можно дослужиться до премии «Поэт», но это уже будут деньги на лекарства, поскольку человек уже старый. А вообщето да, вообще-то мы деньги не зарабатываем. А чего пришёл-то? – логично возникает вопрос. А пришёл, потому что я интересен как человек, сочиняющий стихи, интересен данному ведущему, но вместе с тем у меня нет успеха в житейском понимании. Есть какие-то публикации, но нет успеха. У нас последний поэт, который нуждался в обычном успехе в обычном понимании и который не выжил из-за отсутствия этого успеха, - это Денис Новиков. Я знал его примерно с середины восьмидесятых и знал, что человек действительно рассчитывал на то, что он будет писать стихи, будет публиковаться, и у него будет как у Евтушенко: машина шикарная, деньги и так далее. Но не получилось. И сейчас ни у кого уже не получается. А поскольку нет реального успеха, то человек ищет другие знаки: вот я пишу, а я поэт или нет? Тут нет, к сожалению, Дмитрия Кузьмина, который в этом символическом капитале очень хорошо разбирается, но я это понимаю примерно так: раздаются фишки, как в казино, вот на эти фишки мы играем. На выходе из казино нам их непонятно как оплатят, но пока мы играем на эти фишки: опубликовался в «Новом мире» - вот тебе три фишки, в какой-нибудь «Дружбе народов» - две фишки, а в «Воздухе» - понятно, все пять. Люди на это играют. Но эта система фишек постоянно меняется. Вот возьмём толстые журналы: они, как мы знаем, давно перестали платить нормальные гонорары. Когда-то, в 1989 году, мне случилось опубликовать три маленьких стихотворения в альманахе «Истоки», мне за это заплатила советская власть 170 рублей – такова была моя зарплата, молодого специалиста, на тот момент… Это не бог весть что, но с этой кочки открывалась перспектива: там подборка, здесь подборка, там рецензия, здесь перевод с туркменского – и вот уже, получается какой-то профессиональный литератор. Толстые журналы сейчас не платят, но у них оставалась экспертная функция. Особенно обострились эти разговоры, когда появилась Сеть и так называемая сетература, стали множество всяких текстов в Сеть вываливать, и тогда возникла такая концепция: вот это всё – сетевая помойка, там графомания, а вот эксперты, лидеры вкуса, это толстые журналы, они выполняют эту функцию, и чего нету на бумаге – того не существует. Были такие критики, которые отказывались рассматривать то, чего нет на бумаге. Но потом, как мы знаем, в середине нулевых годов ситуация начала меняться, и сейчас она полностью перевернулась: чего нет в Сети – того не существует. А журналы, соответственно, сгрудились в «Журнальный Зал». К чему это привело? К тому, что отдельных толстых журналов у нас теперь нет, они превратились в подразделы «Журнального Зала». Я как читатель не особо слежу, честно говоря, в каком журнале опубликовано то или иное произведение, та или иная подборка, но я знаю, что это – в «Журнальном Зале». Я могу обратить внимание, что, если там написано сверху «Новый мир», то, значит, это отбирал Паша Крючков, а если написано «Знамя» - то отбирала Ольга Юрьевна Ермолаева. Но вообще-то мне всё равно. Журналы все уравнялись по статусу: совершенно всё равно, где выйдет подборка у человека, в «Новом мире» или, там, в «Новом береге», который тоже очень хороший журнал, там прекрасный поэт Сергей Шестаков отбирает стихи и тоже плохого не выберет. Или, скажем, в самом лучшем, помоему, теперь журнале «Волга», который отличается, во-первых, хорошим вкусом, а во-вторых, не связан какимито условностями: ну, скажем, не обязан, в отличие от «Знамени», печатать нашего министра Улюкаева из года в год. А, во-вторых, вследствие этого все журналы, которые у нас в «Журнальном Зале» помещены, они выравниваются не только по статусу, но ещё и по содержанию: людям всё равно, где печататься, а журналам всё равно, что печатать. И, в итоге, одни и те же люди могут печататься в пяти, в восьми журналах: нет такого – круг авторов вокруг какого-то определённого журнала. Все журналы стали похожи. И, к тому же, у нас есть не только «Журнальный Зал», а ещё и «Мегалит» - очень точно название отражает ощущение мегапортала поэзии. В конце концов, вся эта система экспертная так называемая тоже стала напоминать такой сайт свободных публикаций, потому что все всюду опубликуются: если не берёт «Новый мир», не берёт «Знамя» - ну, возьмёт какой-нибудь «Зинзивер», возьмёт какой-нибудь «Крещатик», который совсем не в Киеве издаётся, и так далее. И, в связи с этим, понятно, что уже этот способ легитимации – такое модное было слово, Кузьмин его тоже очень любил – постепенно размывается. Ну, подумаешь, опубликовался, - это что, событие? Никто этого особо не заметил, потому что этих журналов море, и все находятся в одном месте, и все в одних условиях читательского доступа. Поэтому люди начинают искать способы побега из этого курятника. Эта система, этот цикл авторский – подборка, книжка, презентация, номинация… ну, дальше премия – это хорошо, это святое, но премии же не всем достаются и нечасто, там тоже свои подводные камни. Я помню, самый радикальный побег совершил в своё время Герман Лукомников, который пошёл в зоопарк читать стихи зверям. Он до этого экспериментировал: читал стихи пациентам психбольницы, потом - заключённым на зоне, и вот, наконец, пришёл в зоопарк и честно прочитал стихи зверям. И, мне кажется, тут впору сказать некоторым слушателям: люди, вы звери, - потому что, я думаю, это был не худший эффект среди аудитории, особенно именно для такого автора. Но, тем не менее, мы видим, что другие авторы тоже стремятся выйти за пределы курятника – пусть не так радикально. То есть поэзия сейчас, как она в своё время ушла в бардовскую песню – сейчас это уже совершенно скомпрометированный жанр, уже дороги туда нет – идёт в направлении синтетического искусства: видеопоэзия, весьма перспективная и хорошо воспринимаемая, поэзия плюс музыка – это, опять же, Вера Полозкова делает, и Воденников это делает, и Павел Жагун со своей «Поэтроникой»; поэт плюс актёр, как у Быкова с Ефремовым; поэт плюс политика, как Кирилл Медведев или всем нам известная Маша Алёхина из «Pussy Riot». Это всё следствие поэтической замкнутости нулевых годов, когда всё замкнулось в этих подвалах тёмных, где наливают дешёвую файзовскую водку – всегда самая плохая водка у Файзова, он хороший человек, а водка плохая – и поэтическое признание состоит в том, что сидят за столиком неструганым три смурных, плохо одетых человека, пьют эту водку, закусывают хрен знает чем, и, если ты признанный человек, то они пригласят тебя к себе за столик, а если не признанный – то не пригласят. Вот таким было это поэтическое признание, этот поэтический успех. Естественно, что сейчас, в десятые годы, наметилось какое-то открытие поэзии миру. Вот говорят: нет читателя, простой народ не читает, люди шарахаются… Мы выступали недавно с хорошими товарищами в Череповце, и это был единственный поэтический вечер, на который пришёл мэр города, там прекрасный мэр… У нас сейчас борются два пласта чиновников: развитие одних остановилось на Евтушенко, а есть другие чиновники, они уже доросли до Бродского – это Ройзман, это тот самый Юрий Кузин прекрасный из Череповца. С чем нас можно поздравить, потому что это действительно новое поколение, это знак. Там старушки говорили: а что это вы читаете такие короткие стихи, вот Евтушенко – это да… А люди из Абхазии, которых я упоминал, говорили: что это вы к нам приехали, вот раньше Евтушенко приезжал, вот это я понимаю… Так вот, дело не в потере аудитории простых людей: простые люди на самом деле никогда не интересовались поэзией по большей части – по крайней мере, той поэзией, которая нас тут с вами интересует. Трагедия в другом: потеряно внимание элиты, интеллигенции, то есть самых ближайших смежников по интеллектуальному цеху. Стихи интересуют мало кого из прозаиков, почти не интересуют журналистов. В своё время, я помню, наш популярный журналист Максим Соколов, который очень любит цитировать, просто плетёт свои статьи из цитат, иногда даже перегружая ими, - всё жаловался, что после Бродского некого процитировать: ну вот появился Емелин, которого может процитировать журналист к месту, и достаточно большое количество читателей эту цитату поймут. Но вообще да, процитировать некого, поэтому цитируют до сих пор кого угодно: и Пастернака, и Вознесенского, и того же Евтушенко, а современных поэтов невозможно. Не говоря уж о том, что даже преподаватели-словесники тоже совершенно не знают современную поэзию, и не по своей же вине. Поэтому, скажем, выступления в школах – это тоже побег из курятника в каком-то смысле. Борис Кутенков: Мне в продолжение эмоционального выступления Игоря Караулова хотелось бы поднять вопрос о поэте в системе творческих связей. Важна ли для него эта система? Всё-таки сложно согласиться с Игорем Карауловым, что все журналы так уж уравнены в правах: всё-таки определённые редакторские, кураторские инстанции по-прежнему имеют для большинства авторов превалирующее значение – «Новый мир», «Знамя», «Арион», «Воздух»… Можно по-разному относиться к политике каждого из этих журналов, но, что называется, они удерживают репутацию. В связи с этим для многих молодых поэтов, как я замечаю, важнее понравиться соответствующим редакторам, оказаться немедленно «встроенными» в контекст: и тут вопрос о профессиональной учёбе, о медленном дорастании до своего голоса вообще нивелируется. Представим две ситуации: приходит человек со своими ещё незрелыми стихами в Литинститут, там его начинают учить, говорить ему, что хорошо, что плохо в соответствии с вкусами руководителя семинара, который зачастую отстранён от литературного процесса. В этом «обучении» тоже есть свои плюсы. Но представим другую крайность: человек с этими же стихами приходит в одну из соответствующих инстанций, символизирующих легитимацию автора и его признание. Там его начинают печатать те, чьи вкусы тоже зачастую субъективны. В связи с этим возникает целый шлейф вопросов: нужна ли вообще так называемая профессиональная учёба? Насколько для поэта важна творческая эволюция? И, кстати, современные поэты приходят уже сложившимися или претерпевают эту эволюцию? А наблюдается ли обратное движение – в сторону деградации? Или поэт, как писал Блок в своей знаменитой статье «О назначении поэта», - величина неизменная? Хотелось бы спросить мнения Вадима Муратханова. Вадим Муратханов: Прежде всего для поэта, для его роста, эволюции, наверное, важны не столько инстанции и та легитимация, которую они дают, сколько люди, которых он в этих инстанциях встречает. Когда-то мне очень помог редактор одного из первых профессиональных журналов, куда я обратился, – Сабит Мадалиев. Если бы рукопись пришла по почте, то, скорее всего, не получилось бы личного контакта. Но так сложилось, что я принес ее в редакцию и получил отклик именно в тот момент, когда это было необходимо: когда любое слово впитывается и может прорасти. В принципе, эти два процесса, безусловно, взаимосвязаны – я имею в виду легитимацию, признание, оценку, степень известности и широту публикаций, с одной стороны – и, с другой стороны, рост поэта. И всё же это процессы совсем не тождественные. Они протекают в разных измерениях. Мне известны, например, поэты, которые не публиковались в течение многих лет, прежде чем оказаться востребованными, замеченными. У них происходил процесс накопления материала, оттачивания навыков, знакомства с традицией, её переваривания и преодоления. И этот период неизвестности и пребывания в тени не помешал в конечном счёте заявить о себе. Бывает, что человек, не получив поддержку на каком-то этапе, может охладеть к литературе. Но, может быть, это говорит о том, что изначально заряд был не настолько велик, не настолько силён. То же можно сказать и о среде, в которой поэт формируется. Да, важно, как заметила Марина Яуре, преодолевать авторитеты, перерастать и отталкиваться от них. Но важно и присутствие рядом интересно работающих ровесников. То есть решающую роль играет не инстанция сама по себе – журнал или салон, – а человеческий фактор. Очень часто обмен энергией, который необходим для роста и развития поэта, происходит на межличностном уровне. А что касается инстанций – то мне, например, легче и плодотворнее всего писалось в те два года, что я прожил в Волгоградской области, в городе Волжском. Там не было «толстых» журналов и литературной среды в столичном понимании, там не знали современной поэзии. И именно эта ситуация оказалась в тот момент для меня очень комфортной: можно было просто писать, ни на что не оглядываясь, не собирая подборок. Признание же и известность сами по себе не обязательно предполагают творческий рост. И еще, о развитии поэта. В формулировке вопроса есть слово «эволюция». Эволюция не предполагает вытягивания себя за волосы из болота. Эволюция – это когда что-то растёт само, когда происходят какие-то процессы, не сильно зависящие от воли того, в ком они происходят. И здесь тоже решающий фактор – не литературная среда, то есть, как восприняли тебя и твои тексты, где они вышли, оценены ли по достоинству и премированы ли они. Может быть, здесь стоит говорить шире – не о литературной судьбе поэта, а о его человеческой судьбе. Борис Кутенков: Продолжая разговор о творческой эволюции поэта, хотелось бы также обратить вопрос к Вадиму и вспомнить два тезиса: один принадлежит Игорю Шайтанову: «Среди стихотворцев моложе пятидесяти нет безусловных имён, есть колебания стиля». Алексей Алёхин понижает возрастную планку, говоря о поэтах сорока-тридцати лет, реально существующих в современной литературе. Вадим, на чьей Вы стороне в споре этих двух мнений? Что такое «безусловное имя» в современной литературе, возможно ли такое вообще? Как создаётся подобная репутация – только ли стихами, длительным ли публикационным опытом, чем-то ещё? Есть ли шансы на эту безусловность у современных молодых стихотворцев? Вадим Муратханов: Мне сложно присоединиться или опровергнуть прозвучавшие тезисы, и вот почему. В сегодняшнем разговоре был упомянут Надсон. Можно вспомнить и других – например, Бенедиктова. Когда-то они были популярны, но сейчас этих поэтов никто не читает, кроме филологов, специалистов. Просто за несколько десятилетий меняется оптика. Безусловно признанных молодых авторов в поэзии сейчас, наверное, нет. На прошлогоднем круглом столе «Современная поэтическая критика: расцвет или умирание?» (27 марта 2013, Литературный институт им. А. М. Горького; текст стенограммы – здесь: http://www.promegalit.ru/publics.php?id=7144. – Прим. ред.) мы уже касались этого вопроса. Литература в России сейчас не иерархична, и поэтому те имена, которые котируются в одних кругах, не внушают никакого пиетета в других. Мне хотелось бы пожить подольше и посмотреть на сегодняшнюю поэзию через призму объективного отсева, который выполнит за нас время. Ведь, скажем, и Бродский не сразу стал Бродским: в начале 60-х он был одним из питерских поэтов, подающих надежды. Марина Яуре: Хотя современная поэзия как некая общность не иерархична, всё же молодому автору нужно каким-то образом входить в эту сферу, в этот круг. С чего необходимо начинать - со стихов, принесённых в редакцию? Нужно ли вообще уметь себя подать? Нужно ли искать признанных инстанций вкуса? Создают ли они сейчас репутацию автору? Для ответа на этот вопрос я хотела бы обратиться к Елене Семёновой. Елена Семёнова: Я разделила этот вопрос на три части: как вести себя молодому автору, с чего начинать; нужно ли нести свои стихи в редакции; являются ли толстые журналы архаичными формами авторепрезентации. Тут, на мой взгляд, всё зависит от целей, которые ставит перед собой автор. Мы имеем перед собой яркий пример признанного гения Велимира Хлебникова, которого, если верить воспоминаниям современников, его включённость в поэтический процесс мало волновала: он объявил себя Председателем Земного Шара, бродил по стране со своей наволочкой стихов, и его не особо волновал его статус в общественнопоэтическом мире. Другой характерный пример – Фёдор Тютчев, основную деятельность которого составляла его дипломатическая карьера, и, если бы друзья не собирали его стихи по отдельным журналам и если бы Пушкин не напечатал его в «Современнике», то, может быть, многие его произведения были бы утеряны для потомков. Это не единственный пример, но всё-таки думаю, что в большинстве случаев степень включённости автора в поэтический мир должна быть подтверждена: поэт должен видеть, как реагируют на его творчество как интеллектуалы, так и простые люди. Не потому, что он должен специально строить себя под них, а чтобы внутри него формировался некий внутренний редактор, делающий пометки и закладки. Грубо говоря, если перевести на коммерческий язык, то получается такое понимание собственной внутренней идентификации, такое маркетинговое исследование, которое делается для самого себя, для понимания идентификации и внутренней оценки своего дара. Молодой автор, если он не считает писание стихов исключительно путём к личному самосовершенствованию, - это встречается достаточно редко, - должен пробовать все варианты и в зависимости от этого понимать, что он чувствует и на что он годен. Мы знаем, что одни стихи хорошо воспринимаются с эстрадной сцены, в актёрском исполнении – значит, молодому поэту надо пробовать читать стихи для разной публики: в библиотеках, музеях, кафе, клубах. Кстати, даже здесь существует разделение: одно дело – читать стихи в тиши библиотек, когда слушатель уже заранее настроен воспринимать стихи, и совсем другое – в шумном клубе, где большую роль играет подача: лично мне это не близко, потому что я считаю, что в таких условиях слушателю очень легко предложить подмену, фальсификацию поэзии. Тем более что среди нынешней широкой публики понятие поэзии вообще смещено, если можно так выразиться, расцентрировано, и часто за поэзию принимают некоторый перформанс или другие формы самопрезентации. Но в малых дозах, думаю, такой опыт для поэта необходим. Ни для кого не секрет, что многие молодые поэты – например, Анна Русс, Алевтина Дорофеева и другие – смогли ярко заявить о себе именно на поэтических слэмах. Игорь Караулов здесь много говорил о новых формах автопрезентации поэта – вроде видеопоэзии или опыта Германа Лукомникова… К этому ещё хочу добавить интересный вариант, который предложил Александр Курбатов – это «Поэтические кабинки»: поэт заходит туда вместе со слушателем, и получается такой интимный диалог поэта и слушателя. Насчёт видеопоэзии мне могут возразить, что здесь реципиент воспринимает здесь не «чистый» текст, а текст в обрамлении визуальных и звуковых эффектов, но всё-таки текст – это стержень, и, если он зацепил слушателя, тот наверняка к нему так или иначе вернётся. Но существуют стихи, которые можно воспринимать только сидя дома в тишине, и это тот случай, когда слушателя сложнее обмануть, у него есть время подумать, посидеть, чтобы его не обманули броским модным набором фраз. Сегодня много говорили о том, что молодому поэту сегодня обрести читателя легче размещая стихи в личных блогах, на интернет-порталах – и мы, собственно говоря, знаем, что это наиболее широкий и доступный путь. Но успех, полученный таким образом, даже если стихи стали популярными в блогосфере, - тут, конечно, нужно намекнуть опять на Верочку Полозкову, которую уже неоднократно сегодня упоминали, - может стать часто обманкой, потому что читательская масса с разными образованиями, нравственными критериями и вообще разным понятием о поэзии не может служить ориентиром. И вот тут мы приходим к вопросу о редакциях. Сколько бы мы ни твердили, что толстые журналы, в общем-то, отмирают, всё равно то, что сегодня может быть отобранным для печати в них – это некоторый интеллектуальный ценз. Так что пробовать отдавать стихи в газеты и журналы обязательно нужно. Это, в общем-то, один из лучших способов найти аудиторию, которая даст достойную оценку. Следующая часть вопроса: формулировка, предложенная Борисом: «Творчество часто рождается в уединении. Есть ли здесь конфликт с замеченностью? Стоит ли вообще проблема такого выбора?» Это интересный и сложный вопрос для меня как для человека, который тоже пишет стихи. По сути, стихотворение похоже на ребёнка. Вот он рождается: иногда легко, иногда в муках, и ты пестуешь его, ласкаешь, перестраиваешь эпитеты, настраиваешь образы. Но когда оно кажется хилым и слабым – ты его никому не показываешь, стыдишься, а вот если оно, по твоему мнению, прекрасно, мне кажется, ты в любом случае захочешь его кому-то показать, ты не сможешь, как это бывает в сказках, ходить и читать свои стихи цветам, полям. В любом случае, должен быть слушатель, и, если есть хотя бы один человек или группа людей – это здорово. Возвращаясь к вопросу об аудитории: если таких людей становится много, ты замечен – то возникает проблема дезориентации, особенно для молодого поэта, нечто вроде искушения. Иногда поэт, сам того не замечая, начинает отрабатывать некоторые модные тенденции, писать под кого-то, а с поэзией это, по-моему, несовместимо. Резюме: нужно искать слушателя, чьё мнение для тебя важно. Ещё по поводу толстых журналов: тут я уже не буду нова – широко известно, что толстые журналы были гегемоном в советскую эпоху, тогда напечататься там было для автора огромным и значимым событием, своего рода инициацией, ступенькой. Думаю, что в сильно ослабленном варианте это существует и сегодня. На мой взгляд, публикации в них всё-таки создают некоторую репутацию автору, но, естественно, не абсолютную, а частичную. Как и литературные премии: надежды даются, а люди могут их обмануть. Везде будут разные вкусовые оценки. Для меня отрадный момент в современном процессе поэзии заключается в том, что немногочисленные любители оценивают автора не по одёжке, а именно по самим произведениям, по стихам. Борис Кутенков: Спасибо, Елена. У нас осталось полчаса, нужно затронуть ещё две темы. «Мэйнстрим: проклятье или благо?», - так сформулировал тему своего выступления Виктор Куллэ, который не смог прийти сегодня из-за болезни. Но я знаю, что у Лолы Звонарёвой есть мнение по этому поводу. Хотелось бы вернуться к вопросу об именах, который сегодня уже поднимался. Лола Уткировна, считаете ли Вы, что подлинный поэтический голос сегодня может быть замечен только в связи с так называемой «тусовкой», или истинные имена чаще обходят столбовые линии литпроцесса? Кого бы Вы могли назвать из незаслуженно малоизвестных имён, и в чём, по-Вашему, причины недостаточной замеченности этих поэтов, если таковые есть? Насколько для поэта важна социальная интеграция? Лола Звонарёва: Мне действительно кажется, что в нашей молодой литературе уже наметились яркие имена. Возможность одаренным авторам заявить о себе дали уже упоминавшиеся семинары на Форуме молодых писателей в Липках, где ведется тщательный предварительный отбор, по сути поиск перспективных авторов, а потом - в течение целой недели – напряженная работа с профессионалами. Где-то в 2001 или 2002 году мы с Кириллом Владимировичем Ковальджи руководили поэтическим семинаром в Липках, и сразу заметили Игоря Белова из Калининграда. Тогда у него совсем не было публикаций; через некоторое время его стихи напечатали в «Знамени», в «Континенте». Жюри вскоре присудило ему премию «Эврика» (я была ее ответственным секретарем, а финансировал ее А.П. Потемкин). Сегодня это достаточно авторитетный писатель в молодой поэзии 30-летних. Несмотря на то, что он живёт в Калининграде, его голос слышен во всей Европе. Конечно, мы понимаем, что во многом он ориентируется на Бродского. При этом, не имея филологического образования, он попытался пойти путём Бродского, - изучил в совершенстве польский язык. На сегодня из русских молодых поэтов уже двое получали гранты Министерства культуры Республики Польша и жили по полгода в Варшаве, переводя лучших польских поэтов – это Игорь Белов и Евгения Доброва. Доброва специально для альманаха «Литературные знакомства» перевела польских поэтов, причём, исключительно своих ровесников, поэтов новой волны. Они считают, что путь русского поэта подразумевает чувствование плеча поэта европейского. Игорь Белов также делает акцент на поэтах украинских. Их стремление всё время участвовать в международных фестивалях, продвигать талантливых сверстников из Украины и Польши заслуживает уважения. В семинаре тогда участвовал поэт другого темперамента, не менее талантливый, чем Белов, - Сергей Михайлов. Но он абсолютно не известен по причине своей эмоциональной дистанцированности от литературной тусовки. На семинаре мы всё время с Кириллом Владимировичем Ковальджи говорили о том, что среди прочих участников это были две яркие звездочки. Мне жаль, что голос замечательного лирика и философа Сергея Михайлова, живущего в Калининграде, почти не слышен в России. Когда-то мы дружили со знаменитым художником Михаилом Михайловичем Шемякиным. Вспоминаю его слова о том, что судьбы литературы и искусства решаются в четырёх городах: Москва, Петербург, Нью-Йорк и Париж, живя на периферии, стать по-настоящему известным невозможно. Это спорная точка зрения, но я несколько раз в последние годы была на фестивалях в Финляндии и в Белоруссии (Полоцке), и увидела, что действительно есть очень талантливые люди, на мой взгляд, недостаточно известные. Хотелось бы назвать несколько имён – Татьяна Перцева и Алексей Ланцов из Хельсинки. У каждого из них по одной книге. У себя в Финляндии они известны, но здесь мы их почти не слышим. Они пытаются преодолеть свою географическую отдалённость. Поэты Белоруссии, пишущие по-русски, создали объединение «Полоцкая ветвь», развивают своеобразную теорию - «катарсизма» в поэзии. Там тоже есть интересные авторы: супруги Максим и Татьяна Шейн: он - по образованию юрист, она - врач-микробиолог. От их последних книжек веет свежестью, и ясно чувствуется, что у каждого есть свой индивидуальный голос. Они даже не мечтают прорваться на страницы наших столичных журналов. Для них единственная возможность ярко проявить и выразить себя – это международные фестивали и региональные русскоязычные журналы, как в той же Финляндии, которые часто возглавляют 30-летние филологи-интеллектуалы, внимательные к текстам, вне зависимости от имени. Они могут на конкурсе переводов выбрать объективно лучший текст, а не отдать предпочтение хорошему знакомому или приятному человеку. И здесь, мне кажется, наша общая задача – множить количество этих фестивалей, чтобы дать реальную возможность заявить о себе любому одаренному человеку. Конечно же, важно приглашать побольше польских, болгарских и украинских поэтов, чтобы молодые люди чувствовали дружественное плечо друг друга, чтобы наши российские авторы понимали, что творится в европейской поэзии. Я представляю альманах «Литературные знакомства», мы часто публикуем на своих страницах стихи авторов из разных регионов и стран. Здесь можно вспомнить фестивали «Литературная Вена» или «Русские мифы» в Черногории, которые тоже часто открывают новые имена, помогают услышать талантливых авторов. Мне кажется, эти процессы обнадёживают, и хорошо, что в наши дни, когда мы постоянно слышим по телевизору про русофобию, польское Министерство культуры финансово поддерживает русских поэтов, и их тексты уже известны их польским сверстникам. И думаю, что это направление – диалог с Европой, опора друг на друга и выход на международную литературную арену – сейчас наиболее перспективен. Борис Кутенков: А что думает Наталия Черных? Наталия Черных: В целом – мысль действительно очень симпатичная и, мне кажется, даже верная. Фестивали – действительно единственная «живая» возможность очертить ещё один невиртуальный ареал обитания поэзии. Хотя совершенно непонятно, почему поэтам, живущим в Финляндии, не прислать стихи в «Арион» или «Воздух»: я думаю, Кузьмин с удовольствием сделает большой раздел о русской поэзии; насколько я его знаю, ему это будет очень интересно. А что касается мэйнстрима – вреден он или нет, связан ли с тусовкой… Вот тут упомянули Ковальджи, и сразу у меня такой виток памяти: 1995-й год, заседание Лиги литераторов, и там спорят о том, что же такое экзистенциализм. Неизбежность – даже не в том дело, что экзистенциализм – это неизбежность, а просто это нечто такое стержневое. Да, действительно, мэйнстрим есть, никуда от этого не денешься, его надо знать. Тусовка тоже есть, от неё никуда не денешься, её надо знать. А всё остальное уже от тебя зависит. Спроси любого, что такое мэйнстрим? Он ответит: Быков. Еду недавно в метро, заходит Быков: большой, важный, едет со мной две остановки… И после этого говорить: мэйнстрим, мэйнстрим… Вера Павлова, Вера Полозкова, Воденников. Ну а кого ещё можно назвать? А что касается тусовки: Игорь очень красивую картинку нарисовал, это едоки картофеля. Вот все сидим вокруг этого солнышка, все согретые. И, если понравился – давай к нам, тебе нальют. От этого тоже – ну куда денешься? Что касается меня, то я водку у Файзова не пью никогда, поскольку не пью вообще. Но я бываю почти на всех мероприятиях. (Смех). Игорь Караулов: Эксперименты надо ставить над собой: иногда выпить водку Файзова. Ольга Балла: Это инициация. Наталия Черных: Игорь, это только на девятое мая, потому что там ещё сало дают. А между прочим, Файзов Файзовым, хихи-хаха, а это единственное адекватное мероприятие за последние годы, которое я видела: собираются поэты, читают военные стихи – без антуража, безо всего, просто читают военные стихи. Могут свои читать, но это уже будет не очень. Стихи разных поэтов, иногда совершенно неожиданных: я для себя узнала очень много нового. Ну и финалом там – стопарик, кусочек хлебца, кусочек сала, ну, чисто фронтовое. Иногда бывают очень интересные выступления: вот Ватутина там такую красивую речь закатила в прошлом году о женской доле в войне, очень красиво говорила, до сих пор отпечаталось. И, естественно, поэт входит во всё это, у него устанавливаются отношения, симпатии, публикации. А фестивали – они чем хороши? Сквозняком. В клубе всё равно воздух спёртый. Появляется фестиваль, масса новых людей, масса организаторов, где-то там что-то, накладка на накладке, кто-то психанул, ушёл, кто-то наоборот: «А, давайте мы всё сделаем», появляется ещё один харизматик, и всё становится на места. Новый вариант знакомства. Фестивали очень хороши, я думаю, что это нужно. А куда деться? Если бы я не читала стихи Веры Павловой, я бы что, много потеряла? Конечно, нет. Но я бы сильно потеряла в уровне профессионализма. Да, мне её стихи не нравятся, но я как профессионал могу сказать, почему её стихи сейчас читаются. То же самое с Верой Полозковой, которая когда-то, в 2006-м году, была намного интереснее, чем сейчас. А что касается самореализации – публикации, конечно, давят: если у тебя одна Сеть или только бумага или Сеть – это, конечно, ничего не решает. И вот эти выходы – видеопоэзия, голосовая поэзия, фестивали sound-poetry, которые уже около десяти лет проходят. Ну они, конечно, немного с авангардным смещением, но о них надо знать. Просто нужно смотреть «Новую литературную карту России», там всегда сообщение есть об этом. Здесь границы немного расширились: не далее как несколько дней назад, 19 февраля, у нас была внеочередная сессия проекта «Юникаст», который этим занимается – сочетанием видеоряда, звукоряда и поэтического слова. И вот волей-неволей пришлось признать, что да, сейчас это оптимальный вариант для поэта. Вот если поэт умеет играть на музыкальном инструменте, то это сто процентов. Я всю жизнь хотела играть на фортепиано и на скрипке, и думаю, что много потеряла, что не научилась. Марина Яуре: Спасибо. Мы уже не раз поднимали вопрос о публикациях в толстых журналах, но хотелось бы затронуть вопрос и о соотношении поэзии и книгоиздания. Насколько важно сейчас вообще издавать книгу, насколько это важная часть репрезентации – по сравнению с аккаунтом в социальной сети? И как быть с электронными вариантами поэтических книг – вытеснят ли они традиционные формы книгоиздания или всё-таки бумажная книга будет продолжать жить? Хотелось бы спросить об этом Ольгу Балла. Ольга Балла: Прежде всего я думаю, что книгу издать, конечно, важно. Мне не очень нравится слово «отчёт», но другого что-то не подберу. Но, в общем, книга – это форма весомого отчёта культуре о том, что ты в ней присутствуешь и что-то в ней сделал. Книга мне мыслится как сумма, как итог процесса, поэтому напрашивается это окаянное слово «отчёт», а вообще я думаю, что разные формы репрезентации текстов и могут, и должны не вытеснять друг друга, а сосуществовать и сотрудничать. У всего электронного есть преимущество быстроты и широты распространения. С другой стороны, у него есть существенный недостаток: энергозависимость и зависимость от довольно хрупкого цифрового носителя. Скажем, заблокировали сайт или взломали – и текста нет. Грохнулся жёсткий диск – и всё, полетели все твои тексты; нет электричества, не можешь зарядить электронную книжку – ты ничего не прочитаешь. Поэтому бумага хороша как средство от неизбежной ненадёжности. Как (чуть более) надёжная страховка от исчезновения - бумага ещё поживёт. Что касается издательских брендов – я не думаю, что они так уж прямо важны (хотя издающиеся авторы, скорее всего, ответили бы на этот вопрос иначе). Если автор сильный – он в любом случае бросится в глаза, даже если это будет где-нибудь на «Stihi.ru», даже если это будет в «Живом Журнале». Например, мне как читателю многие поэты – интересные, сильные, - стали известны именно из «Живого Журнала», который вроде бы никакой культурно весомой формой репрезентации текстов назвать нельзя. Но это имеет некоторое предварительное важное ориентирующее значение для читателя: то есть, если ему, скажем, не повезло наткнуться в «Живом Журнале» на какого-нибудь сильного поэта, - он видит, допустим, что книга издана «НЛО» в серии «Новая поэзия», и для него это уже определённая рекомендация. Он примерно знает, чего ожидать. Но, на мой взгляд, можно без этого обойтись. Я прекрасно обхожусь без, действуя простым грубым способом: раскрываешь книгу на любой странице и смотришь внутрь: втягивает тебя или нет? Будоражит тебя или нет? Это может застигнуть абсолютно в любой книге, где угодно изданной. Сумма всего этого сумбурно сказанного такова: что электронные и бумажные носители равно важны, равно дополняют друг друга. Ни от чего не будем отказываться, а будем благодарны за то, что они есть. Вот, например, книга Андрея Таврова, которую я сегодня обрела в бумажном виде – я её сперва скачала в электронном и предыдущей ночью читала. Марина Яуре: Вспомнились мне эксперименты Павича в преддверии компьютерной эры: «Хазарский словарь», «Ящик для письменных принадлежностей» и другие методы создания прозаических книг. А не влияет ли появление электронных книг на композицию или на изменение отношения, может быть, к книге стихов? Ольга Балла: Я, например, этого не чувствую. Но мне как человеку, выросшему в бумажную эпоху, приятнее иметь дело с бумагой, потому что бумажную книгу можно видеть в разных местах одновременно: допустим, если ты про книгу пишешь как критик или как литературный обозреватель, ты можешь одновременно видеть несколько страниц и, таким образом, иметь о них некоторую целостную мысль. А электронные книжки листать долго. Поэтому, в общем, бумага функциональнее, на мой взгляд. Борис Кутенков: А что думает Андрей Тавров – как единственный из нас издатель, куратор поэтической серии «Русского Гулливера»? Актуальна ли проблема противостояния электронных и бумажных книг – и в какой связи? Имеют ли значение для автора издательские бренды? Андрей Тавров: Мне кажется, что и бумажные, и электронные носители дополняют друг друга. Я как-то себя ловлю на том, что, когда начиналась перестройка, я радовался, что марксизм накрылся, что люди перестали ориентироваться на базис, на социальные отношения, на возможности техники, на что-то такое сугубо материальное для того, чтобы настройка над этим делом ориентировалась и обслуживала как раз свой базис. А сейчас я вижу, что мы опять к этому приходим, что разговор идёт вокруг этих всех вещей второстепенных, как будто они главные для поэзии. А для поэзии они вообще не главные, вообще не имеют значения. Потому что ведь что такое поэзия? На сегодняшний день и всегда поэзия – это форма преодоления литературы, форма преодоления гравитации, форма преодоления базиса. Это создание той функции, из которой сам по себе растёт новый орган. Вот что такое настоящая поэзия. Она не страдательна, она наступательна. Она формообразующа, она создаёт то пространство, к которому всё остальное подстраивается. Она формирует новые миры, она формирует новые отношения. Всё остальное – литературный процесс, который вполне укладывается в марксистскую парадигму, которую мы сейчас и обсуждаем. Для меня это вообще не очень важно и не очень интересно – несмотря на то, что вместе с Вадимом Месяцем мы издаём книги: мы издали, кстати говоря, первую книгу Владимира Беляева, мы издали много прекрасных других авторов – вот сегодня, вернее, завтра утром, я буду отправлять в Челябинск двадцать книг Николая Болдырева: это совершенно гениальный человек, уральский самородок, философ, эссеист. Мы издаём по принципу – как сказала Оля Балла – чтобы что-то зацепило, чтобы что-то отозвалось, чтобы это было что-то будоражащее и потрясающее. Вот когда этот момент происходит – мы издаём без всякого колебания. Первая книжка, кстати, Саши Иличевского тоже в нашем издательстве вышла. И многие другие авторы. Просто мы так много издаём, что за нами не уследить. И мы всегда рады новым авторам на страницах нашего журнала «Гвидеон», где я являюсь главным редактором, мы выходим второй год, четыре раза в году. Я повторяю, что вот эта страдательность, которая сегодня звучит: как мы должны, волей-неволей, вот надо это или это… - мне она не близка, потому что, повторяю, это преодолённый марксизм. Система отношений, система функционирования журналов, клубов – это вещи, которые имеют значение, но расставим приоритеты: это третичное значение. Поэт – это тот, кто создаёт новый мир, тот, кто преодолевает литературу. Под него подстраиваются. Его могут не заметить, но на невидимом плане всё равно он вызывает такую цепную реакцию, которая обязательно сработает. Кого читают, кого не читают – ну, Полозкову читают, Надсона не читают, а вы думаете, что Данте читают? Кто думает, что Данте читают? (Смех). Игорь Караулов: А Гомера не печатают. Ольга Балла: Данте читают, читают. Игорь Караулов: Да нет, ну на самом деле социология поэзии – это тоже важно или не важно, интересно или неинтересно, но это то, о чём гораздо плодотворнее можно поговорить с самим собой. Это очень сложно обсуждать на самом деле, поскольку каждый, наверное, может об этом что-то сказать, но это такой внутренний процесс, очень интимный. Андрей Тавров: Извините, опровержение марксизма было сделано в фильме «Андрей Рублёв» Тарковского: там, с точки зрения марксизма, ситуация такая, что ничего там родиться особого не может. Брат на брата, все друг друга уничтожают – какое там христианство? И тут, среди этого всего вырастает Троица, гениальная Троица Андрея Рублёва. Откуда она пришла? Из базиса, из системы отношений? Нет, она пришла из другого источника, из мира причин, а не из мира следствий. И, придя из мира причин, она начинает формировать свой мир. И сколько лет она уже излучает это сияние – сколько исследователей бьются над её загадкой, включая Флоренского, который говорит: «Доказательство бытия Божьего – это существование этой иконы», или Григория Соломоновича Померанца, великого русского созерцателя, который в прошлом году умер: он ходил десятилетиями в Третьяковку, садился около иконы и рассматривал. А ведь это всё возникло в том мире, где брат убивал брата – мало того, мучительной казнью: князь сажал своих же земляков на кол и радовался при этом. Почитайте Карамзина, там всё это описано. Эта кровь, грязь, предательство – неужели из этого вышла Троица рублёвская? Нет, конечно, из другого источника. А мы сейчас обсуждаем одну только сторону реальности – и самую неважную, на мой взгляд. А Андрей Тарковский понял, откуда всё это приходит и как это действует, в истории в том числе. Но это, конечно, экстремальный случай – так как невероятно чистым человеком и гениальным художником создан – но, в принципе, это же самое интересное. А салоны и газеты – они приложатся. Борис Кутенков: Спасибо большое. У нас пять минут, мы хотели бы узнать мнение Вячеслава Куприянова, нашего гостя, по поводу услышанного. Расскажите, пожалуйста, и о новом журнале поэзии «Плавучий мост», который Вы держите в руках… («Журнал современной русской и переводной поэзии «Плавучий мост» является изданием некоммерческим, издаётся на личные средства его создателей, а также при содействии и участии издательств «Водолей», Москва и «Werlag an der Vertach» Augsburg» - из анонса на сайте журнала:http://www.plavmost.org/?page_id=43. Среди авторов первого, презентационного номера, - № 1, 2014 – Вячеслав Куприянов, Михаил Свищёв, Евгения Изварина, Вадим Месяц, Константин Кравцов, Герман Власов и др. Координатор проекта – Виталий Штемпель. – Прим. ред.) Вячеслав Куприянов: Я держу его в руках, и это факт. Всё остальное – видимость, если журнал не дойдет до своего читателя. Что касается разговора вашего, то я его с удовольствием послушал. Я пришёл сюда случайно как раз потому, что мне должны были передать этот журнал «Плавучий мост». Хотя я там как-то участвую, но я не знаю смысла его существования, как и любого другого журнала. Тираж его – 500 экземпляров. Как он будет распространяться – я не знаю. Тем не менее, советую почитать. Мои соображения по поводу сказанного: я современную поэзию воспринимаю с двух полюсов. С одной стороны – масса стихов автологического плана, почти рифмованная проза, а на другом полюсе – клиповое мышление, имитирующее сложность. Автологическая поэзия распространена даже у поэтов, которых можно назвать лучшими даже по словарю Квятковского: то есть все пишут в рифму, соблюдая размер. Их содержание лишено образного оформления, оно ничем не отличается от обычной речи. Что касается клипового мышления – то оно требует не только литературного воплощения, а ещё и поведенческого. Я помню случай, когда в Большом зале ЦДЛ поэты читали стихи, и один из них ушёл за сцену и вернулся на сцену абсолютно голый. Его еле увели со сцены, но, тем не менее, этот поэт запомнился. Это внедрение рекламы в поведение. Тут можно говорить не только о клиповой поэзии, но и о клиповой критике. Кстати, упоминавшийся здесь Евтушенко – для меня это один из родоначальников клипового поведения, как литературного, так и публичного: когда человек озверел от чтения газет, и он воспринимает мир как некий газетный непрерывный текст – или телевизионный: когда он начинается с футбольного матча и реакции болельщиков, затем следует передовая идеологическая статья, потом смерть маршала Будённого в том же самом контексте. Вот это стихи Евтушенко или Вознесенского, которые до сих пор считаются для некоторых образцом. А «образцом» критики таких стихов можно считать такое, например высказывание: «Болотоход его поэзии буксует в так презираемой им лапше» (Евтушенко о Вознесенском). Это очень интересно сказано, только из этого ничего нельзя понять, но можно представить, что это адекватно поэзии Вознесенского так же, как и восприятию Евтушенко. А самый интересный критический момент – если кто читал огромный том «Поэзия: строфы века» - то, что сказано о каждом поэте, это тоже какой-то определённый клип, к представлению о литературе отношения не имеющий. Когда мы говорили о носителях информации, то, собственно говоря, вся эта информационная революция и представление через Интернет изменяет сознание человека, и он воспринимает информацию не линейно, а как просто клип. Сегодняшний читатель воспитан в таком мире, когда у него всё пёстро, он не воспринимает логическую или образную структуру, но воспринимает движение пятен: хорошо, чтобы это было звуковое, музыкальное, воздействующее на разные органы чувств. Это превращает в балаган не только литературу, а всю жизнь. Это распространяется и на политику. Тут у нас идеологических моментов не прозвучало, но для меня существование поэзии в таком идеологическом и мыслительном вакууме, я бы сказал, оно очень странно. Мы тут сидим – то ли у нас тусовка происходит, то ли мэйнстрим, но количество наше никак не переходит в качество. И в этом смысле очень интересен вопрос существования поэзии – неважно, на носителе или включая устное говорение без фиксации на материальном носителе. Но различать это, конечно, приходится. Интересен ещё момент об идеальном стихотворении: в этом смысле у наших стихотворений не хватает формы как таковой. Было великолепное определение формы у Константина Леонтьева: «Форма – это деспотизм идеи, не дающий материи разбегаться». Это касается не только рифмованных стихов, но и даже и в больщей степени верлибра (деспотизм идеи!), хотя рифма помогает создать некую иллюзию «неразбегания» текста, без обращения к связующей идее. Марина Яуре: Для рядового слушателя, читателя современная поэзия – это нечто очень далёкое, доходящее действительно в форме стихов Быкова, Полозковой или Павловой. О подлинном многообразии ее течений, глубинных тектонических процессах, происходящих в ее недрах практически неизвестно тем, кто находится за пределами «тусовки», и всё равно – современная поэзия существует, всё равно она живёт. Хотелось бы пригласить всех на следующий круглый стол, который будет посвящён современной прозе и пройдёт 27 марта (стенограмма его, как и последующих мероприятий, будет опубликована в «Новой реальности»). До начала лета у нас пройдут ещё три круглых стола, ну а затем площадка «На Делегатской» заработает в формате вполне творческом, здесь будут проходить литературные вечера. Спасибо всем участникам за беседу. Борис Кутенков: Большое спасибо всем за беседу. Мы вкратце обсудили почти все аспекты, связанные с проблемой современной поэзии. Надеюсь, что наш разговор был небезынтересным не только для самих участников и слушателей, но и будет таковым для читателей опубликованной стенограммы. До новых встреч. Аудиозапись круглого стола можно послушать здесь:https://disk.yandex.ru/public/?hash=SdEMEdpX2Ci%2BDcO3M77utwhixltY7j9CbPT7mKZC5uo%3D