УДК 123 К ПРОБЛЕМЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ Л.Н. Роднов
реклама
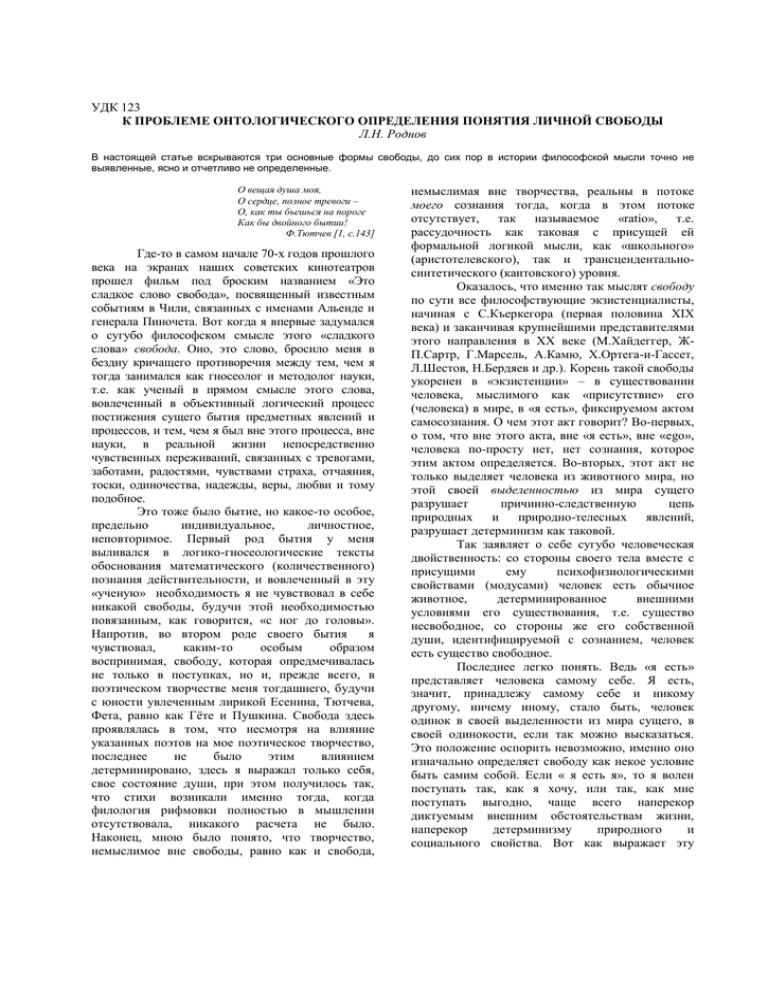
УДК 123 К ПРОБЛЕМЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ Л.Н. Роднов В настоящей статье вскрываются три основные формы свободы, до сих пор в истории философской мысли точно не выявленные, ясно и отчетливо не определенные. О вещая душа моя, О сердце, полное тревоги – О, как ты бьешься на пороге Как бы двойного бытии! Ф.Тютчев [1, с.143] Где-то в самом начале 70-х годов прошлого века на экранах наших советских кинотеатров прошел фильм под броским названием «Это сладкое слово свобода», посвященный известным событиям в Чили, связанных с именами Альенде и генерала Пиночета. Вот когда я впервые задумался о сугубо философском смысле этого «сладкого слова» свобода. Оно, это слово, бросило меня в бездну кричащего противоречия между тем, чем я тогда занимался как гносеолог и методолог науки, т.е. как ученый в прямом смысле этого слова, вовлеченный в объективный логический процесс постижения сущего бытия предметных явлений и процессов, и тем, чем я был вне этого процесса, вне науки, в реальной жизни непосредственно чувственных переживаний, связанных с тревогами, заботами, радостями, чувствами страха, отчаяния, тоски, одиночества, надежды, веры, любви и тому подобное. Это тоже было бытие, но какое-то особое, предельно индивидуальное, личностное, неповторимое. Первый род бытия у меня выливался в логико-гносеологические тексты обоснования математического (количественного) познания действительности, и вовлеченный в эту «ученую» необходимость я не чувствовал в себе никакой свободы, будучи этой необходимостью повязанным, как говорится, «с ног до головы». Напротив, во втором роде своего бытия я чувствовал, каким-то особым образом воспринимая, свободу, которая опредмечивалась не только в поступках, но и, прежде всего, в поэтическом творчестве меня тогдашнего, будучи с юности увлеченным лирикой Есенина, Тютчева, Фета, равно как Гёте и Пушкина. Свобода здесь проявлялась в том, что несмотря на влияние указанных поэтов на мое поэтическое творчество, последнее не было этим влиянием детерминировано, здесь я выражал только себя, свое состояние души, при этом получилось так, что стихи возникали именно тогда, когда филология рифмовки полностью в мышлении отсутствовала, никакого расчета не было. Наконец, мною было понято, что творчество, немыслимое вне свободы, равно как и свобода, немыслимая вне творчества, реальны в потоке моего сознания тогда, когда в этом потоке отсутствует, так называемое «ratio», т.е. рассудочность как таковая с присущей ей формальной логикой мысли, как «школьного» (аристотелевского), так и трансцендентальносинтетического (кантовского) уровня. Оказалось, что именно так мыслят свободу по сути все философствующие экзистенциалисты, начиная с С.Къеркегора (первая половина XIX века) и заканчивая крупнейшими представителями этого направления в ХХ веке (М.Хайдеггер, ЖП.Сартр, Г.Марсель, А.Камю, Х.Ортега-и-Гассет, Л.Шестов, Н.Бердяев и др.). Корень такой свободы укоренен в «экзистенции» – в существовании человека, мыслимого как «присутствие» его (человека) в мире, в «я есть», фиксируемом актом самосознания. О чем этот акт говорит? Во-первых, о том, что вне этого акта, вне «я есть», вне «ego», человека по-просту нет, нет сознания, которое этим актом определяется. Во-вторых, этот акт не только выделяет человека из животного мира, но этой своей выделенностью из мира сущего разрушает причинно-следственную цепь природных и природно-телесных явлений, разрушает детерминизм как таковой. Так заявляет о себе сугубо человеческая двойственность: со стороны своего тела вместе с присущими ему психофизиологическими свойствами (модусами) человек есть обычное животное, детерминированное внешними условиями его существования, т.е. существо несвободное, со стороны же его собственной души, идентифицируемой с сознанием, человек есть существо свободное. Последнее легко понять. Ведь «я есть» представляет человека самому себе. Я есть, значит, принадлежу самому себе и никому другому, ничему иному, стало быть, человек одинок в своей выделенности из мира сущего, в своей одинокости, если так можно высказаться. Это положение оспорить невозможно, именно оно изначально определяет свободу как некое условие быть самим собой. Если « я есть я», то я волен поступать так, как я хочу, или так, как мне поступать выгодно, чаще всего наперекор диктуемым внешним обстоятельствам жизни, наперекор детерминизму природного и социального свойства. Вот как выражает эту 2К проблеме онтологического определения понятия личной свободы мысль Ж.-П. Сартр: «Мы одиноки и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал; и все-таки свободен, потому что, однажды брошенный в мир, отвечает за все, что делает» [2, с. 327]. Но вот тут как раз и возникает важнейший для определения понятия свободы вопрос, адресованный представителям экзистенциальной философии: как совместить одинокость человека, его заброшенность в земной мир сей с требованием «отвечать за все, что делает»? Ни Сартр, ни другие «чистые» представители этого направления в философии не отвечают на этот вопрос. Анализ их определения свободы, за которую они так радеют, провел замечательный русский философ из плеяды первых диссидентов и ученик Н.О. Лосского – создателя философии интуитивизма – С.А. Левицкий в своей работе «Трагедия свободы». Вот что он пишет по адресу философии свободы того же Сартра: «Вообще, Сартр, как известно, отрицает бытие общеобязательных ценностей (то же самое делает и М. Хайдеггер – Л.Р.). Это было бы, говоря его языком, признание приоритета «сущностей» перед «существованием», что свело бы на нет весь замысел экзистенцианализма… Но в переводе на традиционный философский язык это означает «конвенционализм» – утверждение условности и относительности ценностей, а от конвенционализма один шаг до морального нигилизма. Единственной максимой для Сартра остается ницшевское «будь самим собой» – «делай что хочешь, но делай это всем своим существом». Но тогда сотрутся моральные различия между сатанинским преступлением и святостью», и С.А.Левицкий точно заключает: «Вообще, этика – один из самых слабых пунктов экзистенциализма» [3, c. 291]. Поклонение свободе как некому «идолу», по верному выражению Левицкого, приводит к «идололатрии свободы», разрушая ее, снимает, вернее, игнорирует главный вопрос: «зачем» человеку свобода? На этот вопрос можно ответить, определив ее через моральнонравственные отношения того же человеческого сознания, при этом различая нравственное сознание от сознания морального. Левицкий, к сожалению, наряду как с русскими, так и зарубежными философами, не видит необходимости ответа на этот вопрос. Не видит потому, что основание всей системы этических ценностей он видит в Добре, которое просто некоторым образом задано свыше, ясное дело, – Богом, равно как Богом задан и Разум с его Истиной, которому и которой необходимо следовать, лишь неопределенным способом различая Добро от Зла, а заведомо разумную Истину от неразумного Заблуждения. В целом отрицательно относясь к Гегелю, он, тем не менее, ему следует в определении центрального для бытия понятия – понятия разума, по-гегелевски отличая его от рассудка и рассудочности мысли. В частности, мы читаем: «Истина может быть познаваема лишь в таком случае, когда наш разум способен приводить себя в соответствие с истиной путем интеллектуального внимания к истине, путем интеллектуального, смыслонаправленного усилия. Это значит, что мышление является спонтанной деятельностью разума, над которым не довлеет природная необходимость автоматического течения душевных процессов» [3, c. 48–49]. Если мышление является спонтанной деятельностью Разума, то Разум, во-первых, есть нечто погегелевски и, ниже, по-платоновски объективное, совпадающее с объективной Истиной, и здесь, следовательно, надо исходить не из «истины Разума», а из «разума Истины», который (Разум) и которая (Истина) находятся «по ту сторону» субъективности человеческой мысли, вообще «по ту сторону» потока человеческого индивидуального сознания, «по ту сторону» человеческой чувственной и мыслящей «души» и ее «духа». Но если это так, то, во-вторых, становится совершенно непонятным, как возможна сама «спонтанность» мысли, которая принадлежит конкретному субъекту познания и деятельности, а не объекту в качестве Истины, Разума и Добра. Находятся ли они в Боге, трансцендентном человеческому сознанию, или в спинозовской бесконечной Природе (единой субстанции), задача пересадки Объекта в субъект становится мистической и неразрешимой. Мало того, если эта «пересадка» осуществлена, то остается покинуть философию и, покинув, отождествить объект с субъектом, уйти в теологию, сказав по примеру Вл. Соловьева, равно как и других русских философов, идущих по его мистически-теологическому следу, что человек создан по образу и подобию Божьему и никак иначе. Но это означало бы, что зло в человеческой природе невозможно, оно по определению этого тождества вообще исключено, оно недействительно. Как тут не вспомнить Гегеля с его «знаменитым» суждением: «Все действительное разумно, все разумное действительно». В результате философия с ее рассуждающей разумностью, с ее поисками добра, зла и красоты, с ее «оправданием Бога» перед К проблеме онтологического определения понятия личной свободы миром человеческого зла (теодицея) становится совершенно не нужной, не действительной. Такое положение исключало бы и этику как учение о нравственности – учение, лежащее в основании подлинной философии, исключило бы любовь как деятельность нравственного чувства, лежащую в основании этого основания. Зачем сопереживать, сочувствовать, сострадать кому-то или чему-то, зачем кого-то жалеть, если Истина вместе с Разумом и Добром заведомо укоренены в сознании каждой человеческой индивидуальности? Человеческая индивидуальность здесь вообще уходит со сцены этого человеческого абсурда, полностью испаряется. Чтобы не быть обвиненным в надуманности сказанного, приведу слова того же Левицкого, адресованных разуму в его отпочкованности от человеческой сердечности, от нравственных переживаний живой человеческой души: «По отношению же к человеку мы, отнюдь не впадая в ересь, можем констатировать, что разум сам по себе этически нейтрален. Разум с одинаковым успехом может служить и доброй и злой воле, и недаром Сатана называется «страшным и умным духом». Можно, конечно, углубить мысль до противопоставления разума уму, или рассудку, и утверждать, что Разум укоренен в Добре, а ум, или рассудок, может быть и часто бывает, «от лукавого». Но нельзя начинать с такого противопоставления, предварительно не обосновав его должным образом, что мы и надеемся сделать ниже» [3, с. 168]. Однако ниже следует вывод: «Для рассудка не существует ни добра, ни зла, но лишь – польза или вред» [3, с. 334]. Но если разум вместе с рассудком нейтрален к этической сфере сознания, а добро укоренено в разуме в отличие от рассудка, то само добро, как и зло, также нейтрально к этической сфере деятельности сознания. Стало быть, между разумом и рассудком нет никакого принципиального различия. Это – вопервых. А во-вторых: почему добро и зло никак не соприкасаются ни с пользой, ни с вредом? Все эти кричащие несогласованности употребляемых понятий, их неопределенности говорят о том, что философская мысль в ее историческом развитии явно зашла в тупик. И нам представляется, что этот тупиковый узел противоречий базируется на очаровании платоновским определением Разума как системы универсальных идей, которые существуют сами по себе, объективно, т.е. независимо от каждого индивидуального сознания, которое при этом мыслится как «знание о чем-то», но только не о 3 самом себе, мысляще-чувствующем субъекте. Если посмотреть на развитие философской мысли пристальнее и поглубже, то все философы в конечном результате (это произошло в XIX веке) разделились на два прямопротивоположных лагеря, но не на «идеалистов» и «материалистов», как в свое время уверял своих читателей и почитателей Ф. Энгельс, поскольку материализм никакого отношения к подлинной философии не имеет и иметь не может, равно как и все его позитивистские и неопозитивистские наклонности, особенно удобренные какой-либо политической идеологией. На самом деле все философы разделились на «идеалистов» (рационалистов) и «экзистенциалистов» (антирационалистов). Поскольку речь у нас все-таки идет о свободе, то первые ее сводят к необходимости логического (универсального) порядка и в лучшем случае, как у Канта, к метафизике правосознания [4], а в худшем лишают живого человека всякой свободы, как в гегелевской философии, например. Постоянно говоря о разуме, эти философы говорят голосом рассудка, но поскольку рассудочное мышление, как убедительно доказала наука этология, зародившаяся на рубеже XIX–XX веков, свойственно и высшим животным, а последние, как очень хорошо известно, существа несвободные, то и человек, тем самым, превращается в коллективное животное. К тому же еще и «недоразвитое», по выражению Ф. Ницше. Недоразвитое, поскольку от «ego» никуда не деться, значит, эгоистическое, злобно-завистливое, ненасытное. В свою очередь, экзистенциалисты, воюя с идеалистами против рационализма, провозглашают индивидуальную свободу высшей ценностью, или важнейшим условием жизни, но при этом настолько затоптали (заговорили) первую и всем людям данную форму свободы, определенную этим самым ego («я есть я», «dasein»), что от этой свободы приходится спасаться, вернее – спасать подлинную этическую составляющую человеческой жизни, спасать в человеке человечность, его «сердечность», способность подлинно любить. Вне этой имманентной способности искать опять же подлинное определение свободы бессмысленно. С.А. Левицкий верно обвиняет экзистенциалистов (С. Къеркегора, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, Н.А. Бердяева) в отсутствии в их философской мысли этического начала, но и сам, ориентируясь на классически платоновское и веками устоявшееся определение разума, уходит по примеру Ф. Ницше и, далее, М. Шелера в систему более эстетических, чем нравственных ценностей, а потом не знает, что с ними делать. Что, например, делать с такой 4К проблеме онтологического определения понятия личной свободы ценностью, как добро? Вечно противопоставлять эту ценность злу? Одним словом, заниматься морализаторством, «толочь воду в ступе». Добро, поставленное, как тягловая лошадь, впереди всех прочих «ценностей», оказывается лишь словом, сотрясающим воздух. На таком «ценностном» фундаменте ни нравственность, основанную на подлинной любви, ни нравственную свободу не определишь. Последнее особенно касается понятия совести, феномена совести. По адресу ее, по сути, все философы пишут хвалебные слова и произносят хвалебные речи, но тут же дают отмашку, «от ворот поворот», и это свойственно обоим направлениям в философии. Раз уж мы взялись за С.А. Левицкого, приведем его суждения: «Свое наиболее глубиннонепосредственное выражение моральный закон находит в голосе совести. Правда, совесть сама по себе никак не может быть залогом морального поведения. Обыкновенно все призывы к совести («Да постыдитесь же!», «Неужели Ваша совесть молчит?» и т.д.) остаются недейственными…» «Без вознесения к Добру, без сублимации, невозможно преодоление низших влечений»… «Совесть пишет в нашей душе как бы симпатическими чернилами» (испаряющимися от прикосновения с жизнью – Л.Р.)… «Совесть менее всего зависит от нашей сознательной воли» [3, с. 191–192]. Пожалуй, единственным философом, который не дает отмашки совести и пытается хотя бы ее объяснить, правда, не находя способа обоснования ее как определяющего нравственного закона, был наш русский философ И.А.Ильин [5, с 159–191]. Как у идеалистов, так и у экзистенциалистов совесть оказалась той «пятой Ахиллеса», которая свела на нет саму возможность построения этики как учения о нравственности. Философы второй половины ХХ века вплоть до наших дней на всех своих конференциях, симпозиумах и конгрессах буквально вопиют о том, что подлинной этики пока что нет и неизвестно, когда она будет. А ведь именно от нее зависят истинные определения и нравственной, и духовной свободы. Апелляция к кантовскому моральному императиву как закону нравственной деятельности сознания не решает настоящей проблемы этики, как осознано многими философами недалекого прошлого [6]. В любом случае, «кантовский практический разум» отправляет этику из метафизики (философии) в юридическую науку, в правосознание… Корень же решения поставленной задачи обнаруживает себя в кардинально поставленном вопросе: что значит разумно мыслить? Не что такое Разум, а именно: что значит мыслить разумно? Почему у глубочайшего философа М. Хайдеггера «наука не мыслит»? Хотя этот философ №1 всего ХХ века, как его считают многие, в том числе и я, прекрасно понимает, что любой человек, а уж ученый тем более, конечно же, мыслят. Более грамотно тут можно сказать: наука мыслит, но, мысля, она не мыслит. Всему этому М. Хайдеггер посвящает объемный курс лекций под названием «Что зовется мышлением?» [7], но в конечном результате признается, что он только ищет ответ на этот вопрос и не находит его. Как это кому-то покажется странным до удивления, но у философов до сих пор не нашлось решимости связать понятие идеальной формы мысли с экзистенциально-чувственным содержанием потока индивидуального (живого) сознания (само собой, определенного актом «Я есть», актом ego) и не по-гегелевски определить живую рассудочную и живую разумную мысль. Здесь я сформулирую то, что давно и подробно обосновал в своих книгах, своих статьях, начиная со своей докторской диссертации, защищенной десять лет назад под названием «Разумнонравственная сущность сознания» в МГУ им. Ломоносова под ведущей организацией Центра эпистемологических исследований Института философии РАН. Суть дела в следующем. Необходимо согласиться с экзистенциалистами в том, что свобода изначально определена действительно актом ego, но это лишь первая и всем психически здоровым людям данная форма, которая и является определителем индивидуального сознания как такового, стало быть, и определителем человеческого бытия, как следует его мыслить. Но вместе с этим человек, будучи по общему состоянию сознания одиноким, не в состоянии осуществлять жизнь в таком состоянии хотя бы потому, что осознание себя возможно вместе с осознанием наличия «другого», не-Я. Отсюда ясна несостоятельность экзистенствующего персонализма и проповедь индивидуализма. Человек есть существо общественное именно потому, что обладает сознанием, определенным этим актом. Отношение к другому может осуществляться со стороны мыслящей способности сознания либо на рассудочном, либо на разумном уровне, а со стороны чувствующей способности того же сознания либо на потребительском, либо на нравственном уровне. Если сознание мыслить не позитивистски, не как сознание (совместное значение о чем-либо), а как чувственно- мыслящий поток, определенный актом «я есть», актом ego, то становится ясно, что в единстве сознания мысль (две формы) и чувственность (два чувственных содержания) К проблеме онтологического определения понятия личной свободы едины, нераздельны. Отсюда с очевидностью следует, что рассудок – это идеально-логическая форма потребительской чувственности сознания, а разум – идеально-логическая форма нравственной чувственности того же сознания. Это значит, что там, где мир человеком рассматривается через призму потребления, там человек мыслит рассудочно. Там же, где всякое другое (иное, не-Я) рассматривается человеком через призму нравственной чувственности, т.е. через сочувствие, сопереживание другому, страдая и радуясь встрече с другим, там человек мыслит разумно. Вот где обнаруживается подлинный корень определения нравственной свободы и свободы истинно духовной. Чтобы что-то о чем-то просто знать, достаточно мыслить рассудочно, а вот чтобы что-то по-настоящему понять, необходимо мыслить разумно, стало быть, чувствовать нравственно. Чтобы последнее было осуществлено, необходимо в первую очередь найти в себе силу воли отказаться от себя, эгоистически любимого, ради другого и, отождествившись с ним, понять его. Понимание – это не продукт деятельности нравственного чувства, а продукт идеальной формы деятельности этого чувства, т.е. разума как живой разумности мысли. Далее, только поняв другого, человек начинает понимать и себя, что очень важно. Отсюда очевиден и вывод: нравственная форма свободы – это воля отказа от самого себя ради другого, а через него и ради себя подлинного, себя, подчеркну, как личности. Эта свобода есть необходимое условие деятельности разумной мысли в единстве с деятельностью нравственного чувства, т.е. в единстве с подлинной человеческой любовью. В свою очередь, можно ли мыслить духовность вне нравственности? Конечно же, нет. Но духовность – это особого рода нравственность, особого рода любовь: это трансцендирующая в метафизическую сферу нравственность, к центру этой сферы, к Богу, это непотребительская любовь к Богу. При этом очень важно понять, что посредником между человеком и Богом выступает совесть как явление Бога в нас. А это значит, что духовная форма свободы есть свобода, определенная совестью. Совесть – это высший духовно-нравственный закон и, одновременно, концентрированное выражение разумнонравственной сущности сознания, сущности человеческого бытия как такового. Спрашивается, как воспринимает человек высшую форму свободы? Когда человек поступает по совести, а таковой поступок почти всегда идет вопреки безнравственным требованиям социальных обстоятельств и власти, то человек, 5 несмотря на реализацию наказания за совестливый поступок в существующем до сих пор обществе потребления, чувствует удивительнейший и в такой же степени реальнейший чувственносверхчувственный феномен собственного достоинства. Кто хоть раз испытал это удивительное чувство в себе, тот понимает, что значит быть подлинно свободным существом. Еще раз проследим путь нашей мысли, ответив при этом на те вопросы, которые были поставлены в начале статьи, требующие пояснений. Свобода, данная изначально всем психически здоровым людям, определенная актом ego, может легко превратиться в несвободу. Здесь все зависит от человеческой рефлексии по адресу собственного «Я». Если «Я» идет на поводу, как бы сказал Спиноза, «преходящих» благ, таких как чувственное наслаждение, богатство, почести, воспринимая свою личную свободу как способность осуществлять их в своей целеполагающей деятельности, то человек, тем самым, попадает под власть шопенгауэровской воли к жизни, равно как и спинозовской единой и бесконечной, безличностной субстанции, становится раболепствующим модусом этой Воли или этой субстанции, т.е. совершенно несвободным существом, стало быть, и не человеком вовсе. «Я» разрушает свою неповторимую индивидуальность, свою свободу своей же собственной эгоистической тяжестью обыденно-суетных представлений о «благой» жизни. Сохранить свободу «я» можно двояким способом. Первый способ сводится к стоицизскому и аскетическому отказу от всяких чувственных наслаждений, в том числе наслаждений богатством, почестями и властью над людьми. Несмотря на некоторое различие между античным стоицизмом и древневосточным религиозным аскетизмом (буддизм, брахманизм), равно как и этико-стоицизским учением Спинозы уже в Новое время, это все равно один и тот же способ отказа от реальных житейских соблазнов, от эпикурейства в конце концов. «Но сохраняется ли при таком способе отказа от чувственных наслаждений свобода?» – вот вопрос. Ответ на него явно отрицательный. Лишенный чувственности, человек превращается в математическую или формально-логическую формулу, в скелет без плоти. Свобода такому безжизненному «существу», такому покойнику, принадлежать не может по определению его бестелесности. Освобождаясь от страданий тела, связанных с чувственными наслаждениями различного рода, человек 6К проблеме онтологического определения понятия личной свободы освобождает себя и от свободы. Само это слово его уже «греть» не может, оно просто никакое: ни «сладкое», ни «горькое». Но теперь на подмостки философской сцены выходит Артур Шопенгауэр, справедливо возмущенный гегелевским представлением о человеке как исчезающем моменте истории и гегелевским представлением о свободе как логической необходимости той же истории, естественно, не человека, а, конечно же, человечества, и со свойственной ему горячностью в выражениях предлагает два пути спасения человеческой свободы. При этом он прекрасно понимает, что человека необходимо освободить из-под власти мировой Воли, не ждать, когда она через человека и общество людей, озабоченных потреблением, пожрет – слепая и глухая – весь мир вместе с алчущим человечеством. Первый способ освобождения человека от страданий и неволи он усмотрел в давно известном аскетизме, но этот способ он, будучи западником, в целом забраковал и предложил свой собственный, отметив, что человек до тех пор будет служить необходимости, до тех пор он будет рабом, пока его жизнью руководит интерес потребляющей особенности Воли. Стало быть, необходимо найти такую деятельность в недрах человеческой жизни, которая лишена этого самого интереса, и он эту деятельность обнаруживает в творчестве, а точнее – в искусстве, в творящей красоте и совершенстве искусства, в креативной его особенности, в увлеченности самим творческим процессом и бесценным его результатом… Еще не зная Шопенгауэра, не читая еще его работ, просто по своему научному и поэтическому опыту, как было замечено в начале статьи, я пришел к тому же, еще не обоснованному, результату. И мне надо было еще пару десятков лет поработать в недрах философской мысли, чтобы забраковать этот способ сохранения человеческой свободы. Конечно, чистое искусство освобождает человека от тяжести материального существования, и человек в сфере такого творчества действительно свободен, не чувствует себя рабом, ему хорошо в этом процессе, но, во-первых, высоким искусством занимаются особо одаренные люди, их очень мало, поднявшихся силой этого искусства над огромным человеческим муравейником обычных людей. А, во-вторых, и это самое главное, люди искусства, освободившись от тягот повседневной суетной жизни, освободившись от несвободы внутри копошащегося человеческого муравейника, вместе с этим освобождают свое личное сознание от нравственности как таковой, от любви к обычному человеку. Поэтому и нет ничего удивительного в том, что среди выдающихся представителей искусства мы встречаемся с людьми безнравственными. Страшусь перечислять их, но буквально на днях по одному из телевизионных каналов шла передача об известнейшем песеннике и композиторе Никите Богословском, безусловно талантливейшем человеке в своей области творчества, но в то же время… Результат этой передачи подвел очень известный чиновник от искусства и культуры в целом, бывший министр культуры М. Швыдкой и, где-то оправдывая Богословского как человека, заявил, что искусство вообще-то противоположно нравственности, противоположно подлинной этике. Моя жена, слушая эту передачу, никакого отношения ни к искусству, ни к философии не имеющая, после заявления Швыдкого была возмущена таким выводом. Спорить с женщиной, особенно с собственной женой, мужчине неудобно. Я, естественно, промолчал, но подумал: «А ведь Швыдкой – то прав!»… Только более грамотно надо было сказать, что искусство, к тому же высшее, «не по-нынешнему «звездное», не противоположно этике, а нейтрально по отношению к ней. Ведь среди выдающихся и не очень выдающихся представителей искусства, равно как и любого творчества, встречаются люди подлинно нравственные, но их нравственность обусловлена не родом их творческой деятельности, а совсем другими обстоятельствами жизни, иным бытием в ней, что отметил, как мы слышали, замечательный русский поэт Ф. Тютчев. Подлинная свобода немыслима вне нравственности и вне правильного понимания сущности разумной мысли, в отличие от мысли рассудочной. Это особенно хорошо в свое время понимал Кант, к сожалению только не преодолевший платоновского определения разума, в силу чего его категорический императив оказался во власти того же рассудка, а нравственное чувство непосредственно онтологического свойства оказалось выброшенным из «практического разума» за ненадобностью. Наряду с вышеописанной рефлексией по адресу «Я есть», ведущей в пропасть человеческого рабства, есть и другая рефлексия: «Если я есть я», то я ответственен за свою жизнь и жизнь тех, с кем мне приходится жить, особенно за близких мне людей. Но быть ответственными – значит исходить из понимания их и себя самого. Понять себя, прийти к себе подлинному – значит раскрыть в себе особые деятельные способности, К проблеме онтологического определения понятия личной свободы которые только и могут принести благо людям, а через это благо и благо себе. Далее, могу ли я себя понять, не понимая другого человека, того, с кем я постоянно общаюсь? Наверное, нет. Какие-то особые доказательства тут излишни. Важно понять следующее. Человек не в состоянии каким-то образом выпрыгнуть из себя и себя же увидеть. Чтобы увидеть себя, необходимо иметь другой предмет. Таким предметом является зеркало. Только смотрясь в него, я вижу себя и могу оценить свою внешность. Где-то я себе могу нравиться, а где-то нет, все зависит от того, на каких устоявшихся представлениях в «здесь и теперь» моя эстетическая оценка покоится. Однако зеркало говорит о моей внешности и ничего не говорит о моем же внутреннем мире, о моем сущностном «я». Вот и спрашивается: где тот особый предмет, «смотрясь» в который человек узнает не свою внешность, а свою сознательную суть, свою подлинную – бытийствующую – сущность, свое истинное Я, т.е. начинает понимать себя? Ответ очевиден: таким особым «предметом», таким специфическим «зеркалом» является другой человек. Здесь, как и в случае с зеркалом, происходит своеобразное «отражение» от «предмета», выступающего в качестве «другого» человека. Только падает здесь не световой луч на зеркальную плоскость известного предмета, а мысль в соавторстве с чувством, которые в единстве сознания связаны между собой: мысль является универсальной формой чувственной деятельности сознания. Итоговый вывод из сказанного очевиден: чтобы понять себя (увидеть себя), необходимо понять другого человека (необходимо, чтобы луч, идущий от зеркала, пришел к тебе). Падение луча на поверхность зеркала в рассматриваемом случае будет соответствовать событию отождествления моего «Я» с другим человеком. Стало быть, говоря о мысли, действующей таким образом, мы говорим о вмысливании в другого; говоря же о чувстве, действующим тем же способом, мы говорим о вчувствовании в другого. Значит, со стороны мышления мы имеем дело с разумом, а со стороны чувственности – с любовью как деятельностью чувства сопереживания, сочувствия, сострадания. Поскольку продуктом деятельности разумной мысли является понимание, в отличие от рассудочного знания, то оно непременно связано с любовью в подлинно нравственном ее понимании, связано так же, как форма связана с ее собственным содержанием. Размышляя над текстами крупнейших мыслителей прошлого в поисках хоть какой-то 7 зацепки, подтверждающей мой вывод о теснейшей связи человеческой разумной мысли (разума, ума) и подлинной человеческой любви (сердечности, «душевности») я пришел к тщетности моих поисков, но однажды неожиданно наткнулся, перелистывая подшивку журналов «Вопросы философии» за 1989 год, на статью удивительного «одного мыслителя», как он себя называл, Я.Э. Голововкера, под названием «Интересное». Радости моей не было предела. Вот что я там прочитал: «Человек даже в повседневном житейском опыте многое как-то понимает сразу и без слов, то есть без построения фразы или даже отрезка фразы или одного всеобъемлющего слова и даже без высказывания про себя. То, что он понял, есть не слово, а чистый смысл или иногда смысл с некоей аберрацией, весьма напоминающей по характеру восприятия чувство любви или близости: любящий мгновенно постигает чувством состояния любимого и мельчайшие оттенки его настроения. Мать чувством мгновенно постигает состояние ребенка. Если она формулирует его, то формулирует материнским языком. Так и ум мгновенно постигает смысл. Отмечу, что я вовсе не отождествляю эти два понимания – чувство и ум, а только их употребляю, для того, чтобы меня правильно поняли. Это, однако, не отрицает возможности их сродства» [8, c. 121]. Замечательно! Вот оно, подтверждение уже мною тогда построенной теории связи «ума и сердца»,– проблемы, поставленной на повестку дня еще великим Паскалем в XVII веке, но так и не нашедшей своего решения в последующей истории философской мысли, в том числе заведшей в тупик вседозволенности экзистенциальную философию и пустившей классический рационализм по бездушным рельсам позитивизма и неопозитивизма. Отмечу лишь здесь, что слово «ум», употребляемое Я.Э. Голосовкером, неоднозначно и двойственно. У него речь, конечно же, идет о разуме и разумном мышлении, поскольку «ум» в согласии с нашим определением рассудка и разума выступает в двух своих формах: есть ум рассудочный и есть ум разумный. Рассудочный ум – это рассудок, знающий меру потребления и не переходящий в своей деятельности этой меры, а разумный ум – это не просто разум, а разум трансцендирующий, т.е. выходящий за пределы предметного бытия вещей и явлений, т.е. разум, пришедший к пониманию того, что «Бог есть» и есть предназначенность человека в космологическом мире в целом. Такой ум я называю известным словом «мудрость». 8К проблеме онтологического определения понятия личной свободы Но вернемся к прерванному рассуждению, Может ли человек, стоящий перед зеркалом, видеть себя, если находится в абсолютно темной комнате? Нет, не может. Чтобы себя увидеть, он должен включить свет. А теперь вопрос: что надо в первую очередь сделать, чтобы запустить мысль в сопровождении с нравственным чувством по направлению к другому и этим самым это другое понять, полюбив? Ответ очевиден: надо найти в себе волю отказа от своего эгоистического «я», от «себя, любимого», любимого не на нравственном уровне, а на уровне потребительски-рассудочном. Именно эта воля и запускает в деятельность разумную мысль в единстве, в «сродстве», с деятельностью нравственного чувства. Воля отказа от себя и есть нравственная форма свободы, конкретная форма, а не абстрактная кантовская «добрая воля». У того же Канта есть градация свободы: 1) свобода «от» (от принуждения) и 2) свобода «для». Кантовское «для» требует от человека быть гражданином в подлинно демократическом обществе, требует исполнения гражданского долга, но ничего не говорит о другом, более важном требовании – быть разумнонравственным, иначе, понимающе-любящим существом. Наше «для» утверждает последнее. Человек с помощью этой воли отказывается от себя не для того, чтобы себя потерять, растворившись в другом, и для того, чтобы через понимающую любовь (любящее понимание) к другому вернуться к себе, понять себя и подлинно (не эгоистически) себя полюбить. «Сладка» ли такая свобода? По началу очень «горька», она требует настоящего мужества. Осуществить ее трудно даже по отношению к самым близким людям, к детям, например, своим. Люди – не ангелы, их трудно любить, гораздо легче любить, положим, домашних животных, кошек и собак… Я встречал немало таких любителей животных, одновременно не терпящих даже близких для них людей. Но вместе с этим такая свобода и «сладка», но только в конечном результате, а именно тогда, когда, поняв себя, человек обнаруживает в себе особенные способности и таланты, находя соответствующую им деятельность – деятельность, которая ему «по душе», «по сердцу», стало быть, и «по разуму». Именно такая деятельность приносит ему «добрые плоды», доставляя эти «плоды» другим людям, обществу в целом. Только при таком – разумном – порядке отношений людей друг к другу человек приобретает истинный смысл своей жизни и держится, и удерживает в себе этот сугубо нравственный смысл. Он уж точно не будет намыливать веревку, чтобы повеситься от безыисходности и пустоты рассудочнопотребительской жизни, как бы ему трудно при этом ни было жить в существующем до сих пор «обществе потребления». Тем не менее, стоит заметить, есть всетаки предел и в этом случае, когда человек оказывается в условиях политической тирании и хамства. Говоря словом Б.Паскаля, человек всетаки тростинка, хотя и разумная. Но и тут есть спасение, заключенное в суждении «Не ведаем, что творим», если его копнуть поглубже. Для этого необходимо достичь третьей, и высшей формы свободы, которую на полном основании я называю духовной. Здесь опять приходится вернуться к феномену совести. У каждого ли человека в сознании обнаруживает себя совесть, в форме ли отрицательной (стыда, вины), в форме ли положительной (чувство собственного достоинства). Конечно же нет, иначе бы люди не жили так, как до сих пор живут на земле. Как выше было замечено, к феномену совести у большинства известных философов весьма скептическое отношение, базирующееся на обыденно-повседневном представлении о ней, как мы слышали от С.А. Левицкого. К этому ряду скептиков, ведущих свой отсчет от Канта, не принадлежит из русских философов, пожалуй, только И.А. Ильин, а из зарубежных лишь М. Хайдеггер. Последний выделяется особенно тем, что не принимает теорию ценностей, так называемую аксиологию (Ф. Ницше, Э. Гуссерль, М. Шилер, А. Гартман и др.) за нечто серьезное в учении о бытии. И правильно делает, потому что то, что оценивается, не может быть бесценным, стало быть, не может служить нравственности в силу того, что предполагает морализаторство, проповедничество. Одним словом, нравственность, ставшая на путь нравственной проповеди, нравственной оценки и нравственного выбора, безнравственна. Это я к тому, что феномен совести нельзя проповедовать, оценивая, и выбирать. Термин, «свобода совести» совершенно бессмыслен и попросту глуп. Любая религиозная проповедь заслоняет человека от Бога, равно как и любая иная проповедь заслоняет человека от того, что она проповедует. При этом нельзя не согласиться с известным суждением: «Совесть либо есть, либо нет». Проблема здесь только в том, как сделать так, чтобы она, совесть, в сознании человека появилась и заговорила на известном ей языке (стыда, вины, чувства достоинства). Как в таком случае быть? И почему ей надлежит именно быть? Может вовсе это и не обязательно? К проблеме онтологического определения понятия личной свободы Очень, даже предельно, важный вопрос. Обратимся к авторитету Мартина Хайдеггера, который невозможно оспорить, как уже было мною замечено. Послушаем его: «Совесть вызывает самость из потерянности в людях… Присутствие зовет в совести само себя… Зов идет от меня и все же сверх меня… зов, идя из меня поверх меня, обращен ко мне… Совесть обнаруживает себя как зов заботы…» [9, c. 274– 277]. Хайдеггер хорош тем, что заставляет думать, заставляет читать то, что между строк. Понять его тексты очень сложно. Но, поломав голову, все-таки понять можно. Он фактически пишет о том, что совесть – это особый феномен бытия (сознания), который нельзя путать с различными требованиями, идущими к людям от государства, общества и отдельных людей, пропагандирующих правила поведения идеологического порядка (политического, правового, религиозного, обыдененного и даже этического). Человек винит себя, стыдится не потому, что его кто-то винит и стыдит. Зов совести идет от человека и направлен на его самого. Но как такое возможно? Меня никто ни в чем не упрекает, а мне все равно стыдно. Меня обязывают обстоятельства, положим, брать взятки, а человек их не берет, отказываясь от очевидной выгоды; меня начальник заставляет поступать так, как ему выгодно, к тому же выгодно и мне, а я отказываю ему в этом, наживая массу неприятностей, а то и лишаюсь работы, порой (при определенных общественных условиях) и самой физической жизни. Что меня заставляет так «поидиотски» поступать? Совесть заставляет, вот что! При этом оказывается, что забота о преходящих благах менее значима, чем забота о том, что требует от человека совесть, ее зов. В русском языке со-весть означает еще и «весть». Я уже говорил выше, что тут вне Бога не обойтись. И даже Хайдеггер, не желающий касаться теологии, вообще нейтральный по отношению к религии, слово Бог вынужден употреблять, правда, с очевидной долей скептицизма: «Эту феноменальную данность (зов совести – Л.Р.) не разобъяснишь. Да ее уже и брали опорой для объяснения голоса как вторгающейся в присутствие чужой силы. Идя дальше в этом толковательном направлении, под констатируемую силу подставляют обладателя или саму ее берут как заявляющую себя личность (Бога)» [9, c. 275]. Как бы не крутил Хайдеггер вокруг и около совести цепочки мудрых выражений, цепочки, в том числе и туманных, слов, мы вынуждены ему сказать «нет». У подлинной философии, в отличиt 9 от положительной науки, высшая Истина – это Тайна, концентрируемая в слове Бог. Другого вывода просто нет и быть не может. Совесть – это явление Бога в нас, или это весть Бога, направленная к человеку. Иными словами, совесть – это феномен, опосредующий отношение «человек–Бог». Вот тут и возникает проблема, которую, скорее всего, не желают замечать как философы атеистического плана, типа того же Хайдеггера, так и религиозные философы, особенно русские, у которых слишком много Бога, настолько много, что указанное отношение ничем не опосредуется, совесть куда-то испаряется вместе со своим словом. К последним я отношу не только Н.А. Бердяева, С.Л. Франка и др., но, что особенно горько, Вл. Соловьева, для которого человек – это не просто человек, а Богочеловек. «Если Бог слепил человека по образу и подобию своему, то почему, спрашивается, у многих людей отсутствует (лучше сказать «спит») совесть?» – вот проблема, выраженная в этом вопросе. На этот вопрос нельзя ответить с помощью определенного Платоном разума, и именно здесь кроется причина того, что у того же Вл. Соловьева само слово совесть предельно редко встречается, даже в «Оправдании добра», а если где и встречается, то мимоходом. Только при нашем определении человеческой разумности мысли можно сделать вывод о том, что совесть не просто основной нравственный закон человеческого бытия, человеческого сознания, не просто концентрированное выражение понимающе-любящей сущности сознания, но еще и подлинный духовный закон, поскольку совесть вне Бога попросту недействительна. А это значит еще, что человек бессовестный находится вне Бога, как бы он усиленно не молился в Храме Божьем. Как сделать так, чтобы совесть с человеком заговорила? Ответ теперь очевиден: необходимо человека этого научить мыслить разумно, стало быть, и чувствовать нравственно. До сих пор школа наша этому не учит, а учит лишь рассудочному мышлению, не более того. Вот почему свободу, определенную совестью, мы называем духовной свободой. И вот почему духовно свободный человек, жалея грешника за его убийственные поступки, говорит: «Не ведает, что творит». За это за все ему (грешнику) придется расплачиваться, и если не при жизни, так после смерти. Как расплачиваться, никто знать при жизни не может, но придется расплачиваться с железной необходимостью. Не поэтому ли духовная забота несравненно важнее К проблеме онтологического определения понятия личной свободы 10 всех прочих забот? Понятие смерти связано с понятием совести, стало быть, и свободой на базе определения сущности сознания, но это уже другой вопрос и другая тема другой статьи. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Тютчев Ф.И. Соч. В 2 т. / Ф. И. Тютчев. – М., 1980. – Т.1. 2. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.-П. Сартр // Сумерки богов. – М., 1989. 3. Левицкий С.А. Трагедия свободы. Сочинения. / С. А. Левицкий. – М., 1995. – Т. 1. 4. Соловьев Э.Ю. И. Кант: взаимодополнительность морали и права / Э. Ю. Соловьев. – М., 1992. 5. Ильин И.А. Религиозный смысл философии / И. А. Ильин. – М., 2006. 6. Кант: pro et contra. Антология. – С-Пб., 2005. 7. Хайдеггер М. Что зовется мышлением? / М. Хайдеггер. – М., 2006. 8. Голосовкер Я.Э. Интересное / Я. Э. Голосовкер // Вопросы философии. – 1989. – № 2. 9. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М., 1997. L.N. Rodnov TO PROBLEM OF ONTOLOGICAL DEFINITION OF PERSONAL FREEDOM CONCEPTION К проблеме онтологического определения понятия личной свободы 11