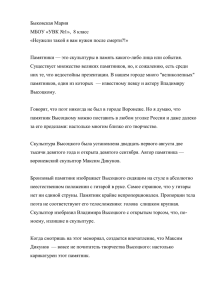Юрий Тырин - Миры Высоцкого
реклама
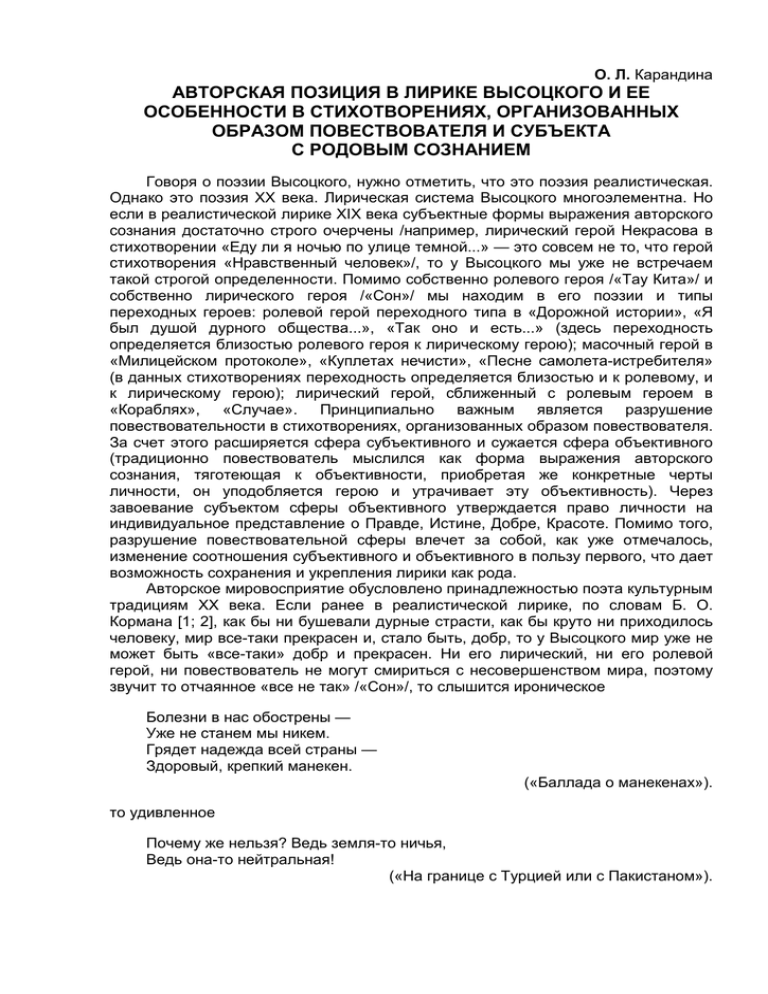
О. Л. Карандина АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ В ЛИРИКЕ ВЫСОЦКОГО И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В СТИХОТВОРЕНИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ ОБРАЗОМ ПОВЕСТВОВАТЕЛЯ И СУБЪЕКТА С РОДОВЫМ СОЗНАНИЕМ Говоря о поэзии Высоцкого, нужно отметить, что это поэзия реалистическая. Однако это поэзия XX века. Лирическая система Высоцкого многоэлементна. Но если в реалистической лирике XIX века субъектные формы выражения авторского сознания достаточно строго очерчены /например, лирический герой Некрасова в стихотворении «Еду ли я ночью по улице темной...» — это совсем не то, что герой стихотворения «Нравственный человек»/, то у Высоцкого мы уже не встречаем такой строгой определенности. Помимо собственно ролевого героя /«Тау Кита»/ и собственно лирического героя /«Сон»/ мы находим в его поэзии и типы переходных героев: ролевой герой переходного типа в «Дорожной истории», «Я был душой дурного общества...», «Так оно и есть...» (здесь переходность определяется близостью ролевого героя к лирическому герою); масочный герой в «Милицейском протоколе», «Куплетах нечисти», «Песне самолета-истребителя» (в данных стихотворениях переходность определяется близостью и к ролевому, и к лирическому герою); лирический герой, сближенный с ролевым героем в «Кораблях», «Случае». Принципиально важным является разрушение повествовательности в стихотворениях, организованных образом повествователя. За счет этого расширяется сфера субъективного и сужается сфера объективного (традиционно повествователь мыслился как форма выражения авторского сознания, тяготеющая к объективности, приобретая же конкретные черты личности, он уподобляется герою и утрачивает эту объективность). Через завоевание субъектом сферы объективного утверждается право личности на индивидуальное представление о Правде, Истине, Добре, Красоте. Помимо того, разрушение повествовательной сферы влечет за собой, как уже отмечалось, изменение соотношения субъективного и объективного в пользу первого, что дает возможность сохранения и укрепления лирики как рода. Авторское мировосприятие обусловлено принадлежностью поэта культурным традициям XX века. Если ранее в реалистической лирике, по словам Б. О. Кормана [1; 2], как бы ни бушевали дурные страсти, как бы круто ни приходилось человеку, мир все-таки прекрасен и, стало быть, добр, то у Высоцкого мир уже не может быть «все-таки» добр и прекрасен. Ни его лирический, ни его ролевой герой, ни повествователь не могут смириться с несовершенством мира, поэтому звучит то отчаянное «все не так» /«Сон»/, то слышится ироническое Болезни в нас обострены — Уже не станем мы никем. Грядет надежда всей страны — Здоровый, крепкий манекен. («Баллада о манекенах»). то удивленное Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья, Ведь она-то нейтральная! («На границе с Турцией или с Пакистаном»). Такая позиция — следствие воспринятых поэтом культурных традиций XX в., начиная с первого поколения символистов с их образом страшного мира, миратюрьмы и заканчивая традициями диссидентской литературы (в этом отношении хорошим примером могут быть романы Солженицына). Мир, с точки зрения поэта, расколот на «больших людей», власть имущих и остальных. Новое содержание поэзии Высоцкого влечет за собой изменение компо[стр. 97] зиционных приемов. И прежде всего это отражается на драматизации, коренном принципе лирики Высоцкого. Драматизация осуществляется на разных уровнях — синтаксическом /столкновение разных пластов речи/: — Разрешите? — спросил я. — Садитесь. ...Закури. — Извините, «Казбек» не курю. — Ладно, выпей. Давай-ка посуду. Да пока принесут... Пей, кому говорю! Будь здоров! — Обязательно буду. («Случай в ресторане»), — диалогическом /столкновение разных сознаний/: «Глуши мотор, — он говорит, — пусть этот МАЗ огнем горит!». Мол, видишь сам — тут больше нечего ловить, мол, видишь сам — кругом пятьсот, и к ночи — точно занесет, так заровняет, что не надо хоронить!... Я отвечаю: «Не канючь!» — а он за гаечный за ключ и волком смотрит (он вообще бывает крут)... («Дорожная история») — противоречия внутри одного сознания: ...А мой подъем пред смертью — есть провал. Офелия! Я тленья не приемлю. Но я себя убийством уравнял с тем, с кем я лег в одну и ту же землю. («Мой Гамлет») — на сюжетном уровне («Про мангустов и змей»), за счет трансформации времени («Из дорожного дневника») и за счет превращения того,, что мыслится как объективное, в субъективное («Канатоходец»). В лирике Высоцкого не без влияния традиций, созданных поэзией XX в., прослеживается новое отношение к слову. Бытовая лексика — и знак конкретноисторического периода (по бытовому слову мы узнаем, что герой Высоцкого — наш современник), и источник сгущенного лиризма (т. к. слово оказывается ассоциативно, многопланово). Новый взгляд на мир порождает и новое отношение к читателю, а оно в лирике Высоцкого разнообразно: от традиционно доверительного (читатель-друг) в таких стихотворениях, как «Горная лирическая», «Песня о друге», до реалистического видения читателя-современника, который является носителем многих антинорм времени, поэтому «ребята» в стихотворении «Сон» оказываются вмещены в ряд отрицания. Читателю нередко предоставляется право выбора и самостоятельного решения («Корабли», «Случай в ресторане» и т. д.). Рассматривая образ повествователя, мы нашли, что он неоднороден, более того, он оказывается практически полностью адекватным образом ролевого, лирического героя и героев переходного типа. Можно выделить несколько типов повествователей. В поэзии Высоцкого мы сталкиваемся с повествователем, близким собственно ролевому герою. Он встречается в таких стихотворениях, как «На границе с Турцией или с Пакистаном...», «Про дикого вепря», «Зря ты, Ванечка, бредешь...», «Агент 007», «Баллада об оружии» и т. д. Повествователь, сближенный с ролевым героем, с одной стороны, традиционен. Традиционен в том смысле, что ориентирован на рассказ о каком-то событии, факте, лице. Но, с другой стороны, внимание читателя сосредотачивается не только на том, что говорится, но и на том, кто говорит. Резко характерная речевая манера повествователя позволяет соотнести его с определенной социально-исторической средой. Это наш современник, представитель социальных низов. Сравним речевую манеру повествователя, сближенного с собственно ролевым героем, И вот в Москве нисходит он по трапу, Дает доллáр носильщику на лапу И прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту! И — киноленту вместо документу, Что, мол, свои, мол, хау-ду-ю-ду... («Агент 007». [стр. 98] с речевой манерой собственно ролевого героя Неверно, успели набраться: То — явятся, то растворятся.... Но таукиты — Такие скоты, — («Тау Кита»). Ценностная ориентация и повествователя, сближенного с собственно ролевым героем, и собственно ролевого героя сужена миром вещей, но миром вещей, понятым утилитарно, как средством сиюминутной выгоды, сиюминутного удовольствия. Мышление и восприятие их ограничено. Это, как правило, люди, мыслящие социальными штампами. Кроме того, мы встречаемся с повествователем, близким ролевому герою переходного типа, который организует субъектный уровень таких стихотворений, как «Канатоходец», «Лукоморья больше нет...», «Странная сказка», «На краю земли, где небо ясное...» и т. д. Повествователь данного типа, как и ролевой герой переходного типа, наряду с социально-исторической определенностью, обладает некоторыми, весьма существенными нравственными началами, которые сближают его с лирическим героем. Так, в стихотворении «Канатоходец» повествователь — представитель толпы, обыкновенный человек (ему, как и другим, жуток бой канатоходца со смертью). Анализируя жизненную позицию канатоходца, осмысляя свой жизненный путь, повествователь открывает для себя возможность другого способа существования — жизнь «без страховки». Становясь на точку зрения канатоходца, он отдаляется от толпы. Для него, как и для объекта речи, люди, находящиеся внизу, — толпа, лилипуты (в сравнении с величием человека, бросившего вызов судьбе, преодолевшего страх и потому Свободного): «Ах, как жутко, как смело, как мило! Бой со смертью три минуты!» Раскрыв в ожидании рты, Из партера глядели уныло Лилипуты, лилипуты, — Казалось ему с высоты. Однако полностью из толпы он не выделяется, рассказывая другим о канатоходце, взывая к ним, он обращается и к себе: Но спокойно, — ему остается пройти Всего Две четверти пути. Его восприятие, с одной стороны, сближается с канатоходцем, а с другой — срастается с восприятием толпы: И лучи его с шага сбивали, И кололи, словно лавры. Труба надрывалась, как две. Крики «браво!» его оглушали, А литавры, а литавры — Как обухом по голове. ...Не по проволоке над ареной, Он по нервам, нам по нервам Шел под барабанную дробь. Встречаемся мы и с повествователем, близким собственно лирическому герою в таких стихотворениях, как «Енгибарову — клоуну от зрителей», «Гололед», «Песня об обиженном времени», «Баллада о любви», «Баллада о коротком счастье», «Часов, минут, секунд — нули...», «Мосты сгорели — углубились броды...» и т. д. Повествователь, близкий собственно лирическому герою, как и собственно лирический герой Высоцкого лишь отчасти соотнесен с социальной средой, не вписан в быт, наиболее близок к поэтической традиции, созданной предшественниками Высоцкого. Тем не менее он достаточно прочно вписан в социальный мир современности. Правда, вписанность эта не столько внешняя, сколько внутренняя. Он живет болями и трагедиями своего времени. Так, например, стихотворение «Мосты сгорели, углубились броды...» представляет собой размышление о жизни общества, у которого «сбит ориентир» (в этом смысле повествователь традиционен. Нетрадиционность его заключается в сильном личностном начале). В поэзии Высоцкого мы также находим повествователя, близкого лирическому герою переходного типа. Повествователь этого типа отличается от по[стр. 99] вествователя, близкого собственно лирическому герою, как правило, поступком, совершенным им некогда и лежащим на его душе неизбывным грузом. От повествователя, сближенного с собственно ролевым героем, его отличает итог, к которому он приходит. Примером стихотворения, организованного образом повествователя такого типа, может послужить «Беспокойство». Как и повествователь, близкий собственно лирическому герою, повествователь, близкий лирическому герою переходного типа, более или менее не соотнесен с определенной социальной средой, не вписан в быт. Рассматривая стихотворения с повествователем, мы столкнулись с целым рядом стихотворений, организованных образом, который мы условно обозначим как субъект с родовым сознанием. Это такие стихотворения, как «Ярмарка», «Если кровь у кого горяча...» и т. д. Субъект, с которым мы в данном случае имеем дело, — не герой (он, безусловно, носитель сознания, но не предмет изображения). В таких стихотворениях присутствует элемент повествовательности; Но перед нами и не повествователь, так как то, о чем говорится, не является главным предметом изображения. В этих стихотворениях, если рассматривать их в совокупности, исследуется родовое сознание русского человека, которое представлено в этой группе стихотворений, прежде всего, сознанием скомороха, зазывалы. Само обращение к этим образам есть уже в Определенной мере вызов условностям, ненорме. Это сознание непосредственно связано со смехом (в частности, с такой традиционной формой русского смеха, как балагурство). Смех выполняет здесь функцию очищающую, освобождающую от повседневности, от условностей, традиционных связей, таким образом, восстанавливает норму. Именно в родовом сознании русского человека автор видит возможность восстановления нормы. Такое решение проблемы характерно и для Шукшина и для раннего Распутина. Таким образом, можно говорить о том, что Высоцкий вписывается в литературный процесс своего времени. Ориентация таких стихотворений на родовое начало приводит к тому, что характер субъектов, организующих тексты, становится не важен. Важным же оказывается само построение речи, использование определенных приемов, с помощью которых подчеркивается родовое начало субъектов. Наряду с такими чертами русского характера, как любовь к свободе, воле вольной и умением увидеть смешное в подчас не смешном, наряду со способностью раздвинуть этим смехом рамки дозволенного, стирая ложные понятия (в этом и состоят функции скомороха, русского дурака), автор видит и те черты, которые позволяют порой восторжествовать ненорме. Одна из таких черт — вера в доброго царя-батюшку, в доброго властителя: Если кровь у кого горяча — Саблей бей, пикой лихо коли! Царь дарует вам шубу с плеча Из естественной выхухоли... («Если кровь у кого горяча...»). Автор не питает иллюзий относительно возмущения. Лирический герой Высоцкого говорит: плодотворности народного ...И намерений добрых, и бунтов тщета, Пугачевщина, кровь и опять нищета («Мне судьба до последней черты, до креста...»). Выход из ненормы видится, скорее, в способности к индивидуальному возмущению, способности личности разрушить традиционные рамки: С той поры царя корежит, Словно кость застряла в нем. Пальцы в рот себе заложит — Хочет свистнуть соловьем.... («Подходи, народ, смелее...»). Хотя и здесь выход весьма неоднозначен, так как в роли ограничителя, носителя государственного сознания, начинают выступать те самые представители народного сознания, на которых уже возлагались надежды, [стр. 100] Надо с этим бой начать, А то начнет озорничать. Но и индивидуальный протест — не панацея от бед. Порой он выливается в омещанивание: Тридцать три богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и там сидел, Охраняя свой, удел не у дел («Лукоморья, больше нет..."). Высоцкий рассматривает, прежде всего, ссознание современного русского человека. Современность, включая в себя память родовых чёрт, вносит свои корректиивы. И вносит, как правило, не лучшие коррективы в национальное сознание. Она прйвносит разочарование («Все мы сказками слегка объегорены»), как впрочем, и способность трезвого взгляда на реальность (то же) и какуЮ-то вЫхоЛощенность жизни /в ней нет больше места подвигу, все полиняло, омещанилось и обессмысЛилось/. ПоМимо того, сознание современного русского человека оказывается лишенным такого понятия, как вера, даже традиционной веры в Бога: ...Что — лабазники врут про ошибки Христа, Что — пока еще в грунт не влежалась плита... («Мне судьба — до последней черты, до креста...»). И, как следствие, — отсутствие в современной жизни такого понятия, как покаяние, раскаяние. Этой черты оказывается не лишен, пожалуй, только лирический герой Высоцкого: Дурацкий сон, как кистенем, Избил нещадно: Невнятно выглядел я в нем И неприглядно — Во сне я лгал и предавал, И льстил легко я... А я и не подозревал В себе такое! Хотя, безусловно, говорить о сознании автора как о сознании христианском можно только с точки зрения приверженности христианским идеалам и заповедям. Повествователь Высоцкого говорит: «Заповедь только одна — не убий!». Весьма наглядно в этом отношении, например, стихотворение «О сентиментальном боксере»: При счете «семь» я все лежу, рыдают землячки. Встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силы берегу, — Бить человека по лицу я с детства не могу. Однако и на сознание поэта современность наложила свой отпечаток. И здесь сознание оказывается порой деформировано влиянием времени. Вспомним хотя бы варианты его стихов: Я не люблю, когда стреляют в спину, Но если нужно — выстрелю в упор и Я не люблю, когда стреляют в спину, Я также против выстрелов в упор /при этом стоит отметить, справедливости ради, что остановился он, все-таки, на втором варианте/. Позиция поэта в таких случаях — это и позиция его современников: Но свысока взирая на невежд, От них я отличался очень мало: Занозы не оставил Будапешт, А Прага сердце мне не разорвала. А мы шумели в жизни и на сцене Мы путаники, мальчики пока! Но скоро нас заметят и оценят. Эй! Против кто? Намнем ему бока! При этом деформирующим началом выступает контекст времени: И нас хотя расстрелы не косили, Но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России — Безвременье вливало водку в нас. Встает, однако, вопрос о том, насколько закономерно появление этой группы стихотворений для творчества Высоцкого. Тем более, что в количественном отношении это не очень большая группа стихотворений, в основном тексты, написанные для кинофильма [стр. 101] «Иван да Марья». Исследуя истоки и причины ненормативности современной жизни России, обращаясь к срезам различных сознаний, Высоцкий приходит к выводу о том, что корни ненормативности таятся в недрах родового сознания, как и возможности разрушения ненормы. Говоря о о поэзии Высоцкого в целом, нужно отметить, что, в принципе, каждый субъект его поэзии несет в себе ту или иную черту русского национального характера. Сравнивая группы стихотворений, организованных такими субъектами, как ролевой и лирический герои, и стихотворений, организованных субъектом с родовым сознанием, мы пришли к выводу о том, что в первых представлены индивидуальные сознания, в которых проявляются те или иные родовые черты, а во вторых Представлены носители родового сознания, вне индивидуального его преломления. Соответственно выступают в них и равные способы типизации. В стихотворениях, организованных образом собственно ролевого героя и образом повествователя, сближенного с собственно ролевым героем, выступает преимущественно социальная типизация (т. к. они оказываются наиболее жестко соотнесены с определенной социальной (социальные низы) и исторической средой). В стихотворениях с ролевым героем переходного типа и повествователем, сближенным с ролевым героем переходного типа, социальная типизация ослабляется, т. к. при социальной и культурно-исторической определенности они обладают нравственными ценностями, близкими автору. В стихотворениях же, организованных образом лирического героя и повествователя, сближенного с ним, социальная типизация сведена до минимума. На смену ослабевшему детерминизму приходит градация по нравственным принципам. А в стихотворениях, организованных субъектом с родовым сознанием, выступает иная типизация, типизация по историческим, родовым признакам. Таким образом, можно говорить о том, что рассмотренная нами в конце статьи группа стихотворений представляет собой своеобразный итог, к которому устремляется лирическая система Высоцкого. *** 1. Корман Б. О. Лирика и реализм. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1986. 2. Корман Б. О. Лирика Некрасова. Ижевск: Удмуртия, 1978. Вестн. Удмурт. ун-та. — Ижевск, 1991. — № 2. — С. 97-102