Политика идентичности в современной
реклама
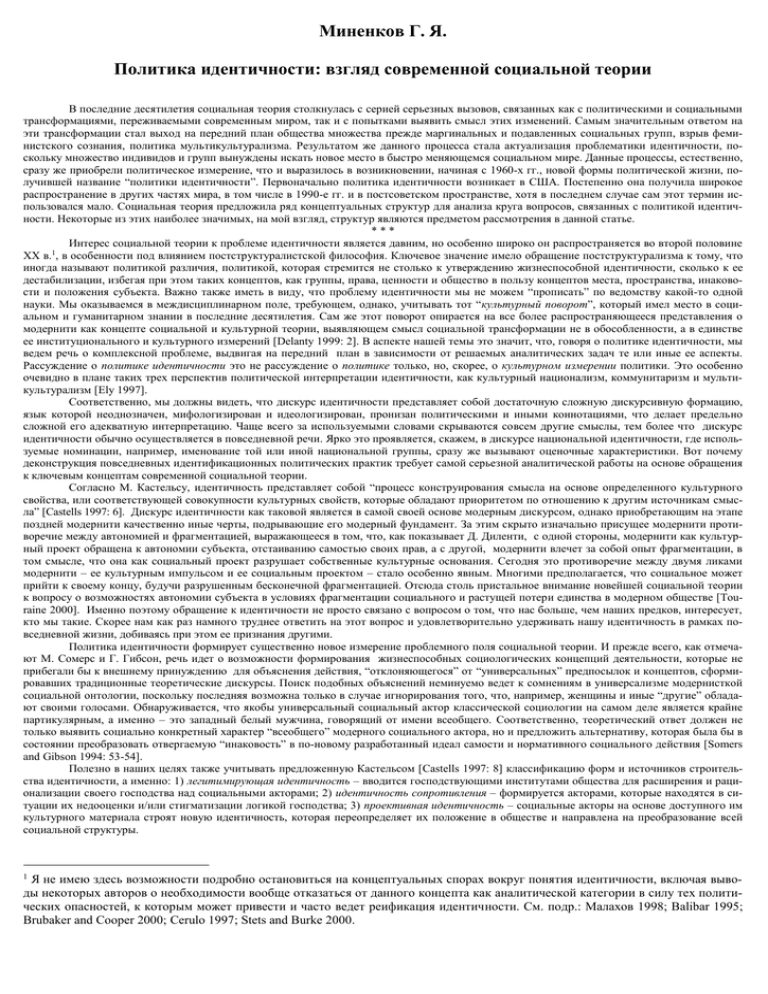
Миненков Г. Я. Политика идентичности: взгляд современной социальной теории В последние десятилетия социальная теория столкнулась с серией серьезных вызовов, связанных как с политическими и социальными трансформациями, переживаемыми современным миром, так и с попытками выявить смысл этих изменений. Самым значительным ответом на эти трансформации стал выход на передний план общества множества прежде маргинальных и подавленных социальных групп, взрыв феминистского сознания, политика мультикультурализма. Результатом же данного процесса стала актуализация проблематики идентичности, поскольку множество индивидов и групп вынуждены искать новое место в быстро меняющемся социальном мире. Данные процессы, естественно, сразу же приобрели политическое измерение, что и выразилось в возникновении, начиная с 1960-х гг., новой формы политической жизни, получившей название “политики идентичности”. Первоначально политика идентичности возникает в США. Постепенно она получила широкое распространение в других частях мира, в том числе в 1990-е гг. и в постсоветском пространстве, хотя в последнем случае сам этот термин использовался мало. Социальная теория предложила ряд концептуальных структур для анализа круга вопросов, связанных с политикой идентичности. Некоторые из этих наиболее значимых, на мой взгляд, структур являются предметом рассмотрения в данной статье. *** Интерес социальной теории к проблеме идентичности является давним, но особенно широко он распространяется во второй половине ХХ в.1, в особенности под влиянием постструктуралистской философия. Ключевое значение имело обращение постструктурализма к тому, что иногда называют политикой различия, политикой, которая стремится не столько к утверждению жизнеспособной идентичности, сколько к ее дестабилизации, избегая при этом таких концептов, как группы, права, ценности и общество в пользу концептов места, пространства, инаковости и положения субъекта. Важно также иметь в виду, что проблему идентичности мы не можем “прописать” по ведомству какой-то одной науки. Мы оказываемся в междисциплинарном поле, требующем, однако, учитывать тот “культурный поворот”, который имел место в социальном и гуманитарном знании в последние десятилетия. Сам же этот поворот опирается на все более распространяющееся представления о модернити как концепте социальной и культурной теории, выявляющем смысл социальной трансформации не в обособленности, а в единстве ее институционального и культурного измерений [Delanty 1999: 2]. В аспекте нашей темы это значит, что, говоря о политике идентичности, мы ведем речь о комплексной проблеме, выдвигая на передний план в зависимости от решаемых аналитических задач те или иные ее аспекты. Рассуждение о политике идентичности это не рассуждение о политике только, но, скорее, о культурном измерении политики. Это особенно очевидно в плане таких трех перспектив политической интерпретации идентичности, как культурный национализм, коммунитаризм и мультикультурализм [Ely 1997]. Соответственно, мы должны видеть, что дискурс идентичности представляет собой достаточную сложную дискурсивную формацию, язык которой неоднозначен, мифологизирован и идеологизирован, пронизан политическими и иными коннотациями, что делает предельно сложной его адекватную интерпретацию. Чаще всего за используемыми словами скрываются совсем другие смыслы, тем более что дискурс идентичности обычно осуществляется в повседневной речи. Ярко это проявляется, скажем, в дискурсе национальной идентичности, где используемые номинации, например, именование той или иной национальной группы, сразу же вызывают оценочные характеристики. Вот почему деконструкция повседневных идентификационных политических практик требует самой серьезной аналитической работы на основе обращения к ключевым концептам современной социальной теории. Согласно М. Кастельсу, идентичность представляет собой “процесс конструирования смысла на основе определенного культурного свойства, или соответствующей совокупности культурных свойств, которые обладают приоритетом по отношению к другим источникам смысла” [Castells 1997: 6]. Дискурс идентичности как таковой является в самой своей основе модерным дискурсом, однако приобретающим на этапе поздней модернити качественно иные черты, подрывающие его модерный фундамент. За этим скрыто изначально присущее модернити противоречие между автономией и фрагментацией, выражающееся в том, что, как показывает Д. Диленти, с одной стороны, модернити как культурный проект обращена к автономии субъекта, отстаиванию самостью своих прав, а с другой, модернити влечет за собой опыт фрагментации, в том смысле, что она как социальный проект разрушает собственные культурные основания. Сегодня это противоречие между двумя ликами модернити – ее культурным импульсом и ее социальным проектом – стало особенно явным. Многими предполагается, что социальное может прийти к своему концу, будучи разрушенным бесконечной фрагментацией. Отсюда столь пристальное внимание новейшей социальной теории к вопросу о возможностях автономии субъекта в условиях фрагментации социального и растущей потери единства в модерном обществе [Touraine 2000]. Именно поэтому обращение к идентичности не просто связано с вопросом о том, что нас больше, чем наших предков, интересует, кто мы такие. Скорее нам как раз намного труднее ответить на этот вопрос и удовлетворительно удерживать нашу идентичность в рамках повседневной жизни, добиваясь при этом ее признания другими. Политика идентичности формирует существенно новое измерение проблемного поля социальной теории. И прежде всего, как отмечают М. Сомерс и Г. Гибсон, речь идет о возможности формирования жизнеспособных социологических концепций деятельности, которые не прибегали бы к внешнему принуждению для объяснения действия, “отклоняющегося” от “универсальных” предпосылок и концептов, сформировавших традиционные теоретические дискурсы. Поиск подобных объяснений неминуемо ведет к сомнениям в универсализме модернисткой социальной онтологии, поскольку последняя возможна только в случае игнорирования того, что, например, женщины и иные “другие” обладают своими голосами. Обнаруживается, что якобы универсальный социальный актор классической социологии на самом деле является крайне партикулярным, а именно – это западный белый мужчина, говорящий от имени всеобщего. Соответственно, теоретический ответ должен не только выявить социально конкретный характер “всеобщего” модерного социального актора, но и предложить альтернативу, которая была бы в состоянии преобразовать отвергаемую “инаковость” в по-новому разработанный идеал самости и нормативного социального действия [Somers and Gibson 1994: 53-54]. Полезно в наших целях также учитывать предложенную Кастельсом [Castells 1997: 8] классификацию форм и источников строительства идентичности, а именно: 1) легитимирующая идентичность – вводится господствующими институтами общества для расширения и рационализации своего господства над социальными акторами; 2) идентичность сопротивления – формируется акторами, которые находятся в ситуации их недооценки и/или стигматизации логикой господства; 3) проективная идентичность – социальные акторы на основе доступного им культурного материала строят новую идентичность, которая переопределяет их положение в обществе и направлена на преобразование всей социальной структуры. Я не имею здесь возможности подробно остановиться на концептуальных спорах вокруг понятия идентичности, включая выводы некоторых авторов о необходимости вообще отказаться от данного концепта как аналитической категории в силу тех политических опасностей, к которым может привести и часто ведет реификация идентичности. См. подр.: Малахов 1998; Balibar 1995; Brubaker and Cooper 2000; Cerulo 1997; Stets and Burke 2000. 1 Из этого становится очевидным, почему мы говорим именно о политике. Дело в том, что стремления, охватываемые “политикой идентичности”, являются коллективными и публичными, а не только индивидуальными и приватными. Это – борьба, борьба теоретическая и социально-политическая, а не просто объединение в группы по интересам, борьба, связанная с разрушением прежних легитимаций и поиском признания и легитимности, а иногда и власти, а не только возможностей для самовыражения и автономии. Политика идентичности является политикой и потому, что она включает отрицание или замену тех идентичностей, которую другие, часто в форме различного рода ярлыков, хотели бы навязать от имени “всеобщего” борющимся за признание индивидам. Ярким выражением этого является теоретическое и проективное переосмысление в последние десятилетия расовой, гендерной и сексуальной идентичностей. В качестве примера такого переосмысления, скажем, в феминистской теории можно сослаться на исследования К. Гилиган [Giligan 1982]2. Гилиган прежде всего обращается к деконструкции того факта, что многие годы исследователи размышляли над будто бы неразрешимым вопросом о том, почему женщины не достигают “высших” ступеней развития, якобы достигнутых мужчинами, т.е. почему женщины “не соответствуют норме”, не обретают той степени индивидуальности и автономности, которая характерна для мужчин. Гилиган полагает, что нужно не предлагать еще одно объяснение того, в чем причины “отклонения” женщин, но отказаться от самого языка подобной постановки вопроса. Необходимы конкретные компаративные исследования женского поведения, оцениваемого на его собственном языке. Эти исследования преобразуют женское отклонение и “другость” в разновидность и “различие” – но различие, свободное от нормативной недооценки, прежде к нему применяемой, что позволяет четко теоретически и политически обозначать женскую идентичность как таковую. Практически такая же логика характерна и для других направлений политики идентичности. Теоретики политики идентичности настаивают на том, что существуют способы познания и описания опыта, отличающиеся от господствующего дискурса. Это позволяет прояснить вопрос о том, как политическое измерение опосредует знание. Что в таком случае считать знанием? Или, с другой стороны, правильной политикой? Кто, в свою очередь, будет давать ответы на эти вопросы? Те, кто отрицает существование подобных проблем и пытается подавить их обсуждение, отнюдь не находятся вне политики, отмечает Д. Скотт; они просто продвигают свою ортодоксию во имя не подвергающихся сомнению традиции, универсальности или истории [Scott, 1995: 3]. Иными словами, нельзя то или иное направление политики идентичности оценивать либо положительно, либо отрицательно. Например, отмечает А. Мелуччи, одним из патологических результатов политики идентичности может быть соревнование среди притесняемых групп за то, чьи притязания на виктимизацию должны иметь преимущество. Как в таком случае отвечать на обвинение, что политика идентичности может быть пагубной и разрушительной? Решение данной проблемы, продолжает Мелуччи, требует определенных методологических прояснений. Скажем, зачастую очень трудно провести различие между политикой идентичности и группами интересов. Чтобы выйти из этой путаницы, нужно учитывать наличие нескольких аналитических уровней коллективного действия. Политика идентичности предполагает обращение прежде всего к какому-либо одному эмпирическому социальному актору. Включаясь в реальный политический процесс, такой актор вынужден неизбежно упрощать интересующие его вопросы, отвлекаясь от того, что не все в обществе является политическим. Если же все стороны идентичности переводятся исключительно на политический уровень, то неизбежна тенденция к сектантству, т.е. осмыслению себя в качестве единственного “правильного” социального актора. Это значит, что ради целей коллективного действия необходимо определять концепцию “мы”, но это определение не устанавливается раз и навсегда: оно развивается в процессах согласования. В противном случае политика идентичности будет опасной не только для общества, но и для самой себя [Melucci 1996: 188-190]. Модерная эпоха характеризуется появлением множества схем идентичности, которые фактически и конструирорвали саму модернити. Модерные идентичности, как правило, конструируются и размещаются в гетерогенном поле культурных дискурсов. Кроме того, “модерный субъект определяется его включением в серию обособленных сфер ценностей, каждая из которых стремится исключить остальные или же пытается утвердить свое преимущество перед ними” [Cascardi 1992: 3]. Противоречия между различными сферами ценностей и дискурса и даже их несоизмеримость не только ведут к фрагментации социального целого или “внешним” трудностям для индивидов, но и порождают серию противоречий внутри “субъекта–самости”. Другими словами, если, отмечает К. Кэлхоун, прав Д. Г. Мид, что смысл нашей самости конституируется в отношениях как со значимыми конкретными другими, так и с более обобщенным социальным другим, то это ставит перед нами серьезную проблему, поскольку невозможно допустить конгруэнтность среди значимых других или же единственность обобщенного другого [Calhoun 1995: 197]. В контексте сказанного вполне понятно, почему для выявления смысла нынешних социальных трансформаций и их влияния на индивидов формируются новые теории деятельности, или теории “политики идентичности”, сдвигающие объяснение действий с “интересов” и “норм” к идентичностям и солидарностям, с понятия универсального социального агента к партикулярным категориям конкретных личностей. Исходя из предпосылки, что индивиды, принадлежащие к схожим социальным категориям и со схожим жизненным опытом (гендерным, расовым, поколенческим, сексуальным и т.д.), будут и действовать на основании общих признаков, теории политики идентичности обычно обосновывают позицию, что “я действую, исходя из того, кто я есть”, а не из рационального интереса или совокупности усвоенных ценностей. В подобной установке и заключены основные трудности теории и практики политики идентичности. И прежде всего особое значение приобретает вопрос о том, как конструируется субъект политической идентичности в ситуации “смерти” классического рационального субъекта. Представляется, что ответить на этот вопрос может помочь весьма интересная теория радикальной демократии и конструирования политической идентичности в позднем модерном обществе Ш. Муфф [Глинос 2003]. В частности, важным является тезис Муфф о том, что “социальный агент конституируется набором “субъективных позиций”, которые никогда не могут быть зафиксированы в закрытой системе различий. Он конструируется разнообразием дискурсов, в рамках которых имеют место не некие необходимые отношения, но постоянное движение переопределения и замещения” [Mouffe 1995: 33]. А это значит, что в проблемном поле политики идентичности мы неминуемо вступаем в сферу столкновения принципов конструктивизма и эссенциализма. Социальный конструктивизм отвергает идею, что идентичность, как индивидуальная, так и коллективная, дается “естественным образом”, как и то, что она создается исключительно актами индивидуальной воли. Подвергаются критике эссенциалистские представления о том, что отдельные личности или группы могут обладать, едиными, интегральными, полностью гармоническими и беспроблемными идентичностями3. Однако, как отмечает Кэлхоун, мы не должны упрощать эссенциалистский подход [Calhoun 1995: 198-199]. Как правило, и это весьма важно для анализа политики идентичности, эссенциалистское обращение к расам, нациям, гендеру, классам, личностям и множеству других идентичностей сохраняется в повседневном дискурсе во всех культурах. Соответственно, социальные теоретики предпринимают различные усилия с целью освободиться от тисков эссенциалистских идентичностей. Описание социальных и культурных историй, конструирующих идентично- Я не случайно уделяю в статье значительное внимание феминистской и гендерной теории. Хотя у истоков политики идентичности в США стояло движение за “черную власть”, наибольшую роль в новой постановке вопроса об идентичности сыграло женское освободительное движение. 3 Термин “эссенциализм” используется в качестве общего наименования аргументов, которые позиционируют устойчивые основополагающие источники идентичности, или эссенции, сущности. Однако сами эти аргументы во многом различны – от утверждений о биологическом устроении гендера, расы или других групп до утверждений, опирающихся на психологию, социальную структуру, теологию или моральные предписания. 2 сти, становится главным направлением подобных попыток4. Но простой показ процесса подобного конструирования может потерпеть неудачу в попытках схватить реальные политические и иные основания того, почему к эссенциалистским идентичностям продолжают обращаться и глубоко их ощущать. Деконструкция эссенциализма должна быть тщательно обоснованной. И понятно почему: мы выходим здесь в политическое пространство реальных социальных отношений. Иными словами, противостояние эссенциализму, характерное для политики идентичности, выявляет, подчеркивают Сомерс и Гибсон [Somers and Gibson 1994: 55], ряд новых концептуальных трудностей. Так, вполне закономерен вопрос о том, не создают ли новые теории политики идентичности новые “тотализирующие фикции”, в которых одна категория опыта, скажем, гендерного, однозначно детерминирует любые другие различия. Цветные феминистки, например, выдвигают обвинение, что феминистские теории идентичности крайне упрощают положение цветных женщин, поскольку гендер есть только один из ряда фундаментальных аспектов идентичности и различия, как, например, бедность, классовая принадлежность, этничность, раса, сексуальная идентичность и возраст. Не случайно, скажем, белл хукс столь резко акцентирует этот момент, выступая против самого термина “сексуальная ориентация”, заменяя его альтернативным “сексуальным предпочтением” [hooks 1984], чем предполагается, что индивиды в определенной степени открыты к сексуальному взаимодействию со всеми представителями того или иного пола, что минимизирует как автономию индивида, так дифференциацию людей с гендерной точки зрения 5. Д. Скотт [Scott 1988] подчеркивает, что несмотря на опровержение абстрактного универсализма такие феминистские теоретики, как Н. Чодороу и К. Гилиган, лишь заменяют его собственным неисторическим и эссенциалистским понятием “женщины”. Стоит упомянуть в этой связи и Д. Харавей, которая убедительно показывает, что навешивание противоположным взглядам ярлыка “эссенциализма” вносит мало содержательного в споры об идентичности. Более того, оппозиция между эссенциализмом и конструктивизмом часто используется таким образом, что она усиливает разделение природы и культуры вместо того, чтобы деконструировать его [Haraway 1991] Вот почему, полагает Кэлхоун, существенно не столько просто противопоставлять эссенциализм и конструктивизм, сколько видеть поле возможных стратегий анализа проблематики идентичности. Так, при определенных обстоятельствах, прежде всего политических, могут быть полезными самокритичные притязания на сильную, фундаментальную и общую идентичность. В частности, там, где определенная идентичность подавляется или недооценивается господствующими дискурсами, ответом на это может быть притязание на значимость со стороны всех индивидов, объединяемых данной идентичностью. А потому неправильно было бы рассматривать эссенциализм как простую историческую ступень, как если бы он был ошибкой мышления XVIII-XIX вв., а теперь деконструкция нас от него освободила. Путь выхода из прежнего господства эссенциалистских подходов к идентичности заключен не в простой перестановке акцентов, а скорее в умножении теоретических и практических инструментов, с которыми мы можем приступать к проблемам идентичности и различия. Борьба, связанная с политикой идентичности, это не просто борьба между теми, кто претендует на различные идентичности, но и борьба внутри каждого субъекта, поскольку многочисленные и конкурирующие дискурсы нашей эпохи оказываются вызовом любым усилиям достичь устойчивого самосознания и внутренне согласованной субъективности [Calhoun 1995: 202-204]. При этом, сошлемся на Муфф, мы можем сформулировать серию вопросов: Как понимать политическое сообщество в условиях модерной демократии? Как концептуализировать наши идентичности в качестве индивидов и в качестве граждан так, чтоб одна не приносилась в жертву другой? Как сделать нашу принадлежность к различным сообществам ценностей, языка, культуры и т.д. совместимой с нашей общей принадлежностью к политическому сообществу, правила которого мы должны принимать. Речь идет о поиске таких форм общности, которые уважали бы разнообразие и давали место различным формам индивидуальности [Mouffe 1995: 35]. Проблема, таким образом, в том, как сочетать наши индивидуальные идентичности с правилами и нормами гражданского поведения. Закономерно, что проблема идентичности в современной социальной теории во многом ставится как проблема различия, что ведет к соответствующим практическим выводам – движению от политики идентичности к политике различия. По словам У. Конноли, “идентичность формируется по отношению к серии различий, которые социально осознаются. Эти различия существенны для ее существования. Если они не сосуществуют как различия, идентичность не существует в своей отличительности и устойчивости” [Connoly 1991: 64]. Соответственно возникает потребность в разработке норм, регулирующих подобные отношения, что выявляет фундаментальную роль в данной ситуации власти. Дело в том, что, притязая на единственно правильную идентичность, сильная идентичность будет склонна определять серию различий как некое внутреннее зло, иррациональность, ненормальность и т.п., иными словами, как опасность, от которой следует защищаться с помощью власти. Это, полагает Конноли, позволяет нам сформулировать парадокс различия: “Если отсутствует подлинная идентичность, то претендующую на подлинность попытка утвердить какую-либо идентичность связана с властью, в то время как если такая доступная для реализации подлинная идентичность существует, то попытка плюрализировать и политизировать идентичности препятствует достижению высшего добра. Если мы не в состоянии утвердить с уверенностью оба этих притязания, двойное отношение взаимозависимости и конфликта преобразует теоретическую проблему познания в парадокс практики. Ибо практика, укрепляющая идентичность в ее подлинности, может включать подавление отличия, в то время как практика, проблематизирующая установленные идентичности, может препятствовать признанию подлинной идентичности” [Connoly 1991: 66]. Иными словами, нельзя просто утверждать, что различие – это всегда хорошо, нужен конкретный анализ при учете того, что культурное различие есть, в первую очередь, установление границы. Однако такой анализ требует действительно нового языка и новых подходов. Во многом подобная новизна достигается в современной социальной теории посредством обращения к принципу концептуальной нарративности, смысл которой в выявлении генеалогии категорий идентификации, их исторической, темпоральной и культурной специфики. К пример, такие темы, как, например, “муж как кормилец”, “профсоюзная солидарность” или “женщина должна быть прежде всего независимой”, будут селективно выделять события социального мира, выстраивать их в определенном порядке и нормативно оценивать эти построения. Это позволяет нам ввести концепт нарративной идентичности. Согласно Сомерс и Гибсон, значение данного концепта заключается в том, что он дает возможность “развивать концепт идентичности и одновременно трансцендировать его устойчивость”, поскольку ”соединение нарративности с идентичностью вводит время, пространство и аналитическую реляционность, исключаемые при безусловном или “эссенциалистском” подходе к идентичности”. Принцип нарративной идентичности закрепляет акторов внутри отношений и рассказов, которые движутся во времени и пространстве и тем самым препятствуют безусловной стабильности действия, чем подчеркивается реляционный и процессуальный характер идентичности [Somers and Gibson 1994: 65]. Итак, в центре политики идентичности явно или неявно всегда находится нарратив различия, хотя зачастую мы и встречаемся с противопоставлением политики идентичности и политики различия. Действительно, политика идентичности, как она первоначально формировалось в мультикультурном пространстве, концентрируясь прежде всего на проблематике расы, класса и гендера [Gitlin 1993], была направлена на внутреннюю гомогенизацию конкретных сообществ, но этот процесс опирался на утверждение различия с другими сообществами. В то же время нужно видеть, что, как отмечает Т. Гитлин, политика идентичности есть нечто большее, чем выражение совокупности особых мыслей и чув- Например, Э. Хобсбаум и Т. Рейнджер, анализируя националистическое движение, показывают, что в его основе лежат “изобретенные традиции”, а отнюдь не некие примордиальные основания ‘Hobsbawm and Ranger 1983]. 5 Аргументация хукс согласуется с критикой “принудительной гетеросексуальности” А. Рич, выявляющей, каким образом социальные нормы связаны с имплицитным допущением, что все представители одного пола должны иметь определенный уровень сексуальности по отношению ко всем представителям другого пола [Rich 1983]. Близкая аргументация представлена И. Сэджвик и Д. Фусс [Sedgwick 1985; Fuss 1989]. 4 ствительности, воспринимаемых и переживаемых индивидами. Это – паттерн принадлежности, поиск комфорта, подход к сообществу, где чувство принадлежности является одновременно и защитой, и нападением, способом преодоления исключения и умолчания. Не случайно, что здесь мы часто сталкиваемся с натурализацией и реификацией идентичностей, с идеей, что социальные группы обладают сущностной идентичностью. Анатомия вновь превращается в судьбу. В итоге “распространение политики идентичности приводит к повороту вовнутрь, мрачной и герметичной браваде, которая принимает идеологическую форму параноидального, прикрытого жаргоном, постмодернистского группового мышления, мании преследования и стилизованной маргинальности” [Gitlin 1994: 156]. В этом и выражается тот факт, что идентичности создаются не лабораториях или аудитория, но конструируются в конкретных социальных практиках, что и делает как сами эти практики, так и знание о них политическим, ибо они всегда являются взаимодействием смыслов, которые мы вкладываем в социальные действия. Разумеется, при этом ставится под сомнение автономия и устойчивость любой особой идентичности, претендующей на определение и интерпретацию существования субъекта [Scott, 1995: 8]. Именно поэтому в современной социальной теории придается столь большое значение культурному измерению политики идентичности [Balibar 1995]. По словам А. Аппадураи, когда мы указываем на культурное измерение любого феномена, то подчеркиваем идею связанного с ситуацией различия, т.е. различия по отношению к чему-либо локальному, воплощенному и значимому. Но это требует и более тонкого подхода к самой культуре: “мало пользы в рассмотрении культуры как субстанции, ее лучше рассматривать как измерение определенных феноменов, измерение, которое связано с размещенным в ситуации и материализованным различием. Подчеркивание димензиональности, а не субстанциальности культуры позволяет нашему мышлению о культуре меньше быть свойством индивидов или групп и больше – эвристическим приемом, который мы можем использовать, ведя речь о различии” [Appadurai 1996: 12-13]. В данном контексте весьма важна для нашей темы предпринятая Аппадураи критика того, что он называет культурализмом. Культурализм, утверждает Аппадураи, есть “политика идентичности, мобилизованная на уровне нации-государства”, “форма, которую склонны принимать культурные различия в эру масс-медиа, миграции и глобализации” [Appadurai 1996: 15, 16]. Акцент на культуралистской мобилизации как раз и выявляет опасные, экслюзивистские тенденции политики идентичности. Обращение к культурному измерению политики идентичности это во многом обращение, говоря языком Аппадураи, к “работе воображения” как конститутивной черте модерной субъективности. Не случайно, что современная социальная теория столь большое внимание уделяет практикам социального воображения и их роли в конструировании идентичностей. В отличие от прошлого, воображение сегодня, показывает Аппадураи, уже не простая фантазия, побег от реальности, элитное времяпрепровождение или созерцание; “воображение становится полем социальных практик, формой работы (в смысле как труда, так и культурно организованных практик) и формой согласования между сторонами деятельности (индивидами) и глобально определенными полями возможностей. … Воображение сейчас в центре всех форм деятельности и как таковое является социальный фактом и ключевым компонентом нового глобального порядка” [Appadurai 1996: 31]. В основе практик воображения лежит движение индивидов по многообразным ландшафтам (скейпам), которые, согласно Аппадураи, являются “строительными блоками” того, что он (расширяя понятие Б. Андерсона) предпочитает называть “воображенными мирами”, которые “формируются исторически размещенным воображением личностей и групп, рассеянных по земному шару”. Использование концепта “ландшафт” как раз и позволяет подчеркнуть текучесть и изменчивость тех пространств, в которых живут нынешние люди. Множество людей на земном шаре пребывает сегодня в таких воображенных мирах (а не только в воображенных сообществах), причем, исходя их них, подчеркивает Аппадураи, они в состоянии ставить под сомнение и иногда даже разрушать окружающие их миры, воображенные официальным разумом и предпринимательской ментальностью [Appadurai 1996: 33]. В этом контексте, вслед за Аппадураи, следует обратить внимание на то, что одним из новых и предельно важных измерений политики идентичности в последние годы стал комплекс явлений, связанных с нарастанием миграционных процессов и формированием многочисленных и многообразных диаспор. Очевидна значимость данной проблематики и для постсоветского пространства, миграционные и диаспорические практики которого еще не получили должного теоретического освещения. При этом “мы можем говорить о диаспорах надежды, диаспорах террора, диаспорах отчаяния. Но в любом случае эти диаспоры усиливают воображение, и как память, и как желание, в жизни многих обычных людей, в их мифографиях, отличающихся от классических мифов и ритуалов. Ключевое отличие здесь в том, что эти новые мифографии привлекаются для новых социальных проектов, а не просто для противостояния несомненным фактам повседневной жизни”. [Appadurai 1996: 6]. В свое время Б. Андерсон показал, какую роль играет печать в практиках воображения и конструирования наций. Схожая связь, полагает Аппадураи, может быть найдена между работой воображения и возникновением постнационального политического мира. Ведущая роль в этом принадлежит электронным масс-медиа, связывающим аудитории через границы. Эпоха, когда публичные сферы и политика идентичности имели почти исключительно национальный характер, завершается. Политика идентичности зачастую становится медийной по своей сути: благодаря электронным СМИ приобретают новые измерения практики конструирования “воображаемых сообществ”. Формируются “новые содружества”, приобретающие транснациональный и даже постнациональный характер. В таких опосредованных масс-медиа содружествах, или “братствах” пересекаются различные формы локального опыта, создавая возможности для транслокальных социальных и политических действия, которые в ином случае было бы трудно вообразить. Данные процессы особенно ярко выявляют то, что неотъемлемой частью политики идентичности является “борьба за признание” (Ч. Тейлор, А. Хоннет, Н. Фрейзер). Идентичность есть всегда притязание на признание со стороны других, как индивидов, так и институтов, что особенно значимо в ситуации нынешнего социального плюрализма, миграционных потоков, диаспор, фрагментации общества. Предельно наглядно об этом свидетельствует широкое развитие в последней трети ХХ в. различных новых социальных движений (НСД), ставшим одним из ключевых объектов новейшего социального анализа (Кэлхоун, Турен, Мелуччи и др.). Коллективный поиск идентичности является главной стороной формирования движения. Можно назвать, по крайней мере, три направления концептуализации идентичности в литературе об НСД [Hunt, Benford and Snow 1994]. Во-первых, в основе своей эссенциалистская трактовка идентичностей как продуктов объективных биологических, психологических или социальных структур. Версией данного подхода является выведение практик конструирования идентичностей НСД из состояний депривации и статусной неполноты, что побуждает определенных индивидов объединяться ради коллективного политического действия. Во-вторых, концептуализация идентичности как отражения макросоциальных изменений, в частности, вступления индустриальных обществ в новую историческую эпоху. Утверждается, что НСД преодолевают традиционные классовые деления и соответствующие им формы борьбы за контроль над государственными и экономическими институтами и все больше сосредоточиваются на трансформации гражданского общества и жизненных миров. В-третьих, конструктивистская трактовка идентичности как результата взаимодействия. Дискурс идентичности в этом случае понимается как риторика, сконструированная в соответствии со специфическими для группы руководящими принципами и непрерывно по-новому определяемая в свете нового опыта. Соответственно, центральная роль в динамике социальных движений принадлежит культурным ориентациям. При этом неправильно называть любое коллективное действие социальным движением, порождающим некоторую политику идентичности. Согласно Турену, “понятие социального движения является полезным только тогда, когда оно дает нам возможность показать существование очень своеобразного типа социального действия: того типа, который позволяет определенной социальной категории – а это всегда особая категория – выразить сомнение в форме социального господства, которая является сразу и партикулярной, и общей. Движение делает это во имя общих ценностей или социальных ориентаций, которые оно разделяет со своим противником, но делает это в форме отрицания легитимности противника” [Touraine 2000: 90]. Очевидно в этом контексте, что связь НСД и политики идентичности состоит в том, что, вырастая их повседневной жизни, движения в своей борьбе за признание всегда стремятся использовать публичную сферу с тем, чтобы подвергать сомнению существующие структуры или выдвигать новые возможности в сферах религии, сексуальных отношений, отношения людей к природе, жизни сообщества, труда и экономики, а также множества других измерений социальной жизни. Справедливо при этом подчеркивается, что зачастую под НСД понимают только движения прогрессистского плана (особенно при втором из перечисленных выше подходов к идентичности НСД), не относя к ним различного рода фундаменталистские, националистические и праворадикальные движения, что смазывает реальную картину современной политики идентичности. На самом деле, все движения создают широкую и разноплановую картину политики идентичности. Индивиды ищут новых коллективов и создают “новые социальные пространства”, где могут испытываться и определяться новые стили жизни и социальные идентичности [Johnston, Laraña and Gusfield 1994]. Очевидно, что применительно к НСД и политике идентичности особое значение имеют модели идентичности сопротивления и проективной идентичности, наиболее явно актуализирующие практики социального воображения. Согласно Кастельсу, идентичности сопротивления, вероятно, являются наиболее важным типом строительства идентичности сегодня, конструируя формы коллективного сопротивления уже невыносимому угнетению, причем обычно на основе эссенциализированных образов идентичности. Яркий пример тому – различного рода националистические движения. Проективная же идентичность формирует субъекта, что означает, если следовать Турену, желание индивидов быть, создавать персонифицированную историю, наделять смыслом всю область опыта индивидуальной жизни. Строительство идентичности становится проектом иной жизни, возможно, на основе подавленной идентичности, но расширенный в направлении трансформации общества, как, например, в том же феминистском движении6. При этом важно достаточно четко понимать смысл самого концепта коллективной идентичности. Применительно к НСД и политике идентичности данная проблематика особенно подробно разработана А. Мелуччи. Стратегическая роль концепта коллективной идентичности, подчеркивает Мелуччи, заключается в выявлении значения в современной социальной теории культурного анализа, поскольку “мы живем в обществе, которое все больше формируется информацией и определяется культурными измерениями; в нем различия в культурах и определения самих культур становятся критическими социальными и политическими вопросами, которые воздействуют на экономическую и социальную политику” [Melucci 1996: 161]. Ставя вопросы о том, каким образом индивиды и группы производят и придают смысл своим действия и как мы можем понять этот процесс, мы осуществляем сдвиг от монолитной и метафизической идеи коллективного актора к процессам, благодаря которым группа индивидов становится коллективом. Согласно Мелуччи, “коллективная идентичность является интерактивным общим определением, формируемым несколькими индивидами (или группами на более сложном уровне) и связанным с ориентациями действия и тем полем возможностей и ограничений, в котором эти действия имеют место” [Melucci 1996: 70]. Она в качестве коллективного “мы” представляет собой творческий результат процесса обсуждения и “трудоемкого приспособления” различных элементов, связанных с целями и средствами коллективного действия, обеспечивая непрерывность движения во времени, определяя его способность к автономному действию. При этом очень важно избегать эссенциализации коллективной идентичности, поскольку весьма часто явно или неявно она трактуется как нечто существующее помимо составляющих определенный коллектив индивидов. Правда, за этим скрыты определенные основания, важные с точки зрения реальной политики. Разделять ту или иную коллективную идентичность, значит, не только участвовать в ее формировании, но и в определенных ситуациях “повиноваться” ее нормативным предписаниям, принимаемым в качестве “объективного” факта. Многие социальные теоретики настаивают на необходимости дифференцированного подхода к политике идентичности, а не просто некритическом ее принятии как таковой. Дело в том, что наши притязания на идентичность и сопротивление им имеют смысл только на фоне притязаний на идентичность со стороны других субъектов. Согласно Ч. Тейлору [Taylor 1992], нам следует проявлять осторожность по отношению к своего рода “мягкому релятивизму”, согласно которому все притязания на признание имеют одинаковый вес, а само признание может обретаться без обсуждения. За этим обычно скрывается классический либеральный принцип индивидуализма. Однако, полагает Тейлор, данный принцип скорее является основанием для толерантности, но не для взаимного признания всего, чего угодно. Однако, как показывает, опираясь на Тейлора, Кэлхоун, притязания на легитимность или признание есть нечто большее, чем притязания на толерантность. Ключевую аналитическую роль, подчеркивает Кэлхоун, как раз играет признание того, что общие структуры означивания имплицитно утверждаются даже в аргументах, акцентирующих различие и отрицающих общий моральный дискурс. Это выражается в двух аспектах. Во-первых, значение идентичности, являющейся предметом борьбы за признание, почти всегда утверждается не только в качестве противоположности другим идентичностям, но и в пределах особого поля общей релевантности – например, политического устройства. Сторонники политики идентичности выдвигают притязания на обладание различием, признаваемым в качестве легитимного в пределах определенного поля, например, сферы занятости или правового подхода, где люди с различными идентичностями выдвигают схожие притязания. Вовторых, в пределах разных идентичностей, в пользу которых выдвигаются политические притязания, имеют место различного рода подгруппы. Чтобы политика идентичности работала, она должна скорее не акцентировать эти различия, а использовать общую структуру референции, в рамках которой станет очевидным единство подгрупп [Calhoun 1995: 219-220]. Соответственно, это означает, продолжает Кэлхоун, необходимость противостояния “безусловным идентичностям”, притязания на которые весьма часто скрываются за политикой идентичности. Дело в том, что в существенной своей части политика идентичности включает суждения о категориях индивидов, которые предположительно разделяют некоторую общую идентичность. Тем самым появляется возможность отвлечься от конкретного взаимодействия и социальных отношений, в рамках которых постоянно пересматриваются идентичности, причем одна идентичность может представляться более значимой, чем другие. Абстрагирование от подобной конкретики неизбежно порождает сдвиг к явному эссенциализму (так сказать, к борьбе за приобретение “козыря”), в чем и заключается основная опасность политики идентичности. Отсюда явно или неявно проистекает весьма опасный политический аргумент: если бы не было той или иной группы, то и не было бы никакой политики идентичности борющейся за признание группы. “Противоречие между идентичностью – якобы единственной, унитарной и интегральной – и идентичностями – множественными, пересекающимися и обособленными – неизбежно как на индивидуальном, так и коллективном уровнях. … Попытки подвести любую совокупность отношений под безусловную идентичность или привлечь любую категорию с устойчивым значением всегда, до определенной степени, тенденциозны и вызывают сопротивление. Это значит, что, будучи живой, идентичность всегда есть проект, а не завершенный результат, что указывает на ее неизбежно временной характер, на то, что мы в своей жизни облекаем себя идентичностями не статически, но ориентируясь на будущее и практическое действие “ [Calhoun 1995: 221-222]. Рассуждая о политике идентичности, мы неизбежно выходим к проблеме гражданства, занимающей весьма существенную роль в современной социальной теории. Обратимся в этой связи к критическому сопоставлению Ш. Муфф коммунитаристского и либерального проектов гражданства и идентичности7. Коммунитаристы, отмечает Муфф, приносят в жертву сообществу и гражданству индивидуальность, либера- В книге Кастельса [Castells 1997] весьма подробно анализируются на основе разнообразного конкретного эмпирического материала самый разный опыт строительства подобных идентичностей и соответствующих политических импликаций в контексте возрастающего значения в современном мире коммунитаристского движения и становления нового типа социальности, называемой автором “сетевым обществом”. 7 Коммунитаризм в последние десятилетия приобрел значительное влияние именно в контексте политики идентичности, в реализации которой коммунитаристы (например, Ч. Тейлор или А. Этциони) активно сами участвуют. Влияние коммунитаризма прежде всего связано с его стремлением к восстановлению гражданских ценностей и коллектива, а также острой критикой издержек либерального индивидуализма. О коммунитаризме см.: Алексеева 2000: 180-197. 6 лы же жертвуют гражданством ради индивидуальности, исходя при этом из формального понимания гражданства. Политика, с точки зрения либералов, это лишь пространство, где отдельные индивиды борются за свои индивидуальные интересы, что, согласно коммунитаристам, ведет к распадению социальных связей. При определенной справедливости подобного вывода, мы, полагает Муфф, все же не можем принять коммунитаризм прежде всего с точки зрения трактовки им сообщества как Gemeinshaft, т.е. общности людей, сцементированной субстантивной идеей общего блага. Это – домодерная идея, несовместимая с конститутивным для модерной демократии принципом и практикой плюрализма, отказывающегося от субстантивного и однозначного видения общего блага. Осознание этого позволяет понять, почему ядром проблемы является форма концептуализации политического сообщества и нашей принадлежность к нему, т.е. гражданство [Mouffe 1995: 36]8. Политическое сообщество следует рассматривать не как некий эмпирический факт, но как дискурсивную формацию, исходящую из политического воображаемого, каковым обычно оказывается “общее благо”, выполняющее функцию социального горизонта, который, будучи недостижимым, всегда, тем не менее, остается способом измерения реального дискурса. Но поскольку этот принцип открыт для множества конкурирующих интерпретаций, полностью инклюзивное политическое сообщество невозможно. Всегда будет существовать “конститутивный посторонний”, нечто внешнее сообществу как условие самого его существования. А потому, подчеркивает Муфф, “жизненно важно понимать, что поскольку конструирование “мы” с необходимостью означает различение с “они”, а все формы согласия опираются на акты исключения, условие возможности политического сообщества является одновременно условием невозможности его полной реализации” [Mouffe 1995: 36]. Понимая, что такая деятельность никогда не будет закончена, ее, тем не менее, всегда нужно осуществлять, иначе ни о какой демократии речи быть не может. Именно в этом смысл гражданства, представляющего собой “общую политическую идентичность личностей, у которых могут быть различные представления о благе, но которые признают свое подчинение определенным авторитетным правилам поведения. Эти правила являются не инструментом достижения общих целей – поскольку сегодня идея субстантивного общего блага отброшена, – но условиями, которые индивиды должны соблюдать при выборе и достижении своих личных целей” [Mouffe 1995: 37]. Демократическое гражданство, таким образом, предполагает общность, включающую различие и индивидуальность. Можно сказать, что именно гражданская идентичность позволяет процессуально снимать противоречие между политикой идентичности и политикой различия: не отрицая различий, она ищет формы их согласования на основе принципа приверженности равенству и свободе. Гражданство, отмечает Муфф, это не одна идентичность среди многих, как в либерализме, и не господствующая идентичность, не принимающая во внимание другие, как в коммунитаризме. Это – принцип артикуляции идентичностей, влияющий на различные субъективные позиции социальных агентов и допускающий при этом множественность конкретных лояльностей и уважение индивидуальной свободы [Mouffe 1995: 38]. Соответственно плюрализм не беспределен, поскольку и в условиях демократии невозможно избежать отношений подчинения. Критически относясь к процедурной теории демократии Ю. Хабермаса, Муфф подчеркивает, что модерная демократия описывается посредством совокупности этико-политических ценностей. Те, кто трактует плюрализм модерной демократии в плане наличия у нее единственного ограничения – соглашения о процедурах, не понимают, что не бывает процедурных правил без ссылки на нормативные основания. И потому нужно отвергнуть либеральную догму, что модерное государство может быть равнодушным к политическим ценностям, которые конституируют принципы его легитимности. Если это допустить, к чему призывает безграничный мультикультурализм, то демократическое государство как политическая реальность попросту исчезнет. Нельзя представлять демократическое общество как совершенную гармонию социальных отношений и тем самым всех и всяческих различий. По словам Муфф, “мы всегда будем иметь дело с “конфликтным консенсусом”... Это противоречие между согласием относительно принципов и разногласием относительно их интерпретации и составляет агонистическую динамику плюралистической демократии” [цит. по: Глинос 2003: 92]. Коль скоро есть власть, есть и борьба, и подчинение. Это означает, что отношения между социальными агентами будут более демократическими лишь постольку, поскольку они признают партикулярность и ограниченность своих притязаний, в чем выражается конститутивное значение плюрализма для модерной демократии, как и его неотделимость от власти и антагонизма [Mouffe 1995: 41-42]. Таким образом, демократия как логика идентичности вступает в противоречие с логикой плюрализма и различия, препятствующей установлению тотальной системы идентификаций. Однако, подчеркивает Муфф, именно наличие подобного противоречия является “лучшей гарантией против окончательного прекращения обсуждений или тотального рассеивания, которые стали бы следствием исключительного господства одной из двух логик. … Располагаясь между проектом полного паритета и противоположным проектом полного различия, опыт модерной демократии состоит в осознании существования этих двух противоречащих друг другу логик, а также необходимости их артикуляции: артикуляции, которая постоянно должна вновь осуществляться и обсуждаться, поскольку нет никакой конечной точки равновесия, где была бы достигнута конечная гармония. Плюралистическая демократия может существовать лишь именно в этом “промежуточном” пространстве [Mouffe 1995: 43]. Такой паритет будет снимать крайности политики идентичности, формируя плюралистически ориентированные практики политического воображения, что особенно важно в условиях глобализации. В этой связи остановимся на работе французского социального теоретика А. Турена Можем ли мы жить вместе?, центральная проблема которой – формирование новой субъективности в условиях распадающегося и фрагментированного мира. Анализируя социальные и политические изменения в условиях глобализации, Турен приходит к выводу, что “наша культура больше не контролирует нашу социальную организацию, а наша социальная организация больше не контролирует технологическую и экономическую деятельность. Культура и экономика разошлись друг с другом в качестве мира символического и мира инструментального” [Touraine 2000: 2]. Происходит разрушение того, что прежде мы называли обществом. В этом контексте и формулируется вопрос Турена: можем ли мы жить вместе? Дело в том, что, с одной стороны, разрушение обществ ведет к утере традиционных идентичностей, что, с другой, вызывает стремление к восстановлению закрытых сообществ и столь же закрытых идентичностей. Общества превращаются в совокупность сообществ, тесно объединяющих культуру, политику и власть на территориях, руководимых религиозными, культурными, этническими и политическими авторитетами, выводящими свою легитимность не из суверенитета народа, экономической эффективности или хотя бы военного завоевания, но из богов, мифов или традиций сообщества. Главным для практик политики идентичности становится исключение. Выход из данного положения, по мнению Турена, в новой постановке проблемы субъекта, поскольку единственным пространством, в котором могут быть согласованы инструментальность и идентичность, является личный жизненный проект, ибо “в мире непрерывных и неконтролируемых изменений индивидуальная попытка трансформировать живой опыт в конструирование самости в качестве актора является единственной устойчивой точкой референции” [Touraine 2000: 13]. Субъект есть не что иное, как потребность и желание сопротивляться его исключению из меняющегося мира, в котором нет ни порядка, ни равновесия; он есть утверждение свободы, противостояние власти и всякого рода идеологиям. Турен выделяет две ступени решения этой задачи, раскрывающие особенности формирования идентичности в ситуации поздней модернити. Во-первых, “индивид может быть трансформирован в Субъект, только если Другие признаются в качестве Субъектов, борющихся, каждый по-своему, за согласование культурной памяти и инструментального проекта, т.е. за то, что можно было бы назвать мультикультурным обществом, которое далеко уходило бы от фрагментации социальный жизни на сообщества” [Touraine 2000: 14]. Идея субъекта подразумевает межкультурную коммуникацию между индивидами и сообществами. Во-вторых, личный субъект, требует институциональных гарантий. Это означает, что мы должны заменить старую идею демократии, определяемой как участие в общей воле, новой идеей институтов, которые гарантируют свободу субъекта и допускают коммуникацию между субъектами. Турен называет этот подход “политикой субъекта”, который должен сменить “политику идентичности”, и подчеркивает особую роль образования в этом процессе. 8 Подробный и весьма теоретически и практически перспективный анализ проблемы гражданства см. в: Isin and Wood, 1999. Завершить анализ постановки современной социальной теорией проблемы политики идентичности я хотел бы обращением к вопросу о соотношения универсализма и партикуляризма, на мой взгляд, синтезирующему суть многообразных практик политики идентичности. Представляется, что наиболее глубоко этот вопрос раскрывается одним из авторов теории “радикальной демократии” Э. Лакло [Laclau 1995]. Лакло выделяет несколько исторических формы осмысления отношений между универсальным и партикулярным, которые могут быть рассмотрены в качестве форм конструирования идентичности. Во-первых, модель, предложенная античной философией, исходящая из наличия четкой разделительной линии между универсальным и партикулярным и полной доступности универсального (эйдосов) для постигающего разума: партикулярное – это только тень, скрывающая подлинную сущность. Во-вторых, христианская модель, исходящая из трактовки универсальности как точки зрения Бога, рационально непостижимой человеком и доступной ему только в порядке индивидуального спасения при посредничестве Бога. В-третьих, модель новоевропейской культуры, фактически ставшая секуляризированным воплощением христианской модели: логика привилегированного агента Истории, агента, партикулярное тело которого рассматривается как выражение универсальности, а функцию универсального гаранта вместо Бога выполняет Разум. В итоге, отмечает Лакло, партикулярная европейская культура стала рассматриваться как воплощение универсального. Соответственно, европейская империалистическая экспансия была представлена на языке универсальной цивилизующей функции, модернизации, направленной в том числе на “народы без истории” и т.д. В итоге утверждается единая и единственная коллективная идентичность, воплощающаяся в соответствующей политике. Лакло приходит к выводу о непреодолимости пропасти между универсальным и партикулярным, в чем особенно убеждают нас социальные и политические практики 1990-х гг., связанные с расширением партикуляризма под именем политики идентичности, в то время как точка зрения универсальности все более отвергается как старомодная тоталитарная мечта. Но чистый партикуляризм также не является выходом и обречен на провал, ибо он приводит нас к неразрешимому парадоксу. Я могу защищать права расовых и национальных меньшинств во имя партикуляризма; но если партикуляризм есть лишь принцип обоснования, то я также должен допускать право на самоопределение любого рода реакционных групп. Даже более того: если требования различных групп неизбежно будут сталкиваться друг с другом, то мы должны будем обратиться – исключая постулирование своего рода предустановленной гармонии – к некоторым более общим принципам с тем, чтобы регулировать такие столкновения. И действительно, нет такого партикуляризма, который не использовал бы более общие принципы при конструировании своей идентичности. Иными словами, возникает проблема оснований регулирования отношений между различными коллективными идентичностями. И здесь может быть выделена, полагает Лакло, четвертая модель отношений между универсализмом и партикуляризмом 9. “Главный момент состоит в следующем: я не могу провозгласить особую идентичность без выделения ее из контекста, делая же это, я одновременно провозглашаю контекст. Справедливо и противоположное: я не могу разрушить контекст, не разрушая одновременно идентичность партикулярного субъекта, осуществляющего разрушение” [Laclau 1995: 100]. Эта аргументация имеет важное следствие: если полностью достигнутое различие уничтожает антагонистическое измерение, конститутивное для всякой идентичности, то возможность сохранения этого измерения зависит о самой неудачи в полном конституировании отличительной идентичности. Следовательно, универсальное есть часть моей идентичности и именно в той степени, в какой моя особая идентичность терпит неудачу в своем конституировании. “Универсальное возникает из партикулярного не в качестве определенного принципа, лежащего в основе партикулярного и его объясняющего, но в качестве открытого горизонта, присоединяющего обособленную партикулярную идентичность“. Иными словами, “универсальное есть символ отсутствия полноты, а партикулярное существует только в противоречивом движении одновременного провозглашения отличительной идентичности и ее устранения посредством ее отнесения к недиффернцированному средству“ [Laclau 1995: 101]. Парадокс при этом сохраняется, что и является предпосылкой самого существования демократии. Универсальное не имеет собственного конкретного содержания, но есть некоторый горизонт, охватывающий неопределенную цепь равнозначных требований; оно несовместимо с какой-либо партикулярностью и, тем не менее, не может существовать вне нее. “Если демократия возможна, то только потому, что у универсального нет никакого необходимого тела и никакого необходимого содержания; напротив, различные группы состязаются за темпоральность, которая наделила бы их партикуляризм функцией универсальной репрезентации. Общество создает целый словарь пустых означающих, темпоральные означаемые которых являются результатом политического состязания. Именно конечная неудача общества конституировать себя как общество – что одновременно есть неудача конституировать различие как различие – делает дистанцию между универсальным и партикулярным непреодолимой и одновременно обременяет конкретных социальных агентов той невозможной задачей, которая делает достижимым демократическое взаимодействие” [Laclau 1995: 107]. Представляется, что данная перспектива и есть путь реального выхода из постоянно возникающих в повседневной жизни противоречий политики идентичности, политики различия и борьбы за признание. Именно в этом пункте и должны быть прежде всего сосредоточены усилия современной социальной и политической теории, если она желает оказывать действенное влияние на реальную социальную жизнь. 9