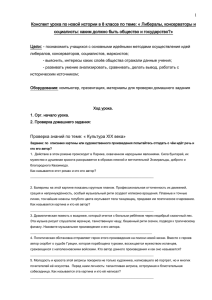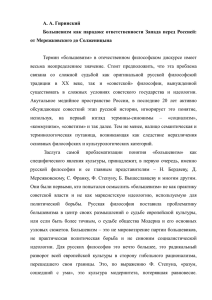Цымбурский В. Л. Консерватизм и цивилизационная ситуация в России
реклама
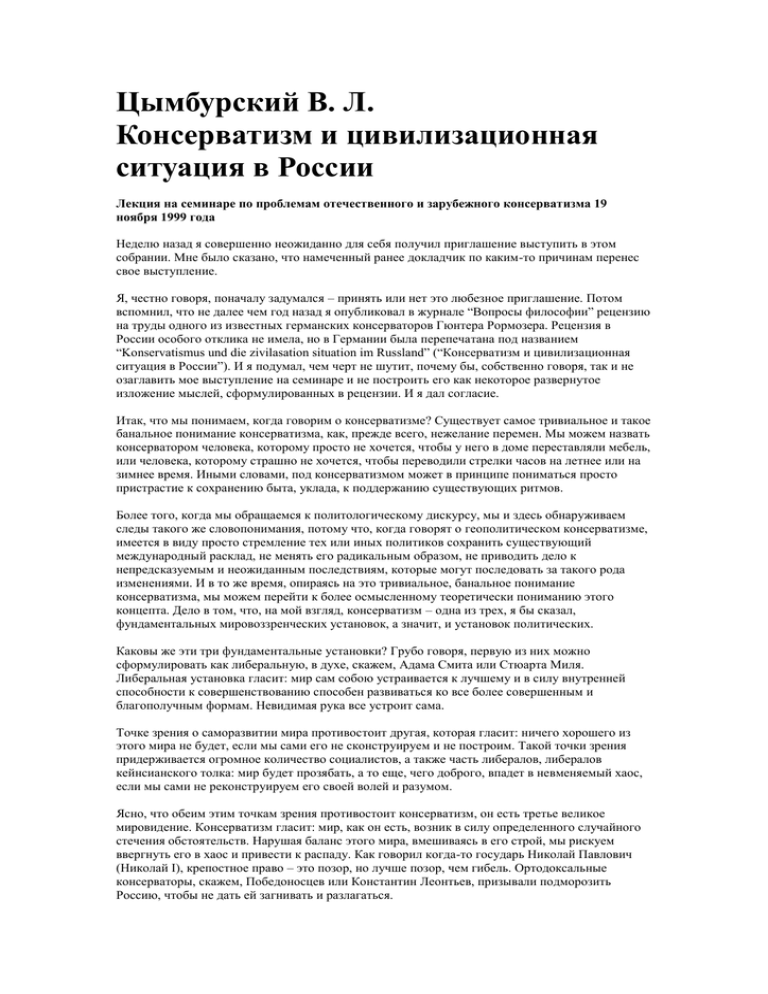
Цымбурский В. Л. Консерватизм и цивилизационная ситуация в России Лекция на семинаре по проблемам отечественного и зарубежного консерватизма 19 ноября 1999 года Неделю назад я совершенно неожиданно для себя получил приглашение выступить в этом собрании. Мне было сказано, что намеченный ранее докладчик по каким-то причинам перенес свое выступление. Я, честно говоря, поначалу задумался – принять или нет это любезное приглашение. Потом вспомнил, что не далее чем год назад я опубликовал в журнале “Вопросы философии” рецензию на труды одного из известных германских консерваторов Гюнтера Рормозера. Рецензия в России особого отклика не имела, но в Германии была перепечатана под названием “Konservatismus und die zivilasation situation im Russland” (“Консерватизм и цивилизационная ситуация в России”). И я подумал, чем черт не шутит, почему бы, собственно говоря, так и не озаглавить мое выступление на семинаре и не построить его как некоторое развернутое изложение мыслей, сформулированных в рецензии. И я дал согласие. Итак, что мы понимаем, когда говорим о консерватизме? Существует самое тривиальное и такое банальное понимание консерватизма, как, прежде всего, нежелание перемен. Мы можем назвать консерватором человека, которому просто не хочется, чтобы у него в доме переставляли мебель, или человека, которому страшно не хочется, чтобы переводили стрелки часов на летнее или на зимнее время. Иными словами, под консерватизмом может в принципе пониматься просто пристрастие к сохранению быта, уклада, к поддержанию существующих ритмов. Более того, когда мы обращаемся к политологическому дискурсу, мы и здесь обнаруживаем следы такого же словопонимания, потому что, когда говорят о геополитическом консерватизме, имеется в виду просто стремление тех или иных политиков сохранить существующий международный расклад, не менять его радикальным образом, не приводить дело к непредсказуемым и неожиданным последствиям, которые могут последовать за такого рода изменениями. И в то же время, опираясь на это тривиальное, банальное понимание консерватизма, мы можем перейти к более осмысленному теоретически пониманию этого концепта. Дело в том, что, на мой взгляд, консерватизм – одна из трех, я бы сказал, фундаментальных мировоззренческих установок, а значит, и установок политических. Каковы же эти три фундаментальные установки? Грубо говоря, первую из них можно сформулировать как либеральную, в духе, скажем, Адама Смита или Стюарта Миля. Либеральная установка гласит: мир сам собою устраивается к лучшему и в силу внутренней способности к совершенствованию способен развиваться ко все более совершенным и благополучным формам. Невидимая рука все устроит сама. Точке зрения о саморазвитии мира противостоит другая, которая гласит: ничего хорошего из этого мира не будет, если мы сами его не сконструируем и не построим. Такой точки зрения придерживается огромное количество социалистов, а также часть либералов, либералов кейнсианского толка: мир будет прозябать, а то еще, чего доброго, впадет в невменяемый хаос, если мы сами не реконструируем его своей волей и разумом. Ясно, что обеим этим точкам зрения противостоит консерватизм, он есть третье великое мировидение. Консерватизм гласит: мир, как он есть, возник в силу определенного случайного стечения обстоятельств. Нарушая баланс этого мира, вмешиваясь в его строй, мы рискуем ввергнуть его в хаос и привести к распаду. Как говорил когда-то государь Николай Павлович (Николай I), крепостное право – это позор, но лучше позор, чем гибель. Ортодоксальные консерваторы, скажем, Победоносцев или Константин Леонтьев, призывали подморозить Россию, чтобы не дать ей загнивать и разлагаться. Самое интересное, что эти три, я бы сказал, великие установки вступают в очень своеобразные отношения между собой. Так, например, консерватизм блокируется с традиционным адамсмитовским либерализмом в глубоком недоверии к индивидуальной конструктивной инициативе. С другой стороны, консерватизм точно так же блокируется с конструктивизмом типа кейнсианского в недоверии к жизни и к ее свободному развитию, к тому, что она сама себе проложит путь. Интересно, что обе разновидности либерализма, классический либерализм и конструктивизм, блокируются против консерватизма в одном, в том, что возможно развитие к более высоким и более совершенным формам, тогда как консерватизм думает: не потерять бы и того, что есть, не рухнуть бы действительно в нечто, из чего и выхода не будет. Очевидно, что если рассматривать Победоносцева или Константина Леонтьева как классических консерваторов, то таких людей, как, например, Бёрк, Витте или Столыпин, часто считающихся консерваторами, придется рассматривать как своеобразных полукровок, консервативных реформаторов, занимающих промежуточное положение между ортодоксальными консерваторами и политическими конструктивистами. Думаю, что такой подход будет правильным. Ибо что есть консервативный реформатор? Консервативный реформатор – это человек, который готов перестроить, видоизменить мир, который понимает, что оставить мир, как он есть, с его опасными тенденциями нельзя, перестроить его нужно. Но в то же время консервативный реформатор отчаянно страшится таких действий, таких акций, которые могут подорвать ядро существующего миропорядка и ввергнуть мир в хаос. Достаточно вспомнить Столыпина. Когда называют его консерватором, остается, казалось бы, только развести руками. Человек, разрушавший деревенскую общину, человек, разрушавший традиционную патриархальную семью, человек, который планировал создание Министерства трудовых ресурсов со свободной переброской человеческих масс из одного конца страны в другой. Помилуйте, и это консерватор? Представьте себе, так можно сказать. У Столыпина было консервативное ядро, он сохранил веру в знаменитые три принципа: самодержавие, православие, народность. И он стремился, реконструируя Россию, внедрить эти три принципа в новую перестроенную, измененную Россию. Таким образом, нам приходится всякий раз, говоря о консерватизме, считаться с тем, что консерватору очень часто приходится быть реформатором, но реформатором, стремящимся сохранить ядро существующего миропорядка, того общества, в котором он живет, защитить это ядро самими реформами. Но при этом, естественно, возникает вопрос: что есть это ядро, сама традиция, которую он должен защищать? Можем ли мы подобно тому, как конструируют универсальный тип либерала в виде свободного предпринимателя, делающего ставку на индивидуальные интересы, можем ли мы сконструировать этакий тип консерватора, который равен себе во все времена и у всех народов? Скажем, консерватор, который чтит государство, семью, авторитет, религию. Какую семью он чтит? Ведь он может делать ставку на усиление буржуазной семьи и в этой связи рушить, как консерватор Столыпин, традиционную для старой деревни большую семью. Вправе ли мы считать, что консерватор должен везде и всегда уважать государство и религию одновременно, если он может оказаться в условиях антиклерикального государства типа… хотя бы типа буржуазной Мексики 20-х годов, описанной Грэмом Грином в “Силе и славе”? Итак, совершенно очевидно, что не существует никакого универсального консерватизма для всех времен и народов. В рамках каждого общества, в рамках каждой цивилизации понятие консерватизма приобретает иное значение в зависимости от того, что должно быть сохранено, чтобы обеспечить историческую непрерывность и чем можно пожертвовать. Понятно, что у консерваторов практически всегда в сознании присутствует образ идеального прошлого, некой идеальной эпохи, когда, по их мнению, их цивилизация, их общество достигло максимума развития, расцвета и когда в наибольшей мере выявилось то, что должно быть сохранено. Николай Данилевский в свое время гениально, на мой взгляд, наметил в истории западного общества три эталонных классических века. Он прямо писал, что европейский консерватор в середине ХIХ века – это либо человек, который как Де Местр в труде “О Папе” обращается к классическому феодальному обществу, к христианской духовной империи ХIII века и отстаивает ценности, типичные для классического феодализма и католицизма. Либо это человек, который признает духовную свободу, который по сути секулярен и, вместе с тем, уважает прочность сословного порядка, прочность консервативного жизненного уклада, и для него идеалом будут не ХIII, а скорее ХVII – ХVIII века, старый порядок до Французской революции. И тут же Данилевский замечает: “Я предвижу, что в будущем появятся те неолибералы или неоконсерваторы, которые за образец примут наше время – середину XIX века, расцвет машинной техники, принцип laissez faire свободного предпринимательства и игры частных интересов”. И мы действительно в ХХ веке в лице Тэтчер, в лице Фридмана увидели эту третью генерацию или разновидность консерваторов. Итак, на Западе, благодаря Данилевскому, можно выделить действительно три, как минимум, эталона того, что есть консерватор: человек ли это, апеллирующий к феодальному обществу в его расцвете; человек ли это, апеллирующий к старому сословному порядку до Французской революции, или человек, апеллирующий к классическому капитализму времен его расцвета, так сказать, к викторианскому классическому капитализму. Но имеет ли все это смысл для России? У нас не было того XIII века, того христианского мира под эгидой Папы, у нас не было того сословного общества, общества трех сословий, которое представляла собой Франция времен Людовика ХV и XVI, и, наконец, для нас ХIХ век был отнюдь не эпохой свободного процветания капиталистического предпринимательства, а прежде всего – эпохой наметившегося впервые кризиса нашего деревенского общества, нашего аграрно-сословного уклада. Поэтому люди, которые у нас пытаются строить консервативный проект, апеллируя к западным идеалам, к западным образцам, заведомо апеллируют к тому, что для русских не имеет существенного смысла. В конечном счете, это попытки те или иные достижения Запада объявить универсальными социальными достижениями, которым должен быть верен консерватор. Но, помилуйте, чем тогда такие консерваторы отличаются от универсалистовлибералов, которые везде видят свободного предпринимателя и игру его эгоизма? Надо сказать, что, когда я писал рецензию на Рормозера, мне пришлось столкнуться именно с таким вызовом. Рормозер – человек, твердо верящий, что Россия и Европа, особенно Россия и Германия, могут сомкнуться в новом XXI веке на основе консервативных принципов. Как он это обосновывает? Он жестко критикует классический либерализм прошлого века. Он говорит, что либерализм с его игрой частных интересов просто паразитирует на существующих национальных, религиозных, социальных субстанциях, не предлагая ничего взамен. Далее, по мнению Рормозера, сам либерализм порождает в рамках той же просвещенческораскрепостительной парадигмы социализм, как альтернативу либеральным крайностям, грозящим разрушением ткани общества. Социализм объявляет: да, мы можем добиться согласования, добровольного или насильственного, всех этих частных интересов, мы можем добиться солидарности и построить общество всеобщего благосостояния для всех. Но, указывает Рормозер, когда рушится большевистский социалистический проект, когда Запад видит, что ресурсы планеты во многом исчерпаны и на всеобщее благоденствие средств нет, когда Запад видит, что многие незападные общества отвергают его, Запада, идеалы и начинают сплачиваться под своими религиозными лозунгами, как то мусульманство, конфуцианство и так далее, он понимает, что, во-первых, нельзя доверять свободной игре интересов и сил, во-вторых, нельзя доверяться вот этому социалистическому конструированию общества равных возможностей для всех. Что же можно противопоставить и тому, и другому? Рормозер говорит: “Пора возвращаться к обществу старого порядка. Пора возвращаться к обществу, где на первом месте стоит авторитет, вера в государство, вера в семью, в буржуазную классическую семью, наконец, взаимопонимание между политикой и религией”. И, выдвинув этот тезис, Рормозер замечает: ”А ведь в конце концов большевистская Россия – не сохранила ли она многие из этих ценностей гораздо лучше, чем сам Запад? Разве не лучше сохранила она уважение к государству, к авторитету, к иерархии? Буржуазная семья в современной России лучше выглядит, чем на самом Западе”. Итак, Рормозер мечтает о том, что консервативная Европа и постбольшевистская Россия сомкнутся на основе принципов консерватизма в духе старого порядка XVII – XVIII веков. Мне хочется сказать по этому поводу только одно. Понимают ли люди, выдвигающие подобный тезис, исходящие из консерватизма как из чего-то универсально антропологического, равного себе, насколько разный смысл имеют в разных обществах эти отстаиваемые ими принципы? Взять того же самого Рормозера. Он говорит о том, что в России лучше сохранилась вот эта буржуазная семья: отец, мать, ребенок и их контролируемая собственность. Но в России эта семья возникла, сложилась у нас на глазах только в ХХ веке. Она создалась и утвердилась при большевизме и только при нем. Понимаете? Это разные стадиально общества: то, где эта семья существует 300 лет, и то, где она только возникла. Рормозер, как и многие авторы, говорит, что у России и Германии общий опыт тоталитаризма и они могут теперь одинаково с консервативных позиций осмыслить свою тоталитарную фазу. Сознают ли люди, приравнивающие тоталитаризм Запада и тоталитаризм России в ХХ веке, какое огромное различие между этими тоталитаризмами? А различие это в том, какое общество было у каждого тоталитаризма на входе и какое на выходе. Например, биограф Гитлера Фест, отъявленный либерал, прямо утверждает, что в Германии тоталитаризм играл вполне конкретную роль. Он сокрушил остатки сословного общества и обеспечил Германии возможность перехода к модернизированному массовому обществу, пусть таким действительно кровавым и жутким путем. Но, помилуйте, этот переход происходил в рамках, я бы сказал, той характеристики, которая уже два века, как минимум, объединяла Германию с более продвинутыми обществами Западной Европы. Эта характеристика – господство городской бюргерской цивилизации, бюргерской культуры, бюргерского уклада жизни, фактическое тождество бюргерства и нации. На пути продвижения к массовому бессословному обществу Германия, в рамках Запада, могла отставать, и Гитлер мог сделать свое дело, подтолкнув ее на этот путь, но так или иначе это было продвижение в рамках фазы уже господствовавшего городского общества. Что представляла собой Россия до середины ХIХ века? Она представляла собой аграрносословное общество. Это было общество, где сам капитализм развивался не как городское предпринимательство, а как совокупность деревенских ремесел и промыслов, сконцентрированных вокруг разнообразных ярмарок. Это было общество, где культура существовала как традиционная культура крестьянства, как культура двора и культура помещичьих усадеб. В России город до начала XVIII века мыслился как оборонная твердыня, крепость, а до середины XIX века как пункт по преимуществу властно-административный. Фактически Россия до второй половины XIX века либо не имела аналогии в Европе, либо отвечала очень давнему, феодальному прошлому Европы. Я хотел бы здесь вспомнить такого замечательного человека, как Освальд Шпенглер, который в его «Прусской идее и социализме» прямо написал, что европейский социализм и русский большевизм немыслимо вообще сравнивать и ставить на одну ступеньку, потому что это феномены обществ стадиально различных, феномены обществ, решавших совершенно различные задачи. Мы можем, например, согласиться с тем же самым Рормозером, что да, на Западе социализм возник как антитеза либерализму, разрушавшему вот эту национальную ткань, разрушавшему общность национальных обществ. Но, простите, в России либерализм никогда не был господствующей идеологией, он не был господствующей общественной установкой. В России большевизм не был ответом на либерализм, он был чем-то совершенно другим. Чем же, спрашивается, был большевизм в России, какую задачу решал? Не ответив на этот вопрос, мы не сможем сформулировать задачи для консерваторов в сегодняшнем послебольшевистском русском сообществе. Я думаю, что мы могли бы ответить так: большевизм в России был не ответом на либерализм, большевизм в России был идеологией, решающей задачи городской революции, перехода общества от аграрно-сословного уклада, как доминирующего, к укладу городскому. Я подчеркиваю, городскую революцию я не связываю просто с урбанизацией, какую мы видим, когда, например, массы населения сбиваются где-то на окраинах Аддис-Абебы или Калькутты. Я не отождествляю его ни с индустриализацией, ни с модернизацией, я считаю, что городская революция, как, в общем, высветили ее в начале века два очень не любивших друг друга человека, Освальд Шпенглер и Макс Вебер, – это более универсальный цивилизационный феномен. В истории самых разных цивилизаций бывают эпохи, когда городское общество с особым жизненным стилем, особым восприятием времени, экономикой и психологией утверждает свое культурное, идеологическое, часто политическое господство в жизни народа или группы народов. Макс Вебер очень подробно писал о роли горожан в религиозных переворотах. И это правильно, историкам религии хорошо известно повторяющееся с древнейших времен явление, когда возрастание роли городов сопровождается религиозными и идеологическими революциями. Не находя признания своего строя жизни, своего склада психики в религиях и идеологиях традиционного аграрно-сословного общества, горожане утверждают новое понимание спасения и пути к нему. Горожанин утверждает иное представление о том, зачем возник этот мир и для чего он существует. И в истории мы многократно видим подобные перевороты. Какие можно назвать примеры тому? Ну, например, историки Индии прекрасно знают, что буддизм, торжество буддизма прежде всего связано с городскими массами, городскими торговцами и ремесленниками, для которых было неприемлемо старое кастовое общество, не дававшее им достойного места. Подобно этому, скажем, в Древней Греции VII–VI века до нашей эры мы видим борьбу между землевладельцами, аграриями и поднимающимся городским обществом моряков, торговцев, ремесленников, как оно было представлено в тех же самых Афинах. Мы видим, как этот социальный переворот выражается в перевороте идеологическом, в подъеме греческой философии, в перевороте религиозном, каким был греческий орфизм. И, наконец, вероятно величайшим из таких переворотов была, как показал Макс Вебер, европейская реформация, утвердившая так называемую протестантскую этику. Итак, мы можем говорить о том, что подобного рода религиозные революции принадлежат к кругу цивилизационных универсалий, которые переживаются самыми разными цивилизациями в разные времена. Мы можем сказать, что Россия со второй половины XIX и в ХХ веке пережила городскую революцию, она пережила выдвижение городского общества на роль лидера национальной жизни. Мы видим в идеологии России предреформационные черты с середины прошлого века. Каковы они? Да это вся русская литература второй половины XIX века, особенно проповеднические романы Достоевского, это возникновение и расцвет религиозной философии, тяготеющей к стилю неортодоксальной теологии, это появление грандиозных идей и ересиархов ранга Льва Толстова и Николая Федорова. Это проекты реформирования православной церкви, широко распространенные в начале ХХ века, и, конечно, это стечение массы населения в города, это формирование тех горожан в первом поколении, той новой демократии, о которой писал Георгий Федотов, которая была так восприимчива к подобным духовным исканиям. В конечном счете, если весь прошлый век представляет предреформационную эпоху, то большевизм может рассматриваться как наша реформация, он явился квазирелигиозной доктриной, утверждающей главенство города в лице его передовых плебейских слоев над отсталой деревней. Он предложил путь к спасению и признанию массе горожан, в том числе горожанам в первом и втором поколениях, тем самым людям, которых мы знаем по романам Андрея Платонова. Освятив и осуществив городскую революцию, большевизм выполнял цивилизационную роль, роль, аналогичную реформации в Европе. Другое дело, надо постоянно помнить, что речь идет не о том, чтобы провести в России европейскую реформацию, чтобы создать в России слой людей в чем-то подобных протестантской этике. Хотя, например, Николай Бердяев писал, что только большевизм и создал предпосылки для обуржуазивания России. Нет, речь идет, прежде всего, о том, что большевизм провел одну из многочисленных городских революций, какие бывали в истории самых разных цивилизаций. Кстати, я должен сказать, что не так давно вышла очень интересная книга Анатолия Вишневского, который очень подробно пишет о городской революции в России XIX – ХХ веков, но рассматривает ее как ответ на давление с Запада, как необходимость для России модернизироваться перед вызовом Запада. Я стою на иной позиции. Вспомним, что так или иначе в XVIII веке Петр осуществил модернизацию в рамках жесткого крепостнического уклада. Как видим, модернизация может проводиться в самых разных формах. Думаю, что в России произошло своего рода наложение двух цивилизационных ритмов. С одной стороны, Россия есть цивилизация сама по себе, развивающая и обыгрывающая те универсалии, через которые проходят и другие цивилизации, в частности, переход от аграрно-сословного общества к городскому. С другой стороны, исторически ей была навязана роль цивилизации – спутника в системе мира, выстроенного Западом. Это привело к тому, что наша городская революция, наша реформация проходила с уникальной жестокостью. Ясно, что большевики питали по сути религиозную ненависть к деревне, но едва ли смогли эту ненависть реализовать, выжать из деревни все возможное, чтобы дать отпор Западу. Более того, когда большевики, в конце концов, в шестидесятых годах объявили, что они принимают вызов Запада и готовы обеспечить своему обществу такой же уровень жизни, как там, они в конце концов проиграли, и это привело к надлому и дискредитации нашей реформации. Беда России в том, что она вынуждена жить одновременно в двух ритмах: как самостоятельная цивилизация и как цивилизация-спутник, вынужденная перманентно отвечать на внешние вызовы. Что вообще дает нам такое понимание смысла и судеб большевизма для обсуждения вопроса: консервативная волна и постсоветская Россия? Дело в том, что практически всегда, когда разыгрываются городские революции, они чреваты двумя идеологическими и социальными ходами. Чисто условно, типологически я назову один из этих ходов реформацией, а другой – контрреформацией. Что такое реформация? Реформация – это всегда, при переходе общества к городскому укладу как доминирующему, такой идейный переворот, который выражает духовные притязания городского общества с максимальной откровенностью, радикализмом и последовательностью. И как ответ ему рождается контрреформация – попытка приспособить ценности аграрносословного общества к жизни, к укладу, к способу существования горожан, попытка дать горожанину возможность занять новое и достойное место в рамках этих старых ценностей. Каковы примеры контрреформации, если брать типологически? Мы можем сказать, что “Бхагаватгита” в Индии может рассматриваться как контрреформационный ответ индуизма на вызов буддизма. Буддизм отрицает значимость сословий, “Бхагаватгита” по-новому утверждает ценность сословий, ценность каст, вписывая нового человека в этот расклад. Мы можем рассматривать конфуцианство, которое в самом Китае называлось “школой служилых”, как контрреформационный ответ на вызов, скажем, школ, подобных даосизму, отвергавших старые религии аграрного общества. Ибо Конфуций, не задаваясь вопросом о том, существуют ли боги, утверждал: ценен сам по себе ритуал, соотнесенный с этими образами. Этот ритуал скрепляет и упрочивает общество, обеспечивая ему жизнь и жизнестойкость. В Древней Греции мы видим противостояние реформационных Афин и контрреформационной Спарты. В конечном счете, ненависть Карла Поппера к Платону не в том ли и состоит, что проект Платона был воплощением контрреформационного хода, на новом уровне возрождающего ценности аграрно-сословного общества. Я думаю, что мы можем рассматривать реформацию и контрреформацию как универсалии цивилизационного развития самых различенных обществ. А что же такое тогда либерализм? Либерализм – это чисто западное явление. Он возник в XVII веке, когда в рамках западной системы сложилась ситуация пата между силами реформации и контрреформации. Он так и остался бы просто идеологией пата, идеологией разрядки, терпимости и временного перемирия, если бы не был синкретизирован, во-первых, с масонством, заявившим, что в принципе можно попытаться построить царство Божие на земле собственными конструктивно-человеческими средствами, и, во-вторых, если бы не был синкретизирован с бурной промышленной революцией XVIII века, которая сулила осуществление этих чаяний. Либерализм – это чисто западный цивилизационный ход. В цивилизационное развитие России он так и не вписался. Западнический либерализм конца XIX – начала ХХ века, в том числе либерализм теологический, например проповедь Мережковских, так и остался всего лишь одной из предреформационных идейных заявок, которые дестабилизировали старый порядок и облегчали мессианский прорыв большевизма, а иногда и подготавливали его. Да, в конце ХХ века первое посткоммунистическое руководство восприняло либерализм на какое-то время чуть ли не как официальную идеологию. Результаты оказались очень плачевными. Умножая количество новых бедных, наши реформы 90-х годов сделали чудовищную вещь, они затормозили или отбросили вспять наметившийся при большевизме процесс формирования более высокой стадии городского общества, процесс формирования корпоративно оформленного при помощи всех этих КЗОТов, профсоюзов, месткомов, товарищеских судов, профсобраний уверенного в себе бюргерства. Реформы 90-х в конечном счете архаизировали нас, отбросили к самой ранней стадии формирования городского общества в России, к тому, что я называю зощенковской стадией. Либералы сделали все возможное, чтобы узаконить у нас феномен, который я называю антинациональным гражданским обществом… то есть обществом эмансипированных от государства собственников, практикующих экономическую и политическую деятельность в России как средство утверждения за ее пределами. Сегодня либерализм в нашей стране выглядит просто как идеология провала. Он ничего не может предложить, кроме запугивания тем, что, мол, при коммунистах будет еще хуже. Он требует от людей: вы сначала станьте нормальной страной, потом можете на что-то претендовать, а на самом деле отнимает возможность стать нормальной страной. Он делает ставку на выживание наиболее приспособленных и тем самым обеспечивает медленную депопуляцию страны. Да, либералы смогли добиться многого, изобразив Запад – господствующую современную цивилизацию – как общество либерализма без берегов, как общество свободной игры частных интересов. И поэтому та консервативная волна, о которой пишет Рормозер, это во многом большое благо для России. Она морально изолирует русских либералов-западников, она загоняет их в тупик, подрывает их кредит. Но что же она оставляет самой России? Фактически консервативная волна ставит Россию перед новым выбором между русской реформацией и русской же контрреформацией. Что такое русская реформация? В конечном счете, русская реформация могла бы предстать как переосмысленный, модифицированный большевизм, как внутренняя реконструкция и переосмысление значения большевизма. И такие талантливые люди, как покойный Михаил Гефт или здравствующий Александр Зиновьев, несомненно, тяготеют к этому направлению. Сегодня я взял позавчерашний “Деловой вторник” и мне страшно понравились в нем вот такие слова, послушайте: “Не знаю, кто придумал звуковую заставку к программе “Время”. Говорят – Александр Любимов. Спасибо ему. Заставка удивительная, почти гениальная по лаконичности. В одну минуту уложены мажорные знаки целой эпохи, бой Кремлевских курантов, печатание шага почетным караулом, легкомысленное насвистывание счастливого человека, позывные “Маяка” и, наконец, гагаринское... “поехали” с фрагментом музыки Георгия Свиридова”. Фактически это попурри представляет собой как бы идеальный звуковой образ нашей реформации в ее большевистском воплощении. Другое дело, я действительно не верю в то, что развитие по реформационному пути может быть для России сейчас перспективным. Думаю, что при попытке создать версию большевизма для современной России камнем преткновения должна оказаться фундаментальная марксистская тема пролетария, безвинного страдальца, оторванного от своей родовой сущности, ввергнутого в частичное существование, но призванного через свое восстание спастись и спасти человечество. Как бы ни сходствовала участь новых бедных России с участью Марксового пролетария, они явно не готовы сейчас отождествить себя с этим персонажем, спасителем мира. Я не думаю, что сейчас на марксизме можно основать в России сколько-то впечатляющую этику. Но, с другой стороны, когда мы видим, что большевики отрекаются от марксистской и большевистской героики и эсхатологии, когда они разыгрывают роли консерваторов и социалдемократов, это означает, что они просто смиряются с затянувшейся исторической паузой России. Я вынужден сказать, что или наша реформация в ее большевистском выражении безнадежно выдохлась, или возможно придется ждать какого-то гения, который вложит в нее новый смысл и новое значение, но это под большим вопросом. Что же касается перспектив российской контрреформации, обновления ценностей аграрносословного общества, то здесь ее оценка затруднена по другим причинам. Надо сказать, что русское православие, да и многие монархистские течения, с 17-го года обнаружили уникальную, изощренную способность к тому, чтобы интегрировать в рамках своей идеологии идущие в России процессы. Не принимая этой реальности, они сумели изощренно включить ее в контрреформационный сюжет. Например, таков фундаментальный миф о державной иконе Божьей Матери, которая, явившись в день отречения Николая Второго, как бы непосредственно взяла под свою опеку русский народ, заменив монархический уклад небесным владычеством. В том же стиле один из умнейших монархистов Владимир Карпец заявил, что он предлагает конституционно трактовать Россию в ее настоящем и обозримом будущем как государство, управляемое временными распорядительными властями при пустующем троне. То есть трон, как сакральный смысл России, и при нем временно существующие власти. Я уверен, что если подобные мифологемы пустить через масс-медиа и как следует прокатать, они способны вообще сильно инфицировать и воодушевить массовое сознание. Другое дело, каково может быть социальное воплощение нашей контрреформации, ее социальный смысл. За последнее время мы много раз слышали о возможности возрождения в России конституционной монархии, и критики этих проектов неизменно отвечали: возрождение конституционной монархии в России будет означать возрождение сословного уклада. То есть, попросту говоря, превращение преуспевших групп новых русских в господствующее сословие с особыми ценностями, с особым укладом, с особым национальным статусом. При этом гедонизм, ценностный сепаратизм этого нашего антинационального гражданского общества оказался бы полностью освобожден от дискредитированных либеральных трактовок. Более того, как приметы особого сословного уклада, эти явления можно было бы соотнести с Российской петербургской империей XVIII – XIX веков. Вы помните, что ее характеризовали иерархия, авторитет и при этом последовательная ценностная гетерогенность: одна культура у бар, другая – у холопов. Это петербургский вариант нашей контрреформации, который может вообще разыграться в обозримые десятилетия. Но я считаю, что подобный петербургский вариант нашей контрреформации должен неизбежно натолкнуться на сопротивление со стороны масс выросшего при большевиках протобюргерства, в том числе и провинциального. Этот протест будет поддержан массой так называемых патриотических предпринимателей, которые полагают себя ущемленными, пока ключевые позиции в экономике принадлежат олигархам, симпатизирующим этому варианту с его ценностным разделением России. Думаю, что этот протест не обязательно отольется в большевистские формы. Он может отлиться в так называемую народную контрреформацию. Что это такое? Это было бы такое движение, которое бы объявило, что и эти ценности иерархии, авторитета государства должны находиться на втором месте по отношению к мировоззренческой и ценностной гомогенности, по отношению к моральному консенсусу верхов и низов. Это движение, которое объявило бы, что подданные должны повиноваться властям, поскольку власти соблюдают принцип консенсуса. Грубо говоря, боярин может жрать вкуснее, но он должен ходить в ту же церковь и молиться со всеми и поститься по тем же дням. Это то, что можно назвать, я бы сказал, московским вариантом контрреформации, в отличие от петербургского, потому что при этом идеологам этого движения пришлось бы прибегать к тому ходу, к которому прибегали славянофилы, частично евразийцы, Иван Солоневич. То есть просто объявить вершиной цивилизационного развития нашего аграрно-сословного общества московскую допетровскую Русь. Какие бы здесь можно было просмотреть варианты? Когда-то Георгий Федотов, обсуждая альтернативные большевизму сценарии, которыми Россия располагала в конце ХIХ века, отметил два, якобы представляющие облик этой народной контрреформации. Какие же они? Первый – это опора династии на черносотенное крестьянство, соединяющее религиозный монархизм с устремлением к земельному переделу. Монархия устраивает как бы санкционированную престолом пугачевщину и при поддержке церкви приносит в жертву этой черносотенной силе все космополитическое дворянство вместе с частью интеллигенции. Так это виделось Федотову тогда, в начале века. Но в то же время он видел и второй вариант народной контрреформации: “Это опора на торгово-промышленные слои как силу православную, национальную, но враждебную бюрократии и оторвавшемуся от народа дворянству, на силу почвенную и прогрессивную, на силу, защищающую свободу слова и печати, единение царя и земли в формах Земского собора.” Очень симптоматично, что этот второй вариант либерального почвенничества Федотов назвал “делом Александра Второго в одеждах Алексея Михайловича”. То есть в обоих случаях он прямо наметил связь с теми сословиями, которые несли традиции еще допетровской, допетербургской России, традиции ценностной гомогенности общества. Да, мы знаем, что большевистская реформация смела и крестьянство, и купечество, практически те слои, на которые делал ставку Федотов. И тем не менее, я думаю, что наше сформированное большевиками протобюргерство в его неприятии намечающейся гетерогенности общества в ближайшие годы может быть основой народной контрреформации, причем как в темном, так и в светлом ее варианте. То есть в варианте, приближающемся к черному переделу под знаком новой сакрализации власти и имеющем нечто общее с европейским фашизмом, и в варианте, который Федотов трактовал как либеральное почвенничество, как опору на домашние ценности в сочетании с тем, что мы называем правами человека и так далее. Теперь, под конец доклада, самое время задаться вопросом: как же соотносится эта наша потенциальная российская контррерформация в разных ее вариантах с европейским консерватизмом? Обратите внимание: у европейцев налицо один идеальный образ аграрносословного общества – это образ, воспетый Де Местром, ХIII век, “золотой” пик феодализма. Но у них есть и два хорошо проработанных идеальных образа городского общества: это общество старого порядка XVIII века и это капиталистическое общество ХIХ века с его принципом laissez faire. А что есть у нас? У нас образ городского общества наметился, но по-настоящему не сложился. Зато у нас имеется два жестко противостоящих образа аграрно-сословного общества, обладающих большим моральным и политическим зарядом, способных по-разному актуализироваться в нынешних условиях. О чем это говорит? Прежде всего о том, что по меркам алгоритмов цивилизационного развития мы, несомненно, общество еще молодое, мы только вошли в период формирования городского уклада, в период формирования городской культуры. Если учесть, что для европейских консерваторов, кроме апеллирующих к эпохе папства романтиков, является социальным идеалом старый порядок XVII – XVIII вв. и капиталистическое общество по принципу laissez faire, то цивилизационного аналога этому у нас еще не было. Российский аналог нам и нашим потомкам предстоит строить в ближайшие десятилетия и столетия. Для нас это только возможное будущее. Между силами, которые представят русскую контрреформацию, и европейским консерватизмом возможен, конечно же, диалог с использованием некоторых общих категорий, тех же категорий иерархии, авторитета, сохранения, религии и так далее. Но, в конечном счете, само наличие возможных концептуальных точек соприкосновения для нас лишний повод задуматься, как прошлое Европы может соотноситься с потенциальным будущим России.