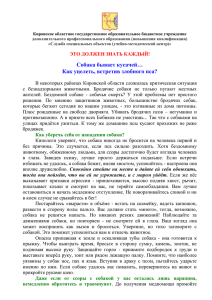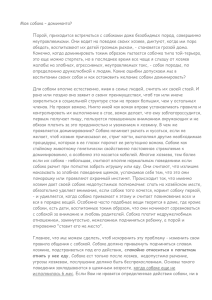Судейкин о "
advertisement
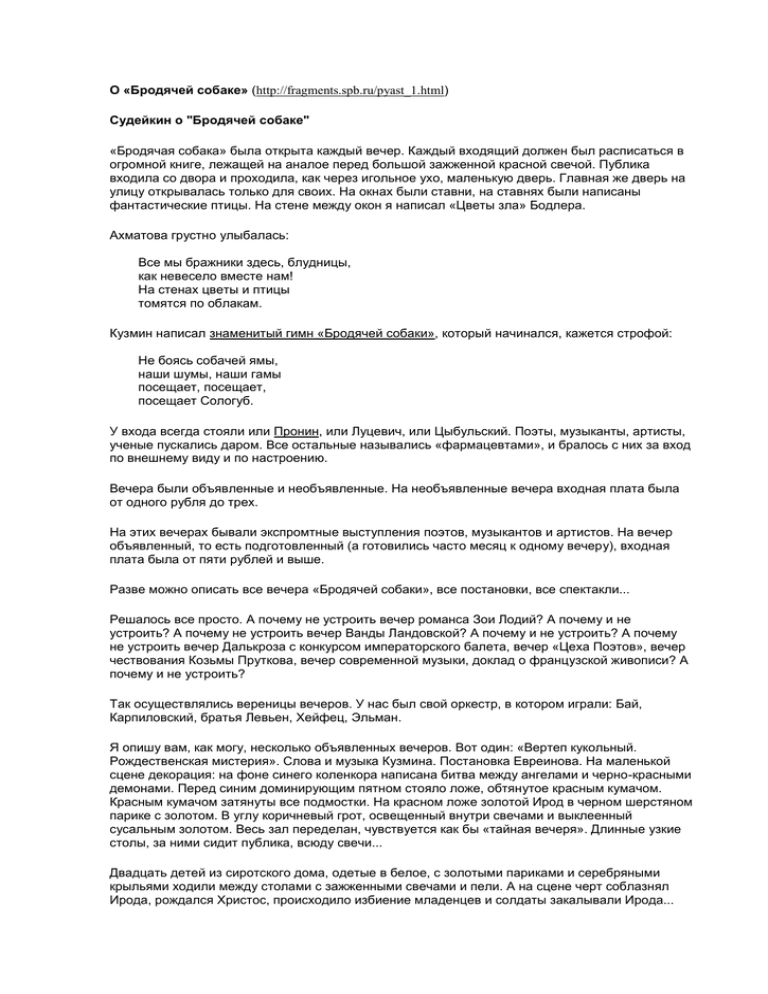
О «Бродячей собаке» (http://fragments.spb.ru/pyast_1.html) Судейкин о "Бродячей собаке" «Бродячая собака» была открыта каждый вечер. Каждый входящий должен был расписаться в огромной книге, лежащей на аналое перед большой зажженной красной свечой. Публика входила со двора и проходила, как через игольное ухо, маленькую дверь. Главная же дверь на улицу открывалась только для своих. На окнах были ставни, на ставнях были написаны фантастические птицы. На стене между окон я написал «Цветы зла» Бодлера. Ахматова грустно улыбалась: Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам! На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Кузмин написал знаменитый гимн «Бродячей собаки», который начинался, кажется строфой: Не боясь собачей ямы, наши шумы, наши гамы посещает, посещает, посещает Сологуб. У входа всегда стояли или Пронин, или Луцевич, или Цыбульский. Поэты, музыканты, артисты, ученые пускались даром. Все остальные назывались «фармацевтами», и бралось с них за вход по внешнему виду и по настроению. Вечера были объявленные и необъявленные. На необъявленные вечера входная плата была от одного рубля до трех. На этих вечерах бывали экспромтные выступления поэтов, музыкантов и артистов. На вечер объявленный, то есть подготовленный (а готовились часто месяц к одному вечеру), входная плата была от пяти рублей и выше. Разве можно описать все вечера «Бродячей собаки», все постановки, все спектакли... Решалось все просто. А почему не устроить вечер романса Зои Лодий? А почему и не устроить? А почему не устроить вечер Ванды Ландовской? А почему и не устроить? А почему не устроить вечер Далькроза с конкурсом императорского балета, вечер «Цеха Поэтов», вечер чествования Козьмы Пруткова, вечер современной музыки, доклад о французской живописи? А почему и не устроить? Так осуществлялись вереницы вечеров. У нас был свой оркестр, в котором играли: Бай, Карпиловский, братья Левьен, Хейфец, Эльман. Я опишу вам, как могу, несколько объявленных вечеров. Вот один: «Вертеп кукольный. Рождественская мистерия». Слова и музыка Кузмина. Постановка Евреинова. На маленькой сцене декорация: на фоне синего коленкора написана битва между ангелами и черно-красными демонами. Перед синим доминирующим пятном стояло ложе, обтянутое красным кумачом. Красным кумачом затянуты все подмостки. На красном ложе золотой Ирод в черном шерстяном парике с золотом. В углу коричневый грот, освещенный внутри свечами и выклеенный сусальным золотом. Весь зал переделан, чувствуется как бы «тайная вечеря». Длинные узкие столы, за ними сидит публика, всюду свечи... Двадцать детей из сиротского дома, одетые в белое, с золотыми париками и серебряными крыльями ходили между столами с зажженными свечами и пели. А на сцене черт соблазнял Ирода, рождался Христос, происходило избиение младенцев и солдаты закалывали Ирода... На этот вечер в первый раз к нам приехал великолепный Дягилев. Его провели через главную дверь и посадили за стол. После мистерии он сказал: «Это не Аммергау, это настоящее, подлинное!» Времена менялись все быстрее, и у нас появился в оранжевой кофте Маяковский. А почему бы не устроить вечер поэтов и художников? А почему бы не устроить! Радаков, создатель «Сатирикона», сделал ширму, перед которой выступал Владимир Маяковский. Кульбин сделал ширму для Василия Каменского. Бурлюк сделал ширму для самого себя. Я для Игоря Северянина. Молодой, здоровый, задорный энтузиазм царил на этом вечере. «Бродячая собака» – какие воспоминания, какие видения, залитые полусветом... (Цитируется по: Лукницкая В.П. "Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких", Л.: Лениздат, 1990) Гимн Всеволода Князева Написан к открытию "Бродячей Собаки", состоявшемуся в ночь на 1 января 1912 г. Во втором дворе подвал, В нем – приют собачий. Каждый, кто сюда попал – Просто пес бродячий. Но в том гордость, но в том честь, Чтобы в тот подвал залезть! Гав! На дворе метель, мороз, Нам какое дело! Обогрел в подвале нос И в тепле все тело. Нас тут палкою не бьют, Блохи не грызут! Гав! Лаем, воем псиный гимн Нашему подвалу! Морды кверху, к черту сплин, Жизни до отвалу! Лаем, воем псиный гимн, К черту всякий сплин! Гав! Гимн Михаила Кузмина Написан к 1 января 1913 года От рождения подвала Пролетел лишь быстрый год, Но "Собака" нас связала В тесно дружный хоровод. Чья душа печаль узнала, Опускайтесь в глубь подвала, Отдыхайте, отдыхайте, отдыхайте от невзгод. Мы не строим строгой мины, Всякий пить и петь готов: Есть певицы, балерины И артисты всех сортов. Пантомимы и картины Исполняет без причины General de, general de, general de Krouglikoff. Наши девы, наши дамы, Что за прелесть глаз и губ! Цех поэтов – все "Адамы", Всяк приятен и не груб. Не боясь собачей ямы, Наши шумы, наши гамы, Посещает, посещает, посещает Сологуб. И художников не зверски Пишут стены и камин: Тут и Белкин, и Мещерский, И кубический Кульбин. Словно ротой Гренадерской Предводительствует дерзкий Сам Судейкин, сам Судейкин, сам Судейкин господин. И престиж наш не уронен, Пока жив Подгорный-Чиж, Коля Петер, Гибшман, Пронин И пленительный Бобиш. Дух музыки не уронен, Аполлон к нам благосклонен, Нас ничем не, нас ничем не, нас ничем не удивишь! Не забыта и Паллада В титулованном кругу, Словно древняя Дриада, Что резвится на лугу, Ей любовь одна отрада, И где надо, и не надо Не ответит, не ответит, не ответит "не могу". (Цитируется по: Шульц мл. С. С., Склярский В. А. "Бродячая собака", СПб, 2003) В. Пяст о "Бродячей собаке": <...>Сейчас много возводится поклепов на бедную "издохшую" "Собаку", – и следовало бы добрым словом помянуть покойницу, не только из латинского принципа, что "о мертвых ничего, кроме хорошего", но и потому, что заслуг "Собаки" перед искусством отрицать нельзя; а наибольшие в историческом плане заслуги ее именно перед футуризмом. Это что, продолжать запрещенные полицейской властью прения по отчитанным уже лекциям и докладам в Тенишевском училище или здании Шведской церкви! А вот не угодно ли: в час ночи в самой "Собаке" только начинается филологически-лингвистическая (т.е. на самый что ни на есть скучнейший с точки зрения обывателей сюжет!) лекция юного Виктора Шкловского "Воскрешение вещей"! Юный ученый-энтузиаст распинается по поводу оживленного Велимиром Хлебниковым языка, преподнося в твердой скорлупе ученого орешка квинтэссенцию труднейших мыслей Александра Веселовского и Потебни, – уже прорезанных радиолучом собственных его, как говорилось тогда, "инвенций", – он даром мощного своего именно воскрешенного, живого языка заставляет слушать, не шелохнувшись, многочисленнейшую публику, наполовину состоящую чуть не из "фрачников" или декольтированных дам. В половине третьего начинаются прения. Говорят, конечно, не фраки, не декольте. Форменная тужурка Кульбина или кого-нибудь из его "клевретов" (тогда, собственно, в ходу было другое для них словечко), встав, косноязычно излагает свои мысли по поводу лекции. Но, несмотря на косноязычие, слушают и тужурку. Во втором отделении, а иногда и с первого, после удара в огромный барабан молоточком Коко Кузнецова или кого другого, низкие своды "Собачьего подвала" покрывает раскатистый бас Владимира Маяковского. Слышны такие стихи: Угрюмый дождь скосил глаза А за решткой Четкой Железной мысли проводов перина, И на Нее встающих звезд легко оперлись ноги... Но гибель фонарей Царей, В короне газа, Для глаза Сделала больней Враждующий букет бульварных проституток, И жуток Шуток... Иногда Маяковский, иногда Хлебников или еще Бенедикт Лившиц с его изумительной строчкой, кончающейся словами: ...в хвостах виноторговца. <...>Собственно, настоящих собак в "Собаке" не водилось, по крайней мере – почти. Была какая-то слепенькая мохнатенькая "Бижка", кажется, – но бродила она по подвалу только днем – когда, если туда кто и попадал иной раз, – то всегда испытывал ощущение какой-то сирости, ненужности; было холодновато, и все фрески, занавесы, мебельная обивка, – все шандалы, барабан и прочий скудный скарб помещения, – все это пахло бело-винным перегаром. Ночью публика приносила свои запахи духов, белья, табаку и прочего, – обогревала помещение, пересиливала полугар и перегар... Итак, акмеисты: то есть Ахматова, Гумилев, Мандельштам, – и потом так называемые "мальчики" из Цеха поэтов, – Георгий Иванов, Георгий Адамович; потом другие "примыкавшие" – будущие ученые, как-то: В. Гиппиус, В. Жирмунский, – и сколько еще других! – одни чаще, другие – реже, – но все отдавали дань "Бродячей собаке". <...>Вот Блока – никак, никогда и ни за что хунд-директор залучить в "Собаку" не мог! И это несмотря на то, что лично к нему Блок относился очень дружелюбно и, помню, он, с безграничной чуткостью в годы своей юности и молодости разделявший людей так, что иных вовсе исключал из всякого общения с собою, твердо и решительно заявлял про хунддиректора, что он – "не неприличный человек". Блок все-таки оставался "дневным человеком". Мы же, благодаря "Собаке", совсем стали ночными. Я хотя попадал почти ежедневно часам к половине второго, к двум, на службу, – и успевал там поперевести из Тирсо де Молина либо ответить своим сослуживцам на несколько вопросов из выдуманной мною, якобы основанной Курбатовым, науки "Петербургология", тогда как сидевший за соседним столом А. Е. Кудрявцев спешно готовил (или это было уже только в годы войны?) "Иностранное обозрение" для "Летописи", журнала Максима Горького, – но, вернувшись в шестом часу домой, после обеда погружался в сон, чтобы встать иной раз как раз к тому времени, когда пора было собираться в "Собаку". Помню, как раздувал я ноздри, впитывая в себя дневной воздух, когда однажды в воскресенье попал на картинную выставку! Нам (мне, и Мандельштаму, и многим другим тоже) начинало мерещиться, что весь мир, собственно, сосредоточен в "Собаке", что нет иной жизни, иных интересов – чем "Собачьи"! К нашей чести надо сказать, что мы сами чувствовали эту опасность. То есть опасность того, что в наших мозгах укоренится эта аберрация "мировоззрения". (Цитируется по: Пяст Вл. Встречи. – М.: Новое литературное обозрение, 1997) Георгий Иванов о "Бродячей собаке" "Бродячая собака" была открыта три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. Собирались поздно, после двенадцати. К одиннадцати часам, официальному часу открытия, съезжались одни "фармацевты". Тaк нa жaргоне "Собаки" звались все случайные посетители от флигель-aдъютaнтa до ветеринарного врача. Они платили за вход три рубля, пили шампанское и всему удивлялись. Чтобы попасть в "Собаку", надо было разбудить сонного дворникa, пройти два засыпанных снегом дворa, в третьем завернуть налево, спуститься вниз ступеней десять и толкнуть обитую клеенкой дверь. Тотчас же вaс ошеломляли музыка, духота, пестрота стен, шум электрического вентилятора, гудевшего, как аэроплан. Вешальщик, заваленный шубами, отказывался их больше брать: "Нету местов". Перед маленьким зеркалом толкутся прихорашивающиеся дамы и загораживают проход. Дежурный член правления "общества интимного театра", как официально называется "Собака", хватает вас за рукав: три рубля и две письменные рекомендации, если вы "фармацевт", полтинник - со своих. Наконец все рогатки пройдены. Директор "Собаки" Борис Пронин, "доктор эстетики гонорис кауза", как напечатано на его визитных карточках, заключает гостя в объятия. "Ба! Кого я вижу?! Сколько лет, сколько зим! Где ты пропадал? Иди! - жест куда-то в пространство. Наши уже все там". И бросается немедленно к кому-нибудь другому. Свежий человек, конечно, озадачен этой дружеской встречей. Не за того принял его Пронин, что ли? Ничуть! Спросите Пронина, кого это он только что обнимал и хлопал по плечу. Почти, наверное, разведет руками: "А черт его знает"… Сияющий и в то же время озабоченный Пронин носится по "Собаке", что-то переставляя, шумя. Большой пестрый галстук бантом летает на его груди от порывистых движений. Его ближайший помощник, композитор Н. Цыбульский, по прозвищу граф О'Контрэр, крупный, обрюзгший человек, неряшливо одетый, вяло помогает своему другу. Граф трезв и поэтому мрачен. Пронин и Цыбульский, такие разные и по характеру, и по внешности, дополняя друг друга, сообща ведут маленькое, но сложное хозяйство "Собаки". Вечный скептицизм "графа" охлаждает не знающий никаких пределов размах "доктора эстетики". И, напротив, энергия Пронина оживляет Обломова-Цыбульского. Действуй они порознь, получился бы, должно быть, сплошной анекдот. Впрочем, анекдотического достаточно и в их совместной деятельности.<...> Комнат в "Бродячей собаке" всего три. Буфетная и две "залы" - однa побольше, другaя совсем крохотнaя. Это обыкновенный подвaл, кaжется, в прошлом ренсковский погреб. Теперь стены пестро рaсписaны Судейкиным, Белкиным, Кульбиным. В глaвной зaле вместо люстры выкрaшенный сусaльным золотом обруч. Ярко горит огромный кирпичный кaмин. На одной из стен большое овaльное зеркaло. Под ним длинный дивaн - особо почетное место. Низкие столы, соломенные тaбуретки. Все это потом, когдa "Собака" перестaлa существовaть, с нaсмешливой нежностью вспоминaлa Aннa Aхматовa: Дa, я любила их - те сборищa ночные Нa низком столике - стaкaны ледяные, Нaд черным кофием голубовaтый пaр, Кaмина крaсного тяжелый зимний жaр, Веселость едкую литературной шутки… Есть еще четверостишие Кузминa, кaжется нигде не нaпечaтaнное: Здесь цепи многие рaзвязaны – Все сохрaнит подземный зaл. И те словa что ночью скaзaны, Другой бы утром не скaзaл. Действительно – сводчатые комнаты "Собаки", заволоченные табачным дымом, становились к утру чуть волшебными, чуть из "из Гофмана". На эстраде кто-то читает стихи, его перебивает музыка или рояль. Кто-то ссорится, кто-то объясняется в любви. Пронин в жилетке (пиджак часам к четырем утра он регулярно снимает) грустно гладит свою любимицу Мушку, лохматую и злую собачонку: "Ах, Мушка, Мушка, зачем ты съела своих детей?" Ражий Маяковский обыгрывает кого-то в орлянку. О. А. Судейкина, похожая на куклу, с прелестной, какой-то кукольно-механической грацией танцует "полечку" - свой коронный номер. Сам "метр Судейкин", скрестив по-наполеоновски руки, с трубкой в зубах мрачно стоит в углу. Его совиное лицо неподвижно и непроницаемо. Может быть, он совершенно трезв, может быть, пьян решить трудно. Князь С. М. Волконский, не стесняясь временем и местом, с жаром излагает принципы Жака Далькроза. Барон Н. Н. Врангель, то вкидывая в глаз, то роняя (с поразительной ловкостью) свой моноколь, явно не слушает птичьей болтовни своей спутницы, знаменитой Паллады Богдановой-Бельской, закутанной в какие-то фантастические шелка и перья. За "поэтическим" столом идет упражнение в писании шуточных стихов. Все ломают голову, что бы такое изобрести. Предлагается, наконец, нечто совсем новое: каждый должен сочинить стихотворение, в каждой строке которого должно быть сочетание слогов "жора". Скрипят карандаши, хмурятся лбы. Наконец, время иссякло, все по очереди читают свои шедевры... Под аплодисменты ведут автора, чья "жора" признана лучшей, записывать ее в "Собачью книгу" - фолиант в квадратный аршин величиной, переплетенный в пеструю кожу. Здесь все: стихи, рисунки, жалобы, объяснения в любви, даже рецепты от запоя, специально для графа О'Контрэр. Петр Потемкин, Хованская, Борис Романов, кто-то еще - прогнав с эстрады поэта Мандельштама, пытавшегося пропеть (Боже, каким голосом!) "Хризантемы" - начинают изображать кинематограф. Цыбульский душераздирающе аккомпанирует. Заменяя надписи на экране, Таиров объявляет: "Часть первая. Встреча влюбленных в саду у статуи Купидона" (Купидона изображает Потемкин, длинный и худой, как жердь). "Часть вторая: Виконт подозревает… Часть третья…" Понемногу "Собака" пустеет. Поэты, конечно, засиживаются дольше всех. Гумилев и Ахматова, царскоселы, ждут утреннего поезда, другие сидят за компанию. За компанию же едут на вокзал "по дороге" на Остров или Петербургскую сторону. Там, в ожидании поезда пьют черный кофе. Разговор уже плохо клеится, больше зевают. Раз так за кофеем пропустили поезд. Гумилев, очень рассердившись, зовет жандарма: "Послушайте, поезд ушел? - "Так точно". - "Безобразие подать сюда жалобную книгу!" Книгу подали, и Гумилев исписал в ней с полстраницы. Потом все торжественно расписались. Кто знает, может быть, этот забавный автограф найдут когда-нибудь… Столкновения с властями вообще происходили не раз при возвращении из "Собаки". Однажды кто-то, кажется Сергей Клычков, похвастался, что влезет на чугунного коня на Аничковом мосту. И влез. Разумеется, появился городовой. Выручил всех Цыбульский. Приняв грозный вид, он стал вдруг наступать на городового. "Да ты знаешь, с кем ты имеешь дело, да ты понимаешь ли… Как смеешь дерзить обер-офицерским детям", - вдруг заорал он на весь Невский. Страж закона струсил и отступился от "обер-офицерских детей". На улицах пусто и темно. Звонят к заутрене. Дворники сгребают выпавший за ночь снег. Проезжают первые трамваи. Завернув с Михайловской на Невский, один из "праздных гуляк", высунув нос из поднятого воротника шубы, смотрит на циферблат Думской каланчи. Без четверти семь. Ох! А в одиннадцать надо быть в университете. (Цитируется по: Г. Иванов. Мемуарная проза, М.:Захаров, 2001)