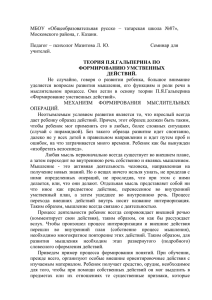Громыко Ю.В. ОСНОВЫ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА
реклама
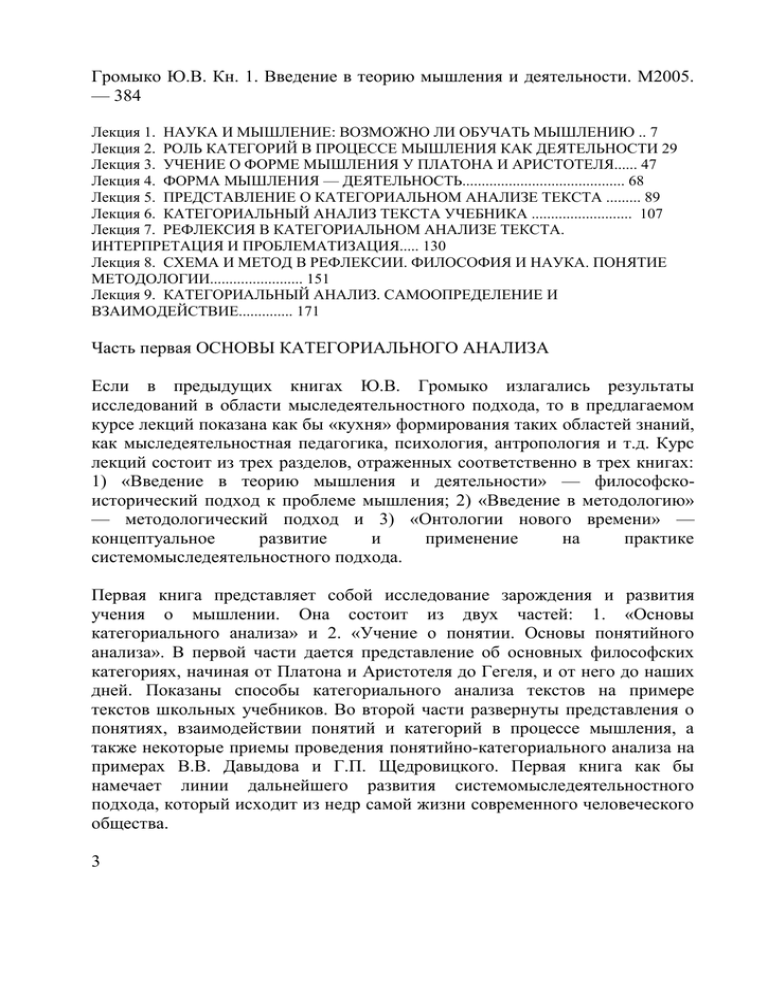
Громыко Ю.В. Кн. 1. Введение в теорию мышления и деятельности. М2005. — 384 Лекция 1. НАУКА И МЫШЛЕНИЕ: ВОЗМОЖНО ЛИ ОБУЧАТЬ МЫШЛЕНИЮ .. 7 Лекция 2. РОЛЬ КАТЕГОРИЙ В ПРОЦЕССЕ МЫШЛЕНИЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 29 Лекция 3. УЧЕНИЕ О ФОРМЕ МЫШЛЕНИЯ У ПЛАТОНА И АРИСТОТЕЛЯ...... 47 Лекция 4. ФОРМА МЫШЛЕНИЯ — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.......................................... 68 Лекция 5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КАТЕГОРИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ТЕКСТА ......... 89 Лекция 6. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА УЧЕБНИКА .......................... 107 Лекция 7. РЕФЛЕКСИЯ В КАТЕГОРИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ТЕКСТА. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ..... 130 Лекция 8. СХЕМА И МЕТОД В РЕФЛЕКСИИ. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА. ПОНЯТИЕ МЕТОДОЛОГИИ........................ 151 Лекция 9. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.............. 171 Часть первая ОСНОВЫ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АНАЛИЗА Если в предыдущих книгах Ю.В. Громыко излагались результаты исследований в области мыследеятельностного подхода, то в предлагаемом курсе лекций показана как бы «кухня» формирования таких областей знаний, как мыследеятельностная педагогика, психология, антропология и т.д. Курс лекций состоит из трех разделов, отраженных соответственно в трех книгах: 1) «Введение в теорию мышления и деятельности» — философскоисторический подход к проблеме мышления; 2) «Введение в методологию» — методологический подход и 3) «Онтологии нового времени» — концептуальное развитие и применение на практике системомыследеятельностного подхода. Первая книга представляет собой исследование зарождения и развития учения о мышлении. Она состоит из двух частей: 1. «Основы категориального анализа» и 2. «Учение о понятии. Основы понятийного анализа». В первой части дается представление об основных философских категориях, начиная от Платона и Аристотеля до Гегеля, и от него до наших дней. Показаны способы категориального анализа текстов на примере текстов школьных учебников. Во второй части развернуты представления о понятиях, взаимодействии понятий и категорий в процессе мышления, а также некоторые приемы проведения понятийно-категориального анализа на примерах В.В. Давыдова и Г.П. Щедровицкого. Первая книга как бы намечает линии дальнейшего развития системомыследеятельностного подхода, который исходит из недр самой жизни современного человеческого общества. 3 Книга предназначена для учителей школ, гимназий, преподавателей колледжей, а также ученых-философов, психологов, студентов и аспирантов философских и психологических факультетов университетов, педагогических вузов, интересующихся проблемами развития мыслящей личности, ее способностей в условиях огромных потоков информации и быстро меняющихся ситуаций в жизни России и всего мира. Лекция 1, НАУКА МЫШЛЕНИЮ И МЫШЛЕНИЕ: ВОЗМОЖНО ЛИ ОБУЧАТЬ Цель создания колледжа для нас заключалась в том, чтобы начать учить мышлению и мыслительному искусству как массово реализуемой способности. Основная задача заключалась в определении возможности организации такой формы обучения, где можно было бы специально учить самому мышлению, различным формам свободного рассуждения не по определенным, достаточно жестким правилам, нормам и техникам, а как такой способности, которую можно сформировать как и всякую другую, например, умение строить дом, шить сапоги (что ценилось в древности), осуществлять некоторое инженерное дело, быть брокером на бирже и т.д. С этой точки зрения, нас интересовало, можно ли обучать мышлению и мыслительному искусству как вполне определенной способности, которая при этом реализуется в разных областях знания, науках. Но при этом она существует и как способность, и как искусство, у которого есть свои нормы, техники, способы и формы реализации. Это всё достаточно сложная материя несмотря на простой, может быть, даже по-детски наивный способ ее выражения. Потому что сразу возникает вопрос: а что, разве в обычной современной школе не учат мыслить? Потому что основное, что пропагандируется и прокламируется при обсуждении проблемы «Что такое средняя школа?», — это вопрос о том, что человек идет в школу за тем, чтобы пополнить свой багаж знаний, вообще войти в страну знаний и после прохождения школьного курса освоить всё то богатство, которое выработало человечество (не будем забывать пока цитаты классиков), стать мыслящим существом. И здесь приходится в какой-то мере критически относиться не к работе учителей, которые, бесспорно, как масса различных про7 фессионалов по всей стране, представляют собой честных и самоотверженных тружеников (но как и во всяком профессиональном сообществе бывают люди всякие, кого мы ни возьмем: военных, медиков и т.п.). Именно поэтому я отношусь, когда обсуждаю вопрос «Учит ли школа мыслить?», не к тем профессионалам, которые работают сегодня в школе, а к основному замыслу школы как определенного учебно-воспитательного заведения, которое существует сегодня (это важно подчеркнуть). Для меня этот способ обсуждения имеет принципиальную значимость при решении самых разнообразных вопросов, начнем ли мы обсуждать устройство нашего государства, его политический строй, проблемы физики и т.д. Оказывается, очень часто мы скатываемся на обсуждение вопросов о том, как те или иные люди осуществляют свои функции (плохо работают политики или они прожженные прагматики и подлецы, некачественно работают водители общественного транспорта и т.п.) и, наверное, данный способ обсуждения, когда мы обращаемся к конкретным людям и анализируем их способ работы, имеет какой-то смысл, но, на мой взгляд, это не по ведомству мышления. А если нас интересуют вопросы мышления, то нам лучше такого типа рассуждениями не задаваться, поскольку есть более сложный вопрос, связанный с анализом устройства самой функции (государственной функции или функции образования) как некоторого достаточно сложного социальнокультурного организма. И требуется анализ того, в какой мере этот организм и эта функция (например, образования) реализуют то исходное назначение, которое было в них заложено. К сожалению, для того, чтобы обсуждать замысел колледжа и дальше переходить к теории мышления и деятельности, мне следует ответить и на вопрос: а в какой мере существующая сегодня школа учит мыслить? И вот здесь надо обозначить два достаточно простых момента, которые, на наш взгляд, делают целенаправленную деятельность по формированию мыслительного искусства в обычной школе невозможной, хотя масса учителей, несмотря на это, всё равно учат детей мыслить. Но само устройство институтов таково, что обучение мыслительному искусству, как некоторой мыслительной способности невозможно. И здесь первый момент — это предметный принцип, и второй — направленность на воспроизводство некоторой полученной обществом информации. Это два основных негативных момента: Предметный принцип означает, что всё образование разбито на отдельные предметы, по которым мы учимся. Направленность школьного образования на воспроизводство той информации, которая человечеством уже получена и накоплена. Я постараюсь пояснить эти два момента, поскольку они имеют для меня, как это ни парадоксально, прямое отношение к вопросу о том что такое мышление и как оно устроено. Когда речь идет о предметном принципе, то здесь возникает достаточно сложная проблема, может быть, самая сложная проблема XX и XXI века. Следующий довольно ясный (даже можно воскликнуть: а как же может быть иначе!) вопрос о том, как устроено наше мышление, 8 в котором мы существуем? Из него вытекает ряд других следствий, например: а есть ли вообще мышление в современном обществе? Нужно ли оно кому-нибудь? И т.д. Дело в том, что наиболее развитой, развернуто осуществляемой и имеющей некоторые результаты формой мышления является наука. Я здесь, казалось бы, начинаю вас возвращать к самым первым и, возможно, банальным вещам, но за ними стоит масса следствий, которые мы обычно пропускаем и не выделяем. Итак, наука — это наиболее развитая форма современного мышления. Если на это взглянуть непосредственно, то опять можно наивно воскликнуть: а как может быть иначе! Во всяком случае, меня так учили в школе! Про что нам с первого класса говорит учитель? Про то, что основная задача — это освоить результаты наук. И человек может себя вырастить как духовное существо, только если он осваивает результаты, которые выработала наука. Наука — это специальная социально-культивируемая деятельность. Социальная — значит целенаправленная: в обществе есть специальные группы людей, которые как-то организованы, они за это получают деньги, и это их основной способ и форма жизни, где они осуществляют вот такую работу, которая называется наукой. Дальше будем вникать, что это за работа. Первый момент очень важен: эта работа происходит массово, основана на специальной социальной организации людей, которые ее осуществляют. То есть, когда мы говорим: «массово», «социально», — речь идет о том, что это не удел одиночек (во всей Москве не 2-3 ученых, на которых все показывают пальцем). Далее, когда говорится, что эта работа осуществляется в социальных формах, это значит, что наука — не просто досуг людей, которые, скажем, шлифуют линзы, за это получают деньги, а на эти полученные деньги в свободное от шлифовки время размышляют об устройстве космоса, о смысле жизни, о том, как устроены планеты. Всё это происходит не так. Работники науки ежедневно приходят на службу (гигантское количество людей в это вовлечено) и получают некоторые результаты, на которых устроена наша жизнь, и при этом, когда обсуждается вопрос о результативности науки, то прежде всего анализируются результаты техники. При этом, если бы я защищал такую научную форму, я бы, конечно, сейчас предпочтение отдал Японии, потому что другие страны как-то резко отстали в развитии современной техники, а Япония здесь достигла, по моему мнению, очень больших принципиальных результатов. На первый взгляд, даже кажется, что основная заслуга в мировом научно-техническом прогрессе принадлежит вот этой самой науке, очень разветвленной, дифференцированной, связанной с непосредственным созданием различных новых технических систем — новых форм технического оснащения общества. Значит, когда мы говорим о науке, то в глаза бросается следующий важный момент: существует бесконечное число различных направлений и видов наук и различных типов научной организации, то есть, существует бесконечное число разных профессий, которые мы относим к науке. Как нам известно непосредственно из жизни, само 9 собой разумеется, что есть специалист — ядерщик, который занимается атомной энергией, и, скажем, человек, который занимается происхождением и развитием живых существ — зоолог, есть специалисты-полярники и т.д. Если их всех вдруг собрать вместе, то они, скорее всего, сначала даже друг друга понимать не будут. Один будет говорить на своем языке про устройство ядра, какие-то демонстрировать сложные (для неспециалиста) математические формулы, другой— рассказывать о том, как эволюционирует животный мир и обсуждать проблему, являются ли клещи самостоятельным видом насекомых или это результат редукции нескольких других разных отрядов насекомых за счет создания особенного животного паразита, и т.п. И вот когда мы так посмотрим на науку, — это будет взгляд, который мы сделаем из настоящего, поскольку мы находимся здесь, и я просто пытаюсь воспроизвести то, что у вас находится в сознании. Это, кстати, очень мощный прием, который современный человек почему-то не использует. В философии даже возникло специальное направление, которое называлось феноменологией (его автором является Эдмунд Гуссерль — крупный немецкий ученый), где представители этого направления ставили специальные задачи выявлять и в развернутом виде человеку представлять то, что у него находится в сознании. Мы живем ведь очень сложной жизнью (тем более в Москве; если бы мы жили в деревне, там у нас всё было бы иначе). И поскольку живем в Москве, на нас активно воздействуют средства массовой информации, мы много получаем из непосредственного общения с родителями, из чтения книг и т.д., то в нашем сознании к 12-14 годам уже содержится очень много разнообразной, разноплановой информации и разных представлений, которые нас как-то организуют и направляют. Очень часто выявление того, что у нас содержится в сознании, чтобы понять, о чем идет речь, дает больше, чем чтение многих книг. И если эту процедуру осуществить грамотно и правильно с целью выяснения того, что, собственно, я, находясь и будучи встроенным в то общество, в котором существую, понимаю под тем или другим вопросом, — это дает значительно больше информации и представлений, чем если прочитать по этой проблеме массу специальных книг. Эту процедуру я и пытался осуществить. Но здесь возникает маленькое и очень важное ограничение, про которое я уже сказал, но повторю, чтобы сделать следующий шаг: такой взгляд на науку делается из настоящего, из той ситуации, в которой мы существуем сегодня, и это очень важно учитывать. Это своего рода ограничитель — рамка, в которой мы можем говорить о науке и о научной форме мышления. А цепочку моего рассуждения мы все удерживаем. Я уже сделал несколько промежуточных ходов и где-то остановился, но для того, чтобы меня понимать в целом, нужно удерживать всю цепочку рассуждений. Я должен рассказывать про теорию мышления и деятельности (кратко — ТМ и Д). А для того, чтобы обсуждать ТМ и Д (сегодня лекция вводная), я должен показать смысл создания того колледжа, где мы должны студентов научить мышлению, и поэтому «сначала должны научиться этому сами. А отсюда 10 и следующий шаг, где начал обсуждаться вопрос о том, в какой мере сегодня обычная школа учит мышлению. То есть современная школа и мышление. И наконец, последний момент, который я, собственно, уже обсуждаю, — утверждение о том, что в сегодняшней школе есть две особенности, которые, на мой взгляд, не позволяют утверждать, что она учит мышлению. Это, соответственно, предметная форма организации мышления и направленность на воспроизводство информации, которая получена человечеством. Анализируя предметную форму, мне пришлось обсуждать вопрос о том, что такое наука. И мы ее определили, как социально-организованную, целенаправленно осуществляемую в масштабах всего общества, специально культивируемую деятельность людей. И дальше мы пришли к тому, что очень важно при этом понимать, что рассматривать науку следует вот из такой рамки, которая характеризует современное состояние дел. И именно поэтому мы можем пользоваться результатами собственного сознания, поскольку включены в некоторую ситуацию и в ней находимся. То есть можем просто брать сознание, снимать, если это умеем делать, и оттуда извлекать массу всякой информации и рассматривать ее. Смысл этой рамки заключается в том, что если на тот же вопрос посмотреть исторически, то всё окажется совершенно не так. Окажется, что современная организация науки сложилась к концу XIX века и существует в развернутом виде в XX и XXI веках, а скажем, где-то еще в середине или начале XIX века всё было совсем не так. А если обратиться к Средним векам, то здесь окажется, что наука была уделом подвижников-одиночек. И когда я вам говорил про шлифовку стекол, то имел в виду известнейшего философа Спинозу, который именно философскую работу (философию мы теперь относим к наукам) осуществлял подобным образом: он занимался шлифовкой стекол, зарабатывая себе на жизнь, а в свободное время философствовал и писал трактаты. А дальше получился парадокс: мы Спинозу абсолютно не знаем как шлифовальщика стекол (хотя, наверное, сохранилось несколько телескопов, на линзах которых стоят его инициалы), но мы его хорошо знаем как автора знаменитых философских трактатов. Та социальная организация формы науки, с которой мы знакомы, принадлежит концу XIX — началу XX века, когда наука превратилась в социальную силу, стала действительно мощнейшим образом влиять на развитие различных техник, и была специальным образом организована. До этого наука была уделом одиночек, то есть люди, которые занимались наукой (а их было не очень много), были широко известны и осуществляли свои научные изыскания, как говорится, в свободное от основной работы время. Но, что более важно, при этом наряду с наукой, как одной из разновидностей типов и форм мышления, тогда существовали совершенно другие формы мышления и не менее мощные: прежде всего, это религиозная (теологическая) форма мышления, которая была противоположна науке (теология — наука о религии), и философия, которая не отождествлялась с нау11 кой. Наука существовала наряду с этими двумя формами мышления — не менее, а в определенные периоды (в Средние века, например) даже более мощная. А всего 300 лет назад науки как определенной формы мышления не существовало. Не то, чтобы она не существовала, как массово осуществляемая деятельность в обществе, а она не существовала вообще как таковая. То есть были философия и теология, и то, что сегодня называют наукой, когда говорят: «Аристотель является основателем науки психологии, написал трактат "Перепсихея" (о душе)», — то здесь происходит некоторая эклектическая путаница, поскольку Аристотель писал этот трактат как философ, и у него были в его философских работах некоторые рассуждения, некоторые способы анализа, которые сегодня могут быть отнесены к науке, но научной формы, научного мышления как такового, выделенного, обособленного, осуществляемого по определенным жестким нормам, не существовало. Дальше начинаем рассматривать очень сложный вопрос, где надо будет возвращаться к сказанному вначале. Основная характеристика науки, в отличие от философии и теологии, — это наличие выделенных и обособленных друг от друга научных предметов, когда научный предмет (биология, математика, физика и т.д.), который внутри себя содержит массу направлений и членений, отличается от других предметов и существует обособленно. Есть известный парадокс: сегодня очень распространено представление о том, что решение новых проблем возникает на стыке наук. Скажем, есть биология, есть физика, и на стыке этих наук возникает представление о физических устройствах живой материи, и анализы того, как устроено само вещество. Если же мы рассматриваем живую материю, то при этом выясняем, какие существуют особенности анализа, который был разработан в физике для изучения живых организмов. Но интересно, что из подобных попыток синтезировать науки и организовывать соединение стыков наук получается не единая новая наука, а возникают новые науки, которые отделены от предыдущих. На соединении физики и биологии возникает биофизика, и она становится отличной и от физики, и от биологии; на стыке химии и биологии возникает биохимия, которая начинает отличаться и от химии, и от биологии. С этой точки зрения, специалиста, который овладел методами биохимии, перестают понимать химики и биологи. Они начинают говорить: «Нет, вы занимаетесь другим, мы занимаемся биологией, мы занимаемся химией, а вы занимаетесь чем-то отдельным. Из данного примера возникает достаточно простой и ясный вывод, что, по всей видимости, так устроена сама наука, что она стремится к постоянной детализации и закреплению тех новых методов и способов работы, которые возникают как обособленные и начинают осуществляться как обособленные. Если попытаться (из благих намерений) образовать единую науку, то отпочковываются и возникают всё новые и новые науки. Это означает, что (это одно из допущений, возможны — другие) сама наука, как определенная форма организации мыш12 ления, устроена таким образом, что она обеспечивает еще большую детализацию и создание замкнутых разветвленных научных подразделений и предметов. И собственно, этот же момент мы и наблюдаем в настоящее время в организации школьного обучения. В школе сегодня ведущей является научная форма мышления, где я акцент ставлю на слове «форма», а не на слове «мышление», потому что к особенностям мышления еще нам надо подойти. Поскольку господствует научная форма организации мышления, где существует масса разделенных и отделенных друг от друга наук (например, есть гигантская научная область, которая называется БИОЛОГИЯ, и есть школьный предмет «биология», есть гигантская область МАТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ и есть школьный предмет «математика», есть область ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ и есть школьный предмет «физика»), то основной вопрос, который возникает из всего этого: есть ли нечто единое, что является основанием, на котором строятся все эти науки? То есть может ли быть такое: очень хорошо освоив представление о физике на уроках физики, я вообще тем самым осваиваю мышление и начинаю ясно, четко мыслить? Из того, что с нами в школе происходит, мы можем точно сказать: нет, так не происходит. Человек может очень хорошо и интересно мыслить по истории, но ничего не понимать в физике, и самому себе в этом признаваться и заявлять, что у него способности к гуманитарным наукам, и наоборот. И все очень интересно это обосновывают, например: в гуманитарных дисциплинах, дескать, надо запоминать и не надо мыслить, а в естественнонаучных — наоборот. Но за всеми этими свидетельствами лежит очень простой факт, что научные предметы в школе точно так же, как и науки, изолированы друг от друга и построены на отдельных, никак не связанных друг с другом мыслительных процедурах (а может быть и на каких-то других приемах, связанных с запоминанием), которые осваиваются как отдельные. Всё это объясняется достаточно просто: сегодня в обществе существует научная форма, как наиболее развитая организация мышления, которая построена из изолированных, никак не связанных друг с другом научных предметов, и в современно организованной и устроенной школе мы имеем, фактически, отображение такой организации и устройства наук в учебных предметах. Есть целый ряд учебных предметов, через которые учащиеся в ходе работы в школе проходят, или они протягиваются (вот тут уже поразному). Как на транспортерной ленте: есть эти предметы, по ним там както людей проводят, с кем-то что-то больше происходит, с кем-то — меньше, с кем-то на одних учебных предметах что-то происходит, а на других предметах — ничего, а с другими — наоборот. То есть школа отображает устройство науки. И отсюда возникает проблема, которая строится на следующих принципах: выявляется некоторая ситуация и из нее фиксируется ряд следствий, но следствия очень простые. Это означает, что в силу того, что так организованы школьные предметы, и никто не озабочен их 13 связью, во всяком случае, нет утверждений, как это всё связать, — всё это очень простые следствия. Во-первых, люди, если и учатся мышлению, то каждый раз — какому-то отдельному, например, физическому мышлению, биологическому и т.д., но не учатся мышлению как таковому вообще. Во-вторых, за таким устройством сегодняшнего обучения лежит не произвол людей (то есть несколько человек захотели и навязали нам, например, «казарменный коммунизм» и вот такую предметную систему обучения в школе), а за этим стоят какие-то более сложные вещи: устройство культуры и науки, которая формировалась на протяжении 300 лет, и возникающие отсюда самые различные следствия. Естественно, возникает вопрос: если это не устраивает (меня, например, это не устраивает, поскольку из этого следует, что мышление, как таковое, осваиваться — если я школьник — не может, а могут осваиваться отдельные науки), то не стану ли я специалистом, имеющим плюс в какой-то одной из дисциплин (например, невероятно разовью свои способности как вычислитель-математик), но при этом буду полным кретином в других вопросах — социальных, медицинских и т.д.? А может ли быть что-то сделано иначе, по-другому, если так устроена научная форма организации и так построена сегодняшняя школа? Это, собственно, постановка проблемы, то есть такого вопроса, где становится ясно существующее положение дел, и возникает мысль о том, может ли чтото быть сделано по-другому. Итак, в трех местах лекции я говорил про одно и то же, но рассуждал об этом с разных сторон. В этом плане всякая, на мой взгляд, мысль, чтобы вы меня понимали, имеет очень сложное устройство, то есть мысль — это не физическое тело. Например, когда я говорю «стул», то мы сразу понимаем, что пока я буду ходить и рассуждать, стул никуда не денется, он всё равно будет в пространстве, и у нас есть четкое понимание того, как устроен стул. В каком-то смысле это не совсем так, или совсем не так, если предмет сложный. Оказывается, что его (предмет) можно охарактеризовать только с нескольких разных позиций, поскольку он имеет несколько разных сторон. А как это можно сделать, если предмет, который мы обсуждаем, не физическое тело (стул), а наука, или научная форма организации мышления? Он же не существует в наглядном виде, мы его не можем ни понюхать, ни потрогать. Поэтому мы можем делать только одно: в мышлении, фактически, высвечивая то одну сторону, то другую. И с этой точки зрения, вполне может оказаться, что вторая высвеченная сторона противоречит первой, потому что совершенно иначе устроена. И в этом смысле вопрос очень хороший, мы его попытаемся сейчас додумать. Первый тезис заключается в том, что в сегодняшней школе процесс обучения устроен таким образом, что предполагается, что мы должны осваивать предметную форму мышления. А второй тезис, собственно, содержит в себе вопрос: если я усваиваю какойто предмет (физику, биологию), усваиваю ли я при этом то, что имеет отношение к мышлению? Мой ответ заключается в том, что 14 вроде бы и нет. Потому что для того, чтобы усваивать мышление, я должен с предметной формой мышления что-то сделать, по крайней мере две вещи. Предметная форма мышления что означает? За этим сочетанием стоит следующее: что в данном случае мышление развертывается, осуществляется, строится по законам того предмета, с которым я имею дело: есть, фактически, предмет, а есть мышление. И вот мое мышление, или мышление, которое я осуществляю, должно уподобиться этому предмету и схватывать те характеристики предмета, которые являются важнейшими. Но здесь возникает очень сложный момент, — и в этом смысле, вопрос очень правильный, — ведь при этом может произойти следующее: если я не буду знать правила и принципы употребления, по которым строится мое мышление, когда я работаю с предметом, если я не буду знать, как я построил свое мышление (например, когда я исследую физические тела и физические законы, что мое мышление адекватно этим физическим телам, если я не буду знать эти принципы, нормы, а буду просто иметь представление об устройстве физического мира. Или изучая устройство вещества, скажем, не буду знать, какие я специально изобрел приемы для того, чтобы прорваться в сущность вещества, а буду знать только что-то про вещество. Или про общество я не буду знать, какими пользуюсь приемами для того, чтобы схватить социальную действительность во всей ее полноте, а буду знать только какие-то представления о социальной системе), то буду ли я при этом осваивать мышление, или каждый раз буду осваивать только какие-то характеристики отдельного обособленного предмета? Вопрос: Но есть разные формы мышления... Ю.В.: Да. Есть разные формы мышления. Вопрос: Тогда получается, что при изучении математики у меня появляется одна форма мышления, а при изучении физики — другая? Ю.В.: Нет, другой тезис. Из последнего моего рассуждения получается, что при освоении физики и при освоении математики как предметов у меня никакая форма мышления не появляется, хотя физика и математика построены на основе определенных форм мышления. Вопрос: От чего это зависит? Ю.В.: А это зависит от того, что я, фактически, мышлением не занимаюсь. Рассуждение следующее: есть, например, физика, которая изучает законы вещества, то, как устроена природа, как устроено вещество. Предметная форма мышления предполагает следующую организацию: есть особые процедуры, приемы мышления, при помощи которых я могу проникнуть в тайны вещества. Это само по себе загадка — я сижу здесь, думаю, я мыслитель, а вещество — где-то там, вообще неизвестно где, и я каким-то образом своим думаньем могу пробраться в это вещество. Но человечество эту загадку решило, то есть оно пробралось туда... Поэтому у нас Чернобыль есть, и наоборот, в Японии — супер экспрессы. Дальше возникает вопрос: как я это всё буду осваивать? Например, могу осваивать так: результаты того, что сделали люди, себе 15 присваивать, то есть всё время анализировать, как устроено вещество, какие там у него хитрости, и таким образом двигаться внутри структуры предмета. А есть другой способ: я буду всё время анализировать, какими приемами пользовалось человечество для того, чтобы разрешить эту загадку, пробраться туда, в вещество, что человечество для этого придумало. Это два разных способа движения. Так вот, в первом случае, когда я что-то про вещество узнаю, я, вроде бы, ничего не узнаю про приемы мышления, и отсюда делаю вывод: усваивая разные данные и разные знания из разных наук, я очень мало приближаюсь к пониманию того, как устроено мышление. Вопрос: И вы считаете, что в школе преподают по первому способу? Ю.В.: Да. Хотя я говорю, что есть всякие учителя. Я при этом обсуждаю принцип, а не обсуждаю, как бывает на самом деле. А бывает по-разному. Есть учителя, которые мышлению и на этом материале учат. Потому что мышлению, как оказывается (это уже вывод не из лекции), можно учить на любом материале. Но сегодняшняя школьная форма обучения организована по первому принципу. Вопрос: А если я буду изучать математику, например, по второму принципу, то у меня будет развиваться мышление, если я другими науками вообще не буду заниматься? И смогу ли я эти методы затем применять в других науках? Ю.В.: Да. Отсюда возникает такое следствие, что если я даже один предмет буду изучать по второму принципу, то я смогу понять, как устроено мышление, и смогу тогда делать какие-то выводы, хотя это кажется парадоксальным, про совершенно другие области. Это очень правильный вывод. Вопрос: Научиться мышлению можно непосредственно учась самому мышлению? Ю.В.: Да. Это тоже правильный вывод. Вопрос: А можно научиться мышлению, не учась ему непосредственно, то есть в процессе какой-либо другой деятельности? Когда учеником неосознанно приобретаются какие-то вещи? Ю.В.: А вот это очень интересный момент. И на него можно по-разному отвечать. Я попытаюсь на него ответить, рассмотрев его с разных сторон. Дело в том, что мышление, к сожалению (а для меня — к счастью), — это сознательно и целенаправленно культивируемая деятельность, которая предполагает каждый раз выявление для человека всех оснований, на которых он эту работу строит. Поэтому мышлению как таковому научиться нельзя, а можно, учась чему-то другому, непосредственно его как бы присвоить. С моей точки зрения, мышление — это сложнейший вид искусства, которое осуществляется сознательно. Поэтому, как невозможно научиться кунг-фу (сознательно этому не учась), так нельзя научиться и мышлению, сознательно этому не учась. В этом смысле, мышление — это не навык и не привычка (можно присвоить социальную привычку, например, убирать после сна за собой постель, этому специально не учась. Просто ты как родился, родители от тебя это требовали тогда, когда еще у тебя даже осоз16 нания себя не было. И пятилетним ты вдруг пришел к кому-то в гости и видишь, что кто-то там после сна постель не убирает. И ты тогда осознаешь, что, Господи, у меня-то это всё сформировалось само!). А вот, к сожалению, с мышлением так не получается. Так усваиваются другие формы, например, язык. Вот язык можно усвоить подобным образом. Язык не основывается на мышлении, а мышление основывается на языке. И это можно очень просто доказать. Например, существует масса олигофренов, у которых нет мышления, но прекрасно развита речевая форма. Есть даже статистика, которую Лурия приводил, что очень много сейчас олигофренов являются академиками только на основании этой речевой формы, то есть они по простейшим тестам — дебилы, не могут решить никакой задачи, но у них очень развита речевая форма. Это доказательство того, что очень часто язык отделяется от мышления и вообще существует вне его. Теперь нам следует вернуться к последнему, для меня очень важному следствию, которое было высвечено Филиппом, что учиться мышлению можно, только непосредственно учась мышлению. Я бы мог это взять в качестве вывода из того, что сказал выше, но здесь возникает очень сложный вопрос (выше была только постановка проблемы): а вот как это может быть по-другому, как действительно можно учиться мышлению, учась ему самому? И вот здесь возникает ряд интересных, для меня принципиальных, моментов, которые вытекают как следствия из этой картины. Казалось бы, если всё так устроено и организовано, то не проще тогда было бы просто взять и выбросить все науки, а учить мышлению в чистом виде. Чтобы просто кто-то стал рассказывать про мышление и показывать, как им пользоваться, а от научной формы, как таковой, вообще избавиться. Поскольку такая форма разделяет всё на разные отсеки, на разные типы наук, а внутри наук — на направления в этих науках, которые сами по себе сегодня перерастают в новые науки, и в этом смысле процесс дифференциации наук бесконечен. В этом смысле высказывание В.И. Ленина по поводу того, что «электрон неисчерпаем так же, как и атом», на мой взгляд, очень красивый и умный афоризм. Оно прежде всего приложимо к устройству самих наук. На мой взгляд, Ленин рассуждал здесь не столько про то, как устроен объект физики, в частности атом, сколько вообще про то, как организована наука. Поскольку электрон неисчерпаем как атом, то будут возникать всё новые и новые подразделы наук, которые исследуют части электрона, и они будут отличаться от наук, в соответствии с которыми каким-то образом описывается атом, то есть процесс членения наук бесконечен. Но тогда возникает вопрос: а если так вредно устроена эта научная форма, где мы всё время вникаем в результаты различных наук, но не осваиваем само мышление, может быть, проще ликвидировать все науки и в школах учить чему-нибудь в целом, например, единой картине мира или общему устройству мышления? А почему так нельзя? 17 Ответ с места: Но ведь есть другие формы мышления... Ю.В.: Да, правильно. Об этом я говорил. Но ведь можно сказать и так: может быть, тогда вообще не возиться с этими науками — есть другие формы, например, религия. И сейчас (кстати, это очень интересный факт в нашей ситуации) мы имеем мощнейшую вспышку иррационализма в мышлении. Она была подготовлена всем предшествующим развитием (Чернобылем, атомными бомбами, тем, что у нас десятилетиями уничтожалась религия...). И сейчас мы имеем мощнейшую вспышку иррационализма, то есть различного типа учений, построенных не на рациональных основаниях. Тогда может быть другой вариант: вообще убрать все научные формы мышления и учить, скажем, религии или мифологии, что тоже в конечном счете имеет какое-то отношение к наукам. Вопрос: Но ведь в религии не доказано ничего, а в науке основные постулаты доказаны?.. Ю.В.: Правильно. Но только с одной стороны. А с другой стороны, это зависит еще и от того, как относиться к религии, к религиозной форме мышления. Потому что постулат доказательств является для религии неважным, там вводится совершенно другой постулат, а именно — отношение к свидетельствам, собственная вера. И в этом смысле религия — совершенно другая форма познания. То есть религиозный человек, который совершает вполне определенные религиозные обряды, начинает с уважением относиться к свидетельствам собственного сознания, считая, что истина — только то, что получено им за счет определенных состояний сознания, как монахом, который осуществлял определенные ритуалы, и другими монахами, а всё остальное — от лукавого. И в этом смысле на место постулата доказательств там вводятся совершенно другие постулаты, не менее сложно устроенные, чем в науке, отработанные в схоластике. Вопрос: Это иррационально, это вроде бы как секта... «Они смотрели в свой пупок, пока оттуда им не показалось свечение...» Ю.В.: Это интересный момент. Поскольку я очень люблю Григория Паламу, то об этом можно было бы поспорить. Для меня идеи софистов, на самом деле, не так уж абсурдны, как нам сегодня кажется. Я потом к вашему замечанию вернусь, потому что для меня это суть дела. Всё дело в том, что если брать (я буду просто к источникам апеллировать) тексты русских философов, которые как-то анализировали работы Г. Паламы, то они сходятся на одной очень интересной и совершенно научной вещи. Они утверждают следующее: по всей видимости, этому человеку впервые удалось доказать и показать, каким образом биоэнергетика существует в структурах живого человеческого тела. То есть если там отделить область фантастики от реалий, хотя у Г. Паламы сложно понять, где фантастика, а где ее нет. Но то, про что вы говорите, там действительно было, в частности... Вопрос: Но определенная доля самовнушения там была? Ю.В.: Я думаю, что нет. Что касается Г. Паламы, то я думаю, что там даже внушения нет, самовнушения нет. Этот очень интересный вопрос мы можем обсудить отдельно. В русской философии, в советс18 кой, например, покойный А.Ф. Лосев — крупный знаток античности — был паламистом. Его паламизм заключался в следующем: он утверждал, что в религиозной философии существует мощнейшее учение, посвященное проблемам энергетизма, и рассуждал о том, что до сих пор никто не знает, что такое энергия. И если вообще анализировать физические учения, то там существует непонятный способ заимствования из древнегреческой философии, во-первых, самого понятия «энергия», что означает «присуще работе и труду». Во-вторых, он утверждал, что крупнейшим представителем этого движения является Г. Палама, и мы имеем различные свидетельства, в частности, рассуждения самого Г. Паламы о том, что такое энергия, и свидетельство папского нунция, которому Г. Палама показал, что он может подниматься на 6 локтей от земли во время молитвы. К этому сложному явлению все относятся по-разному. Одни говорят: «Бред! Ну как можно подняться на 6 локтей! Я вообще человек научный, никто вокруг меня не поднимается». Вопрос: А кто был этому свидетелем? Ю.В.: Папский нунций, монахи, которые находились в этом монастыре, и сам Г. Палама. Вопрос: Но можно подойти к этому вообще с крайне рациональной точки зрения, утверждая, что вся эта братия просто была в подпитии... Ю.В.: Для меня это не рациональная точка зрения, потому что она уходит от феномена и от проблемы. Но я могу сказать про другой феномен: я знаю человека, который восемь лет занимается восточными искусствами единоборства, и с ним происходит очень интересное явление: когда он взмахивает рукой, например, движение осуществляет, определенные ката, то перегорает цветной телевизор. Он это делает регулярно, и особенное удовольствие ему доставляет работать с людьми, у которых есть цветной телевизор. Есть группы людей, которые целенаправленно работают с биоэнергетикой, и они, например, не могут себя записать на магнитофон. Поэтому возникает вопрос: что это такое? С одной стороны, тут есть очень интересный момент по поводу рационального и иррационального, потому что то, что сегодня наука оказалась, на мой взгляд, в таком жалком состоянии (дальше можно доказывать, что она в таком состоянии находится), виновата сама наука, сама научная форма. И поэтому существует масса необъяснимых феноменов. К таким феноменам для меня относится и Г. Палама, то есть я верю, что человек за счет религиозной молитвы достигает такого состояния, когда он сможет подняться на 6 локтей от земли. В этом смысле, мне просто жалко папского нунция. А с другой стороны, возможны такие формы тренировки, йоговской или тренировки в восточных искусствах единоборства, когда человек так развивает собственную биоэнергетику, что может активно воздействовать на технику. И из этого, кстати, следует важнейший рациональный принцип. Сейчас я его вам поясню: ведь химия и физика изучали тела, которые находились вне человека, то есть физи19 ческие тела, и на этом строился важнейший принцип объективности. Но дело в том, что тело человека содержит в себе всю Периодическую систему Менделеева, все 104 элемента, познанные и какие-то непознанные. Это первый момент. Второй момент: мы изучаем электромагнитные волны вне нас, в приборах, специально создаваемых, в сердечниках, наконечниках и т.д. Но дело в том, что человек тоже излучает электромагнитные волны. И на этой основе возникает раскол между религиозной и научной формами мышления. Ведь наука, как ее, на мой взгляд, программировали гении, прежде всего Декарт и другие, строила всё на том, чтобы выделить и противопоставить предметы и вещества, которые существуют независимо от моего сознания. На этом строится принцип объективности, который они спрограммировали: объективно всё то, что вне моего сознания. А вот с телом — гораздо сложнее, то есть Декарт пытался отделить душу от тела и тем самым тело превратить в такой же физический объект, как стол и стулья. Но другие его соотечественники, не менее гениальные, чем он, например, Готфрид Лейбниц, очень сильно протестовали. Они говорили: так не получится, потому что есть феномены, которые ясны из анализа сознания и рефлексии, где тело с душой образуют что-то одно, их просто так не разделить. Отсюда следует, что тот феномен, который мы относим к молчальникам или исихастам («исихил» — по-гречески «молчание»), к Г. Паламе, ко всем другим странным феноменам, — всё это очень интересно относится к тому, что сегодня пока в науке это вообще не может изучаться по причине устройства самой науки. Почему? Потому что это феномены биоэнергетики... И может быть, нынешней науке именно поэтому придется перестать быть наукой, а стать чем-то другим... Вопрос: Новой формой мышления, но всё равно формой? Ю.В.: Да. Но возникает следующий момент, и мне эту мысль важно проследить. Ведь что произошло? Физикам для того, чтобы анализировать вещество, нужно было отделить душу от тела, провести это разделение «душа-тело», потому что душа — это что-то необъективное, там страсти мелькают, всякие непонятные состояния, а тело, если оно вне нас, в пространстве, — объективно. Мы тело стали анализировать как вещество, то есть свели его к сложно устроенному веществу. И в ходе исследования дошли до проблем энергетики. Но теперь нам нужно вернуться назад, потому что меня спрашивают, как устроена биоэнергетика у человека, а я по данным науки могу только рассказывать о том, как существуют магнитные поля в веществе, и методы для этого разработал. Поэтому для того, чтобы мне отвечать про человека, мне нужно проделать что-то около восьми переходов. От неживого вещества перейти к живому, от живого вещества перейти к организму, от организма перейти к телу человека, а от тела человека — к жизнедеятельности и деятельности. Потому что у меня не просто физическое тело: я либо наукой занимаюсь, и у меня одна энергетика, либо ката осуществляю — другая. 20 Так вот оказывается, что всё разработанное наукой лежит совершенно в другой плоскости, в других онтологиях. то есть представлениях об устройстве объектов. И в этом смысле возникает здесь интересный момент. В вашем вопросе получилось, что я на 50 % с вами, а на 50 %, по крайней мере, по манере вопроса — против вас. Потому что я, с одной стороны, считаю, что нужно развивать науки, чтобы они выделяли и захватывали все эти феномены, но в том, как вы характеризовали феномен, на мой взгляд, очень неуважительно к нему относитесь, в частности, к Г. Паламе. А такое ведь существует на самом деле. Реплика: Я не против Григория Паламы. Ю.В.: Отлично. Но мы теперь действительно возвращаемся к тому исходному вопросу, который я поставил. И сейчас постараюсь показать, как за счет этого рассуждения и обсуждения предыдущего вопроса мы продвинулись в ответе на него. Действительно, почему бы не учить мышлению, просто выбросив всю научную форму и все эти разделенные предметы? Всё дело в том, что за 300 лет существования науки, помимо развития науки и техники, произошел и сам процесс развития мышления. Потому что науки стали невероятно дифференцированы, они сейчас имеют такие тончайшие техники, процедуры и представления, которые составляют определенное богатство, разработанное за 300 лет. Например, организацию и устройство, по крайней мере, европейского мышления, потому что наука — феномен европейский. И если мы просто выбросим науки, то будет непонятно, куда мы возвращаемся, потому что дело не в том, что мы отказываемся от рационализма, от современности, а дело в том, что мы отказываемся от важнейших результатов, полученных в течение 300 лет. И уже в России после революций 1917 года делались попытки убрать из школы обучение предметам и ввести лекционную форму обучения в виде обзорных лекций, где бы не было целенаправленного обучения различным наукам. И оказалось, что в этом случае процесс интеллектуального развития у людей резко падает. Если научную форму вообще убрать даже в том виде, в котором она сегодня существует, со всей изоляцией наук, со всей раздробленностью, несвязанностью и несводимостью проблем одних наук с другими, и начать учить чему-то другому, например, читать лекции по религиозной философии либо еще по чему-то, то оказывается, что интеллектуальное развитие людей снижается, и даже были определены причины этого. Чем характеризуется наука? Она характеризуется, прежде всего, уровнем аналитики, то есть всем набором различений, с помощью которого человек считает необходимым выделять и разделять разные моменты, для того чтобы грамотно ставить вопрос. Этот очень важно. На мой взгляд, культура мышления и техники мышления все построены на умении правильно вводить различения и различать разное, и в этом смысле, это, казалось бы, простая способность. То есть следует просто не путать в сознании, не смешивать разное, например, непознанный факт и научное объяснение, и всё будет здорово! Надо 21 так организовать свое сознание, чтобы не смешивать разное, а наоборот, всё время вводить различения и различия. Так вот, оказывается, более развитой формой, с точки зрения аналитики и культуры введения различений, является наука. Поэтому, убрав научную форму, человек лишается возможности культивировать свою способность различений, и, следовательно, его интеллектуальное развитие будет совершенно другим, чем если он освоит (даже при всех недостатках, о которых я сказал выше) научную форму. С этой точки зрения, мы как бы подходим ко второму витку постановки проблемы, той самой проблемы, с которой я начал. Потому что, с одной стороны, получается, что, как сказал Филипп (и для меня это тоже вывод, это принципиально), для того, чтобы учить мышлению, чтобы осваивать мышление, надо учиться самому мышлению, а не чему-то другому. С другой стороны, основным материалом, которым заполняют сегодня школу, является наука и результаты наук. И вроде бы этот результат — по тому, как он дается, — мышлению не учат, а учат чему-то другому: каким-то данным, информации. Но просто так выбросить науки из школы бессмысленно, потому что научная форма более развита, с точки зрения аналитики, а также способов и всей системы различений. Следовательно, заново возникает вопрос: как при этих условиях (мы здесь осуществляем определенный шаг углубления к анализу научной формы) можно в сегодняшней школе учить мышлению? Вопрос: Почему изучают мышление? Ю.В.: Я бы переформулировал вопрос: зачем нужно вообще учиться мышлению? Вы понимаете этот вопрос? Реплики: Да! Вопрос: Хорошие специалисты в какой-то одной, узкой отрасли науки, может быть, для дела важнее, чем многосторонний дилетант-мыслитель? Ю.В.: Это тоже хороший вопрос. И он связан с вопросом о том, где проходит грань между дилетантизмом и профессионализмом. Значит, отвечать на этот вопрос я буду из трех оснований. Первое основание —- это как бы личностно-ценностное, то есть я буду говорить от себя. Второе основание — ответ будет историческим. А третье — проблемный ответ. То есть будет три части. И действительно, придется сначала отвечать на вопрос: зачем нужно мышление? Всё дело в том, что при этом приходится жестко различать два совершенно разных, принципиально разделенных момента: с одной стороны, использование результатов чужого мышления, а с другой — способность получать результаты этого мышления. И вот здесь возникает очень сложный вопрос, который обсуждал другой религиозный философ — супер-рационалист, на мой взгляд, намного больший рационалист, чем все остальные рационалисты XX века, — Павел Флоренский. Его поразил в свое время такой факт: все мы пользуемся числом «?», которое изобрел Пифагор, но абсолютно не интересуемся, на каких основаниях он ввел это число и почему он его ввел. Его этот факт всё время очень интересовал. Он очень 22 много знал про пифагорейские союзы, как про особую мистическую форму объединения людей, которые занимались математикой для того, чтобы осуществлять познание Бога. Все важнейшие результаты древнегреческой математики: теорема Пифагора, в том числе знаменитое число «?» — были накоплены в этих союзах. П.А. Флоренского очень интересовал вопрос: почему так устроены европейское мышление и европейская традиция, что люди вообще не стараются вникать в основания того, как получен тот или иной результат, а больше нацелены на сам результат. В этом смысле, мой личностно-ценностный ответ заключается в том, что если человек хочет решать проблемы, а не присваивать результаты — это ценностный выбор, хочет он того или нет. (Даже независимо от того, что это говорю я, и как-то другой человек относится к моим словам. Потому что такого типа серьезные выборы, связанные с самоопределением, вообще осуществляются помимо некоторых речевых заявок и ответов.) Так вот, если человек хочет решать и ставить проблемы, то есть забираться туда, где вообще ответов нет, а существуют только вопросы, — ему придется заниматься проблемами мышления. Его туда просто ведет судьба. Ему туда придется идти независимо от его желаний, и тогда ему придется всерьез заниматься вопросом о том, что такое мышление. Это первый момент. Второй момент уже следует из философского понимания сути дела. Здесь я должен повторить то, что в своё время обсуждали Сократ и Платон: что, на мой взгляд, мышление и разум, но я под разумом понимаю культивируемую, осознанно осуществляемую форму мышления. — это то, что позволяет человеку занять нравственную позицию в жизни и спастись. Вот здесь для меня проходит грань между профессионалом-специалистом (она сначала здесь проходит) и дилетантом. С этой точки зрения, очень занятен, в плане вопросов Сократа, образ Андрея Сахарова. Это очень интересный для меня образ, который породил XX век. Этот человек создал водородную бомбу, был всемирно известен как «отец нашей водородной бомбы», и в этом смысле, он был сверхнужным профессионалом-флюсом в этой области, и на него просто молились. А потом он занял позицию дилетанта, потому что в экологии и в социальных вопросах, уверяю вас, он ничего не понимал (достаточно специально рассмотреть и обсудить его книги). Но здесь возникает и другой, очень интересный, нравственный вопрос. Перед нами прошла жизнь, на мой взгляд, очень уважаемого человека, потому что на Первом съезде Советов, когда академик Сахаров стал обсуждать с собравшимися в зале версию о том, что наши вертолетчики уничтожали, возможно, наши войска в Афганистане при отступлении (эта информация не подтвердилась, но сам тип обращения очень значим), то его чуть народ не разорвал. И в этом смысле его выступление уже приближалось к форме Сократа. Если вы помните, Сократа убили в Афинах (то есть он выпил цикуту по приговору суда) за то, что он уверял афинян в том, что они живут безнравственно. То есть Сократ нашел такую форму за счет мышления, где он стал говорить обществу правду, потому что, если 23 бы он лгал, его бы оставили в живых, я вас уверяю. А он начал говорить правду, причем ударяющую по корням, по основаниям всех живущих в Афинах людей. И за это афиняне приговорили его к смерти, и он подчинился закону Афин — выпил яд. И вот таким образом Сократ утверждал, что без мышления (общего, а не флюсового) такого достигнуть, к сожалению, нельзя. Для этого надо иметь особое, широкое мышление, чтобы такое осуществлять в действии. Из этих двух примеров следует, что мышление как таковое — это единственное, что обеспечивает нам занятие нравственной позиции в сегодняшнем очень изменчивом мире. Что означает нравственная позиция? Нравственная позиция — это позиция человека, ответственного за то, что происходит с человечеством или с сообществом людей, в котором он живет, в целом. А дальше возникает этическая оценка: надо этого — не надо, хочу — не хочу. Или, например, такая позиция: гори все огнем, эти соотечественники, потому что посмотришь, как они ведут себя в магазинах, женщинам не уступают места в троллейбусах, а если ты уронил ключ, тебе могут и на ухо наступить, — ну и пусть все мрут, как тараканы, а я лучше буду флюсом — специалистом в своей области, достигну Нобелевской премии, стану известным... Это не я так говорю, а Сократ. Есть несколько блестящих диалогов, где он это показывает. Однажды к нему действительно пришел один юноша и сказал: «Вы знаете, я просто поражен, что у нас есть такой совершенно сумасшедший муж в Афинах, который доказывает невероятную вещь, что если я не имею мышления, то я безнравственный. Да я сверхнравственный — всем обрядам служу, ни у кого никогда не украл ничего, все делаю «по чести». А Сократ ему пытался показать, что у него нет понятия о чести и поставил интересный вопрос: можно ли быть нравственным, не имея понятия о чести? Но здесь есть и более основательный вопрос, уже исторический. Он связан вот с чем. На мой взгляд, дело в том, что все основные результаты развития человечества были получены за счет мышления и людьми, которые культивировали мышление, а не профессионалами-флюсами. Именно поэтому их результаты первоначально не воспринимались. Например, Галилей, который фактически создал, на мой взгляд, физику как научный предмет. Его «Беседа о трех механиках» построена в форме диалогов, там есть три персонажа: Сагредо, Сальвиати и Симпличио, и они ведут разные беседы, друг над другом смеются, чаще Сальвиати смеется над Сагредо и Симпличио. Галилея за введение этой диалогической формы как раз и обвиняли в дилетантизме: дескать, вводит философскую форму, какие-то рассуждения ведет вместо того, чтобы заниматься вычислениями... Реплика: Он даже это более понятно делает... Или случай с Резерфордом. Когда к нему пришел журналист и попросил ему объяснить его теорию, Резерфорд был раздражен и кинул ему на стол свои рукописи. Журналист ничего не понял и в ответ кинул Резерфорду на стол свой блокнот — мол, разбирайтесь. После этого Резерфорд сказал такой афоризм: «Плох тот ученый, который не может рассказать уборщице в своем институте о том, чем он занимается». 24 Ю.В.: Правильно. С этим я согласен. Резерфорд был культурный человек, я его очень уважаю. Общался с Томпсоном, с Планком, который, фактически, был философом. Но тут возникает вопрос: а как проводить границу между профессионализмом и дилетантизмом? Этот вопрос более серьезный и он имеет прямое отношение к тому, что я обсуждаю. На мой взгляд, профессионализм в области мышления связан с культурой рассуждений, культурой умения выделять различения. А как профессионализм в области мышления связан с профессионализмом в предметных дисциплинах? Если человек культивирует мышление, например, Сократ, и задает наивные вопросы жителям по поводу того, нравственны ли они? Вы попробуйте спросить кого-нибудь на митинге о том, нравственны ли они. Я думаю, вас просто слушать не будут и побьют еще. А Сократ умел задавать эти вопросы так, что его слушали. И в этом смысле для меня несомненно, что он обладал профессионализмом в области мышления, то есть понимал, как мышление (вроде бы, казалось, такая тонкая субстанция и материя) устроено с точки зрения профессионализма. И второй вопрос, то есть второй пункт. Я-то считаю при обсуждении вопроса о мышлении в предмете (я, собственно, про это уже говорил), что профессионализм в области мышления является сверхпрофессионализмом по отношению к профессионализму анализа предметных форм. Когда мы развертываем мышление, то создаем определенные мыслительные приемы, за счет которых начинаем осваивать и формулировать предмет. И если мы при этом знаем, как мы строим мышление, при помощи которого осваиваем предмет, то здесь тоже возникает сложный вопрос: в какой мере я при этом формирую мыслительный профессионализм (меня при этом прежде всего интересует мышление), а в какой мере я схватываю суть предмета? Для меня это уже не дилетантизм, если я смогу ответить на вопрос о том, при помощи каких процедур Резерфорд построил пузырьковую камеру, и что такое вообще «пузырьковая камера» — просто прибор или схема определенного типа мышления, которая строится на определенных ограничениях, и я эти ограничения могу описать. Я при этом выступаю как мыслительный дилетант, который рассуждает ни о чем, или я вскрываю суть самой предметной формы, ее границ? С этой точки зрения, вопрос об освоении предметной формы мышления нас здесь и продвигает в самую суть. Теперь рассмотрим вопрос о том, как можно учить мышлению сегодня. В частности, как мы хотим учить мышлению в колледже, не разрушая, не уничтожая самой научной формы. Это уже как бы ответ на постановку проблемы, которую я здесь анализировал и обсуждал. На наш взгляд, это можно сделать следующим образом: дело в том, что во всех науках и научных предметах сегодня есть такого типа организованности и такого типа структуры, которые являются сквозными для разных предметов. Например, одной из таких структур является знание. Тут, правда, возникает, очень сложный момент. Если под знанием понимать просто слово, то из этого ничего не возникает. А если при этом считать, что знание это совершенно особая сущ25 ность, как, скажем, электрон, имеет такие же вполне определенные законы своего устройства, и при этом знание в физике по своему устройству отличается от знаний в химии или от знания в истории (то есть и здесь и там есть знания, есть принципы и законы их формирования, но при этом они отличны друг от друга), тогда получается, что по отношению к существующим предметам могут быть выделены другие предметы, которые как бы пронизывают существующую научную форму. И тогда наряду с обычными предметами, например, физикой, химией, биологией, я осваиваю какой-то совершенно необычный предмет, совершенно другой предмет, при помощи которого характеризуется и описывается мышление как таковое. Например, предмет (он имеет тоже греческое название) эпистемология или наука (теория) о знаниях, за счет которых я начинаю схватывать мышление как таковое. Есть еще один сложный вопрос: а как учить мышлению так, чтобы, с одной стороны, учить ему как живой способности, которую человек реализует в рассуждениях и постановке сложных вопросов, а с другой стороны — сохранять момент рационализма и не скатываться в дилетантизм? И вроде бы ответ простой, что принцип предметной формы должен быть перенесен на саму живую способность, то есть должно появиться очень хитрое новое образование. С одной стороны, это должно быть то, что я могу осуществлять и развертывать в любой ситуации, как здесь и сейчас, при этом я пользуюсь определенными техниками и правилами и могу вам дать об этом отчет. С другой стороны, сам этот живой процесс мышления, который демонстрируется и осуществляется, должен быть предметом изучения за счет создания особых предметов. Одним из таких предметов является, например, «Знание. Другим предметом является «Знак», поскольку во всех существующих науках можно было бы дать, исходя из этого предмета, свое определенное понимание того, что такое мышление. Существуют разные способы употребления знаков и схем. Математика — ведь это не что иное, как способ создания особого типа символов и правил их интерпретации, и больше ничего. И есть даже такие мнения среди современных математиков, что математика — это не наука вовсе, а язык, имеющий под собой основание. А дальше осуществляются просто конвенциональные договоры (между математиками) по поводу конструктивных возможностей преобразования этого языка. То есть я, например, куб выверну в призму и буду со всеми обсуждать вопрос о том, знают ли они, как такое можно проделать. А другой математик мне будет отвечать, что такое нельзя проделать в трехмерном пространстве, а можно в «n-мерном». И тогда возникает вопрос, чем мы занимаемся — математикой или анализом конструктивных возможностей языка, хотя есть и другие основания. Возможен, например, и такой предмет как «Задача», поскольку мы ведем речь не о текстовой задаче, которую мы имеем в учебнике, а о более сложном образовании, поскольку вся наука, например, фи28 зика — это умение решать разные задачи. Ту же самую пузырьковую камеру Резерфорда можно понимать как реализацию определенной задачи: понимать, скажем, трассу электрона, сделать эту трассу наглядной. И в этом смысле выделение задач, которые реализуются при помощи определенных процедур, представляет предмет «Задача». И, наконец, предмет «Проблема». Про проблему мы сегодня кое-что уже говорили, когда я перед вами ставил вопрос о том, как можно учить мышлению в колледже, или когда мы обсуждали вопрос о соотношении души и тела. Потому что это тоже проблема, поскольку она возникает из того, что нет единого объекта, за счет которого две столь разные сущности можно бы было соединить в единое целое. Но тогда что у нас, фактически, получается? Для того, чтобы учить мышлению, нам нужно иметь, по крайней мере, две предметные формы сразу, пропущенные взаимно друг через друга. Как правило, решение всякого сложного вопроса одновременно строится и на упрощении, и на усложнении — это уже из области методологии. Когда говорят, что все гениальное просто, то при этом схватывается одна суть, потому что одновременно с этой простотой возникают всякие сложности. В какую область мы ни обратимся, например, в автомобилестроение: с одной стороны, все очень просто — создается многопоршневой двигатель, а с другой стороны — через 100 лет после создания автомобиля происходит загрязнение окружающей среды. Поэтому всё зависит от того, на что смотреть: на полученный результат или на его отдаленное следствие. И здесь получается, что для того, чтобы обучать мышлению, наряду с существующей формой должна использоваться и культивироваться другая предметная форма, при помощи которой может анализироваться и характеризоваться само мышление, которое мы можем осуществлять как рассуждение, как решение задач и проблем. И при этом, исходя из каждого из этих предметов («Знание», «Знак», «Задача», «Проблема»), можно получить вполне определенную ценностную характеристику мышления. Можно сказать, что мышление — это не что иное (если мы со «Знака» начинаем), как особое искусство работы с символами, знаками и схемами, как способы создания этих схем, правила их интерпретации, анализа вопроса о том, когда за схемами стоит некоторый объект, а когда схемы просто пустые, являются графической живописью и им ничего не соответствует. И как должно строиться и организовываться сознание, чтобы удерживать весь набор различений, который задан этой схемой. И в разных науках, наверное, правила интерпретации будут разные. А если мы занимаемся предметом «Знание», можно сказать, что мышление — это не что иное, как способ работы с разными знаниями, и что оно устроено таким образом, что какие-то связки мышления упаковываются в виде знаний, а затем могут развертываться назад, втягиваясь в следующие процессы мышления. Мышление так и строится, когда мы из одних процессов дискурса переносим знание в другие процессы дискурса. И всё это можно проследить исторически: как всё осуществляется в истории, так человечество и живет. 27 А дальше очень важно выделять эти знания и понимать границы их употребления. Если мы занимаемся предметом «Задача», то можно сказать, что мышление — это способ и техника решения задач. Когда удается в соответствии с поставленными целями выделить набор задач и найти в каждой из задач решение в соответствии с целями, то вроде бы человек и обладает искусством мышления. И, наконец, занимаясь предметом «Проблема», можно сказать, что мышление — это не что иное, как постановка мировоззрения и до сих пор неразрешимых проблем, как способность выйти в такую область, где у человечества вообще нет ответов на эти вопросы, и кроме того, просматривать, как эти вопросы формировались в истории. А после этого возникает вопрос: а что есть мышление в целом, если оно есть и способ работы со знаком, и способ анализа знаний, и способ постановки проблем, и способ решения задач? 28 Лекция 2. РОЛЬ КАТЕГОРИЙ В ПРОЦЕССЕ МЫШЛЕНИЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Как показывают материалы историков философии и историков науки (прежде всего, работы Гайденко и ряда других ученых), категории «единое — многое», «тождество — различие», «покой — движение» и «бытие» были введены Платоном и принадлежат платоновскому способу рассуждения. То есть они принадлежат такому устройству мысли, которое характеризует, на основании анализа течения диалогов Платона, способы мышления, построенного Платоном. И второй момент, что категориальные формы «единое — многое», «тождество — различие», прежде всего, связаны с анализом оснований математического знания, которое возникло в Древней Греции и затем рассматривалось Платоном. С другой стороны, категории «единое — многое» и особенно категория «тождество — различие» настолько плотно вошли в саму структуру и форму мысли, что мы не замечаем их присутствия и даже в самых простых способах рассуждения опираемся именно на эти категории. И поэтому довольно трудно в небольшом разделе лекции, посвященной категориям, попытаться показать и выделить совершенно особый слой мышления, который, с одной стороны, нам хорошо знаком и мы владеем им на уровне автоматизма, поскольку используем нашу речь (в прошлый раз я говорил, что категориальные формы отпечатаны в самой речи, как, например, категория «род — вид»). Или когда мы, элементарно рассуждая, осуществляем формы классификации, 29 например, объединяя стул и стол в мебель, даже не задумываясь над тем, что за этими объединениями в языке стоят вполне определенные категории, в частности «род — вид». Здесь проявляется какой-то общий момент использования языка, когда мы не обращаемся к той толще образований, пронизывающих нашу речь, и которые очень часто определяют результаты нашего мышления. Мы в некотором смысле являемся автоматами, которые действуют по программам языка и программам каких-то элементов мысли, представленных в самом языке, и с этой точки зрения, как уверяет Гегель в «Философии религии», только очень высокий уровень образования позволяет человеку сделать предметом внимания и рассмотрения то, что является самоочевидным, как бы «самоданным». Другими словами, достаточно высокий уровень образования нужен не для того, чтобы поставить перед людьми какой-то сложный и мало понятный вопрос, а для того, чтобы обратить внимание на то, что представляется всем людям само собой разумеющимся, и поэтому у них даже не возникает вопрос: а как это может быть по-другому? И категории, как некоторые первоструктуры устройства мысли, являются в данном случае чем-то подобным, на что мы не обращаем нашего внимания. Рассуждения Платона, за счет которых он пытался эксплицировать, то есть сделать явным, показать роль категорий, прежде всего «единое — многое» и «тождество — различие», строились подобным образом. Способ рассуждения, который я здесь буду демонстрировать и описывать, а потом ставить вопрос о том, что такое категории, представлен, прежде всего, в диалоге «Парменид», где Платон и обсуждает роль категорий «единое — многое» и «тождество — различие». Парменид — это имя философа, представителя одной из древнегреческих философских школ, а именно школы элеатов (туда еще входил философ Зенон, известный своими парадоксами). Основное, что было сделано представителями этой школы, с точки зрения философии, — то, что они обратили внимание на обязательность для мысли такой категории, как «бытие». С этой точки зрения, название диалога не случайно, — здесь Платон отсылает читателя к определенным направлениям философской мысли, которые существовали до него. Основная тема рассуждения Платона в этом диалоге — как вообще возможно «единое», и обладает ли «единое» бытием, то есть некоторым существованием, которое «единому» можно приписать. Эта сложная философская фигура принципиальна, потому что всякого типа высказывание, которое мы связываем с мышлением, характеризуется тем, что в этом высказывании мы что-то утверждаем. Например, простейшее утверждение, которое, с точки зрения формальной логики, описывается связкой субъект — предикат (здесь есть некоторый предмет утверждения и этому утверждению приписывается определенный атрибут, например: «Иван есть человек» или «Собака есть животное», если мы используем категорию «род — вид»). В такого вида простейших высказываниях для того, чтобы утверждение состоялось, субъект этого высказывания должен обладать статусом существования и неизменностью. То есть если в данном высказывании речь идет 30 об Иване, то субъект высказывания по требованиям формальной логики должен обладать самотождественностью. Но дальше возникает следующий момент. Если мы берем субъекта, обладающего принципами самотождественности, то этот субъект всё время тождественен себе, и мы не можем поместить его в связке ни с какими другими субъектами. Потому что, если мы рассматриваем высказывание «Иван есть человек» или «Собака есть животное» — то мы начинаем брать собаку, как что-то единое, начинаем использовать категорию «единое». А когда «собака» есть нечто законченное, самой себе принадлежащее, не выходящее за свои границы и пределы, то мы не можем подставить данный предикат — собаку или Ивана — к каким-то другим элементам и сущностям, за счет которых мы могли бы сделать подобное отождествление. В принципе, категория «единое», на что обращает внимание Платон, требует самодостаточности и характеризуется самосуществованием. Она не может быть отождествлена. А ведь в сущности всякого высказывания и всякого суждения лежит принцип отождествления. В данном случае в этих двух высказываниях предикаты (в первом — Иван, во втором — собака) отождествляются с чем-то иным. И, следовательно, указывается на то, что предикат в первом суждении и предикат во втором суждении (то есть Иван и собака) есть, по сути дела, нечто иное, нежели то, что они есть сами по себе. И вот на этот самый, вроде бы «первоисходный» момент всякой мысли, поскольку всякая мысль движется суждениями, Платон в «Пармениде» и обращает внимание. Так как есть нечто, наделяемое статусом существования, и утверждается, что оно единое, то есть тождественное самому себе, следовательно, это образование не может быть ничем другим. А сам способ нашего рассуждения каждый раз строится таким образом, что мы что-то к чему-то относим, связываем с чем-то другим и за счет этого делаем суждение. Например, утверждаем, что чашка есть посуда, стол есть мебель, Иван есть человек и т.д. Таким образом, мы начинаем говорить про что-то одно, в данном случае про собаку или человека, а переходим к чему-то другому. Этот момент и является тем, что рассматривается при помощи категории «единое — многое». Вроде бы мы начинаем с чего-то одного, а каждый раз за счет суждения, за счет цепочки тех отождествлений, которые мы строим, приходим к многому, то есть к расширению круга того, с чего начали, приписывая исходному субъекту, который анализируем, новые атрибуты. Другими словами, мы выходим за первоначальный круг понятий, с которыми начали работать. Вроде бы это и определяется категориальным отношением «единое — многое», то есть элементарной счетностью, для которой даже не нужно использовать сложную операцию пересчета, потому что отличить единое от многого можно за счет непосредственного видения. То есть мы непосредственно своими глазами видим и всегда легко определяем одно это или многое, точно так же и в мысли. Следовательно, категория «единое — многое» направлена, с одной стороны, на то, чтобы мы элементарно ориентировались в том суж31 дении, которое строим и в котором связываем смыслы. А эта элементарная ориентировка связана с чем? На какой вопрос мы каждый раз себе отвечаем? Речь в данной мысли идет про что-то одно или про много чего-то разного? За категорией «единое — многое» стоял ряд представлений, которые вырабатывались в различных философских школах и которые Платон, безусловно, знал и в создании этой категории точно так же принимал в расчет и обращал на это внимание. В частности, существовала такая загадочная и до сих пор плохо исследованная, несмотря на большое число работ, философская пифагорейская школа (по имени ученого Пифагора — основателя традиционной математики). Она обладала достаточно сложными представлениями о числе. Эта школа по своему типу была закрытой (тайной, наподобие оккультизма — закрытого эзотерического учения, где человек, причастный к этому учению, за разглашение его тайн подвергается различным наказаниям вплоть до смертной казни). В частности, пифагорейский союз философов имел такой закон, по которому любой член этого союза за вынос знания во внешний мир, за передачу его людям, не посвященным в таинства этого союза, карался смертью. Таким образом это знание специально охранялось. Так вот, у пифагорейцев было достаточно сложное представление, что каждое число характеризуется своей определенной геометрической фигурой. С точки зрения пифагорейцев, числа — это фигуры. По крайней мере, в десятичном ряду каждое число характеризуется определенной фигурой. Это один момент. Число у пифагорейцев носило в себе и другой элемент, сейчас, например, отделившийся в нашем мышлении от категории числа. Это категориальная пара «определенное — неопределенное». Числа в пределах десятка — так называемые собственно пифагорейские числа, обладающие геометрической символикой, — считались благими числами именно потому, что они обладали определенностью. При этом началом всех этих чисел, порождающим принципом являлась единица. Существовали определенные правила порождения этих фигур, которые располагались в пределах десятка. А «многое» характеризовалось у пифагорейцев как неопределенное. Оно как бы уже являлось не самим числом, а тем, что выходило за ряд хороших (благих) чисел и не могло быть измерено и исчислено как таковое. Платоновское «единое» распространялось на ряд этих благих чисел, потому что сохраняло свою определенность в процессе мысли. Для Платона мышление носило этический характер (это для нас мышление является каким-то интеллектуальным операционализмом или тренингом, где можно делать любого типа суждения, замыкать друг с другом разные слова и приходить к тем или иным выводам). Платон и ряд других философов Древней Греции (к ним относились и пифагорейцы, и элеаты) считали процесс мышления строго этическим процессом, нравственным и религиозным действием. По их убеждению, без отношения к Богу акт мышления просто не мог состояться. А «единое» обладало характеристиками чего-то благого, то есть совершенного, хорошего, этически правильного. Когда человек осуществляет некоторое 32 этическое действие, то оно не распадается на части, не уничтожается со временем, а обладает характеристиками законченного, совершенного, пребывающего постоянно. Категории «бытие» и «единое» характеризуются этим моментом постоянного, вечного пребывания и, следовательно, являются благими, то есть тем, что существует и сохраняется во времени, не исчезает внезапно, не распадается на части. В этом плане категория «единое» обладает всеми характеристиками, связанными с моментом пребывания, с моментом совершенства и безвременного, то есть вечного, существования. Противоположными характеристиками обладает категория «многое». Это всё то, что человек не может охватить взглядом, собрать во что-то единое. Следовательно, «многое» существует в пространстве и времени — может разрушаться, исчезать, обладает признаками несовершенства. Но сама категориальная пара «единое — многое» построена на противоречии, то есть на взаимоисключающем отношении двух элементов — единого и многого. И оказывается, для того, чтобы осуществить некоторую мысль, я должен мысленно конституировать нечто единое и всё время себя проверять: говорю ли я про что-то одно? И тем самым в мысли удерживать нечто в неизменном состоянии. То есть я как мыслящий субъект всё время считаю, например, в случае простого утверждения «Собака есть животное», что вкладываю в слово «собака» вполне определенный смысл. И тем самым конституирую, то есть строю субъект этого высказывания как нечто неизменное, постоянно сохраняющееся и, следовательно, в каком-то смысле совершенное. И оно, по крайней мере, в структуре моей мысли (в структуре моего напряженного мыслительного усилия) обладает характеристиками законченного, самосохраняющегося, вечно существующего образования. Для больших греческих умов, каким являлся Платон, мышление было в каком-то смысле религиозным актом. Но только не в превращенной форме. Потому что сейчас у нас, когда мы говорим о религии, первые ассоциации возникают совершенно не те. Поэтому я бы хотел от этих ассоциаций наши мысли очистить. Ведь слово «религиозное» — в прямом этимологическом смысле означает «связанное» (слово «религия» в переводе с лат. — «связь»). Под религией всегда понималась связь, добровольно организуемая самим человеком с предшествующими поколениями, которых уже нет. Человек должен был за счет каких-то ритуалов, обращений, за счет приведения себя в какие-то состояния построить связь самого себя, как находящегося здесь и теперь, с людьми, которые уже ушли, которых нет. А в дальнейшем и с Богом, то есть с тем, что существует, пребывает вечно. Для Платона акт мысли (и с этим связана категория «единое») обладает элементом религиозного нравственного действия, поскольку если я, например, этого не сделаю за счет своего усилия, то мысли не будет, всё будет путаться, смешиваться, разрушаться. За счет своего усилия мысли я должен субъект своей мысли конституировать как нечто устойчивое, единое. И пока я это в мысли конституирую, пока я слежу за этим, то я понимаю, в данном случае, например, предикат «собака» во впол33 не определенном смысле. И если я слежу за тем, чтобы у меня этот предикат не менялся, в него не вносились новые смысловые оттенки, то в структуре моей мысли этот предикат существует как нечто единое — самодостаточное, пребывающее, не разрушающееся, то есть как благое. Собственно, задача моего мыслительного состояния и заключается в том, чтобы вызвать к существованию субъект, который является благим. Такой строй мысли принадлежал элеатам, в частности Пармениду (по имени которого и называется этот диалог). И он прежде всего связан как бы с другой категорией — «бытие». Потому что когда я конституирую «единое» как существующее, как пребывающее, как неизменное, как благое, то я тем самым ему придаю статус бытия. Это как бы один срез мысли, один тип мыслительных состояний и один тип усилий, который мысль как таковую конституирует. Но в тот же период времени существовала совершенно другая философская школа, которая всё делала прямо противоположным способом. И собственно формирование науки — один из узелков, откуда пошла наука, связывается именно с этой школой. Это школа софистов, то есть учителей мудрости. Софисты рассуждали совершенно иначе, чем элеаты, а затем и Платон. Дело в том, что в религиозных союзах, каким являлся, например, пифагорейский союз, знание считалось священным и его разглашение каралось смертью. И вопрос о том, что кому-то знание можно передавать, вообще не стоял, его передавать категорически запрещалось. А так как человек добывал это знание за счет очень напряженных, почти монашеских усилий (пифагорейский союз строился наподобие известных нам средневековых монашеских орденов), то он при этом осуществлял определенные ритуалы поклонения древнегреческим богам. С другой стороны, совершенно точно известно, что сам Пифагор был хорошо знаком с древнеегипетскими заповедными эзотерическими книгами, прежде всего с египетской «Книгой мертвых». За всем этим стоит нам плохо понятный и незнакомый ареал культуры, связанный с культовыми образами Древнего Египта, то есть вообще-то навсегда исчезнувшей для нас древнейшей цивилизации. Потому что оставшиеся надписи на пирамидах — очень маленький след той ушедшей цивилизации. Но есть ряд очень интересных работ, где всё строится на основании надписей на гробницах. Ряд ученых, которые профессионально занимаются этим делом, утверждают, что это была совершенно особенная нация, у которой существовал гораздо более развитый, чем у древних греков, культ ушедших или умерших. Собственно вся жизнь в Древнем Египте была подчинена мыслям об умерших, о смерти, то есть это была совершенно особая цивилизация, до сих пор нам не ясная. Представители пифагорейского союза очень хорошо это знали, поскольку сам Пифагор много путешествовал и неоднократно бывал в Египте. Поэтому знание для пифагорейцев было священно. А это значит, что человек в какомто совершенно особом акте, соблюдая определенные обряды, то есть очищая себя, устанавливает связь с какими-то другими цивилизациями, мирами и по34 лучает знание. Поэтому передавать знание обыкновенному человеку, который не очищен, не посвящен, пифагорейцы считали преступным и опасным делом. Потому что знание может погубить, свести с ума. Но параллельно с пифагорейцами возникали другие философские школы (и если бы они не возникли, то, по всей видимости, не было бы европейской цивилизации как таковой, или она имела бы какую-то другую форму). Представители этих школ считали, что знание можно продавать за деньги и знанию можно учить всех желающих. Фактически первыми, кто это сделал на практике, были софисты, которые выступали как учителя мудрости и утверждали, что знанию можно учить. Они признавали, что есть союзы, где знание магически мистически добывают и берегут от посторонних людей, но считали, что знание становится в руках умных людей чудесной силой. Хотя еще не было знаменитого высказывания «знание — сила» (эти слова принадлежат английскому философу Бэкону), но к подобному пониманию древние греки были очень близки. В то время довольно часто умные, доказательные речи звучали в афинском суде, на агоре, на площадях с ними выступали правители, по стране бродили мудрецы-философы и вели остроумные беседы о нравах... Поэтому греки поняли, что обученный, образованный человек, который может правильно построить свою речь, даже если совершит какое-то отступление от закона или преступление, сможет доказать свою невиновность в суде, а политик — оправдаться в глазах своих сограждан. Он может ввести в какое-то особое состояние толпу, привлечь ее на свою сторону. Поэтому знание начали ценить, а знания стали передавать. Но, как известно, софисты доводили этот момент с передачей знания до определенного, непонятного представителям других философских школ момента. Они утверждали, что если овладеть принципами доказательства, то можно доказать прямо противоположные вещи. И всё определяется не истиной того предмета, по поводу которого строится доказательство, а самой техникой и приемами доказательства как таковыми. То есть если человека научить искусству доказательства, то он может доказывать абсурдные, противоположные здравому смыслу вещи, что черное есть белое, что твердое есть сухое, и т.п. И были представители софистических школ, которые учились и учили других такого типа и такой формы доказательствам прямо противоположных вещей. При этом отношение к софистам очень неоднозначно как у современных исследователей, так и на протяжении всего развития европейской мысли. С одной стороны, «софист» у нас считается бранным словом, то есть софист — это человек беспринципный, который может запутать за счет специальной техники рассуждения любую мысль и увести любого собеседника от истины. И под этим есть определенные основания, хотя очень важно понимать, что сейчас, когда мы говорим «софист», то имеем в виду человека, который начал строить свою мысль и запутался в определениях. Но здесь речь идет о совершенно другом, о том, что софисты всё это делали сознательно. Например, две или три софистических школы учили разных молодых 35 людей, прекрасно зная, что в дальнейшем эти молодые люди могут стать конкурентами, представлять, скажем, разные стороны в суде. И поэтому каждый из учителей-софистов учил молодого человека не только строить и доказывать свою мысль, но и разбивать другую, тем самым превращая процесс мышления в некое подобие ристалища или борьбы. И он должен был учить правилам разрушения чужой мысли, запутыванию чужой мысли. Это, в принципе, были элементы некоторой мыслительной борьбы, которым специально учили. Постоянно подчеркивалось в критике софистов, что они — это такой особый тип людей, которые умышленно за счет специально разработанных приемов запутывают процесс мышления. Под этим есть определенные основания, только всё это делалось на достаточно высоком техническом уровне, не както коряво, а блестяще и целенаправленно. Но есть в деятельности софистов и совершенно другой, положительный момент. Фактически, софисты — это первые профессионалы в Европе, которые стали передавать знания, учить людей. И поэтому перед ними встал совершенно особый вопрос, возникла совершенно особая проблема, которой не было у элеатов. А именно: каким образом субъект приходит в соприкосновение со знанием? Например, человек чего-то не знал, и как он, чего-то не зная, начинает приходить в соприкосновение со знанием и приобретать какие-то его характеристики, если до этого ими не обладал. Нужно было объяснить этот момент взаимодействия человека с тем, что для него что-то было закрыто и неизвестно, а после какого-то абсолютно загадочного момента, например, какого-то живого общения или спора он вдруг начинает обладать какими-то характеристиками знания. Это был момент той практики, с которой имели дело софисты. Для пифагорейцев, для элеатов момент приобретения знания был священным, тайным и закрытым. То есть человек приобретал знания в процессе, чем-то очень похожем на молитву, когда он один осуществлял какой-то ритуал, нравственное мистическое действие, которое в общем-то было тайной. Если у пифагорейцев всё это осуществлялось самим человеком наедине либо с вечностью, либо с Богом, то для софистов это был момент повседневной практики. Приходилось многое делать в массовом порядке, иметь дело с людьми, которые ничего не знали, но пришли к ним приобретать знания, и поэтому момент получения знаний у софистов был публичен, был каким-то общим моментом их работы. И поэтому им приходилось постоянно иметь дело с тем, как субъект приходит в соприкосновение с какими-то элементами того, что он не знает, и начинает это незнаемое превращать в знание. За этим стоит совершенно другой, отличный от пифагорейцев и элеатов, стиль мышления, совершенно другой элемент мыслительных состояний и способа мыслительной работы. Таким образом, для того, чтобы приобрести знание, я себя должен привести в некоторое соответствие с тем, что я просто должен сделать своим, или присвоить себе. Поскольку, в соответствии с рассуждением элеатов, я в мышлении должен осуществить некоторое нравственное действие и предмет моей мысли конституировать, удерживать как пре36 бывающий, целый, неизменный и поэтому благой. И я как бы отвечаю за сохранение предмета мысли: пока существует предмет в мысли — он есть и он есть вечно, а как только я его отпустил, он начнет жить по своим законам, исчезнет, распадется, его не будет. И поэтому здесь на передний план выходит удержание предмета мысли как сохранного, целостного, самим этим актом мысли. А в соответствии со стилем рассуждения софистов всё совершенно иначе. А именно: я себя сознаю как человека, который нечто не знает и должен привести себя в состояние с чем-то другим, чем я. И в результате приведения себя в соответствие с этим другим, чем я, выудить из этого неизвестного какие-то характеристики и особенности, которые в результате этого выуживания или приобретения я теперь буду понимать и знать. Таким образом, эти два стиля мышления начали сталкиваться. Первый способ, который принадлежит элеатам, в частности, Пармениду, связан с тем, что для того, чтобы что-то существовало в мысли, человек должен сам удерживать предмет своей мысли, то есть идеальный предмет как нечто неизменное, сохранное и единое (не исчезающее во времени и пространстве, не распадающееся на части). Но ясна и другая сторона дела: если человек это единое удерживает как ценное, он не приобретает ничего нового и ничего не познаёт, то есть не приобретает новое знание, на что обращали внимание софисты. И вот из соединения этих двух стилей мысли и рождается совершенно особое понимание категориальной оппозиции «единое — многое», которое создает Платон. С точки зрения Платона, всякая мысль является противоречивой, то есть построена на одновременном осуществлении двух прямо противоположных и исключающих способах движения. Первый стиль действия связан с тем, что в мысли должно конституироваться единое, нечто неизменное, пребывающее и сохраняющееся, но для того, чтобы осуществлялся процесс мышления, это единое должно быть приведено в соприкосновение, поставлено в отношение к чему-то иному. И с этим иным должно быть отождествлено. Только в этом случае единое начинает приобретать некоторые новые характеристики, которыми оно не обладало для человека до этого акта соотнесения с чем-то иным и другим. В принципе, с определенной точки зрения кажется, что никакого здесь противоречия нет. Потому что всё строится на двух, сложно связанных, но вполне законных актах мысли: мне нужно конституировать собственно предмет мысли и сделать его неизменным. И второй атом, или неделимое такое образование мысли заключается в том, что я к этому неизменному, неделимому должен присоединить ряд интересующих меня новых характеристик. И тем самым расширить границу понимаемого и воспринимаемого мною единого. То есть, фактически, должен к чему-то мне ясному, что я конституировал, добавить некоторые новые характеристики. И это я вроде бы могу сделать, если сохраню здесь оба стиля рассуждения и движения. Потому что, если то, к чему я, собственно, прибавляю новые характеристики, для 37 меня будет постоянно меняться и плыть, исчезать, то становится совершенно неясно: эти новые характеристики добавлены к чему-то определенному, что я до этого знал и область представления о чем я просто расширяю, или мое внимание просто переместилось с одного предмета на другой? Это основной момент. Потому что процесс мышления вроде бы характеризуется тем, что я восстанавливаю новые характеристики для некоторого идеального предмета, который конституируется, то есть создается мною в мышлении. Но при этом есть постоянная опасность выпасть из процесса мышления, например, в другой процесс — процесс восприятия. Мой взгляд блуждает по комнате, я могу выделять какие-то характеристики у цветов, которые перед моим взором. Потом взгляд перемещается на стену, я начинаю выделять некоторые характеристики стены и при этом, поскольку это всё происходит со мной, в моем поле восприятия, я могу связать мое такое блуждающее внимание или блуждание взором с процессом познания или с процессом мышления. Точно так же может произойти и в мысли: я утеряю единый предмет мысли, перемещусь на другой, а словесно могу обозначить одним и тем же словом. Поэтому, вроде бы, мысли не будет, а будет некоторое блуждание мысли по предметам, которые я обозначаю единым словом. И, следовательно, здесь налицо какой-то другой акт, но не процесс мышления. Поэтому очень важно, чтобы произошли оба момента. А именно: 1) чтобы конституировался, то есть был выстроен предмет мысли, за неизменностью которого я все время слежу. Но если я удерживаю только конституированный, то есть выстроенный и созданный мною предмет мысли, то, следовательно, я нахожусь в каком-то состоянии заторможенного и жестко фиксированного внимания. И при этом не привлекается каких-то новых признаков к тому, что я уже знал. Потому что греки прекрасно понимали следующее (это они, собственно, брали/из области математики): я знаю то, что я выстроил. Но тогда, если я что-то выстроил и всё время в мысли выстроенное мною удерживаю как познанное, следовательно, я не осуществляю никакого процесса мышления, движения нет. И поэтому я должен решиться на следующий какой-то странный акт. А именно: 2) от того, что выстроено перейти к тому, что я еще не знаю. И эти новые характеристики начинать привлекать к уже выстроенному. Но если это так, если мысль характеризуется подобным образом, то, следовательно, она есть какое-то взаимно противоречивое соотношение категорий «единое — многое». Потому что есть предмет мысли, который единый, и я постоянно предмет мысли отождествляю и устанавливаю соответствие этого предмета мысли с чем-то другим. И, следовательно, уже имею дело со многим. Собственно, вот этот момент и вызывал какой-то очень большой исследовательский и познавательный интерес, а также интерес, связанный с желанием понять, что это означает для Платона. Потому что это, собственно, и было по большому счету Платону неясно. Более того, Платон как бы утверждал, что это не ясно никому. И есть люди, которые считают, что это не ясно 38 никому до сих пор, и что в этом, вроде бы, и заключается загадка мысли. Просто человек, который мыслит, с одной стороны, всё время стремится выполнить закон тождества, то есть предмет мысли в процессе его рассуждения остается неизменным, а с другой стороны — он всё время это неизменное подводит под новые и новые характеристики и тем самым постоянно расширяет исходно построенный, сконструированный им предмет. И, собственно, вот этот момент и казался Платону таинством, но только не религиозным, и в этом заключается еще больший парадокс. То есть это не нечто мистически скрытое, а то, что всё время делается у всех на виду. Потому что, во-первых, Платон опирался на ту древнегреческую культуру, которая его окружала. А это результат развития нескольких веков, а может быть и тысячелетий. И, во-вторых, Платон развивался и созревал как философ под влиянием безвременно ушедшего Сократа, который был гением мысли. Поэтому он знал, что такое мысль. И вот этот, собственно, момент мысли, когда вроде бы человек одним актом конституирует и удерживает мысль в процессе всего рассуждения, как что-то неизменное, а при этом постоянно осуществляет некоторое ее расширение за счет введения новых характеристик, по смыслу рассуждения устанавливая связь этого неизменного с чем-то другим, и всё время как бы движет и смещает границу мышления, был для Платона некоторой загадкой. Загадкой в том смысле, что возник вопрос: а как же это делается, если эти два акта взаимно противоречивы? То есть мысль при этом не противоречива, она подчиняется закону «непротиворечивости» — закону тождества, а то действие, которое осуществляет человек, — противоречиво, так как оно построено на исключающих друг друга актах и взаимно погашающих его усилиях. Собственно к этому моменту мы всё время будем возвращаться, потому что он, видимо, характеризует исток мысли и мышления, который как бы пронизывает всю европейскую форму мышления. Он уже содержится, как я обратил ваше внимание, в элементарной связке суждений. Тут, правда, важно иметь в виду, что был приведен простейший пример. А есть еще принципиальный вопрос: осуществляется ли мышление в суждениях? Потому что есть множество людей, которые утверждают, что подобные связки «Собака есть животное» — это форма, в которой мышление умирает или останавливается, или фиксируется. Но всё равно, даже в таком элементарном процессе, в котором мы постоянно проговариваем некоторые результаты нашего мышления, всё время имеет место это странное соотношение между единым и многим. Одновременно, как вы, может быть, уже догадались, эта категориальная пара «единое — многое» сопровождается другой категориальной парой, которая развертывается параллельно и одновременно с ней и точно так же позволяет отличить мысль от «не мысли». И вот эта возможность отличить мысль от «не мысли» характеризуется словом «нормирует». То есть, позволяет установить нормативный (связанный с нормой, законом) характер мысли. Это категориальное 39 отношение «тождество — различие». Оно как бы идет вслед категориальному различению «единое — многое», но характеризует несколько другой момент. Поскольку «тождество — различие» характеризуется тем, что в самом акте утверждения, например «Собака есть животное», человек добивается опять же двух взаимоисключающих вещей. Потому что, когда я говорю «Собака есть животное», я отождествляю собаку с животным. И вроде бы подвожу вид (собаку) под определенный род (животное). Но я могу осуществлять это отождествление только в том случае, если исходно принимаю, что и первое, и второе является различным. То есть я могу строить процесс отождествления и установления связи двух образований как единых, конституировать их как тождественные только предварительно установив для себя, что они различны. Потому что отождествлять одно и то же, вроде бы, бессмысленно. И даже такой мыслитель, как Платон, не смог этого проделать. То, что он конституирует как единое, как тождественное самому себе, он вроде бы не может отождествлять, потому что не может то, что для него существует как единое, отличать от самого себя. Оно потому и единое, что обладает характеристиками неизменности и от самого себя не отличается. Но процесс мышления и построен как раз на том, что я выделяю в мысли исходно различное и, следовательно, «многое». При этом различное не есть многое. Поскольку оно характеризуется совершенно другим. Вот здесь начинается уже следующий сложный момент. Потому что Платон одновременно характеризует категорию «единое — многое» (Е — М) целой связкой других категорий. В частности, начинает вводить категорию «тождество — различие» (Т — Р) для описания процесса мысли. Хотя эта категория и подстраивается к первой категории «единое — многое», но она отлична от этой категории, она с ней не тождественна. И поэтому начинает задавать какие-то совершенно другие операции, хотя и опирается на результат введения первой категории. Итак, есть категории Е — М и Т — Р. Для того, чтобы вводить Т — Р, нужно результатами первой категории Е — М как бы владеть. Потому что для того, чтобы нечто различать или утверждать о тождестве чего-то, нужно владеть пониманием категории единого или самодостаточного существования предмета, который не изменяется во времени, пребывает и не разрушается. Но при этом категория Т — Р, в отличие от категории Е — М, позволяет относительно мысли, которую мы рассматриваем, производить какие-то аналитические действия. В этом смысле, становится уже немного понятно, что категория — это особого вида образование, которое позволяет превращать мысль, или элемент мысли, в предмет рассмотрения и изучения. В такой же предмет рассмотрения и изучения, как, в общем-то, вещь. Хотя мышление по определению — не вещь, а совершенно другое явление. И мы прекрасно знаем, что чувственная вещь, то есть предмет, который обладает определенными характеристиками для наших ощущений, наших органов чувств, это совершенно иное, чем предмет 40 мысли, который мы конституируем в процессе мышления и выделяем для него всё новые и новые характеристики. Но категория — такое странное образование, неуловимое, самодвижущееся, существующее в каких-то формах озарения, рассуждения, словесных проговорах, то есть в речи. И то неуловимое, которое обладает моментами исчезновения и какого-то движения, собственно, категория и позволяет сделать уловимым, вполне определенным и начать конституировать, то есть выстраивать, задавать как что-то устойчивое и единое. С этой точки зрения, категория Е — М позволяет выделять в процессе мышления, рассуждения один аспект, а категория Т — Р совершенно другой. Категория Е — М позволяет обращать внимание на то, что происходит в нашей мысли с предметом самой мысли (мыслительным предметом), как мы его конституируем, как к этому предмету мысли привлекаем или не привлекаем новые характеристики. А категория Т — Р позволяет относительно мысли выделять совершенно другое: не предмет мышления, а фактически ключевую форму, в которой процесс мышления осуществляется. Потому что мы различаем и отождествляем, как правило, разные понятия, которые выражены в тех или иных терминах или словах. И, собственно, различие или отождествление мы чаще всего осуществляем в речи. В данном высказывании «Собака есть животное» мы слово «собака» отождествляем со словом «животное». В принципе, мы отождествляем и различаем слова. Другое дело, если мы движемся не просто в словах, и для нас мышление есть не только слова, но и то, что стоит за словами, за самой речевой формой, за самим процессом говорения есть какая-то мысль, то тогда у этой мысли есть предмет. Получается, что мы вынуждаем одновременно по отношению к мысли использовать и употреблять две разные категории в совершенно разных аспектах, но которые в конце концов как-то пересекаются. Поскольку оказывается, что есть, с одной стороны, речевая форма мысли, а с другой стороны — предмет мысли. И возникает такой интересный парадокс, что вроде бы проникнуть к предмету мысли иначе, чем через речевую форму мы не можем, потому что я с вами говорю на языке и вы можете понять мой предмет мысли, только как-то относясь к речевой форме. По-другому невозможно. И проникнуть в мышление вне языка — безнадежное дело. Мысль имеет такой закон, что всегда в ней существует «проклятие языка». С самого начала мышление строится так, что предмет мысли как бы «обернут» в структуру слов, приведен в соответствие с речевой формой. Но для того, чтобы осуществлялось мышление, речевая форма и предмет мысли должны строиться по определенным законам, или нормам, то есть быть нормированными. Так вот, оказывается, что категория Е — М нам позволяет всё время просматривать речевую форму мысли и, с этой точки зрения, 41 захватывать процесс мышления с двух совершенно разных слоев. Первая категория позволяет нам, с одной стороны, самим понимать, как строится идеальный предмет мысли, то есть предмет мысли в процессе рассуждения конституируется как что-то единое, самотождественное, неуничтожимое, и мы ответственны за то (сами себе не врём в процессе своего мышления), что для нас этот предмет тождественен, а с другой стороны —- приводим этот предмет в отношение и в соприкосновение с другими характеристиками, которыми он исходно не обладает. Но при этом результаты своего мышления выражаем в речевой форме, делаем утверждения типа «Собака есть животное». И здесь, для того чтобы выражать результаты работы с нашим предметом мысли, мы вынуждены разотождествлять и отождествлять разные понятия. А чтобы что-то отождествлять, мы должны проделать предварительную работу, то есть создать или ввести набор различений — разотождествлений. И одни их этих различений оказываются для нас важными, а другие — нет. И, собственно, ответ на вопрос о том, какие различения и почему являются для нас важными, а какие не важными, и определяется, с одной стороны, той задачей, которую мы в мысли решаем, а с другой стороны, мы можем это увидеть за счет категории Т — Р. Собственно, эта категория и обращает наше внимание на то, что мы в мысли отождествили, что привели в соприкосновение и сказали, что А есть В. То есть, фактически, стали утверждать, что А — то же самое, что В, и показывать, на какой основе различения, исходно различив А от В, мы это утверждение стали строить. Здесь возникает следующий очень интересный момент, который, собственно, и просматривается в диалоге Платона «Парменид». И он связан с тем, что в приведенном выше случае отождествления в какой-то мере само отношение категорий Е — М и Т — Р друг с другом может строиться и определяться при помощи самих этих категорий. В этом смысле категории еще интересны тем, что они могут быть обращены сами на себя. Ведь что происходит? В том случае, когда я начинаю мышление описывать как некоторый целостный феномен при помощи категорий Е — МиТ — Р, то, с одной стороны, должен добиваться того, чтобы я при этом всё время рассматривал процесс мышления, а с другой стороны, начал утверждать, что процесс мышления характеризуется тем, что он имеет предмет мысли и речевую форму мысли. И, следовательно, процесс мышления уже здесь выступает как «многое». (Я просто вам демонстрирую, что то, по поводу чего мы рассуждаем, точно так же нормируется этими категориями.) Фактически, я всё время характеризую мышление и непрерывно вынужден добиваться тождества того, о чем говорю. С другой стороны, само мышление, оказывается, характеризуется взаимно противоположными, разными вещами — предметом мысли и речевой формой, которая этот предмет мысли выражает. И здесь опять выступает необходимость использовать категорию Е — М. Потому что данная категория позволяет задать следующий вопрос по отноше42 нию к «многому»: если я при этом говорю о процессе мышления как о чем-то едином, то за счет чего «многое» существует как «единое»? В этом, собственно, основная роль, основное назначение категории Е — М. Другими словами, если в процессе своего рассуждения я по отношению к некоторой единой характеристике исходной помечаю несколько характеристик, то есть «многое», то категория Е — М начинает использоваться так: она ставит вопрос о том, на основании чего я утверждаю, что это выделенное «многое» для меня существует как «единое», и тем самым позволяет продолжать процесс рассуждения. Это важнейший способ постоянного удержания и контроля собственной мысли за счет этой категории. Таким образом, двигаясь в процессе рассуждения и усложняя исходный предмет мысли, я ввожу новые характеристики или вскрываю его другое устройство. Но вскрывая его другое устройство, осуществляю мысль только в том случае, если выделенные многие характеристики по-прежнему существуют как что-то одно. И, собственно, категория Е — Ми позволяет задать вопрос: если я рассуждаю по поводу процесса мышления, то на основании чего введенные две разные характеристики мышления (а именно, что всякое мышление имеет предмет мысли и имеет речевую форму мысли) по-прежнему для меня существуют как «единое». Собственно выход из создавшегося положения — в признании противоречий (мы в прошлый раз тоже обсуждали момент с противоречиями). То есть я опять всё привожу к противоречию и тем самым использую категорию Е — М, чтобы построить процесс проблематизации. А для того, чтобы стало ясно, что это процесс проблематизации, нужно ввести мысль оппонента. Потому что оппонент должен сказать: «Не получается никакого единого, речевая форма мысли — это одно, а предмет мысли — другое. Поэтому действительное многое — это разное». Например, нам всем ясно, что человек может что-то говорить, это его речевая форма, мы ее можем как-то отдельно анализировать и замечать, когда мы его слушаем, какие он использует понятия, слова и как он эти слова приводит в соприкосновение друг с другом. Можем характеризовать его речь: она может быть у него путаной, несвязной, а может быть наоборот — гладко выстроенной. А предмет мысли — то, что мы можем извлечь из его речи, — это совершенно другое. Человек может внятно, развернуто и красиво говорить, а извлечь из его слов мы, фактически, ничего не сможем. Поэтому в общем-то никакого «единого» нет, а есть разное: речевая форма мысли и предмет мысли. Ход моего рассуждения понятен: по поводу сказанного я применяю категорию Е — М для того, чтобы столкнуть категориальную оппозицию, которая в ней содержится, относительно выделенного и анализируемого нами предмета. Но выход из этой ситуации относительно Е — М для меня элементарен, потому что в данном случае «единое» для мышления осуществляется за счет того, что человек, который строит мысль, по определенным законам может отождествлять речевую форму с тем предметом мысли, который в этой речевой форме содержится. 43 В этом смысле, правильное мышление характеризуется тем, что я добиваюсь такой различенности, или такой организации понятий в моей речевой форме, такого уровня различения, разделения понятий, чтобы они соответствовали и четко выражали тот предмет мысли, который я намереваюсь в этой речевой форме высказать, сообщить. Поэтому, что можно ответить тому оппоненту, который бы сделал это замечание? Да, в том случае, когда мы слышим только слова, а не пытаемся через речевую форму восстановить предмет мысли, для нас мысль распадается на сложное какое-то понимание и на отдельные, не связанные друг с другом слова. А если мне важно выступление оратора анализировать как мышление, то я обязан всё время рассматривать, в какой мере предмет мысли, про который он намеревается говорить и говорит, четко выражен в той речевой форме, которую строит. С этой точки зрения, воспринимающий речь проделывает более сложную работу, чем говорящий. Это парадоксально, но это так. И на этом построен весь процесс обучения. То есть вы сейчас должны проделывать более сложную работу, чем ту, которую проделываю я. Потому что слушатель может понять говорящего только тогда, когда он сам начнет конструировать (или реконструировать) тот предмет мысли, про который сообщает говорящий. И затем восстанавливать для себя речевую форму, в которой эта мысль осуществляется. Только в этом случае он поймет то, что говорит сообщающий. По определению вроде бы. Такого типа работа, когда для того, чтобы выразить предмет мысли, я обязан подобрать соответствующую речевую форму и меру различений, которые бы позволяли предмет мысли без искажений схватывать, собственно, установление этого различения одного и второго, позволяет мне в данном случае утверждать, что несмотря на то, что мышление обладает разными характеристиками, то есть «многим», оно по-прежнему остается «единым». Потому что в нем самом конституируются и присутствуют принципы соединения и связи специально различенного и разделенного «многого». Я сейчас осуществил какую-то работу: по отношению к определению мышления связал первоначально две исходно заданных категории как разные: Е — М и Т — Р. Показал, как, по крайней мере, эти категории для меня в конце концов работают. Теперь на примере этих категорий очень важно охарактеризовать, в отличие от категорий, которые я описывал в прошлый раз («род — вид» и др.), заново, что такое категория. Интерес этих двух категорий (Е — М и Т — Р) заключается в том, что они характеризуют в основном не столько структуру языка, в которой осуществляется мысль, а что-то другое. А категория «род — вид», фактически, отпечатана в нашем языке, потому что мы знаем, что любого типа предметы объединяются в классы, эти классы объединяются в иерархию следующих классов и т. д. Вот этот процесс классификации, то есть выделение отдельных предметов в классы, фактически, нормируется и задается категорией «род — вид». В этом смысле, классификационная структура языка и определяется этой категорией. 44 А категории Е — М и Т — Р характеризуют и описывают не столько устройство языка, сколько структуру самого процесса мышления как такового, как деятельности. Потому что, с точки зрения этих категорий, всякий процесс мышления (в этом смысле, нет процесса мышления, который бы не строился по этим категориям, они как бы задают первичное, исходно развертываемое основание) как деятельность строится на следующих моментах: мы должны конституировать и выстроить предмет мысли и, непрерывно добиваясь самотождественности этого предмета мысли, подводить под него новые характеристики. А это означает (ведь просто так в уме созданную нами конструкцию не внесешь), что мы постоянно должны переконструировать сам предмет. Вот этот момент Платон и взял из математики, в частности из геометрии. Например, для того, чтобы вводить новые характеристики, если я начинаю рассуждать про треугольник, для того, чтобы рассуждать предметно, я вынужден взять, чтобы мысль началась, определенный треугольник: равносторонний, равнобедренный, прямоугольный — но какой-то определенный. И, следовательно, все свойства, которые я первоначально задам (например, я взял равносторонний треугольник, где а = в = с), все характеристики треугольника, которые я первоначально буду закладывать в свое представление о треугольнике, берутся из представлений о равностороннем треугольнике. И если мне затем нужно двигаться к представлениям о треугольнике вообще, я каким-то образом должен вносить в эти представления о треугольнике представления о прямоугольном треугольнике, о неравностороннем треугольнике и т.п. А это означает, что я должен переконструировать, то есть изменять свой исходный способ задания такого предмета, как треугольник. То есть искать некоторый общий способ, более общий способ, чем у меня был, конструктивный способ его построения. По-другому не получится. Это один момент. И только за счет этого я добиваюсь того, что «единое» является «многим», оставаясь единым. То же самое происходит, когда я характеризую мысль. В первую очередь, я ввожу ее усложнение, выделяя речевую форму и предмет мысли. Но для того, чтобы исходное представление о мышлении было единым, я должен задавать способ конструктивного соединения двух этих определений по законам мышления. И этот момент постоянного переконструирования предмета, который полагается как что-то единое при привлечении по отношению к нему новых характеристик, характеризует всякую мысль. Во-вторых, момент, связанный с категорией «тождество — различие» тоже задает определенный способ действия, но только уже с речевыми способами выражения мысли. Поскольку всякая мысль выражается в словах, следовательно, в терминах, понятиях, потому что это всё — тоже слова. Это как бы другой момент, который будем специально обсуждать. Потому что, когда мы говорим, что речь выражает слова, то при этом отвлекаемся от того, что слова по своему назначению в структуре мыслительной речи обладают совершенно разными свойствами. Например, слово «атом» и слово «счастье». Слово «атом» 45 обозначает вполне определенный объект, над которым человеческая мысль билась три тысячи лет. А слово «счастье» объекта не имеет, то есть мы вкладываем в него определенный смысл, но объекта за ним, то есть определенной идеальной конструкции, которую можно выстраивать по законам геометрии или по законам физики, нет. С этой точки зрения, поскольку всякая мысль выражается в речевой форме, существуют определенные правила действия с этой формой. Они заключаются в том, что речевая форма должна быть до определенного уровня различна — обладать различенностью для нас самих. То есть все слова смысловым образом звучат по-разному и имеют разные функции в структуре речи. И по определенным правилам, или принципам, ряд этих различенных слов начинает нами отождествляться в соответствии с определенными целями. И самое главное, в соответствии с нашим пониманием предмета мысли, который при помощи этих различенных слов должен быть выражен. Вот какой обобщенно очень интересный момент получается с рассмотренными нами категориями Е — М и Т — Р. Фактически, эти категории внутри себя содержат представления о процессе мышления как таковом, как о деятельности. И следовательно, когда я начинаю при помощи этих категорий анализировать, проверять на правильность мою мысль, например, проверять на правильность мою мысль относительно различения Е — М, то я тем самым в своей мысли восстанавливаю ту деятельность, которая зашифрована, символизирована при помощи категории Е — М. Это самый тонкий момент. Потому что оказывается, что категория — это не просто слова, а определенная форма упаковки мышления как деятельности. То есть, когда я ввожу категорию Е — М в свой способ рассуждения, то я тем самым начинаю восстанавливать в своем процессе рассуждения деятельность мышления по законам этих категорий. При этом очень сложно понять: привношу ли я ее извне и начинаю как на внешнем предмете эту деятельность осуществлять, или эта деятельность уже содержится в самом предмете мысли? Вот этот момент не ясен. И не ясен он потому, что категория Е — М создана человечеством очень давно. В принципе, к чему бы ни прикасалась деятельность человеческого мышления, каждый раз она была связана со структурой этой категории. 46 Лекция 3. УЧЕНИЕ АРИСТОТЕЛЯ О ФОРМЕ МЫШЛЕНИЯ У ПЛАТОНА И И совершенно с другой стороны выступает категория Т — Р в самом способе выражения мысли, потому что мы всякое мышление выражаем в речи. Сама категория Т — Р обращает наше внимание на то, что мы в мысленно организованной речи всегда что-то отождествляем и разотождествляем. И в том случае, когда мы должны делать это осознанно и целенаправленно, используем категорию Т — Р, специально обращая внимание на то, а что мы, собственно, отождествляем и что — разотождествляем, то есть фиксируем как различное. С этой точки зрения, например, выражение «человек — смертное существо» есть такая форма, где, с одной стороны, устанавливается тождество между человеком и смертным существом, а одновременно, с другой стороны, предполагается, что мы различили смертное существо и человека. Только на основании различения отождествление является осмысленным. Я стремился обратить ваше внимание на то, что каждая из категорий содержит в себе такой вполне определенный набор операций и способов работы. Например, отождествление, разотождествление; выделение, удержание единого и при этом обращение внимания на многое, по отношению к чему берется это единое. И, следовательно, сами категории, которые мы привлекаем для осуществления нашего мышления, являются такими интересными, специально органи- 47 зованными структурами деятельности, которые мы можем переносить от одного процесса мышления к другому. Но при этом в них самих как бы упакована определенная деятельность, определенные способы работы. Поэтому так важно начать расшифровывать категории, а это достаточно долгая работа. Мы ее только начинаем. А затем, после того, как станет понятно устройство разных категорий, следует учиться видеть эти категории в различных научных и учебных текстах. Все тексты — научные, учебные — организованы при помощи категорий. И человек, обладающий мыслительной культурой, может рассматривать текст любого типа с точки зрения устройства категорий. При этом он обращает внимание на то, какую конструкцию имеет мысль, если в ней употреблена в качестве основной та или иная категориальная форма. Сегодня мы переходим к следующим трем категориям, с моей точки зрения, наиболее важным. Это категории: Поскольку здесь приходится обсуждать одновременно три категориальных решения, очень важно обратить внимание на то, что в каждом из трех различений повторяется слово «форма». И в каждом из этих различений представление о форме имеет свое, совершенно уникальное, особое значение. То есть не следует так понимать эти три категории, что в них во всех идет разговор про одну и ту же форму. Это опять очень интересный момент всякой категории, потому что, как правило, каждая категория — это категориальное различение, категориальная оппозиция (например, «бытие» противопоставлено «сознанию», «единое» — «многому» и т.д.). Все указанные выше три категориальные пары построены на различении формы с чем-то еще. При этом важно иметь в виду, что в каждом из этих различений важнейшим является само отношение чего-то с чем-то. Оно и несет основной содержательный смысл и задает способы работы с категориями. С этой точки зрения, как это ни парадоксально, во всех трех категориальных различениях вроде бы фигурирует одно и то же слово. Но форма, взятая по отношению 48 к материалу, это одно, совершенно особое понимание формы. А форма, взятая по отношению к содержанию, — совершенно другого типа форма. И форма, взятая по отношению к смыслу, — это какая-то совсем другая, третья форма. Отсюда, в соответствии с категорией Е — М мы в своих рассуждениях уже можем использовать то, что перед этим обсудили. Возникает стандартная категориальная проблема, категориальный вопрос: если форм много, то стоит ли за ними нечто единое? Здесь и приходится при обсуждении этих трех категориальных различений использовать категориальную позицию Е — М. При этом всегда необходимо начинать с «многого», чтобы потом дойти до «единого», выделяя различия в этих категориальных разделениях, с тем чтобы поставить вопрос: а что стоит за этим различным единого? Что фиксируется как «единое»? С исторической точки зрения, исследователем, ученым, философом, который открыл и сконструировал категорию формы, является Аристотель. Начиная с этого философа, человечество пытается различать форму и то, чему она противопоставлена. Аристотель первым предложил ввести и стал демонстрировать на разном материале такое совершенно особое и непонятное образование, как «форма». И, собственно, показал и придумал способы работы с этой особой категорией, которая входит в ряд категориальных оппозиций. Здесь следует сделать краткий исторический экскурс, чтобы пояснить, откуда собственно взялась категория «форма», и каким образом представление о форме было введено в философию и логику. И философское, и логическое учение Аристотеля построено на жесткой оппозиции с представлениями Платона. Практически на всех лекциях мы обсуждаем противопоставление Аристотеля и Платона. Потому что, оказывается, наше европейское мышление (которое мы используем, даже не зная, как и чем при этом пользуемся) было спрограммировано (то есть сконструировано в виде программы), опробовано и запущено в основном этими двумя великими древнегреческими философами. И есть даже такая точка зрения, что последующее человечество просто отрабатывает эту программу. По крайней мере, в Средние века (а это более тысячи лет!) происходила в разных оппозициях, в разных отношениях фактическая проработка тех основных идей, которые были введены, то есть стали активно обсуждаться, осмысливаться Аристотелем и Платоном. М с этой точки зрения, в очень большой мере естественные науки Нового времени точно так же во многом определяются теми содержательными оппозициями, которые возникли в учении этих двух философов. Но сейчас у нас задача не вообще обсуждать отношения между Аристотелем и Платоном, а попытаться показать, каким образом начинает появляться представление о форме, как оно затем входит, собственно, в логику и там начинает активно использоваться. В соответствии с учением Платона, достаточно таким интересным и необычным учением (до сих пор идет много споров о том, прав он или не прав), существуют только идеи. Собственно они своим статусом пребывания, сохранения, неизменения, отсутствия смерти и определяют 49 чем в наших представлениях о слове «идея». Потому что, когда мы говорим «идея» — для нас это что-то отвлеченное, потустороннее, со смертным смыслом. А для Платона идея — это идеальное бытие, которое обладает максимальной воплощенностью. То есть всякую конкретную вещь можно рассмотреть с точки зрения несовершенства, недостаточного качества (недокачества) по сравнению с ее идеей. Если какой-то человек обладает идеей человека, и философ обладает идеей человека, то последний легко видит несовершенства и, наоборот, достоинства каждого конкретного человека. Он моментально чувствует, понимает, прежде всего, конечно, самого себя. Греки в этом смысле были очень хитрым народом, они всё начинали с себя. (Как в свое время М.С. Горбачев сказал, что перестройку надо начинать с себя.) В этом смысле для греков всё это вообще было аксиомой. И очень важно то, что идея обладает такой реальностью существования, что она выступает критерием в отношении каждой вещи. Это как бы своеобразное увеличительное стекло, или призма, которая позволяет рассматривать любую вещь, любое явление, например, такое, как счастье или свобода. Поэтому Платону ясно: чтобы себя в словах не путать, нужно иметь максимально конкретную, четко выраженную, идеальную идею. И на ее основании всё осуществлять и делать. У Платона есть в диалоге «Государство» такой известнейший образ пещеры, о котором обычно все рассказывают. Поскольку, с точки зрения Платона, когда мы смотрим в этот мир на чувственные вещи, то смотрим не на что-то ясное, а наоборот, смотрим в мрак и темноту. Это вытекает из представления об идее. Потому что идеи находятся не здесь, не на земле, их душа человека созерцала там, когда была на небе. А душа бессмертна. Она общалась с богами, воспринимала идеи. Когда человек попадает в чувственный мир, он на самом деле, с точки зрения Платона, смотрит в темноту. В соответствии с идеей пещеры, это выглядит таким образом: люди сидят спиной к свету и смотрят на тени, которые мелькают в пещере. Сегодня у человека одно настроение, и тени одним образом мелькают, а завтра он пришел в другое состояние, другое настроение, — и тень другим образом сверкнула и мигнула; человек смотрит отдельно на чайную ложку — она одного размера, а сунул ее в стакан, смотрит сквозь воду, — она другого размера. Всё в нашем мире изменчиво, ничто не обладает совершенным законченным существованием, а человека еще непосредственно могут искушать всякие существа, которых греки называли демонами. Поэтому мир, в который человек погружен, — это исходно мир разрушения. Поскольку этот мир не обладает характеристиками совершенства, является абсолютно темным, то там с человеком многое может случиться. Он может совершать всякие ужасные поступки — убивать своих детей, делать всякую неблаговидность и мерзость другим людям. И это потому, что, с точки зрения Платона, когда человек погружается во тьму, у него нет никаких средств, чтобы стать сильным и заняться спасением своей души. Единственный выход из этой ситуации — обращение к тому источнику света, которым являются идеи. 52 Для Платона выздоровление, спасение, существование человека вообще в хорошем душевном состоянии как раз и связано с тем, что человек начинает от тьмы, в которую он исходно погружен после рождения, восстанавливать методом воспоминания — анамнезиса — те идеи, которые ему дают способность различать дурное от хорошего, совершенное от несовершенного и вообще ориентироваться в мире. Но делать это, с точки зрения Платона, очень трудно, поэтому всё и передается методом пещеры. Человек сидит: перед ним что-то мерцает, и он может даже поверить в реальность того, что мерцает. А проблема-то заключается в том, что источник света находится сзади. Повернуться нельзя — человек закован. Поэтому единственное, что он в этой ситуации может сделать, — это понять, что свет сзади, и начать восстанавливать то, что светит, устройство того, что светит. То есть, с точки зрения Платона, обратиться к мышлению, к разуму. И начать восстанавливать те образования или те исходные устойчивые элементы, которые ему позволяют в этом мигающем, мерцающем мире как-то ориентироваться. Такими образованиями, собственно, и являются идеи. На этом строится философская, а дальше и логическая установка Платона. Потому что проблема заключается в том, чтобы уметь выделять эти идеи. И все диалоги Платона — это демонстрация того, как Сократ — учитель Платона, и величайший вообще учитель людей — демонстрирует в разных спорах с его учениками то, как по поводу различных тем человек может достигнуть этой способности — выделять идеи. И за счет этого ориентироваться в мире. В конечном счете, если человек научается выделять идеи, а душа у него бессмертна, то у него есть шанс не быть подверженным тем изменениям, то есть разрушению, гибели, нравственному разложению, всякой порче, которым подвержены обычные вещи, обычная материя. А поскольку он всегда будет работать с нетленным, с тем, что не умирает, имеет бесконечно совершенную форму, то у него есть шанс, что и он сам начнет приобретать такие качества. Вот такого типа теория об идеях была сформулирована и выработана Платоном. Собственно, эта теория и стала предметом нападок и жесткого отношения со стороны Аристотеля, которому она сразу не понравилась. Платон ему очень нравился, был его учителем, но Аристотель очень много времени в своей жизни провел в дискуссиях и спорах с Платоном. Считается, и Аристотель так сам себя осознавал, что он как раз и осуществил совершенную жизнь. Он прожил всего 60 лет, и его жизнь четко распадается на три периода по 20 лет. 20 первых лет у него ушло на процесс взросления, созревания, 20 следующих лет он отработал в семинаре у Платона, осваивал теорию, учился. А 20 последних лет Аристотель вел свой семинар, преподавал и написал свои сочинения. Поэтому он и считал, что прожил очень совершенную жизнь. Во-первых, она поддается делению на три, что само по себе уже хорошо, с точки зрения Аристотеля. А во-вторых, каждый из этих периодов обладает некоторой законченной целью, то, что Аристотель называл «энтелехией». Кроме того, и в целом жизнь у него прошла не53 плохо. За эти 60 лет много чего было создано, и вся его жизнь в целом является одновременно реализацией некоторой сверхцели. Поскольку каждый период жизни реализовывал определенную цель, но все эти цели друг другу не противоречили, а подготавливали каждый этап. На первом этапе Аристотель взрослел, присваивал то, что существовало у греков, то, что выработали греки и в области демократии, и в области наук. На втором этапе он осваивал философию, математику, то есть самое совершенное, самое прекрасное, что было тогда философами создано и осуществлялось в некоторых закрытых кружках типа Платоновской Академии. А потом за последние 20 лет он создал свою школу, или «Ликей». Отсюда и произошло известное нам слово «лицей». Так вот, несмотря на то, что Аристотель был учеником Платона, ему очень не нравилось учение об идеях. Поскольку он не понимал, как могут существовать вот эти самые идеальные совершенные образы. Ему было не всё ясно. Что вроде бы что-то такое есть, и с этим он соглашался, что-то существует идеальное, сущностно устойчивое, которое позволяет ориентироваться и строить различия в мире чувственных вещей, но при этом остается неясным один вопрос: где и как существуют идеи? С точки зрения Аристотеля, утверждение по поводу того, что душа до рождения человека общается с идеями — мысль интересная, но трудно доказуемая. Она требует каких-то религиозных воззрений. И поэтому вполне возможны какие-то другие способы доказательства, которые могут полностью изменить те исходные представления, которые ввел Платон. И в результате определенной, достаточно напряженной логической работы Аристотель пришел к тому (стал это потом активно утверждать), что в общем-то всё совершенно не так, как говорил Платон. И так называемых этих общих идей как таковых, которые являются некоторыми сущностями, существуют сами по себе отдельно от вещей, нет. А существует совершенно другое, более сложное образование. С точки зрения Аристотеля, существуют единичные вещи, с которыми человек сталкивается, и каждая вещь неповторима: каждый стол — это свой, особый стол, у него есть какое-то отличие от других столов. Сколько столов, столько и отличий, и все они имеют свою особенность. А вот каждая единичная вещь — это не что иное, как достаточно сложное соотношение двух образований: формы и материи. И, собственно, этот момент Аристотель достаточно детально разбирает на примере создания статуи. Греки с очень большим уважением и почтением относились к искусству, считали, что искусство позволяет высветить что-то такое, что в обычной жизни не удается понять, или для нас оказывается неуловимым. Вот Аристотель и обсуждал свою теорию, демонстрируя ее действие на примере создания древнегреческими скульпторами статуи из меди. Он при этом анализировал соотношение формы и материи. С точки зрения Аристотеля, всё происходит очень просто: есть вроде бы медь, есть скульптор, а у этого скульптора есть представление о том, что он хочет создать. Затем он это свое представление, или форму, то есть то, что в результате 54 должно получиться, на этот материал накладывает. Дальше всё происходит в соответствии с известным высказыванием Микеланджело. Когда его спросили: «Вот вы делаете статую, это очень трудно?», — он ответил: «Нет, это очень просто — надо всё лишнее убрать и появится статуя». Приблизительно так рассуждал и Аристотель: на некоторый природный материал, из которого создается вещь, должен быть наложен образ того, что создается, то есть форма, которой владеет архитектор или скульптор. И в результате этого наложения происходит очень сложный процесс. С одной стороны, убирается всё лишнее, но если создается Настоящее произведение искусства, то там материал и форма в результате их взаимопроникновения уже вообще друг от друга неотличимы. С этой точки зрения, если скульптор настоящий мастер, то есть гений, и действительно хочет выразить что-то трудно выразимое, то он подбирает совершенно особый материал. Греки знали, что существует от 30 до 40 видов мрамора. Если вырубать скульптуру нимфы, то нужен один сорт мрамора, если создавать скульптуру борцапобедителя на олимпиаде, то нужно подбирать совершенно другой сорт, и т.д. И, следовательно, сам материал обладает определенными, очень важными характеристиками. Но для обычного человека, не скульптора, это вроде бы один и тот же камень. И так посмотришь — камень, и по-другому посмотришь — камень. А для человека знающего, который ищет материал для того, чтобы воплотить собственные представления о той вещи, которую он создает, то есть накладывает вполне определенную форму, каждый материал разумен и обладает своими возможностями. Следовательно, с точки зрения Аристотеля, очень важной оказывается эта самая категория материала. Она каждый раз приобретает то или другое звучание, ту или другую значимость только по отношению к той форме, которая есть у художника. В зависимости от того, какая у художника есть форма, то она в самом материале, на который накладывается эта форма, начинает проявляться, звучать. Материал для Аристотеля — это не что-то лишенное всяких определений и обреченное вообще на гибель. И Аристотель даже подчеркивает, что материал — это не «решенность», а то, что обладает множеством возможностей, потенций. И эти, собственно, потенции, эти возможности могут проявиться только в том случае, если человек вот эту самую форму начнет на материал накладывать. Тогда в результате наложения формы на материал в форме проступят те важные для художника и архитектора черты, которые для него и определялись выбранной и наличной у него формой, которую он на этот материал переносил. Но есть и обратный, очень интересный момент, что самой по себе формы, как таковой, без взаимодействия архитектора с материалом, с точки зрения Аристотеля, по всей видимости, тоже не существует. Что форма вообще возникает и появляется только тогда, когда художник встречается с материалом. То есть вот у него был замысел, но всякий художник прекрасно знает, что этот замысел при взаимодействии художника с материалом в самом процессе работы очень 55 серьезно корректируется, преобразуется вплоть до противоположного. И подлинный замысел возникает лишь в тот момент, когда материал начинает сопротивляться замыслу художника. И у архитекторов, художников есть даже такой профессиональный термин «сопротивление материала», когда натура сама начинает сопротивляться, и само это сопротивление материала дает очень важную корректировку той форме, с которой художник пришел и начал творить. Поскольку оказывается, что у художника была мысль о том, что он знает, что он хочет создать, но он себя при этом в какой-то мере обманывал. И когда он начал что-то создавать и работать с реальным материалом, то пришлось очень серьезно исходное представление о том, что он хочет создать, менять и преобразовывать. И этот самый процесс создания вещи Аристотель обозначил как взаимодействие четырех причин. С точки зрения Аристотеля, создание всяких вещей определяется действием четырех причин. Причина по-латыни — causa. Так вот, Аристотель различал четыре причины. Во-первых, causa formalis, то есть формальная причина, она проявляется в соответствии с той формой, которой обладает художник, когда взаимодействует с материалом. Это и есть та причина, почему, собственно, возникает статуя: есть форма, есть стремление к форме, которое передает художник. И он является носителем этой формы, но, что очень важно, — не отдельно от вещи. Потому, что если бы форма была отделена от вещи, то мы бы вернулись к идеологии Платона (у него идеи существуют отдельно, и там душа с ними общается). Тут, правда, есть один очень важный момент, на который обращает внимание А.Ф. Лосев. Он говорит, что у Платона достаточно хитрое и сложное учение, потому что для Платона идея — это срощенность человека вот с этим идеальным нетленным образованием. То есть нельзя так представить, что идеи — это какие-то гипостазированные разовые образования. В одном из своих диалогов Платон рассуждает про идею лошадности. Что такое лошадность как идеальная идея? Но при этом А.Ф. Лосев подчеркивает, что нельзя так представить, что есть какая-то такая лошадность, то есть какой-то розовый конь, который где-то на небесах летает и только там существует. Это совершенно не так. Потому что для Платона идея — это то, что восстанавливает человек, работая со своим разумом и сознанием, когда перед ним встает сложная познавательная задача. Когда ему нужно восстановить, что, собственно, неуничтожимо, он и обращается к этому плану идей. Но для Аристотеля всё равно это не так. Даже если он бы принял все эти поправки А.Ф. Лосева, он сказал бы, что это не так. Почему? Потому что на примере статуи всё происходит совершенно не так, как у Платона. И форма обнаруживается тогда, когда скульптор или художник начинает из некоторого материала создавать эту прекрасную статую. Когда он понимает, туда он резец ведет или не туда, то есть в первых результатах своего движения или работы с мрамором, фактически, в результате своей деятельности, тогда, собственно, для себя самого творец начинает осознавать, какая форма нужна, и начинает 56 ее корректировать. Вот когда он так действует, то через него действует causa formalis, или формальная причина. А противостоит ей, сопротивляется causa materialis, то есть собственно материальная причина, которая заключена в том материале, с которым художник работает. Как уже было выше сказано, материя — это не лишенность всего на свете (для Платона это как раз было так: материя — это чистая смерть, лишенность всякого бытия, и любое соприкосновение с материей приводит в конечном счете к уничтожению всего того, что с ней соприкоснулось. В принципе, идеи могут притекать в материю, но потом материя разрушается, и идея опять куда-то уходит). Для Аристотеля это не так. Материя — это не просто лишенность всяческих определений, а возможность или потенция, или способность. То есть когда я начинаю закладывать форму, то происходит определенное чудо, а именно в материи проявляются какие-то такие свойства, такие характеристики, которые до того, как я с ней в соприкосновение не пришел и взаимодействовать не начал, вообще не были видны и отсутствовали как таковые. А вот в результате деятельности, в результате работы архитектора или скульптора в том материале, который он выбрал, начинают обнаруживаться скрытые характеристики, которые могут менять и саму деятельность. Это переживали, об этом в дальнейшем рассказывали многие художники. На всем этом вообще-то и строится импрессионизм — не что иное, как способ переворачивания подобных отношений causa formalis и causa materialis. Потому что импрессионизм — это попытка начать выходить за материал, обсуждать вообще, какие требуются формы. То есть какие скрыты возможности в самом цвете как материале, потому что художник работает с цветом, как с материалом и с члененностью линий. Отсюда, фактически, конец XIX и начало XX века — это переворачивание этого отношения causa formalis и causa materialis, где художник уже от лица материи начинает обговаривать и проблематизировать весь тот набор форм, который накопило предыдущее искусство. Для этого художники специально разрушали грани, нарушали члененность форм, скажем, в кубизме. Специально начинали играть с сочетаниями красок представители различных направлений импрессионизма и других форм, абстракционизма и т. п. И отсюда возникли нелепые попытки накладывать сочетания различных форм, тем самым демонстрируя, что в самой материи — материи красок, материи границ содержится бесконечное число возможностей, а у человечества просто очень мало форм для того, чтобы обнаруживать эти возможности. Но Аристотель, как это ни парадоксально, рассуждал точно так же. Поэтому, может быть, он нас всех и спрограммировал. И до сих пор идеи находятся в том лабиринте, который создал Аристотель. Поскольку человечество программируется через мышление и через язык. А ведь наше мышление начинает осуществляться по определенным законам, которые в нем заложены. А мы их в общем-то не знали, потому что на свете не очень много людей обсуждает то, как устроено наше мышление и как устроен язык. Поэтому мы начинаем использовать эти формы и в соответствии с этими формами 57 идеи. Надо было, например, в России новый строй создать, и мы ничего лучшего не нашли, как обратиться к слову «демократия», тоже греческому исходно по своей природе и т.д. И таких примеров бесконечное множество. С этой точки зрения и происходит взаимодействие causa formalis и causa materialis. Эти две причины и определяют то, как, собственно, создается то или иное произведение искусства. А произведение искусства создается за счет того, что материал сопротивляется исходному замыслу, в результате чего выявляется форма, которая позволяет появляться чему-то новому, сама может преобразовываться. И вот в результате такой достаточно длительной работы, довольно долгого и трудного процесса взаимодействия этих двух причин рождается произведение искусства. Но тут платоники (сторонники взглядов Платона) могли бы сказать: «Всё ясно, за исключением одного: ведь откуда-то эта causa formalis берется, этот замысел. И вот то, откуда берется замысел, это, собственно, и есть идея. Сначала у скульптора возникает идея, а потом уже всё то, про что вы говорите». Но Аристотель рассуждает так: а вот это уже совсем не ясно, потому что, скорее всего, всё происходит обратным образом. Ведь как учат скульптора? Скульптора учат не замысел придумывать, а начинать работать с реальным материалом, создавая ту или иную скульптуру. А сначала просто копировать работы мастеров. Показывают созданную скульптуру и просят ее воспроизвести. Учат этому воспроизведению. А поэтому, скорее всего, то, что мы называем идеей или замыслом, есть предварительное проигрывание того, как мы будем что-то создавать. Ведь человек может вне взаимодействия с материалом, в уме проигрывать, как он с этим материалом будет работать. И поэтому то, что вы называете идеей, и есть такое проигрывание в деятельности до ее осуществления, и больше ничего. А вообще-то подлинный процесс, в котором всё это происходит, движутся вот эти отстроченные идеи, — это, собственно, деятельность скульптора при работе с конкретным материалом, с которым он и взаимодействует. Кроме того, в своей работе скульптор вступает в зону действия еще двух других причин. Это так называемые causa efficient — действующая причина, то есть само действие скульптора, и, собственно, causa finalis — целевая причина, поскольку скульптору всё важно довести до какого-то логического конца. То есть, с одной стороны, процесс совершенствования может быть бесконечен, казалось бы, но время работы ограничено. А с другой стороны, поскольку каждый художник стремится к совершенству, оно и определяется этой самой causa finalis, то есть собственно целевой, или конечной, причиной. Вот этими четырьмя причинами и может характеризоваться процесс создания произведения. И вот уже в нашем различении этих причин (causa formalis, causa materialis, causa efficient и causa finalis) фигурирует третья — causa efficient, потому что взаимодействие материала и формы происходит только в самом действии некоторого существа. То есть обязательно кто-то действует (ведь это же не само по себе происходит, просто 58 с неба форма не падает), и тогда форма попадает в материю, они друг с другом как-то соединяются и из них возникает прекрасный росток в виде произведения искусства. Таким образом, сам процесс налагания формы на материал происходит в результате того, что кто-то работает, то есть кто-то является действующим лицом. И благодаря этому действию, или этой работе, собственно этот процесс и осуществляется. И он осуществляется до какого-то определенного предела, который обозначается словом finalis. Здесь возникает следующий интересный момент: в самом разделении этих причин собственно форма и материал противопоставлены, и они же, собственно, и заданы. С этой точки зрения, становится несколько понятнее, что Платон и Аристотель обсуждали два совершенно разных случая в человеческой деятельности. Поэтому в дальнейшем у Аристотеля на передний план вышли совершенно разные понятия и разные категории. А именно, ведь Платон обсуждает процесс познания: как в этом мелькающем мире познается, выделяется что-то устойчивое. Аристотель обсуждает совершенно другое — как что-то создается. То есть как человек (скульптор, столяр, логик и т.д.) практически что-то создает, если он конструирует, создает логические формы. Не как он познаёт, что вот что-то уже есть, как-то устроено, нужно только познать, выделить в нем сущностное, а, по Аристотелю, у него совершенно другая задача: мир надо организовать, или создать, или сотворить что-то. С этой точки зрения, Аристотель и Платон определяют просто два разных класса деятельностных ситуаций. Аристотель обсуждает ситуацию, где человек осуществляет некоторую практическую преобразующую работу, результатом которой является вещь, продукт или творение. И, собственно, для обсуждения этой практической работы, в результате которой возникает творение, для Аристотеля и оказывается базовой, принципиальной эта самая категория формы, которая в результате causa efficient, или действия человека, получает воплощение, накладываясь на материал. Но то, что я вам рассказал, если бы мы закончили на восклицании: «Какая прекрасная есть категория форма-материя!», выглядело бы не очень убедительно. Потому что это всё еще просто какие-то представления человека о том, как устроена работа, например, скульптора. То есть, какой-то тип интерпретации какой-то деятельности каких-то других людей. Заслуга Аристотеля действительно заключается совершенно в другом. А именно в том, что он эти представления о соотношении формы и материала, которые подсмотрел в человеческой деятельности, наблюдая работу скульптора, затем перенес на устройство самого мышления. На свою собственную работу. Это очень тонкий момент. Ведь Аристотель вроде бы описывал, как работает скульптор. Он показывал, что в работе скульптора происходит этот самый момент — налагание формы на материал. Но это не про самого Аристотеля, а про скульптора. Аристотель же не скульптор, а логик и философ. Поэтому он ту нее самую категорию «форма и материал» и то же самое опи59 сание того, как происходит процесс взаимодействия формы и материала, переносит на свою собственную работу. Другими словами, твоя исходная мысль про объект, про что-то вне тебя происходящее теперь оборачивается на самого тебя. И начинает использоваться для анализа твоей собственной работы. И это самый принципиальный в методологическом плане ход. Потому что он характеризует, как правило, метод. Сначала ты описываешь объект, и на этом отрабатываешь определенные представления, в частности, различение формы и материала, а затем эти отработанные представления переносишь на материал своей собственной работы. И свою собственную работу осуществляешь. Сразу возникает вопрос: каким образом ты эти представления переносишь? Попробуй перенести какие-то общие представления о разделении формы и материала в деятельности скульптора на процесс мышления! А переносишь ты всё это очень интересным способом: начинаешь организовывать свою работу в соответствии с этим разделением. Аристотель поэтому в своей собственной работе выделяет то, как там отслаивается или образуется момент, который характеризует форму и как там выступает собственно сам материал. И здесь начинается совсем другой поворот рассуждений, который касается собственно логического учения Аристотеля. И это логическое учение заключается в том, что Аристотель, фактически, впервые в европейском развитии мысли (сейчас, правда, некоторые ученые утверждают, что подобные логические ходы проделали еще древние индусы с другими результатами и совершенно иначе) это проделал: стал анализировать высказывания людей о различных предметах мысли как особую форму мысли. Он стал обращать внимание на то, как люди строят высказывание о различных предметах мысли, а это, собственно, и есть форма мысли как таковая. То есть то, как люди друг с другом говорят, — субъект, предмет мысли — то, о чем что-то нужно сказать, а предикат — то, при помощи чего они говорят о субъекте мысли. И какие категории стоят за субъектами и предикатами. Субъекты и предикаты — это слова, то есть то, что мы высказываем. Например: «Человек смертен». Слово «человек» — это субъект (на Схеме 2 — «S»), а слово «смертен» — предикат (на Схеме 2 — «Р»). Но это только высказывание, то есть сама речевая форма, а кроме высказывания есть еще предметы мысли. Вот Аристотель первым и обратил внимание на то, как высказывание, то есть сама структура речевой формы, связано с предметами мысли, которые в речевой форме только предполагаются. И стал искать определенное правило того, как вообще мыслительная речь членится, то есть какие у нее существуют членения: что выделяется в качестве отдельных элементов, и как эти отдельные элементы друг с другом соединяются. И, что самое важное, — как соединение этих элементов в речи характеризует сам предмет мысли. Этот момент соотношения членения речи, способа соединения члененности речи и предмета мысли, собственно, и стал характеризовать то, что мы сегодня называем формой мышления. Интересно, что 60 у самого Аристотеля такого понятия «форма мышления» не было. Но фактически то, что он открыл и начал активно и конструктивно осуществлять эту работу, сегодня, собственно, и называется формой мысли. Потому что если я могу контролировать свои высказывания, различные способы их сочетаний и то, каким образом через высказывание высвечивается предмет мысли, то здесь уже сразу наблюдается очень много интересных соответствий. Аристотель стал обращать внимание на то, что, например, высказывание может не соответствовать предмету мысли. Предмет мысли устроен одним образом, а в высказывании содержится совершенно другое по поводу этого же предмета. Тогда возникает ложное высказывание. А если высказывание соответствует предмету мысли, то высказывание будет истинным. Поэтому основное, что должен научиться делать человек, это, собственно, разбираться, когда высказывание ложное, а когда — истинное. Например, звучащая речь идет на тебя волной, а ты должен научиться разбирать и восстанавливать члененность речи, правила сочетания различных ее фрагментов и определять за счет этого истинность данного высказывания — соответствие предмету мысли. То есть соответствует ли сама члененность, данная в речи, члененности вещей, или — нет. С этой точки зрения, для Аристотеля понятий и категорий, которые содержатся в высказываниях, но не зависят от предметов и вещей, не существует. И в этом он последовательно выступает против Платона. Очень важно понимать, что если бы Аристотель так жестко не противопоставлял себя Платону, если бы он работал, скажем, по принципу: «Платон прав, и я прав, и мы вместе с ним правы», то ему не удалось бы создать свою логику. А логику он как раз и создал за счет того, что очень резко оппонировал Платону. Если для Платона идеи существуют независимо от вещей, то у Аристотеля понятия (но понятие это нечто другое, чем идея) категории, которые высказываются в речи, независимо от предмета не существуют. Они существуют всё время в отношении к предмету, его предполагают, что-то о нем высказывают. И отделить, оторвать их от предмета невозможно. За счет этого и проявляется такая интересная структура, на кото61 рой впервые может возникнуть возможность для выделения того, что мы сегодня называем формами мышления. Таким образом, восстановление самой члененности речи и способов ее связи с предметами мысли, собственно, и образует то, что стало характеризовать для Аристотеля и позднее для схоластов — ученых, которые на протяжении всего периода Средних веков использовали аппарат аристотелевской логики и философии для решения теологических, то есть, собственно, религиозных вопросов, форму мысли или форму мышления. При этом Аристотеля прежде всего стало интересовать определение. То, как в речи дается определение чего бы то ни было. Поскольку он прекрасно понимал, что, собственно, от того, как люди что-то понимают (как, например, они понимают, что такое человек, что такое демократия) и в той мере, в какой они действуют в соответствии с определениями, зависит очень многое. Во-первых, определяется: нравственный человек или безнравственный. И тот, кто думает одно, то есть имеет одни определения, а в жизни поступает им вопреки, явно человек безнравственный. Во-вторых, от этого зависит удача в каком-то деле. И если не действовать в соответствии с определениями, то всё будет разрушаться и погибнет. В этом смысле для Аристотеля мышление — очень важная вещь, поскольку мышление нужно и для того (и в этом смысле по исходным программам Аристотель и Платон совпадают), чтобы добиться успеха в этом мире. То есть человек, по определению, должен сохраниться как нравственное самостоятельное существо, спастись и достичь в жизни каких-то своих результатов, целей. И путь к этому, с точки зрения Аристотеля, лежит через логику. Если человек научится вдумываться в то, что он говорит, выделять определения, а дальше будет действовать в соответствии с определениями, то его ждет успех. Поэтому Аристотель утверждает: «Я действовал именно так и действую именно так». И Александр Македонский, который создал Ойкумену и всех разгромил, был гениальным учеником Аристотеля. В этом смысле многие обычно любят приводить тот факт, что у Аристотеля, в отличие от Платона, не было своей такой большой школы, как Академия, а был всего один ученик — Александр Македонский. Но Александр Македонский сумел реализовать идеи Аристотеля, создав Ойкумену. То есть создал империю, действуя в соответствии с правилами логики Аристотеля. Вернемся к определению. Аристотеля больше всего интересовало, что такое определение. И Аристотелю для того, чтобы выделить определение, нужно было отделить его от других типов соединения субъекта с предикатом, или сказуемого с подлежащим. Аристотель выделял четыре типа таких соединений: собственно само определение, которое и назвал «определение» (по-гречески — opos); связка «собственное». Потом я поясню, что это означает. Это совершенно другое соединение субъекта с предикатом; «род»: «случайное. 62 Итак, перед нами четыре типа соединения субъекта с предикатом. Аристотель двигался очень последовательно. Он открыл члененность речи, выделил самые простейшие элементы этой члененности. Определил связь сказуемого с подлежащим и субъекта с предикатом. А дальше он начал различные случаи этой члененности вообще фактически выявлять. Потому что ему важно было подобраться к тому, что называется «определение». В этом смысле он работал точно так же, как скульптор. Члененность речи древнегреческая цивилизация уже подготовила к тому моменту, когда Аристотель этой задачей занялся. В результате выступлений на Агоре, на площади, в результате прекрасных поэтических произведений, философских диалогов и т.д. уже был накоплен гигантский массив речи, или материала. То есть люди по-разному говорили, разные правила осуществляли, высказывали всякие интересные мысли, но никто на всё это не смотрел как на форму. Поэтому для Аристотеля это был материал. А его задача заключалась в том, чтобы выявить, как это всё организуется при помощи определенных форм. И понять, какие здесь можно выделить формы. В принципе проделывалась та же самая работа, которую осуществляет скульптор. Только скульптор работал с мрамором, а Аристотель работал со смыслами, звучащей речью, которая в себе содержит различные членения. Ему нужно было найти, сконструировать, фактически, форму, которая бы в дальнейшем определяла, с точки зрения Аристотеля, правильную речь. Он ее и начал конструировать. Итак, Аристотеля интересует что такое opos или «определение». И в результате рассуждения над разными типами соединения субъектов и предикатов Аристотель выявляет (что для определения очень важно) следующий момент: полное обращение высказывания в обратную сторону. Это означает, что в случае, если я сказал: «S есть Р», то когда я могу сказать: «S есть Р», и истинность данного высказывания не изменится, тогда я имею дело либо с «определением», либо с «собственным». То есть был найден определенный конструктивный прием, за счет которого из обозначенных выше четырех типов соединений два отсекаются. Например: «Человек есть живое, смертное существо, обладающее разумом» — это определение. В случае определения возможен и обратный момент: «Живое, смертное существо, обладающее разумом, есть человек». А если я скажу: «Человек есть живое существо», то обратное сказать уже не могу: «Живое существо есть человек». Это будет неправильно, потому что, например, таракан тоже живое существо, но не человек. Это простой вроде бы уровень. Аристотель и характерен тем, что начинает с простейших вещей и последовательно конструктивно движется дальше. Так вот, в том случае, когда обращение допускается, мы имеем дело либо с «определением», либо с «собственным». Если чистое обращение недопустимо, то мы имеем дело либо с «родом», либо со «случайным». Второй момент: если в результате чистого обращения мы уже выделили «определение» и «собственное», то важно теперь их разделить. 63 Отличие их в следующем: «определение» позволяет раскрыть суть данного предмета, а «собственное» принадлежит предмету, но суть его не раскрывает. Например, «Человек есть существо, которое обладает возможностью изучать грамматику». Эта характеристика, с точки зрения Аристотеля, явно принадлежит человеку, то есть это свойство принадлежит человеку. Вот это самое Р, или по-другому — предикабилис, как говорил Аристотель. Предикабилис — это всё то, что может выступать в качестве определения. Предикат — то, что определяет, а предикабилис — то, что обладает этой возможностью (здесь латинский суффикс «абилио» характеризует возможность). Поэтому соединение «собственное» (предикабилис) «обладает возможностью изучать грамматику» принадлежит человеку, но при этом сущность его не раскрывает в отличие от определения. Поскольку человек обладает многими такими возможностями (способностями): не только изучать грамматику, но и считать, и плавать, играть на музыкальных инструментах и др. И следующий момент: если сказанное составляет часть определения, то оно либо «род», либо видовое различие (здесь наряду с родом выделяется еще один элемент). А если высказанное не является частью определения, то оно считается случайным. То есть за счет процедуры обращения «собственное» и «определение» отличаются от «рода» и «случайного». А дальше говорится, что «род» от «случайного» отличается тем, что он является частью определения, а «случайное» частью определения не является. Другими словами, «род», как элемент, входит в определение. Но отличие рода от определения заключается в том, что «определение» допускает эту самую обращаемость, а «род» не допускает. Но если «род» входит в «определение», то возникает вопрос: что туда входит еще? Оказывается, что кроме рода в «определение» входит и видовое различие. Таким образом, если взять целиком высказывание «Человек есть смертное живое существо, обладающее разумом», то это — определение, куда входит «род» — «живое существо». А высказывание «Человек есть живое существо», по Аристотелю, — это «род». И оно не допускает обращения, поскольку нельзя сказать: «Живое существо есть человек» (таракан тоже живое существо, и поэтому обращения не получается). Далее. В определении «Человек есть живое смертное существо, обладающее разумом», содержится «род», но кроме него есть два видовых отличия: «Человек есть смертное живое существо» в отличие от ангелов. Для них, по Аристотелю, это был важный момент, поскольку на земле нужны были живые существа (ангелы и боги это тоже живые существа на небесах), которые бы обладали видовым отличием от богов — смертностью. «Одаренное разумом» — это то, что позволяет человека, как живое существо, отличать от животных. Таким образом, Аристотелем была осуществлена процедура, за счет которой он выделил то, что называл «определение», задав достаточно сложное устройство само64 го определения. И тем самым выделил, собственно, то, что называется предметом мысли. Получилось, что для того, чтобы сконструировать форму мысли и выделить форму как таковую, Аристотелю нужно было найти тот специфический материал, конструктивно работая с которым он мог бы выстраивать самые сложные цепочки и структуры мысли любого типа. И он такой элемент нашел. Для него это лежало в самой исходной члененности речи, а именно — в связках субъекта и предиката (подлежащего и сказуемого). И ему нужно было найти правило этих связок, чтобы затем отличать правильное связывание от неправильного. Для этого ему нужно было найти всевозможные типы соединений субъекта с предикатом. И он нашел четыре типа таких соединений. А затем из этих четырех типов выделил тот, который был для него наиболее важным, определял основной элемент мысли, который люди используют, то есть «определение. Дальше задачей Аристотеля было: конструктивно найти правило, по которому строится само «определение». Собственно, это и позволило Аристотелю выделить форму мысли, начать ее наблюдать совершенно отдельно. Вторым шагом, который после этого делает Аристотель, было конструирование силлогизма, то есть такой формы высказывания, в которой соединяется несколько суждений. Вопрос об устройстве силлогизмов более специальный, более профессиональный и скорее должен быть интересен формальным логикам, а не нам. Потому что нам важно разобраться с категорией «форма — материал». И для этого, собственно, проанализировать тот ход мысли, который в целом осуществлял Аристотель. Мы уже знаем, что, с точки зрения Аристотеля, каждое высказывание, точно так же, как деятельность скульптора, строится на действии четырех причин: causa formalis, causa materialis, causa efficient и causa finalis. Поскольку Аристотель считает, что формой всякого высказывания является «определение», которое задается способами сочетания субъекта и предиката. При этом, чтобы это определение построить, человек использует данные ему в речи способы расчленений различных понятий и слов друг с другом. А ему дальше важно, обращаясь к этим разделениям и определениям, ввести разделения слов вот в эту форму, которая является определением. То есть построить по определенным правилам отношение между субъектом (S) и предикатом (Р). Но когда человек начинает строить отношение между S и Р, ему приходится иметь дело с родом и видовыми отличиями. Это то, что будет определять саму эту работу создания и конструирования формы. Но мы пока обсудили только две причины: causa materialis и causa formalis. Поскольку formalis задается представлениями о том, что такое «определение» и как оно строится со всеми этими конструктивными элементами. Во-первых, представление о том, что «определение» задается соединением S и Р, и, вовторых, оно задается таким соединением S и Р, которое допускает обращение, то есть превращение 65 субъекта в предикат, а предиката в субъект. В-третьих, «определение» обязательно внутри себя должно содержать общий род и видовые различия. Эти три момента и должны выполняться, поскольку они характеризуют форму. Заметьте, что в этом случае форма выступает как определенные правила конструктивной деятельности. Но при этом здесь возникает очень «хитрый» материал, потому что до того, как нас попросили задать «определение», вообще не знаем, вообще специально не задавались вопросом о том, как организована члененность речи. До того, как мы стали работать с формой, то есть поставили цель сконструировать «определение», мы вообще не знали, какой нам достался материал. А это как раз те самые способы и формы члененности речи, отработанные человечеством, которое жило до нас. Мы очень плохо представляем себе, что люди различают, а что смешивают в своей речи. Например, они соединяют или различают демократию и охлократию? Вроде бы и то и другое означает «власть народа», только охлократия — это власть черни, а демократия — власть народа. И, оказывается, очень сложно разобраться, что такое «народ», а что такое «демос». Поскольку, с точки зрения Аристотеля (он это обсуждал специально в своих «Политиях»), проголосовавшее большинство — это еще не демократия. Это, скорее, охлократия. Потому что в государстве (полисе) черни всегда больше, чем представителей различных знатных родов. И если простым большинством все вопросы решать, то к власти, по Аристотелю, обязательно придет охлократия. И полис погибнет. Момент-то какой! Мы сразу из древности попадаем в нашу ситуацию. От нас пока не потребовали дать определение, например, демократии. Но, что самое важное, мы попросту не знаем, что до нас люди научились различать, и как они этими различениями пользуются. Не просто различают, а как они пользуются различениями. И вот, собственно, знание того, как люди пользуются различениями в различных ситуациях: в театре, в суде, на собраниях, в учебных и научных текстах, — и составляет тот материал, который необходимо соединять с формой. Но об этом мы узнали, только обсудив функции causa forrnalis и causa materialis. Кроме того, существует такое соединение формы и материала, где форма — это конструктивные правила построения определений, а в дальнейшем силлогизмов, а материалом служат те мыслительные члененности, которые содержатся в речи и используются в постоянной практике людей для выражения различных мыслей. А определенное соотношение формы и такого материала устанавливает своей деятельностью сам человек, который в этом случае выступает как causa efficient. To есть за счет определенных действий человек начинает соотносить форму и построенную по определенным члененностям речь. И делает он это с определенной целью. Таким образом, у нас при построении правильной мыслительной речи опять проявляется действие аристотелевых четырех причин. И план мыслительного выражения, который строит человек, точно так же детерминирован для Аристо 66 теля этими четырьмя причинами. В этом смысле здесь имеет место полное тождество того, как Аристотель описывает деятельность скульптора и деятельность мыслителя. Деятельность мыслителя строится по тем же самым законам, что и деятельность скульптора. Но самое важное заключается в том, что Аристотелем, фактически, была найдена та предметность, тот предмет, анализируя который и работая с которым можно было по определенным конструктивным правилам создавать и восстанавливать форму мысли, точно так же, как скульптор, работая с мрамором, воссоздает форму некоего предмета. И основная заслуга Аристотеля заключалась в том, что он нашел тот самый конструктивный предмет, как скульптор нашел свой мрамор. Теперь мы здесь должны сделать экскурс в историю происхождения разных деятельностей. Это произошло достаточно давно. Считается, что это произошло в доисторический период, и об этом свидетельствуют и элементы наскальных рисунков, и различные древнейшие культовые памятники, и сооружения типа могильников и т.п. Но человечество уже тогда нашло тот материал, тот предмет, работая с которым оно могло прекрасные формы подобия других предметов, людей и животных восстанавливать и создавать. Так вот, Аристотель проделал ту же самую работу, но уже в исторический период. Он нашел ту самую предметность, или тот предмет, работая с которым, человек может точно так же строить и восстанавливать мысль. Для Аристотеля этим предметом явились, с одной стороны, члененная человеческая речь и правила различения в этой речи, которые люди применяют, а с другой — организация этих членений речи в определениях и силлогизмах, где человек, организуя и выстраивая сочетания различенной речи, может задаваться вопросом: в какой мере эти организованные им членения (простые членения человек уже имел, а дальше он их организовывал по определенным правилам с определенной целью) соответствуют предмету мысли, то есть являются либо истинными, либо ложными. Это и характеризовало всё то, что мы сегодня называем «формой мысли». Поскольку в этом случае мысль можно строить, она начинает обладать определенной формой, уподобляясь либо структуре определения, либо структуре силлогизма. 67 Лекция 4. ФОРМА МЫШЛЕНИЯ — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ На прошлой лекции я старался показать, каким образом вообще была открыта категория формы. Потому что, с исторической точки зрения, у ряда категорий есть имена собственные и есть их авторы. Мы этого уже сейчас не замечаем, когда работаем с языком или мышлением. Оказывается, в истории у ряда категорий есть свой автор, которому принадлежит открытие данной категории и ее введение. Собственно, таким автором, который открыл, или, точнее, сконструировал (тут сложно сказать, что сделал Аристотель: открыл или проделал особую целенаправленную деятельность по ее конструированию) и вообще создал категорию формы, является Аристотель — великий древнегреческий философ. При обсуждении этих категорий («форма — материал», «форма — смысл» и «форма — содержание») я обращал внимание на то, что каждая из них представляет собой категориальную оппозицию, или категориальную пару. Соответственно, в категориальной паре «форма — материал» форма противопоставлена материалу, в категориальной паре «форма — смысл» форма противопоставлена смыслу, и, наконец, в категориальной паре «форма — содержание» форма противопоставлена содержанию. И я обратил ваше внимание на то, что здесь как раз мы и можем использовать категорию «единое — многое», которую обсуждали раньше. Но при этом возникает парадокс, или парадоксальная ситуация, которая определяется категорией «единое — многое». Потому что, безусловно, с одной стороны, в каждом из этих противопоставлений категория формы имеет свой собственный смысл, своё собственное назначение. И можно даже сказать, что категория формы в каждом из этих категориальных различений — совершенно особая категория, не похожая на категорию формы в других различениях. Это с точка зрения категории «многое». И это действительно так, и я дальше постараюсь это показать, вводя различение «форма — содержание». Но с другой стороны, с точки зрения категории «единое», что-то во всех этих различениях должно быть выделено такое, что позво68 ляет утверждать, что есть категория «форма» как таковая, которая входит во все эти три различения. И в этом смысле наше дальнейшее движение в проработке категорий заключается в том, что я попытаюсь показать уже на материале учебных текстов, как там всё насыщено категориями. Только мы этого не видим, а иногда мне кажется, что этого не видят и авторы учебников. Хотя там всё «дышит» категориями. Просто это надо с определенного момента суметь увидеть и задавать соответствующие категориальные вопросы. Обсуждая способ введения категории «форма», мы выделили два элемента в этой ситуации. Первый элемент связан с тем, что Аристотель специально обсуждал вопрос о том, как скульптор создает прекрасную статую из меди или мрамора. И, собственно, при анализе этого вопроса Аристотель спорил с Платоном о том, существует ли «общее» безотносительно к «единичному». Платон утверждал, что такое «общее» существует — это идеи, мир идей, которые устроены по типу космоса и находятся вне нас, это идеальные миры. Аристотель имел совершенно другой взгляд на этот вопрос. Он считал, что никакого «общего» без «единичного» не существует, и демонстрировал это на примере со статуей. И этот пример со статуей позволяет ввести категорию «форма» в эту ситуацию (обозначим ее как ситуацию 1). В ситуации 1 мастер начинает создавать прекрасную статую из меди или из мрамора и при этом как бы уже имеет замысел создания статуи. Но этот замысел очень серьезно преобразуется, трансформируется, меняется по мере того, как сам материал — медь или мрамор — начинает этому замыслу противостоять. И оказывается, что замысел нужно каким-то образом менять, чтобы сама форма выступила в таком отношении к материалу (как бы в нем самом что-то вскрыть такое), что, в свою очередь, повлияло бы на изменение и доведение этой «формы» до логического завершения. И отсюда получалось, что формой в этом случае оказывается само представление о прекрасном лике вещи, которое мастер доводит в процессе взаимодействия с материалом до совершенства. И, с одной стороны, он этот лик прекрасной вещи воплощает, изменяя его, а с другой стороны, выявляя всё новые и новые характеристики и свойства самого материала. Собственно, на примере этой ситуации я показывал, что значит для Аристотеля категория формы в отношении к материалу (где материалом служат те или иные элементы природы, в частности медь или мрамор), и как при этом выступает форма. А затем я делал следующий ход и стал рассказывать о том, как в ситуации 2, когда то же самое требование, которое используется в ситуации 1 скульптором, когда он форму соотносит с материалом, выполнил сам Аристотель, а материалом для него была значащая, различенная, мыслительная речь, то есть совершенно особый был взят материал. И если в ситуации 1 был процесс создания произведения искусства, то, собственно, во втором случае речь уже шла о мышлении, о философии и науках. В первую очередь — о мышлении. И если в ситуации 1 Аристотель описывал то, как работает, с его точки зрения, мастер, когда создает прекрасную статую, то в ситуации 2 Аристотель был мастером сам. 69 Он сам работал и при этом осуществлял анализ того, как строится правильное мышление при использовании мыслительных различений в речи. И, с моей точки зрения, в этой ситуации Аристотель и выделил, вернее, сконструировал форму мысли. То есть он, фактически, проанализировал, с одной стороны, как устроен материал, которым являются рече-мыслительные тексты, насыщенные, наполненные теми различениями, которые в период, когда Аристотель стал осуществлять свою задачу, уже были созданы всей предшествующей греческой цивилизацией (потому что развивались науки, речь звучала в судах, на Агоре, мышлению учить начали софисты и т.п.). И в этом смысле древнегреческий язык, с одной стороны, а с другой стороны — набор необходимых различений уже были в определенной мере отработаны и использовались. Величайшая заслуга Аристотеля еще и в том, что он нашел тот предмет, который, с его точки зрения, формируется в мышлении, и стал анализировать, как этот предмет оформляется в том случае, когда мышление по всем критериям осуществляется как правильное. И вот таким предметом, который Аристотель стал анализировать, для него выступили мыслительные различения типа «демократия — охлократия» и т. п., целый набор этих самых различений. При этом Аристотель выделил вполне определенный элемент, с которым работал. Таким элементом было «определение». Аристотеля очень интересовало, что такое правильное определение. И анализируя определение, он обозначил ту форму, по законам которой, в соответствии с которой строится правильное определение. То есть для того, чтобы дать правильное определение, нужно выделить общий «род» и «видовое отличие». И если общий род и видовое отличие выделяются, то конструируется правильное определение. А кроме того, в процессе анализа определения вычленялось много других образований. Поэтому Аристотелю надо было отличить род и видовые отличия от других образований и найти определенные конструктивные правила построения мысли. Кроме того, когда в результате этой работы (во второй ситуации) Аристотелю, собственно, удалось выделить то, что мы сегодня называем «формой мысли», он начал работать вообще со структурой высказывания, в которой есть субъект и предикат. И при этом соотносить всё время эту субъект-предикатную структуру высказывания, которую для него и описывало определение (то есть определение точно так же строится по субъектно-предикатной структуре). Далее Аристотель стал соотносить саму эту субъектно-предикатную структуру, или план высказывания (речи-мысли), с устройством самих предметов и вещей, то есть с тем, что существует объективно, с планом объекта. И Аристотелю удалось разделить план самого высказывания, в данном случае план устройства определения, и то, что этому определению соответствует, то есть как устроены вещи на самом деле. Собственно, в этом и заключается то решение, которое Аристотель предложил европейском цивилизации. Потом этот план стал выделяться в качестве плана формы, который стал противопоставляться другому плану, собственно плану, в котором задаются характери70 стики объектов и вещей. И с этой точки зрения, Аристотель впервые в истории европейской цивилизации стал работать с формой как таковой. Другими словами, как только это однажды предметно было описано, был выделен такой предает, как определение, и философ стал анализировать то, как строится само определение, это и было названо формой. Но затем происходит следующее: мы теперь можем этот термин «форма» начинать отрывать от того предметного материала, на котором он был получен (а получен он на примере конкретного устройства определения), и задавать общий вопрос: а что такое форма как таковая, как может быть устроена форма мысли? В какой-то мере то, как мы обращаемся с формой, тождественно общей структуре введения Аристотелем представления о форме. То есть был некоторый случай, где описывалась работа мастера по созданию прекрасной статуи из мрамора или меди. Анализируя этот случай, я вроде бы выясняю, что для мастера форма — то, что воплощается в эту статую. Действительно, я начинаю понимать, что общее — прекрасный лик Бога — не существует отдельно от мрамора. И затем рассматривал аналогичные случаи, изучал аргументацию, которую приводил Аристотель. И теперь, выделив форму на конкретном примере мастера, я задаю вопрос: а как я выступлю в роли мастера, если, например, отождествлюсь с Аристотелем, работая с мышлением? Но если я начинаю работать со вторым вопросом, то должен представление о форме оторвать от конкретного предметного случая (ситуации 1) и перенести его в ситуацию 2. Следовательно, когда я описывал первый случай про мастера и второй случай про мыслительное определение, то в каждом из этих конкретных случаев находил форму. Но интересный момент состоит в том, что в первом случае форма раскрывается на одном предметном материале, а во втором — на совершенно другом. А что позволяет утверждать, что всё это обладает какой-то характеристикой целого? Не проделал ли я какой-то фокус, рассказав в одном случае про форму одним образом, во втором случае — подругому, а на самом деле никакой связи между этими ситуациями нет? И это можно разобрать и обсудить при помощи категории «единое — многое». Потому что если случая два, то это уже «многое» для всех нас, а если случаев много, то всегда следует задавать вопрос: а что позволяет утверждать, что это — «единое», что оно не распадается на какие-то куски и части? Собственно, точно так же можно рассуждать и об открытии, которое сделал Аристотель относительно мышления, и вообще о самих способах рассуждения. Аристотель построил форму на материале определения, а дальше возникает вопрос: в какой мере она является вообще формой, и как это всё может быть отнесено ко всем случаям мышления? Но здесь и возникает другая, более сложная ситуация, связанная с тем, что до сих пор представители множества разных направлений в философии и логике обсуждают, что это за категорию ввел Аристотель под названием «форма». И никак не придут к какому-то единому мнению. Поскольку Аристотель открыл законы формальной логики, то до сих пор существует такое направление в науке «ло71 гика», как формальная логика, которая изучает и развивает взгляды Аристотеля. Но есть и самые разнообразные оппозиционные направления в философии и логике. Так, с точки зрения общефилософских течений, аристотелизму, как целостной системе и направлению в философии, противостоит платонизм. (Про это я говорил на прошлой лекции.) И вся европейская цивилизация пронизана этим течением, поскольку у философии Платона оказалось очень много последователей-платоников, которые осуществляли трансляцию данного способа мышления на протяжении всей истории вплоть до XX века. И скажем, в начале XX века русским философом А.Ф. Лосевым (я про это много говорил) была написана, на мой взгляд, гениальная книга «Античный космос и современная наука», где автор рассказывает с точки зрения античных взглядов, в частности, взглядов Платона, о перспективах естественных наук. А конец XIX — начало XX века характеризовался невероятной верой в науку. (Это сейчас с верой во всемогущество науки чтото произошло после Чернобыля и атомных бомб.) А в XIX веке торжествовала такая оптимистически направленная, страстная и напряженная вера в науку. И вот, собственно, в книге «Античный космос и современная наука» А.Ф. Лосев показывает, что, с точки зрения древнегреческой программы Платона, успехи естественных наук в какой-то степени призрачны. Если глубинно проанализировать набор различений и представлений, который был введен древними греками, тот категориальный массив, или категориальные различения, и те представления о мышлении, которые были созданы древними греками, то всё, что было сделано в последующий период в естественных науках, во многом эту программу Платона даже не догнало с точки зрения общих представлений о мышлении. И это достаточно интересно, поскольку противоречит общепринятому представлению, нашим обыденным взглядам. (Мы ведь не мракобесы, не обскуранты какие-то, видим, как развивается техника, такой прорыв! А тут вдруг такое утверждение?) И с этой позиции точка зрения А.Ф. Лосева в новое время в этом смысле противоположная, в отличие от общераспространенной точки зрения, которая, например, в учебники по истории вошла, и до сих пор там содержится: утверждается, что после Античности наступил период мракобесия в Средние века, а потом был невероятный Ренессанс, Новое время, и после Нового времени стали невероятно бурно развиваться науки. Так вот, с точки зрения А.Ф. Лосева, всё наоборот: в Средние века был невероятный расцвет духовности и запуск сложных программ, прежде всего, совершенствования самого человека, а в Новое время произошел слом этих программ, и развитие пошло по очень узкой линии, которая легла в основу естественных наук. То есть совершенно другой анализ социально-культурной ситуации. Таким образом, мы установили, что линии Аристотеля в философии противостоит линия Платона, то есть линия платонизма... Филипп Дмитриев: Не являются ли форма у Аристотеля и идея у Платона равными? 72 Ю.В.: В общем-то да, есть такое понимание, такое суждение, что то, как Аристотель понимал форму (но это еще надо ухитриться показать), не противоречит взглядам Платона на идею. Хотя здесь очень сложно с исторической точки зрения. Дело в том, что у Платона не было категории формы, тут ничего не попишешь. Можно по-разному относиться к Аристотелю... Есть соответствующие работы, где платоники в основном нападают на седьмой раздел «Метафизики» Аристотеля, (вернее, в 7-12-м разделах), где Аристотель выступает против представления о том, что общее существует независимо от единичного, что свойственно для Платона. И есть работы, где показывается, что Аристотель неверно трактует Платона, что он не понял диалоги Платона. Можно по-разному к этому относиться, но, с исторической точки зрения, бесспорно, что у Платона категории формы не было как таковой, и ею он осознанно не пользовался, а начиная с Аристотеля — она появляется. И с этой точки зрения (это уже моя позиция), появление новых средств, направленных на анализ мышления, резко меняет само мышление. В этом смысле Аристотель и осуществил революцию. Можно поразному спорить, исходил он или нет из Платона, но в силу того, что он сконструировал новое средство работы с мышлением, — он осуществил революцию в мышлении. В этом смысле платоники, те, которые поняли Аристотеля, сначала осваивают логику Аристотеля, а затем начинают восстанавливать программу Платона. Без этого невозможно серьёзно обсуждать мышление. Например, любой ученик — аристотелеанец, обучавшийся на аристотелевых формах, элементарно в споре разбивает любого платоника. Потому что умеет видеть то, про что я говорил, — само устройство рече-мыслительных высказываний или мыслекоммуникативных структур. Начинают платоники что-то про космос рассказывать, а аристотелеанец возражает: «Позвольте, а какие вы тут использовали слова и термины? А вот как у вас эти слова и термины друг с другом связаны? О, да у вас просто неграмотное высказывание. Какая мысль? Какой космос? Да вы вообще мысль не можете выразить». И за счет таких неприятных придирок ход рассуждения платоника просто уничтожается. Поскольку вещи-то оказываются бесспорными. А именно какие? Само высказывание должно быть устроено по определенным правилам и, более того, если правильно следить, то всё время в высказывании можно обнаруживать «дырки» (несогласованности) и, таким образом, его у человека программировать. И то, что открыл Аристотель, до сих пор проявляется и используется. И тут возникает уже новый, совершенно другой план, какой нам снова придется обсуждать. Всё дело в том, что Платон в отличие от Аристотеля вообще не любил определения, всегда был против определений. Есть даже такая шутка по поводу того, что однажды к Платону все ученики пришли и сказали, что он такой гениальный философ, про такие миры рассказывает, а определений не дает, и попросили его дать определение человека. И он дал, сказав, что это двуногое существо без перьев. И ему принесли выщипанного гуся. Такой 73 известный случай. После этого Платон еще больше утвердился в своем методе, сказав, что он определений не дает. Но за этим моментом стоит серьезный план, который собственно требует прямого отношения к вопросу о том, что такое «форма». Потому что ведь на другой стороне есть платоники — такие же ехидные, въедливые, как и аристотелеанцы. Они друг с другом постоянно спорят. И платоники начали утверждать, что не случайно Платон не давал определений, что, с этой точки зрения, Аристотель и Платон, фактически, работают с разными типами знания. И это начинают демонстрировать, ссылаясь на то, что Аристотель был гениальным систематиком, энциклопедистом античности, и всё, что проделала античность, весь тот набор знаний, который античность породила, он систематизировал. И им написаны трактаты по совершенно разным разделам науки. С этой точки зрения, конечно, если рассматривать такую фигуру, как Аристотель, то после Нового времени ему соответствует всего один мыслитель — Гегель. Подобных других людей с таким энциклопедическим объемом знаний и такого склада мышления в истории человеческого познания просто не было и нет. Но в силу того, что Аристотель был систематик, он уже работал с готовым знанием, что очень важно. Древнегреческими учеными были накоплены определенные данные, и поэтому Аристотелю было очень важно сопоставить взгляды разных своих предшественников друг с другом, проанализировав, кто из них, с его точки зрения, был более прав, а кто — менее, создав систему этих знаний. И он поэтому всё время работал с уже готовым знанием, его как бы оформлял. И в этом плане у философа, который работает с готовым знанием, вопрос о том, что есть что, то есть вопрос определения, является вполне законным и главным. А вот если брать тот материал, который больше всего интересовал Платона, то, оказывается, это — нравственно-этическая проблематика. И, фактически, не случайно в его «Диалогах» Сократ выступает не просто учителем мудрости, а всё время пытается восстановить представление о том, что является нравственным, или благим, потому что одна из основных категорий философии Платона — это учение о благе, которое, собственно, и развивает Сократ. С этой точки зрения, ясно, что этические, нравственные вопросы, к сожалению или к счастью, не могут быть так же определены, как представления, например, о движении Земли. То есть в качестве готового знания знание о нравственности или о благе, к сожалению или к счастью, выработано быть не может. Можно, например, правила поведения в готовой форме представить, как себя надо вести (такой набор полицейских запретов: что можно, что нельзя; за что надо убить, за что — отрезать голову). А на вопросы о том, как прожить жизнь, которая была бы благой, ответить в соответствии с определением, то есть дать конечный ответ, — невозможно. Поскольку, и Сократ это прекрасно понимал, жизнь постоянно опровергает эти определения. Человек, который усвоил правила, может оказаться либо один, совершить дурной поступок, либо там дальше что-то произойдет... Еще при жиз74 ни, или уже после смерти. Это его не интересовало. Что-то произойдет. И с этой точки зрения, метод рассуждений об этих вопросах является для Сократа и Платона совершенно другим, чем для Аристотеля. В частности, уже после Аристотеля, владея представлениями о форме, логики стали анализировать, как строится диалог у Платона. И они пришли к такому выводу, что структура платонического диалога строится по типу индукции. Но это особый тип индукции, когда человек, обладая интуитивным представлением о том, что — хорошо, а что — плохо, сразу однозначного определения дать не может и строит определение того, что — хорошо, а что — плохо, по сути, в виде достаточно сложного объяснения. И ему постоянно нужно со своей мыслью, со своими высказываниями что-то делать. И такой способ движения, такой индуктивный ход, подобное движение в диалогах Сократа Аристотель называл «вероятностной индукцией», поскольку в результате диалогов никогда законченного определения не создавалось. И вот, собственно, диалоги Сократа и Платона в основном строятся по вероятностной индукции. С этим связан еще один существенный момент. Оказывается, Аристотель в то время уже использовал те различения, которые были отработаны методологами. И Аристотель, фактически, восстанавливал тот набор различений, те различенные уровни, которые были осмыслены в Древней Греции на тот период времени, в котором он жил. А Сократа и Платона интересовало не использование законов различения, а сам процесс создания этих различений, в частности, вопрос: а когда вообще надо различать? Когда надо различать, а когда — не надо? С этой точки зрения, конечно, и сам процесс мышления был организован совершенно по-другому, потому что само различение еще надо построить, если его невозможно взять в готовой форме. Берешь, например, его в готовой форме, а оказывается, в данной ситуации различать ничего не надо, и ты просто превращаешься в «демократического болтуна». То есть ты повторяешь, или в принципе что-то вычитал, знаешь, и всех людей уверяешь, что вот это надо различать, а вот то различать — не надо. С этой точки зрения, Сократа прежде всего интересовал вопрос: что, когда и при каких условиях надо различать? Не то, что вообще накоплено и не различено, что люди там наработали, а вот тебе самому, в соответствии с твоей нравственной позицией... Для Сократа, вообще, мышление — это способ нравственного поведения, то есть принятия того или другого решения. То, что для Сократа нравственно, имеет достаточно простой вид. Философия Сократа заключается в том, что Сократ, как он сам считал, обладал каким-то непонятными, удивительными данными, которые он называл «демонами». Сократ считал, что есть «демон», с которым он постоянно советуется, который наставляет его на свершение благих поступков. Если люди толпой в какое-то одно место бросились, все вроде это делают, а «демон», который находится в Сократе, говорит, что это всё — зря, всё это мелочи, пусть люди себе суетятся... Здесь 75 проявляется какой-то «субстальный голод», то есть человек думает не так, как толпа. Это, конечно, многих людей раздражает, потому что им кажется, что все должны вести себя так, как себя ведут они, поскольку их большинство, и они как бы проверяют свое поведение по «закону больших чисел». Если толпа ведет себя определенным образом, и я себя так же веду, — значит мое поведение правильно. Все идут в гору, и я иду — это правильно. А тот, кто так себя не ведет, отделяется от общества, хочет показать, что он — более важный. Вот и Сократу пришлось вытерпеть такое отношение общества, потому что его поведение никак не совпадало с толпой. Под конец его осмеяли, осудили и заставили выпить цикуту и умереть. А он послушался решения суда. А толпа опять посчитала, что с его стороны и этот акт был для Сократа каким-то способом выделиться среди всех. Мог ведь он бежать, жизнь спасти. Любой бы, всякий нормальный, с их точки зрения, человек спас бы себе жизнь. А он взял и выпил яд, послушался закона. Сократа всё время интересовало: а почему именно он совершает такие поступки? И он открыл, почему он такое совершает... Потому что в нем существовал какой-то странный голод, который он, Сократ, называл «демоном» (даймоном). В этом смысле, демон в представлении древних греков — совсем не тот образ демонов и чертей, который сложился у нас. Потому что по-гречески даже «счастье» называлось словом «дедаймония» («де» — благой, а «даймон» — это этот самый «демон», то есть буквально — «благой демон»). То есть я счастлив, если надо мной встал благой демон и дает мне благую энергию. Я ее воспринимаю, и вот тогда у меня счастье, но совсем не в том смысле, как у нас. Так вот, с этой точки зрения, Сократ очень интересно говорил про демона: демон никогда не говорит о том, что надо делать, а всегда только говорит о том, чего делать не надо. Есть даже интересный такой момент. Когда в 1975 году общество ЮНЕСКО проводило сочинение среди школьников на тему о Сократе, то первую премию получило очень короткое сочинение одной девочки, которая написала, что Сократ говорил и любил правду, и за это его убили. В этом смысле здесь налицо ряд очень интересных рассуждений на тему, что вообще означает слово «правда». Когда она к месту, а когда — нет? И если грубо заниматься логическими определениями и говорить только правду, то мы, оказывается, всё время чего-то с большими корректировками не доделываем. Так вот, с этой точки зрения, у Сократа был совершенно особый способ получения определений. Он заключен в том, что вообще всякий человек (это соответствует учению Платона о том, что душа уже всем обладает, что она уже до рождения человека получила знания о реальном) знает приблизительно, что такое «справедливое», но вот только необходимо это выявить. А как это выявить? За счет совершенно особой формы рассуждения, которая, собственно, и называлась у Сократа «сократическим диалогом». Сократ это с чем связывал? У Сократа мать была повивальной бабкой, то есть принимала роды. И в этом смысле он считал, что такого же типа работу, но только 76 с душой человека, осуществляют, в принципе, в своих диалогах философы. И Платон, и Сократ показывали в этой технике чудеса, считая, например, что пифагорейскую теорему каждый человек может и должен сам сотворить в своей душе. Просто его нужно поставить в определенную ситуацию разговора, и он сам её откроет, никуда не денется. И с этой точки зрения, была такая очень интересная диалогическая форма: человеку всё время показывали, что всё, что он впервые высказал, ему самому на следующем шаге становилось ясно, что он сказал нелепость. И по этой лесенке рассуждений его всё время вели дальше, одновременно показывая, что он обладает очень ярким пониманием предмета, и этот ясный предмет позволяет ему самому постоянно корректировать свою исходную речь, которую произносит. И таким образом все время с ним строили работу. Например, есть такой диалог, достаточно простой по форме, но мастерский диалог Сократа с героическим мужем Лахетом, который прошел через много сражений (Сократ, кстати, сам тоже воевал). Сократ начинает с ним обсуждать, что такое мужество, как с человеком действительно мужественным, который обладает этим знанием внутри себя самого, был во многих сражениях, других людей поднимал в атаку. И вот форма рассуждения, или вернее, след рассуждения (читая диалог, мы можем выявить след — от чего там к чему что идет) достаточно любопытен. И вот сначала Лахет говорит: «Ну, вроде ясно, что такое мужество. Я это интуитивно очень сильно понимаю. Это когда человек остается на своем месте в строю в порядке ведения боя, не убегает из боя, это, в общем-то — стойкость, умение отражать, то есть, не умение, а способность отражать неприятеля и не обращаться в бегство». Но поскольку Сократ сам воевал, и в этом деле был человеком сведущим, то сразу вспомнил, что, например, афиняне воюют так: выстроили боевой порядок и стоят, а например, спартанцы то наступают, то отступают, специально такую тактику используют. Можно ли того воина, который, например, то наступает, то отступает, а бой выигрывает, назвать менее мужественным? Ведь мы спартанцев никак не можем назвать менее мужественными, чем афиняне. И потом всякие случаи в бою бывают: ты можешь отступить, противника заманить, а потом, заманив его, напасть на него и победить. Лахет подумал, что вроде действительно получается, что критерий «оставаться на своем месте, не обращаться в бегство» какой-то уж очень буквальный. Есть прямо противоположные случаи, когда вроде бы человек в бегство обращается, строй покидает, но при этом сказать, что он не мужественный, нельзя. Кстати, очень важно то, что в первом случае Лахет дал свое интуитивное определение, которое было эмпирическим. То есть он так смотрел вообще на тех воинов, кто с ним в бою проявлял мужество: это те, кто не дрогнул, до конца в строю остался. Но, оказывается, есть и такие случаи, где человек осознанно, являясь мужественным, покидает строй, куда-то отбегает, заманивает противника. Следовательно, эмпирический случай не подходит, не дашь при его помощи 77 достаточного определения мужества в бою. Нужно двигаться к чему-то общему. И Лахет делает следующий шаг: он говорит — ясно, что здесь можно что-то в общем поправить, действительно, тут немножко коряво получилось. Мужество — это разумное упорство. В общем, понятно, что мужество имеет отношение к упорству. А Сократ ему сразу отвечает: «Ну, а как с упорством? Есть неразумные типы упорств? Человек провалился в колодец. Ему надо как-то думать, как оттуда вылезти, звать кого-то на помощь. А если никто не придет, то надо самому вылезать. А он всё равно упорно там сидит и думает: «Кто-нибудь, да придет». Упорный человек там так и умрет, и никто его не спасет. Вроде бы и не скажешь про такого человека, что он мужественный. Хотя упорство — налицо. Прием, который в этом диалоге использует Сократ, в общем-то тот же самый, который применил Диоген Лаэртский, когда принес ощипанного гуся в ответ на определение, что человек — двуногое существо без перьев. Фактически, в рассуждениях всё время делаются два приема. Первый прием — когда сначала дается единичное определение, то привлекается такой же единичный случай, который прямо его опровергает, является прямо противоположным данному определению. Когда же дается более общее определение, то выдвигается такой единичный случай, который требует доработки определения (доопределения), введения каких-то новых параметров этого общего определения. Как, например, с неразумным упорством. Лахет и во второй раз поправился и сказал, что да, ясно, то, что ты сказал, имеет отношение к неразумному упорству, а я говорю про разумное, когда человек не просто бессмысленно в колодце сидит, а что-то вообще делает осознанно. Осмысленно и осознанно. Тогда Сократ с другой стороны заходит и говорит: «А вот как ты считаешь, кто является более мужественным? Кто в колодец лезет, не умея этого делать, или тот, кто умеет? Вроде бы у того, кто умеет, поскольку он всё это может делать, никакого мужества в этом поступке нет. Он просто это отправляет, как навык, поскольку этому научен. Сократ здесь вводит следующий параметр, что в случае разумного упорства всё очень еще зависит от того, основано ли это упорство на знании, или на незнании. Потому что, если человек это уже знает, то вроде получается тогда у него и мужества никакого нет — он просто делает то, что знает. Понимаете? И мужества никакого. Речь идет о том, что надо какой-то совершенно особый случай подобрать, когда это жестко к отправлению человеком освоенной привычки не сведешь, потому что мужество — это не просто привычка. Притом, смотря где нужно выстоять. Тогда в этот диалог вступает Никий, и через определенную цепочку рассуждений, он, используя этот момент рассуждений Сократа, начинает обсуждать причину, по которой человек может выстоять только тогда, когда в бою ситуация очень трудная. Что нужно корень мужества брать: почему один человек себя ведет мужественно, а другой — нет. И начинает утверждать, что фактически, мужество, оно всегда основано на знании опасного и безопасного и на знании добра и зла в будущем. Вот, человек если из строя 78 убежит, испугается, но за это потом будет проклят всем народом, всей Агорой. Он как бы свое тело спасет, а поскольку будет проклят народом, то жить ему будет невозможно. Поэтому, если человек обладает этим знанием доброго и злого — он выстоять сможет, так как может на этом знании сконцентрироваться. Еще очень важно, что для греков понятие стыда было совершенно другим, чем у нас. Потому что есть такие всякие рассуждения в нашей литературе: почему такие демократы, такие праведники, как Сократ, Платон, Аристотель, считали, что могут быть рабы? Нам, с нашей точки зрения классовых взглядов, вообще угнетение других людей — это очень плохо. А тут вопрос возникает, как такой умный человек, как Аристотель, считал, что рабы могут быть, и называл их «говорящими орудиями». Оказывается, у греков было совершенно особое понимание того, что такое стыд. Грек даже помыслить о том, чтобы его сделали рабом, просто не мог. Для него это ниже всякого стыда. Это для него — конец жизни. Поэтому грек считал, что его, например, рабом никто сделать не может. Он лучше умрет. Упадет на меч в конце концов. Поэтому для греков рабы — это те, кто опустился ниже этой границы стыда, вот этих нравственных критериев, которым наплевать на то, что добро, что — зло. Поскольку грек преступить эту границу бесстыдства просто не мог. Для него переступание через эту границу равносильно смерти при жизни, то есть он уже умер, его нет. Потому что у греков была совершенно особая категория стыда, которая нами сейчас очень трудно воспринимается. И поэтому для Никия, с подсказок Сократа, получается, что мужество — это есть, как ни странно, знание добра и зла в будущем. И после небольшой поправки Сократа (мужественный человек, он вроде бы и в прошлом, и в настоящем, и в будущем — всегда мужественный) уже не может быть так, чтобы воин только в будущем стал мужественным. И все участники беседы приходят к такому определению, что мужество — это есть совершенно четкое знание благого, в котором человек утвержден. То есть если человек знает, что такое «благое», и может эти критерии выстраивать, то он сможет устоять во время опасности в бою. Вот таков совершенно особый стиль ответов Сократа. Здесь важно обратить внимание на то, что в диалоге «Лахет» показан способ определения формы в соответствии с тем, как рассуждали Сократ и Платон. То есть, фактически, показано это движение, за счет которого некоторое интуитивное представление опровергается и с ним что-то происходит, и по ходу возникают новые различения. Например, оказывается, нужно различать разумное и неразумное упорство, давая характеристику мужеству. То есть, когда человек говорит: «Мужество — это есть упорство», — он не различает разумное это упорство или неразумное. А после того, как он говорит, что мужество — это разумное упорство, он не анализирует роль знания в этом упорстве, поскольку упорство очень часто связано просто с привычкой, а не добровольным принятием решения. Таким образом, данный тип движения, который наблюдается в самом диалоге, с точки зрения не Сократа и Платона, потому что у них 79 не было категории формы, а с точки зрения платоников, он характеризует форму, поскольку человек, оказывается, свою форму выстраивает в процессе своего собственного рассуждения. Особенно в тех случаях, когда мы не оперируем готовым знанием и не апеллируем к готовому знанию, к тому, например, что дважды два — четыре. Кстати, с «дважды два — четыре» — тоже всё не очень просто, потому что это только при определенных условиях достоверное знание, когда нам абсолютно ясно, что есть множимое и множитель, и как множимое и множитель интерпретируются. Во всех остальных случаях, когда нам знание еще нужно получить, оказывается, что сам процесс рассуждения мы обязаны выстроить, переходя от менее достоверного к более достоверному. И вот этот процесс выстраивания все более и более достоверных утверждений не является произвольным и безотносительным, то есть чем-то внешним по отношению к тому предмету, который мы выстраиваем. Это момент очень интересный, потому что, на самом деле, у того эпизода, когда Платону притащили ощипанного гуся, есть продолжение. Потому что потом Платон в диалоге с самими этими людьми стал показывать, как он понимает, что такое человек, какими он обладает определениями. Но интересно другое, что без самого такого рассуждения, без подобного движения через диалог, ни Сократ, ни Платон, в отличие от Аристотеля, определения дать не могли. И, собственно, требуется анализ, почему это происходит, и что это всё означает. Один момент я уже назвал. Он связан с тем, что Аристотель работал с готовым набором различений. Он как бы выявлял и давал определения тому, что и так известно, и за счет этого восстанавливал логическую структуру уже отработанного предметного знания. Вот, фактически, у отработанного предметного знания, то есть у того, что и так известно, Аристотель восстанавливал логическую структуру и обращал внимание на то, какова она. А Платон и Сократ работали с такими образованиями, например, с этическими представлениями, которые в качестве готового знания передать нельзя. Почему нельзя? Потому что всё еще зависит от того, с кем я разговариваю. И здесь очень важен живой собеседник, потому что то, что для одного — знание, другой, например, до этого знания элементарно не дорос, и когда ему начинаешь передавать, как Аристотель, некоторое готовое определение, просто «мечешь бисер перед свиньями». В этом смысле, Сократ и Платон отработали совершенно другую структуру: надо самого человека втянуть в диалог, и там посмотреть, что с ним начнет происходить, как он сам там начнет двигаться, у него что-то начнет возникать, и следовательно, выявится то определение, которое и будет вырабатываться в процессе диалога. Оно, с одной стороны, будет обладать истиной — потому что Сократа больше всего интересовала истина (он, в этом смысле, не занимался популяризацией идей), но эта истина будет связана с теми усилиями, с которыми ты подойдешь вместе с другим человеком к выяснению этого вопроса. Но нас интересует вопрос о том, что такое форма, а не просто чем отличались Аристотель и Платон во взаимодействии друг с другом. Так 80 вот в этом случае получается одна очень интересная вещь. По всей видимости, и я специально подчеркнул это в ответе на вопрос Филиппа, что у Платона и у Сократа не было категории формы, и следовательно, свою работу и само устройство диалога они не анализировали и не описывали так, как это делал Аристотель. То есть они как-то строили процесс мышления, а ответить на вопрос о том, как они его строили и как можно вообще этот процесс мышления охарактеризовать и превратить в предмет работы, не могли. Поэтому мы, с одной стороны, рассуждаем, как-то течет диалог Сократа, например, с Лахетом по поводу того, что такое мужество, а потом, с другой стороны, можем поставить вопрос: а как мы всё это обсуждали? То есть до этого мы просто рассуждали о мужестве, но есть ведь совершенно другой вопрос: а как мы обсуждали, как мы, собственно, к этому шли. И я, когда этот диалог пересказывал, не столько старался рассуждать о мужестве, сколько пытался воспроизвести то, как строилось само это движение. Так вот такого типа вопрос не о том, что мы обсуждали, а как обсуждали, это, собственно, вопрос, который, оказалось, можно задать только после того, как Аристотель сконструировал форму. Потому что, собственно, соответствие субъектно-предикатного высказывания — это и есть вопрос о том, как устроено само определение. То есть не то, что мы определили, не то, что есть человек, а как устроена сама форма нашего определения человека. Что там является общим родом, а что — видовым отличием. Это же и есть вопрос о форме. Одно дело, что мы понимаем под человеком свободное смертное существо, обладающее мышлением, разумное смертное существо, обладающее мышлением — это то, что мы понимаем про человека. Но совершенно другой вопрос: как устроено наше определение? А там, оказывается, есть ближайший род и видовое отличие. Так вот это обращение, вот этот переход от предмета, про который мы рассуждали, на форму, которой этот предмет задается, возникает впервые с Аристотеля. Аристотель первым для европейской цивилизации открывает этот ход в мышлении, что, оказывается, от предмета, от того, что такое человек, можно перейти к форме, к выяснению того, в какой форме возникло это определение. Но после того, как такого типа утверждения появились, что можно не на предмет мысли обращать внимание, а на форму, в которой этот предмет появляется, этот стиль рассуждений можно применить уже и к Аристотелю, и к Платону. То есть сами они не применяли, а мы можем применить. И тогда возникает очень любопытная деталь, что если у Аристотеля есть готовая форма и готовый предмет, то есть в готовом виде он отработал ближайший род и видовое отличие, и дальше на любом материале может осуществлять эту форму, то, оказывается, в диалогах Сократа и Платона форма создается в процессе самой коммуникации. И для нее очень важно, какую реплику скажет собеседник, как на нее ответит Сократ, то есть сама форма обладает какой-то динамической характеристикой, она, в отличие от Аристотеля, не накладывается как готовая структура. 81 Например, по Аристотелю, я уже знаю, какова структура определения — ближайший род и видовое отличие, — и всё могу под эту структуру подводить. Тогда всё, что я под эту структуру буду подводить, будет выступать как материал по отношению к этой форме, точно так же, как в процессе изготовления статуи из меди или из мрамора: у меня есть форма, я эту форму дорабатываю, но есть материал, на который я ее налагаю, и при этом сама форма как-то немного будет трансформироваться. А вот у Сократа и Платона как-то очень всё по-другому, всё совсем не так. Как бы получается, что и формы заранее нет, по которой мы пойдем, а она только будет создаваться в самом каком-то динамическом процессе. И результат, к которому мы придем, тоже не очень ясен. Сократу ясно только одно, что «демон» будет говорить, куда идти не надо, будет полагаться на интуицию и интерес к истине. А что означает интерес к истине? А это означает, что я полностью буду опровергать всё, что говорит мой оппонент, используя все критерии, весь тот набор мыслительных приемов, которыми обладаю. Но после того, как мы путь прошли, если нам удалось в конце диалога ответить на вопрос о том, что такое мужество, — мы форму построили. Но, оказывается, тогда предмет мысли, или содержание, уже не выступает чем-то внешним по отношению к этой форме. И возникает очень интересный вопрос по поводу слова «содержание». Оказывается, что в этом случае содержание это то, что держится наличием самой формы. Если рассмотреть этимологию слова «со-держание», то оказывается, что содержание мысли — это не содержимое, то что можно как в банку наливать (есть банка — форма мысли, а я туда разное могу наливать: воду, молоко, уксус и т. п. — в общем, всё, что хочу). Оказывается, это совсем не так, а содержание — то, что держится (в слове «содержание»» есть этот корень) в силу того, что существует сама эта форма. Самим наличием формы оно соприсуще. Содержание соприсуше форме. То есть я, в этом смысле, за счет того, что осуществляю определенное достаточно сложное мыслекоммуникативное движение — как то, что наблюдается в диалогах Платона, — в силу самого этого движения содержание соединяю с формой. Таким образом, существует категориальная оппозиция между аристотелевским и платоновским подходом (подходом платонизма) к логике и мышлению. Хотя при этом очень важно иметь в виду (я еще раз об этом говорю), что саму категорию формы, то есть сам такой способ движения мысли, создал Аристотель. Вот как всё, оказывается, запутанно в истории философии. Потому что как бы стили движения рассуждений у философов совершенно разные, но что-то утверждать про предшествующий стиль можно только после того, как начинаем использовать средства последующего стиля, например, различение формы в отличие от предмета мысли. Поскольку получается, что способ движения, способ рассуждения, созданный Сократом и Платоном, в значительно большей степени описывается категорией «форма — содержание», а тот стиль рассуждения, который создал Аристотель, 82 в значительно большей степени описывается категорией «форма — материал», поскольку в этой категории форма может выступать в качестве чего-то готового, что переносится с одного материала на другой. Форма, конечно, трансформируется, но при этом она допускает использование такого типа, когда ее с одного материала можно переносить на другой, с другого на третий и т.д., всё время как-то ее преобразуя и меняя. А вот с содержанием происходит совершенно иное, поскольку, оказывается, саму форму каждый раз нужно выстраивать, чтобы дойти до определенного содержания. И сам способ выстраивания, способ этого движения не безразличен к содержанию. И вот уже в XIX веке, то есть гораздо позднее, возникает категориальная проблема. Она формулируется так: если брать категорию «форма — содержание», то по отношению к этой категории форма определяет содержание или форма существует независимо от содержания? Как здесь все-таки быть? Так всё зависит от того, что мы анализируем. Когда мы анализируем уже закончившийся процесс мысли, например диалог, не мы же его строим, а мы берем его текст (Лахет с Сократом рассуждали, и в принципе, оказывается, что Сократ в этом случае уже свою работу проделал, и в результате они форму построили). Так вот в этом случае форма может быть отделена от содержания, существовать независимо. Почему? Потому что я беру этот готовый диалог, как уже произошедшее, и на основании рефлексии, то есть анализа того, как строился процесс, могу саму эту форму снять и отдельно ее на отдельном листочке повесить. И это характеризует уже закончившийся процесс диалога. А если я сам этот диалог строю, то у меня формы, как того, что завершилось, закончилось, еще нет. И с этой точки зрения, форма полностью определяет содержание. Получается, что, с одной стороны, форма определяет содержание, когда я анализирую сам процесс развертывания моей собственной мысли в диалоге. А когда диалог закончился, и я получил содержание, которое держится самим наличием формы, то я форму могу отчленить, и, следовательно, содержание перевести в материал — что и делал Аристотель, поскольку он всё время имел дело с законченной мыслью. То есть, когда я форму могу отодрать, отнять от содержания, то тем самым содержание превращаю во внешний для данной формы материал, в то, что находится вне формы. А вот когда мне форму надо выстраивать и я, фактически, двигаюсь в процессе этого выстраивания, то у меня в этом случае содержание не может быть положено независимо от формы, поскольку оно выстраивается и извлекается в процессе того, как я воссоздаю саму эту форму. Но, собственно, из этого рассуждения возникает самый важный основной вопрос: что при этом оказывается формой мышления, мы в прошлый раз к этому вопросу подошли, потому что, начиная уже с такого типа описаний, когда возникает основа «субъект — предикат», можно любые высказывания (даже самые безумные и глупые) человека проанализировать, и его самого напугать, показать ему, какими обрывками и какими формами он мыслит, просто ему это предъ- 83 явить, то есть возвратить ему его человеческую природу, потому что Аристотель говорил, что человек — это свободное существо, которое обладает мышлением, смертное. Надо просто вернуть ему его человеческую природу, чтобы он немножко испугался, какой природой он обладает и владеет. Так вот, после того, как Аристотель создал такого типа фигуру, то есть субъект-предикатную структуру, способность рассуждения, то последователи Аристотеля, в общем, правы, утверждая, что он впервые поставил вопрос о том, что такое форма мышления как таковая. Поставил, но не ответил, потому что жесткие последователи Аристотеля в основном в формальной логике акцентируют категорию «форма — материал», то есть берут форму как готовое. А если брать линию, которая развертывается в соответствии с идеями Сократа и Платона, то мы уже знаем, что форма сама находится в процессе становления, когда имеем дело с живым мышлением. Не с умершим, а с живым, поскольку очень часто мышление умирает. Например, мы получаем знание, мышления нет, а мы уже имеем готовое знание типа дважды два — четыре. Правда, его можно развернуть. Очень интересный математик Лебег демонстрировал это на простых примерах: когда ребенка в эскимосской школе спрашивают: «Сколько будет три плюс три?» Он говорит: «Три. Если посадить трех лисичек к трем зайчикам, то будет три, потому что лисички съедят зайчиков. Если они еще друг друга дальше не поедят, то будет три». Тем самым эскимосские дети обнаруживают невероятную содержательность собственного мышления в отличие от бессодержательности европейских детей, которым всё равно, что считать: бублики, лисички, звезды за окошком и т. п. То есть все интерпретационные функции мышления вырезаны. Потому что так строится обучение: учат считать всё, что угодно, «считать до изнеможения», по выражению математика Есенина-Вольпина. Например, он задавал ученикам вопрос: какое число последнее в вашем ряду? К каждому числу можно прибавить еще, поэтому все математики говорят, что числовой ряд не ограничен. А Есенин-Вольпин утверждал, что ряд ограничен хотя бы тем, что «чернила высохнут». Можно все чернила собрать, которыми числа пишут, и на каком-то числе они просто кончатся. А как быть дальше? Вот тогда будут чернила и числа, которые написаны. И этот математик часто говорил, что в нашем математическом образовании в основном учат «считать до изнеможения». А эскимосским детям, поскольку их не учили «считать до изнеможения», очень важно интерпретировать смысловые формы, которые им предлагают. То есть, когда их спрашивают: сколько будет три плюс три? — их интересует не результат, а то, что надо считать, и есть ли смысл это делать, потому что может оказаться, что считать-то нет смысла. Это европейцу, что в голову взбредет, то он всё и считает: нефть, золото, всё на свете, главное — потом деньги получить. А эскимос — не такой. Это всё я привожу для того, чтобы показать, что содержание может от формы как бы «улетать», и в результате остаётся голая форма, которая накладывается на любой предметный материал. И в этом 84 смысле, вся арифметическая эквилибристика и есть такого типа голые формы, которые мы можем накладывать на любой материал. Но можно точно так же и восстанавливать содержание, когда форма окажется ему не безразлична, то есть, оказывается, что три зайчика плюс три лисички это три получается, а не шесть, как мы это вроде бы знаем из простых суммативных систем. Из этого и возникает очень серьезный вопрос: что такое форма? Я, собственно, уже к этому подошел, потому что для Сократа и Платона, с точки зрения моих категориальных определений, то есть категориальных определений, созданных в XIX и, в основном, в XX веке, — формой является деятельность. Оказывается, что и мышление как форма — не что иное, как деятельность, которую осуществляет человек с определенными целями, в силу определенного понимания. Это очень важно, поскольку безумной деятельности не бывает. И когда мы говорим, например, о деятельности пищеварительного тракта, то здесь используем просто физиологическую метафору. Никакой деятельности пищеварительного тракта не бывает, там действуют другие механизмы и процессы. А всякая осознанная деятельность предполагает понимание, наличие цели, использование тех или других средств. И, собственно, так строится мышление. Но это как бы следующий, уже совершенно особый круг анализа. Конечно же, в этом плане Сократ и Платон обладали сложнейшей, невероятно тонкой, изощренной способностью мышления, которой мы все с вами, конечно, не обладаем. Поэтому они остаются вершинами, образцами мыслительной культуры. Мы только многое другое знаем, что наработало человечество после них, и за счет этого можем как-то с ними сравниться. За счет того, что, например, знаем, что такое форма, а они не знали. Но сама способность к мышлению, которой обладали Платон и Сократ, не может быть превзойдена никем... В этом смысле, например, Платон не случайно возражал против создания книг. Он считал, что книги — это невероятно разрушительная система для процессов мышления. Как сегодня, например, некоторые люди считают, что компьютер — такая же разрушительная вещь, а компьютерное сознание, то есть полностью выхолощенное, построенное на очень бедных интерпретациях, — это, фактически, превращение человека в биоробота — абсолютно бессмысленную управляемую структуру. Так и Платон в свое время выступал против создания книг, потому что считал, что то, что человек до этого держал способностью памяти и в своих интепретационных полях (а всякий культурный грек того времени должен был знать произведения Гомера, как минимум «Илиаду», и всё это держать в голове), теперь становится не нужным, всё это из памяти выпускается, потому что есть в книгах. А поскольку Платон не просто нагружал свою память всякими сведениями, а всё это еще и превращал в способность мышления, то, конечно, эта способность была удивительной, ничего не скажешь! Но тут выступает очень важный момент. Ведь ни у Платона, ни у Сократа при всех их достоинствах не было категории формы, и тем более, они не понимали того, что мы сегодня видим и понима85 ем. А именно, что форма мышления — это деятельность, которая осуществляется в процессе мышления. Следовательно, если мы это понимаем, то мы в том числе и форму мышления Сократа можем описывать и представлять как деятельность, то есть восстанавливать, какими средствами пользовался Сократ, какие он осуществлял интенциональные, то есть связанные с направленностью сознания, переходы, какие использовал модели. То есть здесь я уже начинаю такую категорию вводить (и это дело следующих лекций), которая, собственно, и позволяет описывать мышление как деятельность. Но важен сам тип перехода, который мы проделали. Итак, я сначала с вами обсудил, что такое категория формы, как ее сконструировал Аристотель, потом задал категориальную оппозицию «форма — материал». Далее на материале рассуждений Платона и Сократа задал оппозицию «форма — содержание» и попытался показать, что категориальная оппозиция «форма — материал» имеет значимость для тех случаев в мышлении, когда мы имеем дело с готовым предметом мысли, или с готовым знанием. В этом случае форма используется как что-то готовое. А вот в тех случаях, когда готового знания нет, и его нужно создавать и строить по всем законам мышления, то оказывается, что форма будет динамически или в ходе процесса процессуально выстраиваться. И в ходе этого выстраивания то, что мы получаем (нас ведь при этом интересует предмет мысли, к которому мы идем, — выстраиваемый предмет мысли в ходе развертывания самой формы), оказывается ни чем иным, как создаваемым содержанием, которое небезразлично к этой форме, а держится, восстанавливается самим ее наличием. Дальше был задан, собственно, вопрос о том, что такое форма. Поскольку мы движемся в соответствии с категорией «единое — многое» и здесь возникают разные категориальные оппозиции: «форма — материал», «форма — содержание», то в каждой из этих оппозиций форма имеет разное значение. Форма, противопоставленная материалу, — это одно, а форма, противопоставленная содержанию, — другое. При этом возник вопрос: а что такое форма мышления как таковая? Для меня это — деятельность, которую человек осуществляет в процессе мышления. Но когда мы начинаем описывать форму по отношению к материалу, мы эту деятельность переводим в некоторую законченную готовую структуру, и можем ее описывать не как процесс, а как структуру, как что-то ставшее, которое имеет свою конфигурацию, свои особенности и свое устройство. А когда описываем живой процесс мышления, мы эту форму можем развертывать в реально осуществляющуюся и движущуюся деятельность, которую мы по определенным законам и строим. Но есть, наконец, третий момент, третья оппозиция, про которую мы тоже говорили. Это категория «форма — смысл», которая является в общем-то переходной между категориями «форма — материал» и «форма — содержание». И она, собственно, предполагает анализ того, как относится к тем или другим законченным формам само мышление как деятельность. Есть, например, как бы уже законченная 86 форма, когда я описываю диалоги Сократа, при этом саму категорию формы беру как законченную, уже отработанную, и в этот материал диалогов Сократа привношу. Но дальше оказывается, что в зависимости от того, какой я восстанавливаю смысл, то есть как я понимаю реплики тех или других собеседников Сократа или самого Сократа, я категорию формы, которую взял как готовую, буду трансформировать, преобразовывать и что-то в ней буду менять. С этой точки зрения, категория «смысл» предполагает анализ того, как человек в процессе мышления некоторые отработанные знания, структуры начинает приспосабливать в соответствии с тем пониманием, которое он осуществляет. И что оказывается? Ведь мы процесс мышления строим не с нуля, а в самом мышлении воспроизводим массу исторических знаний или форм и туда их все привносим. В этом смысле, мы просто не умеем так, с нуля анализировать мышление. Но когда мы осуществляем грамотное мышление, в нем самом содержится масса исторических образцов и форм, которые мы должны уметь выделять. Но тогда, если мы не граммофонные пластинки, которые просто воспроизводят эти формы, мы всё время осуществляем какую-то работу. А именно, опираясь на свое понимание, которое возникает в контексте задачи (а всегда надо решить какую-то задачу, дойти до определенной цели), мы в этом контексте понимания то, что поняли, начинаем соотносить с той или другой готовой формой, которую хотели наложить на готовый материал так же, как Аристотель брал определения и накладывал на материал. Так вот, оказывается, есть еще специальная категория «форма — смысл», которая нам такое прямое наложение формы на материал запрещает и требует от нас анализа самой формы. Совсем как в приведенном выше случае с примером про зайчиков и лисичек. Вот мы берем счетную форму, связанную с действием сложения, и должны ее наложить на материал про зайчиков и лисичек. Но эскимосские дети привносят сюда элемент понимания, начинают восстанавливать ситуацию, то есть интерпретировать эти счетные совокупности, и за счет этого исходную форму, связанную с простым процессом сложения, менять. Что здесь является формой? Простой процесс сложения: 3 + 3. Но его, оказывается, необходимо менять и трансформировать, исходя из нашего понимания. Вот эта трансформация привнесенной формы, то есть преобразования и изменения формы в зависимости от того, какой смысл мы привнесли в эту ситуацию, определяется категорией «форма — смысл». И оказывается, что в соответствии со смыслом исходная категория, которую мы должны наложить, будет меняться. Это такой особый, интересный случай, с которым законы нашего «вещного мира» не очень соотносятся. Потому что это такая ситуация: я как бы начал что-то делать, инструмент использовать, а он в соответствии с моим пониманием вдруг начинает приобретать совершенно другие смыслы. То есть я взял молоток, замахнулся, чтобы ударить по гвоздю, но поскольку понял, что это не гвоздь, а особого типа железо, которое ковал определенный кузнец, то у меня молоток приобретает совершенно другие свойства и преобразуется. 87 И с этой точки зрения, мы с вами обсудили взаимосвязь трех основных категорий: «форма — материал», «форма — смысл», «форма — содержание» и выяснили, что хотя в этих оппозициях категория формы приобретает свое особое звучание, свое особое назначение, но она позволяет через эти три разных формы выделять как единую форму то, что за категорией формы стоит идея деятельности, или деятельностной формы, как таковой. И что идея деятельностной формы, собственно, и позволяет эти три разных категориальных оппозиции брать как что-то «единое», наряду с тем, что она существует как «многое» в этих разных категориальных оппозициях 88 Лекция 5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КАТЕГОРИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ТЕКСТА Прежде, чем идти дальше, напомню очень интересное, остроумное замечание Гегеля в «Энциклопедии философских наук» о том, что спекулятивный анализ категорий — это женское начало философии. А мужское начало — посмотреть, как работает категория на материале той или другой науки, того или другого выстроенного предметного содержания. И, с точки зрения Гегеля, потребуются большие усилия, чтобы там обнаружить жизнь категорий. Это, по идее, мы и должны с вами проделать. А я попытаюсь показать, что из этого получается и что происходит. И еще два очень важных замечания. Первое заключается в том, что, с точки зрения категориального анализа, тексты, которые являются материалом этого анализа, принципиально различны. Здесь существует поразительная разница между философскими текстами (пример философского текста — тот маленький отрывок из пропедевтики философии, который привел Дмитрий Борисович из Гегеля) и, собственно, текстами различных наук — от литературоведения до физики. Я умышленно абстрагируюсь от членения науки на гуманитарный цикл и естественнонаучный. Есть жесткая разница между философскими текстами и естественнонаучными. Она заключается в следующем: в философском тексте, если текст действительно философский, категориальный слой организации мысли (это только один из слоев) выведен в саму структуру текста. То есть в самом тексте указано, какие категории использовались. Они там обозначены. Иногда они могут быть 89 зашифрованы в языке описания данной категориальной пары, но в принципе они представлены. В этом смысле, уровень подготовки человека, который читает философский текст, определяется тем, может ли он расшифровать и восстановить те основные категориальные оппозиции и тот набор категорий, который использовался в данном тексте и применялся тем или иным философом. А вот, собственно, с предметными текстами, или с текстами различных научных и учебных предметов, дело обстоит совершенно не так. Обычно там категории вообще не выведены в план обнаружения и описания в тексте. Их как бы вообще нет. То есть мы открываем любой текст учебника и вроде бы никакого категориального языка там, кажется, и нет. В этом, собственно, и заключается существенная разница между науками и философией как таковой. Хотя, если заниматься историей наук, то там, оказывается, всё обстоит совершенно не так. И, собственно, родоначальник науки — такой ученый, как Галилей, блестяще владел категориальным анализом. В его работе «Беседы о двух науках механиках», например, есть специальная глава, где он демонстрирует свое понимание и свои возможности категориального анализа. И лишь после того, как он выделил и представил этот категориальный анализ, он, собственно, спускается в предметный слой данной науки, то есть начинает работать с предметным материалом. Известен и другой случай, например, с профессором-химиком Батраковым. После того, как профессор Батраков прочитал книгу Кассирера «Понятие субстанции, понятие функции», в которой было проведено различие двух категорий — «субстанции» и «функции», он просто последовательно приложил данные категориальные различия «субстанции — функции» на материал химии и построил целый новый раздел химии. Есть и другие такие свидетельства. Например, известен спор между Меньшуткиным и Д.И. Менделеевым по поводу того, что такое химическая связь, где, собственно, содержание этого спора было сугубо категориальным. Менделеев утверждал, что содержанием связи является процесс, а Меньшуткин — что за всякой связью стоит структура. Следовательно, спор был принципиально категориальный, то есть связанный с возможностями нашего мышления представлять то или иное физическое явление. Второе замечание. Очень часто при понимании предметного и философского текста могут осуществляться две принципиально разные процедуры. Первая процедура заключается в том, что я начинаю восстанавливать категориальный пласт, или категориальный слой мысли, который принадлежит самому устройству данного текста. При этом я заимствую позицию автора (для того, чтобы понять всякий текст, нужно заимствовать позицию автора, без этого текст не поймешь. Вообще для того, чтобы понять высказывание любого другого человека, надо заимствовать позицию говорящего. Другими словами, встать на его точку зрения). После заимствования позиции автора (говорящего) у человека, проводящего категориальный анализ, появляются две принципиально разные возможности. 90 Первая возможность: восстанавливать те категориальные членения, которые использовал данный автор, и двигаться в их русле, то есть выяснить, какую категориальную форму осуществлял данный автор в мышлении, и выделить ее. Совершенно другая возможность анализа заключается в том, что, понимая текст, который представлен (то есть можешь его воспроизвести по смыслу и по содержанию), ты начинаешь использовать собственные категории, то есть привносить свои категориальные структуры в данный текст. Но в случае подобного привнесения результаты проделываемой работы очень часто оказываются принципиально другими, чем те, которые исходно содержались в данном тексте, когда ты его читал. Если ты читал и не проделывал категориального анализа (очень часто бывают тексты, в которых и нет категориального анализа), — он просто выпадал. Например, так бывает в популяризаторских текстах. Так вот, когда ты туда начинаешь привносить категориальный план анализа, то можешь прийти к совершенно другим выводам, чем те, которые демонстрировались в данном тексте. Я в данный момент буду осуществлять второй способ категориального анализа. И наконец, последний, но тоже очень важный момент. Мы его, собственно, будем рассматривать как факультативное приложение. Все дело в том, что у нас работе с категориями ни в школе, ни в вузах не учат. Просто весь пласт этой работы выпал, и даже на философском факультете специально не учат процедурам философского анализа. Поэтому их, как правило, осваивают за счет каких-то, на первый взгляд, довольно странных процедур. Например, за счет работы с определенными типами философских текстов — из Гегеля или из Аристотеля. Правда, при этом возникают сложности. Обычно человек, владеющий языком категориального анализа гегелевской философии, перейти к другой категориальной работе не может. В его сознании как бы отпечатан гегелевский категориальный способ работы, и он всё анализирует в категориях «субъект — объект», «непосредственное — опосредованное» и т.п. Он прямо так все эти термины и употребляет. И поэтому то, что раньше в гимназиях усваивалось автоматически при изучении курса «Проблема категориального анализа», сегодня вообще выпало из нашей культуры, что и отразилось на нашем менталитете, то есть на наших способах представления мира и понимания того, что происходит. Из этого следует, что мы с вами специально долго будем заниматься категориальным анализом. Потому что, с точки зрения введения в теорию мышления и деятельности, проблематика категориального анализа принципиальна. Собственно, человек начинает мыслить по-настоящему тогда, когда он учится видеть структуру категорий, а в случаях наложения неверных категориальных структур проблематизировать, то есть опровергать, критиковать такой способ наложения. Но при этом важно учитывать тот момент, что применять категориальный анализ можно не всегда и не везде, поскольку этим «сверх91 оружием» мышления сегодня обладают далеко не все. И у многих из-за этого могут возникать различные сложности и недоразумения. Например, при поступлении в вуз. Если абитуриент, отвечая экзаменатору, будет демонстрировать свое понимание текста в категориальном языке, то экзаменатор, не владеющий категориальным анализом, может просто не узнать тот учебный материал, который отвечает экзаменующийся. Поэтому содержание учебного предмета должно быть воспроизведено в тех словах и структурах, в которых оно представлено в учебнике или учебных пособиях. Поскольку это и есть демонстрация экзаменатору и самому себе, что ты понимаешь текст, им владеешь и свободно движешься в его структурах. И лишь после этого начинается работа по категориальному анализу того, что возникает в результате наложения категориальных процедур на данный фрагмент материала. По идее, чтобы лучше организовать работу по категориальному анализу, например, текстов учебников, нужно, чтобы в этом деле активно участвовали и учителя — преподаватели различных предметов. Потому что я, например, как человек, не заинтересованный в каждом из этих предметов, то есть внешний к ним, возможно, буду привносить какие-то искажения, хотя постараюсь следовать близко к тексту. В дальнейшем для того, чтобы возникала такая продуктивная коррекционная работа, мы это будем устраивать и развертывать совместно с преподавателями. Теперь рассмотрим несколько практических приемов категориального анализа учебного текста. Первый фрагмент. Речь идет о физике 11-го класса (хотя это не важно — 10й класс или 11-й), мне очень важно, чтобы вы это отметили. Потому что я вас попрошу потом к этим фрагментам вернуться и проделать эту же работу самостоятельно. Итак, физика, 11-й класс, 13 стр. 26-29. Я зачитаю небольшой фрагмент, — весь параграф не буду зачитывать. Он называется «Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями». Просто зачитаю этот отрывок, а потом посмотрим, что получается: «Электромагнитные колебания в контуре имеют сходство со свободными механическими колебаниями. Например, колебаниями тела, закрепленного на пружине». Дальше идет очень важный текст, который, собственно, нуждается в схематизации: «Сходство относится не к природе самих величин, которые периодически изменяются, а к процессам периодического изменения различных величин». Это было выделено в тексте курсивом. «При механических колебаниях периодически изменяются координаты тела X и проекции его скорости Vx». «А в электромагнитных колебаниях меняется заряд конденсатора q и сила тока i в цепи». 92 «Одинаковый характер изменения величин механических и электрических объясняется тем, что имеется аналогия в условиях, при которых порождаются механические и электромагнитные колебания». Тоже очень важный фрагмент: «Одинаковый характер изменения величин механических и электрических объясняется тем, что имеется аналогия в условиях, при которых порождаются механические и электромагнитные колебания. Возвращение к положению равновесия тела на пружине вызывается силой упругости Fx, пропорциональной смещению тела, от положения равновесия. Коэффициентом пропорциональности является жесткость пружины К. Разрядка конденсатора (появление тока) обусловлена напряжением U между пластинами конденсатора, которое пропорционально заряду. Коэффициентом пропорциональности является величина I/C обратная емкости, так как напряжение равняется I/C х». Этого достаточно. В «Философском энциклопедическом словаре» и «Словаре иностранных слов» слово «аналогия» расшифровывается следующим образом: «Аналогия есть установление сходства между двумя разными явлениями, процессами, предметами по одному или нескольким признакам». Это под пунктом 1 стоит. Под пунктом 2 стоит (в «Словаре иностранных слов»): «Аналогия — это логическая операция, когда на основании сходства одних каких-то признаков делается вывод о сходстве других признаков. Всякая аналогия имеет вероятностный характер». Значит, результат процедуры аналогии имеет вероятностный характер, что означает, что вывод последует не прямо из процедуры аналогии, а с определенной вероятностью. То есть может быть так, а может — и не так. Что, собственно, вызывает интерес в данном фрагменте текста? В первую очередь — использование категории «форма — содержание». Поскольку, когда речь идет о сходстве, возникает вопрос о том, между чем устанавливается сходство, и что означает установление данного сходства. В учебнике сказано: «Сходство относится не к природе самих величин», с этой точки зрения, и из дальнейшей расшифровки этого понятия речь идет о том, что сходны между собой не скорость, не заряд конденсатора (не положение тела в пространстве, с одной стороны, и не скорость, с другой стороны) и не сила тока в цепи. С одной стороны, не сила упругости, которая пропорциональна смещению тела от положения равновесия, и не жесткость пружины К. А с другой стороны, не напряжение U между пластинами и не заряд q — и не пропорциональность этого напряжения заряду q. Но отсюда возникает вопрос: что означает данный тип сходства и зачем устанавливается сходство? Сам текст построен таким образом: приводятся параметры, имеющие отношение к механическим колебаниям, и параметры, которые относятся к электромагнитным колебаниям. То есть с одной стороны — механические колебания, а с другой стороны — электромагнитные колебания. Затем приводятся величины — то, что называется «величины», — при помощи которых описываются механические колебания и при помощи которых описываются электромагнитные колебания. 93 А дальше говорится: «Сходство относится не к природе самих величин, а к процессам периодического изменения различных величин». Вот, собственно, эта фраза служит ключом к дальнейшим пояснениям с категориальной точки зрения, она и является предметом схематизации. Поэтому она и должна быть схематизирована. Я специально так обозначаю страницы, параграф, потому что это вам потребуется еще дома специально просматривать, и задание будет заключаться в том, что вы должны будете дать свою схему, свой план категориального анализа. В отличие от моего, который я дам сейчас. Так вот, с этой точки зрения, принципиальным моментом является вопрос отношения между формами. Формой 1 и Формой 2: где при помощи категории Ф1 описывается процесс механического колебания, выраженный в соответствующей формуле, которая здесь дальше представлена, и специально оговорено, что она собой представляет, а при помощи категории Ф2 описывается электромагнитное колебание. А дальше возникает очень серьезный вопрос, потому что здесь приходится разбираться с тем, какую категорию использовать. Категориальную оппозицию «форма — материал» (Ф — М) или категориальную оппозицию «форма — содержание» (Ф — С)? Почему возникает такой вопрос? Раз речь идет о сходстве процессов и предлагаются формулы, и даже утверждается, что здесь сходство не между одними и другими величинами, то возникает вопрос: между чем сходство? Поскольку представлены одинаковые формулы, то, следовательно, вроде бы тождество устанавливается между формами описания этих процессов — одного и второго. А дальше возникает самый сложный вопрос: из какой категориальной пары взята форма, из категориальной пары Ф — М или категориальной пары Ф — С? Как он возникает — это вопрос схоластический. Но я к схоластике очень хорошо отношусь, считаю, что это был высочайший уровень, и для меня «схолэ» и есть наука (как раз термин «схолэ» по-гречески — «наука», «досуг»). В чем здесь заключается сложность в определении того, какая, собственно, категория должна использоваться? А всё дело в том, что термин «аналогия» и то, как излагается учебный материал в параграфе, предполагает использование категории «форма» из одной и из другой пары. А это означает: в том случае, когда я использую категорию «форма — содержание», то из равенства форм должно следовать равенство содержаний. И из этой фразы (я ее еще раз прочитаю): «Сходство относится не к природе самих величин, которые периодически изменяются, а к процессам периодического изменения различных величин» следует, что устанавливается отноше94 ние сходства и тождества не между величинами, а между процессами периодического изменения. А если форма описания процессов совпадает, и при этом используется категория «форма — содержание», то, следовательно, эти процессы должны обладать по своему устройству единой сущностью, единым содержанием. И с этой точки зрения, утверждение о том, что между величинами нет сходства, ничего не объясняет, потому что величины существуют сами по себе. Величины в форме как раз и выступают в функции элементов по отношению к целому. Вопрос заключается в другом: в чем суть этих процессов, содержательное устройство этих процессов? Почему в рамках этих процессов осуществляются периодические изменения? Сам тип периодических изменений, в сущности, тождественен по содержанию или нет? Но если совпадают формы: и здесь периодические изменения, и там, и даже аналогия между элементами проводится: здесь этот элемент выполняет такую функцию, а в формуле, при помощи которой описываются электромагнитные колебания, другой элемент выполняет такую же функцию. Это первая трактовка. А вот в том случае, если используется категория Ф — С, возникает вопрос: являются ли тождественными по сущности, по самому механизму периодические изменения одного и другого процесса? Потому что здесь говорится только про одно, что есть сходство не в природе самих величин, а в процессах сходства. А что это за тип сходства? С категориальной точки зрения, сходство может быть совершенно разным. Всё зависит от того, как я организую свою мысль, как организована эта мысль. Если мысль организована при помощи категории «форма — содержание», это означает, что и содержание этих процессов должно быть одинаковым, то есть механизм самого процесса, который скрыт за формулой. Почему там всё это колеблется то в одну сторону, то в другую, а должно быть тождественным? И здесь мы наблюдаем удивительный, чудесный момент, когда явление берется из одной области и из другой. Тут электромагнитные колебания, а там — механические. А вообще природная сущность — единая: и здесь колебания по таким-то законам, и там колебания. Это в том случае, если мы используем категорию «форма — содержание». А если мы используем категорию «форма — материал», то всё значительно проще. Хотя и возникают новые вопросы. Но в этом и смысл категориального анализа. Потому что в случае использования категории «форма — материал», как вы знаете из примера с греческой статуей, есть одна знаковая форма (Зн.Ф1) и есть другая знаковая форма (Зн.Ф2). И в этом смысле аналогия или сходство усматривается в тождестве знаковых форм: 95 И не больше. И в этом смысле категория «форма — материал» в данном случае устанавливает, что есть знаковая форма 1, которая накладывается на материал 1 (Ma1), и есть знаковая форма 2, которая накладывается на материал 2 (Ма2). В одном случае форма электромагнитных колебаний накладывается на один материал, из одной области. А форма механических колебаний — формула, по которой описываются механические колебания, накладывается на другой материал, из другой области. И есть сходство в способах организации самих этих знаковых форм. То есть они приблизительно одинаковы по структуре: если их сопоставить, то возникает тождество знаковых форм, то есть единые функциональные зависимости. Но из этого ничего не следует про то, на что они накладываются. Хотя возникают вопросы: это так просто организовано наше мышление, что мы стремимся к тождеству знаковых форм и идем к определенной оптимизации, или за этим стоят более сложные сущностные процессы, которые приводят к тому, что знаковые формы совпадают? Но тут очень важно отметить, что в зависимости от того, какая применяется категория, возникают совершенно разная направленность анализа и разный тип результатов этого рассмотрения и рассуждения. Потому что в том случае, когда используется категория «форма — материал», мы имеем дело с конструктивной деятельностью. То есть человек, например, конструирует или создает знаковые формулы, или знаковые формы выражений, при помощи которых ряд (набор) параметров стремится привести к этой формуле, где есть взаимные зависимости между показателями, а следовательно, и тот процесс, который анализирует. С этой точки зрения, категория «форма — материал» указывает на то, что есть в данном случае знаковые формы, при помощи которых определенный набор параметров должен быть упорядочен. То есть я создаю такую конструктивную форму — знаковую, при помощи которой набор параметров должен быть собран во что-то единое. А вот в случае, если я использую категорию «форма — содержание», происходит совершенно другая работа. «Форма — содержание» требует прохождения от анализа выделенных форм описания некоторого явления собственно к его сущности, которая за этими формулами стоит. Предполагается, что если я делаю какие-то утверждения по поводу отношения форм, то должен какие-то делать утверждения по поводу сущности, которая лежит за этими формами. Теперь если мы еще раз вернемся к фразе учебника: «Сходство относится не к природе самих величин, которые периодически изменяются, а к процессам периодического изменения различных величин», то сама эта форма текста допускает и ту, и другую трактовку. Потому что, когда говорится, что сходство существует между процессами, то возникают вопросы: это сходство между нашими способами представления процессов? То есть это бедность нашего мышления, когда мы всё стараемся везде одинаково упорядочить, свести к единым функциональным зависимостям, и за счет этого сходство возникает? То есть мы всё стремимся подвести под одно? И это совершенно другой момент, потому что здесь сами процессы, их сущность устроена таким образом, 96 что они по самим механизмам своего развертывания оказываются тождественными. На этом я ставлю точку. Здесь я старался показать, что когда мы привлекаем категорию, которой как бы в структуре самого текста не содержится, поскольку не говорится ничего о категории Ф — С, и мы вроде бы начинаем ее привлекать извне, то дальше происходит удивительная вещь: за счет использования категорий — исходно вроде бы понятный текст становится непонятным, начинает расщепляться (рассыпаться). И в этом, собственно, и состоит основной смысл и основная задача использования категориальных процедур мышления. То есть те, кто используют категориальные процедуры мышления, обладают способностью самостоятельно ставить проблемные вопросы (так называемая способность к самопостановке). Вот для чего нужны в общем-то категории Использование категориального мышления позволяет любой понятный текст (неважно, откуда он идет, — из текста учебника или по радио, лучше даже себя на радио проверять) сделать непонятным. Непонятным в том смысле, что я всё перестал понимать: текст могу пересказать и любой слушающий скажет: «Да, воспроизводится текст очень правильно», а вот применение категориальных процедур в этом абсолютно понятном тексте позволяет зафиксировать вопрос, который имеет объективный характер. Поскольку сама логическая структура текста имеет множество смыслов, оказывается «многосмысленной» с точки зрения используемых категорий. Второй фрагмент. Из учебника «Общая биология», 10-11-й класс, стр. 15, параграф 2 «Основные положения учения Дарвина». Сейчас я просто зачитаю параграф, а потом попытаюсь дать ему категориальную трактовку: «Главная заслуга Дарвина состоит в том, что он раскрыл движущие силы эволюции. Он материалистически объяснил возникновение и относительный характер приспособленности действием только естественных законов. Без вмешательства сверхъестественных сил. Учение Дарвина в корне подрывало метафизические представления о постоянстве видов и сотворении их Богом. Каковы же движущие силы эволюции пород домашних животных, сортов культурных растений и видов данной природы?» А дальше идет самый важный момент, на который надо обратить внимание. Выделено специально курсивом: «Движущие силы эволюции пород и сортов — наследственная изменчивость и производимый человеком отбор. Дарвин установил, что различные породы животных и сорта культурных растений созданы человеком в процессе искусственного отбора. Из поколения в поколение человек отбирал и оставлял на племя особи с какими-либо интересными для него изменениями, обязательно наследственными, и устранял других особей от размножения. В результате были получены новые породы и сорта, признаки и свойства которых соответствовали интересам человека». Этот первый фрагмент очень важен. «Нет ли подобного процесса в природе? Организмы размножаются в геометрической прогрессии, но до половозрелого состояния дожи97 вают относительно немногие. Значительная часть особей погибает, не оставив потомства совсем или оставив малое. Между особями как одного вида, так и разных видов возникает борьба за существование, под которой Дарвин понимал сложное и многообразное отношение организмов между собой и с условиями окружающей среды. Он имел в виду не только жизнь одной особи, но и успех ее в обеспечении себя потомством. Следствием борьбы за существование является естественный отбор». Этим термином Дарвин назвал «сохранение благоприятных индивидуальных различий и изменений и уничтожение вредных». Дальше выделено опять курсивом: «Борьба за существование и естественный отбор на основе наследственной изменчивости являются, по Дарвину, основными движущими силами (факторами) эволюции органического мира. Индивидуальные наследственные отклонения, борьба за существование и естественный отбор в длинном ряду поколений приведут к изменению видов в направлении всё большей приспособленности к конкретным условиям существования. Приспособленность организмов всегда относительна. Другим результатом естественного отбора является многообразие видов, населяющих Землю». Этот фрагмент параграфа, который я прочитал, сам по себе является очень интересным, поскольку здесь каждая фраза может быть категориально проанализирована. Но для того, чтобы переходить к более подробному анализу, сначала должна быть осуществлена схематизация общего смысла и общей структуры самого параграфа, чтобы затем двигаться какими-то более дробными логическими шагами. Надо сперва уловить смысл в целом для того, чтобы на основании понимания целого можно было задавать какие-то более детальные вопросы. Итак, в чем здесь, на мой взгляд, основной смысл этого параграфа? Я каждый раз говорю «на мой взгляд», потому что вам потом надо будет проделать свою работу, построить свой смысл. На мой взгляд, основной смысл этого параграфа состоит в том, что авторы устанавливают соответствие между двумя моментами, выделенными курсивом. Во-первых, каким образом происходит изменение различных видов живой природы — животных, растений в результате искусственной деятельности человека, и во-вторых, каким образом происходит, с точки зрения Дарвина, изменение животного мира без воздействия человека. Характеристики одного и другого процессов соответственно выделены курсивом. Первый процесс, я его еще раз прочитаю: «Движущие силы эволюции пород и сортов — наследственная изменчивость и производимый человеком отбор». И, собственно, то, как происходит в самой природе: «Борьба за существование и естественный отбор на основе естественной изменчивости являются, по Дарвину, основными движущими силами (факторами) эволюции органического мира». То есть первый процесс — искусственно осуществляемая работа человека по выведению новых сортов и получению новых пород и второй момент — изменчивость в мире без влияния, без воздействия человека на протяжении многих лет. 98 Это сейчас уже можно говорить, что человек влияет на природу, есть мощный антропогенный фактор, который на нее воздействует. Но здесь речь идет о том, как изменялась, эволюционировала сама природа без влияния воздействия человека. С этой точки зрения, если выделять эти формы и установление между ними каких-то отношений, то, на мой взгляд, мы имеем нечто похожее на то, что рассматривали на примере физики. Потому что форма первого процесса, правда, с определенными поправками (я потом про это скажу) и задает сложность той мысли, которую авторы учебника хотели передать. Итак, есть форма 1. Это форма того, как происходит, собственно, изменение пород и сортов различных живых организмов на основании деятельности человека, где выделены два фактора: наследственная изменчивость и производимый человеком отбор. Это одна форма. И есть форма 2 — то, как происходит изменение видов природы без воздействия человека, где мы видим борьбу за существование и естественный отбор на основе наследственной изменчивости. Дальше автор учебника подчеркивает и даже описывает первый процесс, где, собственно, сам человек осуществляет в соответствии с определенными целями отбор нужных ему пород и сортов. После этого, при переходе к характеристике того, что само происходит в природе без участия человека, ставится вопрос: нет ли подобного процесса в природе? Даже сама структура текста в учебнике построена очень интересно: сначала это как бы описание того, что происходит в первом случае. А после этого задается вопрос: нет ли чего-то похожего в природе? А нельзя ли ту форму, при помощи которой мы поняли, как устроена деятельность человека, опять же по аналогии (дальше будем разбираться, что значит «по аналогии») описать и представить то, что происходит в природе само, без воздействия человека? Здесь опять возникает тот же самый вопрос, который мы ставили в физике. То есть, с точки зрения категориального анализа, тождество этих форм — это тождество содержаний, или здесь нужно использовать категорию «форма — материал»? Но вот здесь уже сам процесс рассуждения, продемонстрированный в тексте, может иметь совершенно другую интерпретацию, нежели та, которую мы имели, анализируя материал учебника физики. В этом смысле, на мой взгляд, текст построен в общем-то правильно, только я не уверен, что это именно так восстанавливается и читается. Практически проводится следующая мысль: на основании той формы, которая была доступна Дарвину при анализе деятельности человека (так: анализируем, что человек делает с сортами животных и растений), Дарвин дальше попытался на основании деятельности человека объяснить, какие процессы происходят в самой природе. То есть, с одной стороны, мы имеем деятельность человека — то, что человек делал искусственно, специально с определенными целями отбирая породы животных и сорта растений. И вот, собственно, такой анализ того, как всё происходит, был доступен Дарвину, который сумел это всё разобрать. Тем более, что за этим можно наблюдать: человек ставит цели, чем-то руководствуется, такие-то наступают по99 следствия. После этого возник вопрос: а нельзя ли эту деятельность человека перенести в процессы, происходящие в самой природе, ликвидировав ряд характеристик, определяющих деятельность человека, то есть целенаправленную волю человека. В том случае, когда мы переходим к природе, такие характеристики, как целенаправленность, воля и т.п., должны быть заменены естественными процессами. Это как бы тот смысл, который стоит за тем, что в данном фрагменте текста описывается, и то, по отношению к чему могут задаваться вопросы и строиться рассуждения. Но после того, как мы провели подобное рассуждение, возникают вопросы: в какой мере допустима данная процедура, когда на основании выделения одной формы, связанной с деятельностью человека, теперь эту форму переносим на описание и выделение процессов самой природы? Что является основанием, которое делает подобный перенос формы допустимым и возможным? На основании чего, собственно, устанавливается тождество двух этих разных форм? И вот здесь мы опять обращаемся к категориям Ф — М и Ф — С. И такое обращение является принципиальным. С точки зрения Ф — М, вроде бы всё законно и достаточно просто, потому что я, фактически, выделил и описал одну форму, при помощи которой организовал один тип материала, то есть искусственную деятельность человека по селекции, выведению новых сортов и пород животных с определенным преобразованием, которое должно по этому признаку строиться. То есть мне нужно деятельность человека заменить естественными процессами в природе и тем самым осуществить преобразование формы. И с этой точки зрения, та процедура, с которой я работаю, заключается в том, что я от одних процессов, которые мне понятны и которые могу как-то переопределять, изменять (что имеет отношение непосредственно к деятельности человека), перехожу теперь к построению выводов о тех процессах, которые мне в принципе неподвластны (например, многотысячелетняя эволюция). Но возникает вопрос: с точки зрения категории Ф — М, всё как бы допустимо и возможно, а вот, с точки зрения категории Ф — С, стоит ли за подобного типа переходом от анализа деятельности человека к анализу эволюционных процессов в природе некоторое тождество сущности этих процессов? Можно ли здесь построить отождествление сущности этих процессов, возможно ли оно? И тут следует сказать, что вокруг теории Дарвина в научных и идеологических кругах до сих пор продолжается борьба мнений. В этом смысле теория оказалась очень плодотворной, вызвав колоссальный поток споров и дискуссий. Например, те стимулы, которые выделил Дарвин в качестве движу100 щих сил, естественных движителей или факторов эволюции, в частности, борьбу за существование, они встретили гигантскую критику самого разного толка, вплоть до того, что ряд, например, немецких ученых обвиняли Дарвина в том, что он на природу просто перенес представления из устройства социальной системы того периода, которую характеризует начальная стадия капитализма, где есть борьба за существование, а что в природе подобных процессов нет. С этой точки зрения, принципиальный момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что в отличие от физики в данном параграфе учебника биологии, который мы анализировали, представлен еще и другой процесс, который, собственно, требует размышления и специального анализа: кроме формы 1, положенной на материал 1, и формы 2, положенной на материал 2, под формой 1 речь идет еще о деятельности человека по целенаправленной селекции и выведению сортов и пород. Под формой 2 имеется в виду описание (здесь еще может быть выделена на основании этого параграфа та работа, которую осуществлял сам Дарвин по переносу формы от случая 1 к случаю 2), где сама категория формы должна быть перенесена: В этом вроде бы и заключается ход той мысли, которую проделал Дарвин. И собственно, характер подобного переноса формы с материала анализа деятельности человека на материал эволюционных процессов в природе и представляет основной вопрос, который требует рассмотрения с точки зрения законности и допустимости такой процедуры. Когда выделенная на одном материале форма переносится в совершенно другую область, где вроде бы того, что мы имеем в первой области, и нет. Это второй момент. Данилина Кира: Вы говорили на примере учебника физики, что по строению самого учебника — изложению текста можно выделить, что там идет сравнение «формы — материала» и «формы — содержания». Это вы с чего взяли? Ю.В.: Это очень хороший и в принципе правильный вопрос. Речь вот идет о чем (и это точно так же можно обсуждать на Дарвине). В этом параграфе, который я прочитал, никаких слов ни про «форму — материал», ни про «форму — содержание» нет. Там нет этих ключей — указаний, какую категорию употребить. Возникает вопрос: а каким образом мы начинаем употреблять категории: ту или иную категорию вводить? В тех случаях, когда мы можем различить (и этот момент очень важный) некоторую структуру мысли и вводить интерпретацию этой структуры мысли на определенном смысловом материале. Что означает структура мысли? Это означает, что в мысли могут быть выделены определенный порядок и определенные элементы, из которых она составлена. Скорее всего, в этом случае речь идет о проверке данного высказывания на правильность использования и на его осмысленность для меня самого. Ведь я, когда использую категориальный 101 анализ, прежде всего работаю с собственным пониманием. То есть мне нужен категориальный анализ, чтобы поставить вопросы самому себе. Так вот, в тех случаях, когда я могу отчленить некоторую структуру мысли и способ интерпретации этой структуры мысли на одном материале или на другом, равнозначном ему, то я должен использовать и работать с категориями Ф — М и Ф — С, которые пока не различены. По крайней мере здесь обязательно задается требование к форме. Каким образом это возникает из анализа текста по биологии и из анализа текста по физике? Из анализа текста по биологии это возникает следующим образом. Даны формулировки того, что именно такую деятельность по селекции и выведению пород и сортов растений осуществляет человек, и что есть движущие силы эволюции — наследственная изменчивость и производимый отбор. То есть показан некоторый процесс и в нем выделена определенная компонента. Есть движущие силы эволюции — наследственная изменчивость и производимый отбор. И вторая формулировка: движущие силы эволюции органического мира — борьба за существование, естественный отбор на основе наследственной изменчивости. Возникает такой момент, что представлены две формы. Поскольку дано описание некоторых формул, в которых есть составные части. Вот в тех случаях, когда я структуру мысли могу довести до некоторой формульной фиксации, то возникает необходимость, или по крайней мере возможность, анализа той мысли, которая изложена в тексте при помощи Ф — М и Ф — С. Это первый момент. То есть я могу уже эти две категория использовать. А дальше возникает следующий момент, когда в учебнике физики сказано: «Электромагнитные колебания в контуре имеют сходство со свободными механическими колебаниями, например, с колебаниями тела, закрепленного на пружине. Сходство относится не к природе самих величин, которые периодически изменяются, а к процессам периодического изменения различных величин». Здесь в одном случае мы имеем процесс периодического изменения одних величин и процесс периодического изменения других величин. По отношению к этой структуре мысли, где схватывается процесс периодического изменения одних величин и процесс периодического изменения других величин, и возникает возможность применения категорий Ф — М и Ф — С. Но пока еще сами эти категории Ф — М и Ф — С не различены. И, собственно, проверка того, какая из этих категорий здесь возникает, это и есть та задача, которую ставит себе сам читающий этот текст. То есть в тексте можно усмотреть только одно: используются в одном и другом случае какие-то формы. В одном случае упорядочивается процесс периодического изменения механических колебаний и в другом случае упорядочивается процесс периодического изменения электромагнитных колебаний. Следовательно, есть некоторое требование к этому упорядочиванию. Если есть требования к этому упорядочиванию (если есть порядок), а также компоненты и элементы самого этого упорядочивания, следовательно, я могу в этом случае использовать категорию формы. 102 Кира: Можно сказать, что то, что вы взяли категории Ф — М и Ф — С, — это ваше личное мнение? Ю.В.: С одной стороны, это так. Поскольку я говорил, что это второй случай, когда саму категориальную форму анализа привносит читающий. Но тут возникает «хитрый» момент: как отличить произвол, когда я могу всё что угодно взять, привнести в анализ текста, например, категорию структуры или категорию субстанции? Как отличить произвол от некоторой, закономерно проделанной операции? То есть как отличить любые произвольные интерпретации, которые я могу куда угодно привнести (и в Дарвина, и в текст по поводу колебаний, то есть любые могу привнесения в свободной интерпретации проводить), от некоторой логической операции, которая стоит за категориальной структурой мышления? В этом основной вопрос. И в случае правильного применения категориальной операции её результат позволяет, фактически, написать новый текст по сравнению с текстом учебника. И по отношению к определенной формулировке текста учебника самим читающим может быть написан новый текст, который позволяет текст учебника разложить на два, три высказывания, требующие анализа и восстановления отношения между ними. То, что мы обсуждаем с Кирой, я хотел проделать в конце лекции, но можно это сделать и после рассмотрения данного фрагмента. Всё это позволяет совершенно заново вернуться к анализу того, что такое категориальная форма. Потом мы перейдем к другим фрагментам и к тому, что представляет собой собственно категория. И с этой точки зрения, за всякой категорией (и сейчас я просто всё это верну к тому, что мы обсудили с Кирой) стоят, по крайней мере, два фокуса. (Чтобы не усложнять, пока выделим два фокуса.) То есть всякая категория имеет следующее строение: за всякой категорией стоит определенная структура объекта, то есть объект, и есть определенный набор операций, которые с этой категорией производятся. Но мы не обойдемся и без третьего фокуса — определенных языков описания категорий. Вот, как минимум, три фокуса, больше пока не будем усложнять. Как я мог ответить на вопрос Киры о том, почему я использую ту или иную категорию, и вообще, чем определяется необходимость введения той или другой категории. С одной стороны, это, действительно, дело субъективное, категории — средства, и всё зависит от того, что я в портфеле ношу. Если есть в портфеле молоток — достану, буду забивать молотком гвозди. Если в портфеле лазер — достану его и начну всё лазером крушить или строгать. Это дело моей воли и того, какой инструментарий я освоил. А в чем, собственно, заключается некоторый момент необходимости и непроизвольности того, что я проделываю. А момент необходимости заключается в том, что за каждой категорией стоит определенное видение объекта. То есть если я, например, использую категорию Ф — С, то этой категории соответствует определенное видение объекта, а именно — упорядоченность мысли. Если вижу упорядоченность мысли, и эта упорядоченность с одного фрагмента смыслового материала переносится на другой, то есть я сам при 103 чтении текста это вижу, поскольку структура объекта как раз характеризуется тем, что я могу увидеть объект точно так же, как модели в физике. Ведь идеальные модели в физике — это структуры объекта, которые отражаются и выражаются в определенных схемах и чертах. Так и в случае, если я начинаю видеть упорядоченность мысли. Так вот, в данном случае упорядоченность мысли, или структура мысли, — это то, что соответствует объекту. Кира: Мысли чего?.. Ю.В.: Мысли всего, чего угодно... Той мысли, которую я анализирую. В данном случае мысли, которая в тексте учебника обозначена как аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Мысль по поводу написанного. Но ведь ваш вопрос, Кира: «Мысль чего?..» Этот вопрос очень хороший, потому что он может быть совершенно по-разному повернут. В этом смысле категории интересны тем, что они позволяют анализировать мысли на разном предметном материале. Но тогда возникает вопрос: а за счет чего это можно делать на разном предметном материале? Мы это можем делать только за счет того, что саму мысль, которая определенным образом организована в параграфе физики или в параграфе по биологии, можем представлять, во-первых, в объект. То есть мы, например, в мысли можем видеть определенную упорядоченность. Но когда я использую слова: структура, упорядоченность, элементы и т.п., оказывается, что я привношу в текст что-то своё. Ведь в самом тексте нет ничего ни о биологии, ни о физике, ни про упорядоченность (или по-другому, о порядке, структуре, элементах, компонентах). Так вот, упорядоченность (порядок), структура и элементы — всё это относится к языкам категориального описания. Это означает: для того, чтобы начать использовать категорию, я не только должен увидеть мысль как объект, в данном случае некоторую упорядоченную структуру, но еще использовать ряд вспомогательных слов, которые позволяют эту мысль удерживать. Это самый тонкий момент. Например, я читаю текст, но на самом деле могу его читать и двояко, и дважды, по-всякому читать. Один способ чтения текста, когда я жестко следую тем смысловым определениям, которые построил автор учебника. Это обязательное требование к пониманию любого текста — воспроизводить его смысловую структуру без искажений. Здесь никаких исключений нет. Это общее требование, даже если я с автором спорю и нахожусь в конфронтации: мне, например, его мысль неприятна. То, что она мне неприятна, — мое субъективное дело. А сначала я должен понять и воспроизвести его мысль без искажений, максимально точно. И с этой точки зрения, сам текст читается двояко. С одной стороны, я смотрю на текст, как на изложение определенного смысла, представленного в тексте. А с другой стороны, рассматриваю его совершенно под другим углом, с точки зрения категорий, то есть я смотрю на то, как в нем организована мысль. Это совершенно другой тип чтения. И вот, когда я смотрю на то, как организована в тексте мысль, я первым делом начинаю анализировать, как представлен объект этой 104 мысли. Например, вижу некоторую упорядоченную структуру, которая повторяется. Говоря про механические и электромагнитные колебания, автор учебника физики сам подчеркивает, что мы имеем такие-то параметры, он их выделяет, и получается такая выделенная организованная структура. Автор подчеркивает этот момент упорядоченности, даже просит, зовет меня увидеть такое устройство этой мысли. И точно так же всё изложено в учебнике биологии, когда речь идет об основных положениях учения Дарвина. Обсуждается деятельность человека по селекции, дается определенная упорядоченность. Потом обсуждается процесс эволюции органического мира, его упорядоченность. Меня просто просят увидеть, что свой порядок есть и здесь, и там. И какое-то существует сходство между одним порядком изложения и другим. На этом материале я начинаю видеть, как устроена мысль. А для того, чтобы ее превратить в предмет анализа, я должен эту мысль в каких-то словах удержать. Начинаю смотреть, что здесь для меня важно: есть структура, то есть здесь мысль явно как-то организована; есть идея порядка, какие-то выделяемые факторы и элементы. Таким образом, само видение объекта я начинаю делать более артикулированным, то есть более выраженным, представленным, имеющим массу характеристик. Этого я добиваюсь за счет введения определенных языков описания. И в этом смысле задание, которое я вас попрошу выполнить, оно предполагает, что от вас потребуется ввести свой "язык описания. Ведь за счет чего возникает второй текст, который вы, фактически, после анализа первого текста можете написать? За счет того, что у вас появляются специальные слова, с помощью которых вы можете как бы «вытащить» мысль, представленную в тексте учебника, и превратить ее в предмет, существующий во вне. Просто можете за счет этих слов извлечь мысль из текста и сделать ее зримым предметом. И, наконец, последний момент, на который я уже, собственно, обращал внимание, и это демонстрировал. За каждой категорией стоит определенный набор операций. Что это означает в данном случае? Если я использую категорию Ф — М, то за этим стоит операция конструктивных преобразований форм, то есть формы могу конструктивно преобразовывать и накладывать, как бы отпечатывать их на материал. Точно так же действовал Аристотель, когда описывал пример со скульптором, создающим прекрасную статую: он брал форму и начинал ее накладывать на материал. В том случае, когда речь идет о категории Ф — С, осуществляется совершенно другая процедура, а именно: от установления тождества форм я должен спуститься и перейти к определению характеристик сущности, или содержания. Значит, я должен разотождествить форму и содержание, мысленно разделить форму и содержание, то есть понять, что, например, в физике формула, с помощью которой описывается механическое колебание, — это форма, а за ней стоит содержание, то есть сущностное устройство этого колебательного процесса. И я должен для себя это разделить. 105 Точно так же и в биологии. Есть формула, или форма того, как строятся искусственный отбор и селекция, производимая человеком. А за этой формой, за искусственной селекцией, которую производит человек, есть определенное содержание этого процесса, которое заключается в том, что виды, то есть породы и сорта, начинают изменяться в определенном направлении. С этой точки зрения, я при помощи операции, которая стоит за данной категорией, разделяю форму и содержание. А потом перехожу ко второму процессу. Там тоже есть форма — борьба за существование, естественный отбор на основе наследственной изменчивости. То есть природа это сама делает: организмы друг с другом соревнуются в каком-то сумасшедшем порыве, каждый хочет быть первым, лучшим, борется за существование, они при этом меняются, а выживают наиболее приспособленные. Дальше я начинаю смотреть, как за этой формой, где выделены эти фрагменты и компоненты, выступает сущностный эволюционный процесс, действующий и проявляющийся в природе. На этом я заканчиваю ответ на вопрос Киры, введя новый, очень содержательный эпизод. За всякой категорией, и это, собственно, позволяет мне категорию применять, стоят определенное видение объекта, характерное для данной категории, определенные языки описания и определенный набор операций. И вот в том случае, когда я читаю и двигаюсь по смыслу текста, я могу всё это проделать, то есть, читая текст, восстановить видение объекта. В процессе чтения, когда я могу использовать категориальную форму мышления, у меня возникает определенное видение объекта, я восстанавливаю языки описания, могу использовать набор операций, и это, собственно, и есть критерий того, что я могу употребить категорию. А вот после того, как я ее употреблю, у меня должен появиться вторичный текст, который, собственно, и описывает то, как устроена мысль, которая осуществляется на данном фрагменте материала. Этот второй момент мы обсудим дальше. 106 Лекция 6. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА УЧЕБНИКА И вторая возможность, которую мы, собственно, и осуществляли: не «вычерпывали» и извлекали категории из материала учебника, а пытались характеризовать и описать тот процесс мышления, который с помощью нашего категориального анализа может быть извлечен из структуры учебника. И мы в прошлый раз анализировали два фрагмента текста с аналогиями: один из учебника физики, а другой — из учебника биологии. При этом получилась та же категориальная структура, что и в учебнике физики, когда мы стали так же анализировать положения Дарвина, как они представлены в учебнике биологии. В связи с анализом этих аналогий возник вопрос: используется ли при этом категориальная оппозиция «форма — материал» или «форма — содержание»? Этот вопрос так важен по отношению к аналогии, потому что аналогия — такой своеобразный мыслительный прием, где устанавливается сближение между двумя совершенно разными структурами и совершенно разными мыслями. Сразу возникает следующий вопрос: само это сближение есть произвол того, кто сближает, или же это — искусство, очень эффективный и тонкий прием? И имеет ли оно отношение к тому, кто сближает, или это есть некоторая сущностная характеристика того объекта, который вскрывается в результате этого сближения? И в первом случае всё это описывается достаточно просто: мыслитель просто накладывает некоторую форму на два похожих случая, и за счет этого возникает аналогия. Как в том фрагменте из учебника физики о процессах механических и электромагнитных колебаний. Так, фактически, историки физики этот процесс и восстанавливают: выводятся два совершенно разных уравнения, из которых одно уравнение связано с описанием механических колебаний, а другое — с описанием электромагнитных колебаний. И всё это было получено совершенно разными учеными, которые никак друг с другом не соприкасались, совершенно независимо: первый работал в одной области физики, а второй — в другой. 107 Получается удивительно похожая для Гельмгольца (для третьего лица) форма описания одного и другого процесса. И здесь возникает очень интересный вопрос: это что, так вся природа устроена: в одном процессе так сущность проявляется (всё так колеблется), и в другом процессе так же сущность проявляется (и так же всё колеблется), или тут действуют какие-то законы и принципы организации мысли, мышления? Мы специально не шли дальше, поскольку здесь отдельно нужно обсуждать процесс развития науки. Но категориальный анализ это позволяет выяснить, то есть задать ряд вопросов: какая здесь всё-таки должна использоваться категориальная оппозиция — «форма — материал» или «форма — содержание», где вторая категориальная оппозиция предполагает, что мы вскрываем некоторую единую сущностную структуру в устройстве самой природы, и форма нам каждый раз, к нашему изумлению, обнаруживает и показывает это единое сущностное устройство? Или это имеет отношение к некоторым характеристикам и закономерностям развития процессов мышления, например в физике, где по определенным законам создается функциональная связь, которая оформляется в формулу, а затем ряд ученых эту формулу пробуют применить к разному материалу? И, как оказалось, по крайней мере для меня, что мы какой-то приблизительно похожий тип рассуждения встретили в параграфе из учебника биологии о законе эволюции Дарвина. Потому что там сначала описывается, как человек осуществляет селекцию пород животных и сортов растений, а потом этот же механизм, известный из деятельности человека, переносится на естественные процессы природы. Но переносится, естественно, не формально, не механически, а с определенными изменениями, где целенаправленная деятельность человека заменяется определенной конструкцией механизма действия самой природы. Но в принципе по самой структуре рассуждений, по описанию самой структуры, которая переносится (и описания деятельности человека, который осуществляет селекцию пород животных и сортов растений, и описания того, что происходит в природе, — борьба за существование, выживание наиболее приспособленных), видно, что структура закладывается одна и та же. И тут опять возникает очень интересный вопрос по поводу категориальной оппозиции «форма — материал» и «форма — содержание». Так что же здесь происходит? Некоторая выделенная форма, которая известна из деятельности человека, потом приписывается природе. Отсюда все споры и дискуссии конца XIX — середины XX века по поводу того, что Дарвин просто перенес в свой взгляд на природу представление об Англии XVIII и XIX века ( борьба за существование и т.п.), или ему действительно как-то удалось у самой природной сущности «подглядеть», заметить эту сущностную характеристику. И есть по этому поводу интересные интерпретации со стороны ученых-натуралистов (их подход так называется), которые утверждают, что Дарвину удалось это подсмотреть у природы, а деятельность человека природосообразна. Другими словами, в природе всё так 108 и есть — изменчивость, борьба за существование, а человек просто действует по законам природы. Какую в этих спорах точку зрения занять и чем ее обосновывать — отдельный вопрос, но само отношение категориальных оппозиций «форма — содержание» и «форма — материал» это позволяет выявить. А именно, что здесь возможны две разные возможности: можно так, а можно и по-другому. И это всё определяется тем, как мы работаем с категориями «форма — материал» и «форма — содержание». И это был как бы первый эпизод в нашей работе по категориальному анализу. На этом, собственно, завершилось прошлое занятие, и мы перешли к другим текстам, в частности к тексту учебника географии для 10-го класса, стр. 21, раздел III, где обсуждается антропогенное загрязнение окружающей среды. Я этот момент напомню, какие-то фрагменты зачитаю из учебника, а потом мы попробуем построить собственно процедуру выявления тех категорий, которые здесь должны использоваться: «О загрязнении окружающей среды вы уже много знаете, оно не может вас не тревожить. «Плоха та птица, которая загрязняет собственное гнездо», — говорит народная пословица. Неужели же всё человечество, да и каждый из вас уподобились такой птице? Попробуем ответить на этот вопрос. Загрязнение окружающей среды, нежелательные изменения ее свойств в результате антропогенного поступления различных веществ и соединений. Оно приводит или может привести в будущем к вредному воздействию на гидросферу, атмосферу, на растительный и животный мир, на здания, конструкции, материалы, на самого человека. Оно подавляет способность природы к самовосстановлению своих свойств». Дальше перечисляются источники загрязнения окружающей среды. Из этого выявляется, что всё может загрязнять среду, подразделяются разные типы загрязнений по тому, на что они направлены: загрязнение литосферы, почвенного покрова, загрязнение гидросферы, перечисляются реки, которые уже окончательно загрязнены. (из рек Советского Союза — это Волга, Днепр, Днестр и другие), загрязнение атмосферы. А потом обсуждается вопрос о том, как решается экологическая проблема. Выделяются три главных пути. Первый путь заключается в создании разного рода очистных сооружений. Второй путь состоит в разработке и применении принципиально новой природоохранительной чистой технологии. И, соответственно, третий путь заключается в глубоко продуманном и наиболее рациональном размещении так называемых «грязных производств», оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду. Вот такой параграф. Возникает вопрос: как к тому типу содержания, которое я здесь развертываю, начинать применять какие-то категории, когда и как их извлекать из такого достаточно эмоционального, в общем-то понятного, и, на мой взгляд, интересного текста? Вопрос применения категорий усложняется и тем, что существует еще один такой момент, который называется «стилевая особенность текста». Это означает, что если автор хочет написать не математизированный, а живой текст, 109 то он может использовать для этого не те жестко выделенные слова (то, что Гегель называл «прегнантная форма»), которые входят в структуру и описание самой категории, а всё богатство языка, на котором он пишет свое произведение. Прошлый раз я говорил о том, что всякая категория — это, по крайней мере, единство трех фокусов: видения определенного объекта (схема этого объекта обычно в категории заложена); определенного набора операций, который подогнан, точно описывает и связан с возможностями данного объекта, и наконец, использование понятий и языков описания ключевых понятий, которые данной категории принадлежат, и самого языка описания. Так вот, если я хочу написать какой-то более-менее литературный текст, чтобы он легко воспринимался читателем, мне же нельзя всё время употреблять, например, только категорию формы. Например, я понимаю, что всё определяется категорией «форма», и всё время пишу: «Форма взаимодействует с формой», «определяется формой», то такой текст читать будет невозможно. Поэтому мысль и строят так, что каждой категории принадлежит определенный набор понятий, который и включается в структуру текста. Но здесь возникает очень сложный вопрос, поскольку нам надо будет проделать обратную работу. То есть по литературному тексту, который достаточно живо, эмоционально написан, нужно разобраться с тем, во-первых, что тут, собственно, подлежит категориальному анализу, и, вовторых, как этот категориальный анализ проделать. С этой точки зрения, категориальному анализу при работе с содержанием подлежат те основные базовые структуры, модели, схемы, которые определяют видение самого объекта, который дальше получает свои характеристики в тексте. Это всегда требует анализа. То есть надо либо определить, какова структура самого объекта (это один вариант работы), либо определить то, что мы проделывали в прошлый раз: какова основная структура мысли, которая представлена в данном параграфе. Мы в прошлый раз обсуждали структуру мысли, которая называется «аналогия». Это вариант, когда сама структура мысли подвергается анализу. То есть мы должны увидеть тот тип мыслительных приемов или тот набор мыслительных процедур, которые сквозь текст пропущены и проведены. Например, с аналогией ясно, что какие-то мысли сближаются, и в этом заключается процедура. Ведь что такое аналогия? Я беру какие-то две разные мысли и привожу их в сближение. Собственно, в этом и заключается процедура, она представлена. А дальше я начинаю эту процедуру категориально разбирать и анализировать. А другая возможность в нашей работе — понять, как устроен объект, который в тексте учебника заложен и описан. То есть я в одном случае при помощи категорий могу анализировать структуру мысли, а в другом случае — сам объект (см. Схему 1). Точно так же можно обращаться и с этим параграфом: анализировать, какая здесь, собственно, представлена структура мысли, или определить, какое видение объекта в нем заложено. 110 Если начинать со структуры мысли, то для этого просто надо фактически схематизировать организацию самого параграфа. Вроде бы как рассматриваемый нами параграф из учебника географии построен? В первом фрагменте две части: первая — антропогенное загрязнение окружающей среды, причины и последствия, и вторая — решение экологических проблем, три его главных пути. То есть структура такова: сначала надо показать проблему, а потом — пути выхода из нее. Это в общем-то достаточно стандартный прием организации проблемного текста. Он строится на том, что сначала выделяется проблема: в чем сложность? Почему нет выхода? На что мы должны обратить внимание? — а потом обсуждаются пути выхода. И сам параграф, в котором ставится проблема, тоже имеет в принципе двойное устройство. Первая часть — это, собственно, постановка проблемы, где нужно обсуждать вопрос о том, что такое загрязнение окружающей среды, как вообще оно представлено, построено, что оно из себя представляет. А потом разбираются три разных случая, три разных типа загрязнения, которые определяются устройством самой Земли, где выделяются литосфера, гидросфера и атмосфера. И всё это возникает из организации текста, где есть первая часть — постановка проблемного вопроса и вторая часть — нахождение путей его решения. А в самой проблемной части находится описание того объекта, при помощи которого фиксируется проблема и производится членение самого объекта. Отсюда становится ясно, что ключевой момент определяется тем, как мы, собственно, ставим проблему, то есть какое видение выдвигаем в качестве проблемно-постановочного. И это вообще будет определять, в зависимости от того, как я задал проблемный объект, что для меня является ключевым в организации этого объекта. В зависимости от этого дальше и будет строиться моя мысль для разрешения этой проблемы. Если проблема одним образом поставлена, то мысль в одном направлении пойдет, а если проблема другим образом поставлена, то мысль пойдет другим путем. Здесь уже из самого поверхностного первого впечатления при чтении текста понятно, что, видимо, авторы учебника не случайно типы загрязнений задают с точки зрения геологического устройства Земли, где выделяют литосферу, то есть поверхность земли, гидросферу, то есть водные ресурсы, и атмосферу. Авторы как бы идут от геологической модели Земли, с точки зрения того, что в этой геологической модели человек может навредить, хотя в принципе уже понятно, что он может навредить всему. 111 Мы из учебника это понимаем и из газет узнаём, что есть даже рассуждение по поводу того, что существуют специальные технологии по искусственному вызову направленных землетрясений, во всяком случае есть такие лаборатории в Пентагоне, и у нас, я думаю, есть. Создаются всякие типы вирусов, которых не было в природе. И т.д. В принципе нам уже понятно, что возможности человечества в плане деструкции ничем не ограничены. Поэтому нам ясно, что те виды загрязнения, на которые хотят обратить внимание авторы учебника. членение типов этих загрязнений показываются по геологической модели устройства Земли. Это первая часть нашего фрагмента, которую мы еще раз посмотрим. В ней, собственно, есть все ключевые моменты, она и определяет то, как авторы учебника формулируют и ставят проблему, и в этом вся соль. С этим фрагментом еще придется разбираться и потому, что он — ключ к восстановлению, в том числе, и категориальной структуры учебника. Потому что весь вопрос в том, как авторы видят само загрязнение. В зависимости от того, как они его видят, так дальше всё развертывается. Например, обоснованной или не обоснованной является типология загрязнения, обоснованным или не обоснованным будет представление авторов о выходе из экологической проблемы и т.п. Итак, первая фраза в параграфе: «Об изменении окружающей среды вы уже знаете, оно не может вас не тревожить» дается для того, чтобы эмоционально включить читателя, это своеобразный текст-настрой. Дальше идет пословица, к которой мы тоже уже в прошлый раз относились: «Плоха та птица, которая загрязняет свое гнездо, — говорит народная пословица. Неужели всё человечество, да и каждый из нас уподобились птице?». Приходится относиться и к форме пословиц, раз она в учебнике есть. В чем суть этой пословицы, на какой тип отношений она настраивает? Ведь я не случайно говорил, что для того, чтобы анализировать текст, близкий к литературному, приходится восстанавливать куцый категориальный смысл. Основной смысл данной пословицы о птице, которая загрязняет собственное гнездо, фактически, двойственный. Первый смысл заключается в том, что просто птица неряшливая, которая свое гнездо загрязняет, это неряшливая птица, что вообще безобразно. Дальше ставится вопрос: мы сами такие же, как вот эта неряшливая птица? Или мы другие? И вроде бы там сказано, что вы знаете о загрязнении окружающей среды и поэтому вы вроде бы и есть та самая птица. А дальше, собственно, вводится определение, данное курсивом, которое позволяет как-то заново возвращаться к самой логике изложения: «Загрязнение окружающей среды, нежелательное изменение ее свойств в результате антропогенного поступления различных веществ и соединений». В этой фразе, выделенной курсивом, ключевое слово, которое требует анализа, — «нежелательное». Потому что из этого всё становится неясным и возникает вопрос о том, что, собственно, нежелательно. Здесь сказано, что нежелательные изменения происходят в результате антропогенного, то есть связанного с деятельностью человека, поступления различных веществ и со112 единений. Отсюда возникает непонимание, которое требует анализа. Так это что означает? Что люди всё загрязняют, а сами того не хотят? Тогда из приведенной выше пословицы становится ясно, что птица загрязняет гнездо, сама того не хотя, то есть она вообще-то хотела всё делать чисто, но над птицей «висит некий рок», и потому она гнездо загрязняет. Или как-то здесь надо всё понимать по-другому? И как бы ключевой этот метафорический момент становится непонятным. Но действительно ключевым словом в этой формулировке является слово «нежелательное», поскольку слово «нежелательное» двусмысленно. Потому что «нежелательное» можно понимать в том смысле, что у человека цель, чтобы на планете всё было чисто, всё хорошо, а всё равно каким-то образом косвенно и для него непонятно, неконтролируемо происходит разрушение природы, всех ее разных свойств. И «нежелательное» можно понимать в совершенно другом смысле (как с птицей, например): просто у людей времени нет, или они не обращают на загрязнения внимание, то есть у них отсутствует элементарная аккуратность и дисциплина. Поэтому их просто нужно призвать к порядку. Например, человек какие-то нарушения делает, но если об этом во всех газетах написать, по радио и телевидению объявить, наложить на него штраф 50 рублей, то всё будет нормально. И собственно вот этот момент, он предполагает какого-то специального продумывания и какого-то особого отношения, поскольку эта фраза для восстановления действительной структуры постановки проблемы оказывается ключевой. Потому что если «нежелательное» это связано просто с тем, что люди не следят за порядком, как птица (то есть вроде бы должны следить, а не следят), и это всё связано с нормами жизни человека, то либо здесь вообще никакой объективной проблемы нет, которая вызывает объективную трудность, либо, если эта проблема есть, то она связана с каким-то моральным воспитанием человечества, с какими-то моментами его этического и морального несовершенства. Тогда вроде бы дальше будет не совсем понятно, почему типы этих загрязнений выстраиваются по геологической модели устройства Земли. Вроде бы логичнее тогда разбираться вот с этими моральными несовершенствами и строить их типологию. Если же второй момент более серьезный, который заключается в том, что человечество не может не изменять свойства в результате антропогенного поступления различных веществ и соединений, тогда всё это требует совершенно какого-то другого анализа и другого отношения. А первый момент более простой, незамысловатый, как бы связан с тем, что человечество само не следит за своим поведением, и поэтому он не позволяет формулировать некоторые проблемы. Переходим ко второму вопросу. Начинаем его продумывать за авторов учебника и смотреть, какие из этого могут получаться выводы. Второй момент связан с тем, что человечество «нежелательно» изменяет окружающие свойства среды и не может этого не делать. Этот объект уже требует обсуждения и схематизации, анализа того, что за этим объектом стоит, как может быть он так устроен, что челове113 чество вообще-то хотело бы ничего в природе не менять, ее не загрязнять, а на самом деле этого сделать не может, то есть не может не загрязнять. Предварительно я бы дал следующее пояснение. Здесь обсуждается второй путь улучшения экологии с применением новой природоохранительной чистой технологии. С этой точки зрения и следует отнестись к авторам учебника, к этой их формулировке. На самом деле это, в общем-то, с точки зрения постановки проблемы, никакой не путь. Потому что здесь сразу в памяти возникают события, связанные с отношением к озеру Байкал, на берегах которого построен крупнейший целлюлозный комбинат. Все распри и споры вокруг Байкала заключались в том, что одни доказывали, что фактически они построили безотходную технологию получения целлюлозы, а другие считали, что это никакая не природоохранительная и не чистая технология. Хотя там авторы новой технологии запускали свой природоохранительный агрегат, а потом воду, которая была на выходе, наливали в стакан и сами пили, тем самым показывая, что всё нормально, и ничего с ними не происходит. И в принципе, даже какое-то такое впечатление было, что вот мы сами себя разрушаем (и это для нас всё равно, а с Байкалом — тем более), потому что у человека самое дорогое — это жизнь, которая дается ему всего раз. Но здесь интересно поступили японцы. Они, узнав про то, что построена такая чудесная безотходная природоохранительная целлюлозная технология, стали предлагать Иркутску заключить с ними контракт на вывоз байкальской воды за валюту. И было достаточно интересное обсуждение. В этом смысле японцы очень чувствительны к этой проблеме, как ни одна нация. Потому что они сказали, что в их сознании не укладывается непонимание нами простой мысли, что дистилляция воды, которую осуществляла сама природа в течение миллиарда лет, вообще никак не может быть сопоставлена с той дистилляцией, которую делает человек на своих допотопных, смешных и грязных агрегатах. То есть он искусственно воду как-то чистит, испортил всю ее структуру, и всё это делает на каком-то дистилляционном аппарате, «на какой-то керосинке». Так вот, с точки зрения японцев, то, что делала природа в течение миллионов лет, конечно несопоставимо с тем, что делает человек при помощи какого-то специального искусственного устройства. Несопоставимо по многим критериям, потому что японцы предполагают, что и техническая структура воды, которая дистиллируется за счет природных процессов, тоже другая. Просто у нас еще знания о химии ограничены. И в этом смысле нет методов, которые могли бы сопоставить по-настоящему структуру воды, которая прошла через перегонные аппараты и дистилляционные устройства, и структуру воды, которая очищалась за счет природных процессов. А поэтому японцы считают, что если наши люди к таким различиям не чувствительны, то надо просто у нас байкальскую воду покупать. Ясно, что новое озеро Байкал они у себя в Японии не выроют, но хоть этой водички попьют, которую миллионы лет природа сама дистиллировала. 114 Вот, собственно, исходя в том числе и из проблематизации второго пути решения экологических проблем, и при возвращении к первой формулировке о нежелательном изменении свойств природы, получается, что нужно и должно обсуждать при анализе этой темы структуру взаимоотношений деятельности человека с тем природным материалом, на который, с одной стороны, деятельность человека непосредственно и прямо направлена, с другой стороны, то, на что происходит влияние и воздействие как-то опосредованно, и наконец, влияние на тот слой процессов и моментов в природе, воздействие на которые человечество вообще не контролирует. То есть влияние есть, а на что (как, например, с водой, в силу того, что наши знания о химии ограничены) направлены эти влияния в третьей зоне вообще неясно и непонятно. С этой точки зрения, я обращаюсь и апеллирую к тому, что словосочетание «нежелательные изменения» может быть совершенно по-разному реконструировано и понято. А значит к нему возможно принципиально разное отношение. В одном случае «нежелательное» — это какое-то элементарное несоблюдение морально-нравственных норм. А в другом случае «нежелательные изменения» связаны с тем, что человечество хочет одного, и не может этого не хотеть, но там есть другие объективные ограничения (голод, холод, стихийные бедствия, физическое уничтожение и т.п.), и в результате получает совершенно другое. Для того, чтобы начинать категориальную реконструкцию и осуществлять, фактически, категориальное осмысливание (промысливание) материала, представленного в учебнике, во-первых, нужно найти ключевой концентр в материале учебника и восстановить его смысл. Для меня ключевым таким концентром (и у нас мнение с авторами учебника совпадает) служит то, что выделено в тексте курсивом. Но это еще требуется додумать. А дальше необходимо восстановить смысл того, что в определении выделено курсивом. Здесь стержнем в самом ключевом определении является словосочетание «нежелательные изменения», которое в первом случае может быть понято весьма поверхностно и однозначно, и тогда оно вообще не требует осмысления, поскольку в нем нет проблем. Можно просто бить в колокола, разворачивать пропаганду, и здесь мышление не нужно. И другой момент, более серьезный, связан с тем, что под «нежелательным изменением» понимается то, что человечество хочет одного и к одному стремится и не может не стремиться, потому что тогда произойдет уничтожение человечества, или наступит его деградация, или будет господствовать варварство при тех его формах самоорганизации, которые мы сегодня имеем. Можно, например, остановить пищевые комбинаты, мясокомбинаты, свинофермы (например, со свинофермами возникает гигантская проблема загрязнения природы, как и с птицефабриками), потому что никто не знает, как утилизировать выделяемый навоз и помет. Сегодня практически очень мало таких технологий, а многое так до конца и не ясно. И происходит изничтожение почв, потому что помет идет в почву и разлагает ее структуру. Но если это всё остановить, то в ряде наших регионов, 115 где мяса мало, а людей в основном кормят птицей, начнется голод. Это один момент, самый наглядный. Второй момент связан с тем примером, который я приводил по поводу Байкала. Так как у нас вроде бы и есть то, что называется очистными сооружениями, но качество их очистки не сопоставимо с тем, что делает сама природа без участия человека. И это означает, что когда мы всю воду определенным образом перерабатываем и превращаем в нечто, сделанное нами искусственно, последствия такой очистки принципиально оказываются непредсказуемы. И вот, с точки зрения такого понимания проблемы, можно констатировать, что есть ближайшее воздействие на природу, которое приводит к негативным изменениям при постановке совершенно других целей; есть косвенное воздействие на природу и, наконец, воздействие на природу, которое вообще в данный момент недостаточно прогнозируется и может рассчитываться очень приблизительно, как, например, чернобыльская катастрофа (см. Схему 2). О последствиях Чернобыля японцы вообще дают такой прогноз: во всех регионах Советского Союза и Восточной Европы произойдет несколько миллионов случаев смерти в результате чернобыльской аварии, но в силу неразработанности методик медицины они будут просто списываться на другие причины. То есть врачи будут ставить любой диагноз (например, малокровие), хотя это будет прямое влияние чернобыльской аварии. И, с этой точки зрения, возникает вопрос: а какова, собственно, категориальная структура того объекта, с которым здесь придется иметь дело, если мы под ключевым элементом этих нежелательных изменений начинаем понимать те изменения, которых человечество не желает, оно желает чего-то совершенно другого, а получает обратное или то, чего никогда не желало? И вот это похоже на действительную постановку проблемы, поскольку получается, что, может 116 быть, над человечеством висит своеобразный рок, как в фантастических рассказах XIX века или в дохристианской мифологии. И вообще, что человечество ни предпринимает, ему «кто-то злобный» всегда мстит. Но это литературная метафора. А с точки зрения выяснения категориальной структуры такого типа объекта, который определяет видение постановки проблемы, сама эта категориальная структура предполагает следующее: что в случае, когда мы имеем такого типа объект, для самого человечества не ясна форма процессов взаимодействия человека и природы. Поскольку момент с нежелательными изменениями означает то, что мы находимся в каких-то отношениях с природой. И тот тип преобразований и изменений, который планируется и задается, и тип изменений, которые мы получаем, — не совпадают. Другими словами, то, что мы закладываем с целью получить положительный результат, и то, что получаем на самом деле, находится как бы в неразрешимом противоречии (антагонизме) друг другу. И тут возникает масса тонких моментов. Например, мы планируем и проводим мероприятия для того, чтобы на Земле не было голода, а в результате получаем разрушенную этническую структуру Африки, зараженную СПИДом; закладываем новые программы по энергетике, а в результате получаем генные заболевания. Это один тип. Просто контролируемый нами характер изменений при исходной постановке целей и тот тип изменений, которые мы получаем в результате достижения этих целей, разительно не совпадают. И другой момент, когда, например, идем к одному результату, а в конце концов приходим к другому, совершенно противоположному. То есть после того, как цели реализованы, попадаем в другую ситуацию, чем та, в которой мы исходно ставили цели. Все эти моменты говорят только об одном: для нас самих еще остается закрытой (то есть до конца не ясной, непонятной) сама форма взаимодействия человечества или человеческой деятельности и процессов природы. И с этой точки зрения, экологическая проблема есть не что иное, как проблема уяснения и выявления самой структуры и самих форм этого взаимодействия. Поскольку в зависимости от того, как мы начинаем рассматривать это взаимодействие, мы приходим к тем или иным выводам и результатам. Итак, неясна форма процессов взаимодействия человечества и природы. Вот тут наступает самый тонкий момент, потому что, фактически, категориальные формулы, с которыми здесь приходится работать, я тем самым уже задал: есть три элемента, каждый из которых и отношения между которыми приходится отдельно обсуждать и продумывать. Во-первых, это момент взаимодействия — совершенно отдельный план. Собственно, вот этот план как раз в учебнике и представлен, то есть про него прямо ничего не сказано, но фактически он только там и фигурирует. Потому что «нежелательные изменения свойств в результате антропогенного поступления веществ и соединений» и есть тот самый тип взаимодействия, который заложен в качестве основного. 117 Этот момент в анализе самый трудный, потому что каждый раз восстановление категорий предполагает какой-то скачок: нужно от имеющегося непосредственно смыслового описания сделать скачок к форме. В учебнике сначала написано: «нежелательные изменения свойств», потом — «окружающей среды» и «в результате антропогенного поступления веществ и соединений». И возникает вопрос: о чем здесь идет речь, когда говорится (слово «нежелательные» пока убрали, мы с ним уже разобрались) об изменении свойств окружающей среды в результате антропогенного, то есть связанного с человеком, поступления различных веществ и соединений? Да это же и есть взаимодействие. потому что происходят изменения, которые осуществляются благодаря тому, что делает человек, то есть человеческой деятельности. Но в результате, когда мы начинаем соотносить ту схематизацию, которую проделал я, с тем ключевым категориальным словом, которое содержится в данной формулировке, таким ключевым словом оказывается «изменение». В этом смысле, категориальная форма, заложенная в данной формулировке, связана как раз со словом «изменение». Поскольку утверждается, что окружающая среда изменяется в результате того, что в нее поступают различные вещества и соединения, связанные с деятельностью человека (то есть антропогенные). Фактически это означает следующее: основная схема объекта, с которой имеют дело авторы учебника, вообще определяется в той ключевой формулировке, которую мы разбирали с помощью категории изменения, где сначала было одно состояние объекта, потом возникло его второе состояние, а затем и третье (см. Схему 3). И, собственно, переход объекта из первого состояния во второе, из второго состояния в третье связан с тем, что объект во втором состояния имеет совершенно другое устройство, совершенно другой характер, чем в первом, а объект в третьем состоянии имеет совершенно другое устройство, чем во втором. Это, во-первых, собственно и есть категория изменения, поскольку категория изменения описывает только одно — смену состояний объекта. И во-вторых, указывается, что этот переход задавал другое состояние, то есть из первого состояния во второе и из второго состояния в третье. Он связан с тем, что эти изменения определяются поступлениями различных веществ и соединений, которые носят антропоген118 ныи характер, то есть связаны с деятельностью человека. Но в этом смысле здесь для меня ключевым словом остается «нежелательно», в отличие от авторов учебника. Хотя неясно, имеет ли это слово категориальную характеристику или ее нет. И поэтому момент заключается в следующем, что сам этот тип переходов от первого состояния ко второму и от второго к третьему связан с поступлениями, которые носят антропогенный характер. Но возникает вопрос: есть ли субъект этих изменений и какова тогда форма характера отношений субъекта с тем объектом, который он изменяет? Дмитриев Д.Б.: Вы использовали слово «взаимодействие» а не просто «воздействие». Видимо, следует разъяснить, на что вы обратили внимание, когда вместо воздействия вы обращаетесь к взаимодействию, к обратному влиянию на человека. Может быть, слово «нежелательные» и есть показатель того, что здесь помимо прямого влияния есть еще и обратное? Ю.В.: Вопрос правильный. Тут и начинается следующий момент, который мы должны рассмотреть. Он состоит в том, что есть определенная структура содержания материала, которая жестко заложена в текст, и есть то, что мы сами привносим в текст при его чтении, считая что-то нецелесообразным, не существенным, или наоборот — принципиально важным. В этом смысле в структуре текста, которую мы разбирали, ключевыми являются два термина: «нежелательно» и «изменение». Конечно, авторы учебника всё строят на слове «изменение», и поэтому для них как бы основной категориальной структурой, с которой работают, является момент изменения. И они при этом обсуждают, что происходит, как изменяется природа. Отсюда неслучаен и переход к типам загрязнения, которые определяются геологическим устройством Земли. Поскольку у нас меняется природа, то всё это вызвано тем, как организована и устроена сама природа. А вот слово «нежелательное» очень двойственное, потому что оно, вопервых, действительно предполагает, что у этих изменений есть субъект, который ставит определенные цели, и во-вторых, что результат его деятельности, который получается, не совпадает и противоречит его исходным целям. То есть человек действует с определенными целями, а тот результат, который он получает, фактически их «усомневает», делает недействительной саму форму тех его исходных целей. Но теперь нам этот момент нежелательности, то есть резкого расхождения целей и результатов, нужно отнести к первому моменту, связанному со словом «изменение». И когда мы начинаем всё к первому результату относить, то фактически получается следующее: с одной стороны, есть цели, которые я ставлю, а с другой стороны, получается, что всё, что мне предъявляет природа или окружающая среда в результате реализации моих целей, выступает как противостоящая и противодействующая мне сила. Отсюда возникает очень интересный момент, что при разборе данной формулировки выявляется и та категориальная структура, которая непосредственно в текст заложена, связанная с двумя ключевыми словами «нежелательные» и «изменения», и другая категориальная 119 структура, которую мы начинаем восстанавливать, когда додумываем те исходные понятия и слова, которые в этой формулировке заложены. С этой точки зрения, момент спорный и сложный. Потому что если мы считаем слово «нежелательные» метафоричным и его отбрасываем, то у нас тогда всё строится очень просто: есть изменения свойств окружающей среды, а окружающая среда — это природа. И дальше мы вычленяем характер изменений окружающей среды в соответствии с тем, какое устройство имеет природа. Например, поскольку речь идет о Земле, то вводится геологическая структура Земли и то, что в ней изменяется, и т.д. Если же начнем разворачивать термин «нежелательные», его восстанавливать, то мы, фактически, должны выявлять смысл и делать схематизацию этого термина. Мы приходим к тому, что «нежелательные» — это есть расхождение между целями, которые ставит человек, и теми результатами, которые он получает вообще в природе и в окружающей его среде. В результате мы должны будем менять ту основную категориальную характеристику, которая заложена в текст учебника. Поэтому в ходе такой работы надо будет дать свою формулировку, что такое изменение окружающей среды, вводя туда категорию взаимодействия. Потому что есть момент человеческого воздействия на природу — то, что называется «антропогенное поступление различных веществ». А то, что они задаются как «нежелательные», — это есть момент обратного влияния и обратного воздействия природы на человека, поскольку человек признает, что то, что он произвел с природой, для него нежелательно, он этого не закладывал в цель. А раз он этого в цель не закладывал, то характер предъявления ему самой этой нежелательности — это момент обратного действия природы на него. Если это показать в двух элементарных кибернетических блоках, где, с одной стороны, есть человек, а с другой стороны — природа, то мы, с одной стороны, имеем вообще процесс воздействия человека на природу, а с другой стороны — то, что влияние деятельности человека на природу является целевым, это осознанное действие. Но поскольку в результате получается то, что самим человеком признается нежелательным, то сам факт признания нежелательности того, что поступило от природы, выступает здесь как скрытый момент обратного действия природы на человека. Х.Х.: А можно еще раз про природу и человека... Ю.В.: Здесь момент заключается в следующем. Когда человек действует, осуществляет преобразование в природе, — это его целевое действие по изменению самой природы. Но поскольку результат этих его действий самим человеком признается нежелательным, то есть совсем не таким, каким он его хотел получить, то предъявление самой этой нежелательности тех самых изменений (которые признаются тем, что человек не хотел получить) это и есть, фактически, обратное действие природы на человека со всеми признаками взаимодействия и обратного действия. Потому что в результате у людей меняется осознание целей и понимание того, что можно, а что нельзя... Что произошло в результате чернобыльской аварии? Сейчас мно120 гие физики считают, что вообще нельзя заниматься практической и экономической разработкой атомного ядра, эта тема должна быть так же запрещена, как и генная инженерия. Поскольку тот тип последствий, который возникает в генной инженерии, связан с изменением самой структуры организма человека, а в случае разработки атомного ядра неизбежно тотальное изменение вообще всех структур окружающей среды и рост генных заболеваний. То есть появление других целей, которые возникают из результатов человеческой деятельности, есть не что иное, как обратное действие природы и окружающей среды на человечество. И всё это во временном, отсроченном моменте... Но с этой точки зрения, интересен следующий момент нашего движения. После того, как мы проанализировали эту формулировку, у нас получается два возможных категориальных прочтения. Первое категориальное прочтение, когда ключевой категорией оказывается слово «изменения», заложенное в саму формулировку, а второе прочтение основано на категории взаимодействия, если, как я говорил, жестко придавать значение самому термину «нежелательные». С этой точки зрения, эти две категориальные формулировки фактически противоречат друг другу (см. Схему 4). И продумывание второй формулировки, связанной с категорией взаимодействия, будет приводить к совершенно другому типу членения и другому типу анализа экологических проблем и к другому типу выделения тех разрушений окружающей среды, которые будут происходить. Потому что если ключевым является процесс взаимодействия, нужно не столько анализировать геологическую оболочку Земли с точки зрения того, что происходит с этой оболочкой, сколько восстанавливать саму структуру взаимодействия и сам тип изменений. Д.Б.: Что надо восстанавливать? Ю.В.: Если начинаем анализировать взаимодействия, то надо восстанавливать саму типологию взаимодействия, а не изменений. С этой точки зрения, авторы учебника работают не с типологией изменений, а категорию изменения используют только для того, чтобы не обсуждать сами эти изменения. Ведь изменения, например, для меня это изменения некоторого развертывающегося и меняющегося объекта природы, в данном случае Земли. Поэтому категория «изменения» авторам учебника нужна только для одного, чтобы затем просто перейти к устройству Земли и членить изменения не по тому процессу изменений, которые происходят, а, фактически, по модели устройства самой Земли, выделяя в ней разные оболочки. 121 Назарова И.Г.: Вопрос касается того, почему вы выбрали категорию «форма», когда указали на то, что фактически здесь объект не выделен, и его нужно ставить. Мне кажется, что с равным основанием в данном случае можно было бы говорить, что точно так же не ясно содержание процессов взаимодействия человека с природой, смысл, сущность, неясен материал, на котором всё это происходит. Почему вы начинаете работать с формой? Ю.В.: Очень хороший вопрос. Я пока еще до этого не дошел в той формулировке, которую я расписал. Я только начинаю анализировать процессы взаимодействия. А мне на самом деле еще нужно теперь объяснить, почему авторы учебника всё строят на категории «изменения», а не выделяют категорию «взаимодействия». Они только намекают на категорию взаимодействия, с моей точки зрения, вводя момент с понятием «нежелательность» или вводя момент с понятием «антропогенные». Здесь есть как бы два объяснения. Первое — поскольку это учебник географии, и этот предмет пока еще до сих пор рассматривается как наука о природе, а не как сложная форма социального проектирования процессов жизни людей на планете Земля. То есть считается, что география описывает природу, которая находится вне нас. не форму жизни, не форму деятельности людей на Земле, а то, как устроен такой объект «Земля», который имеет какое-то устройство и существует вне нас. И есть второй момент, более сложный. Он заключается в том, что сама категория взаимодействия нужна именно здесь, потому что есть одна часть — природа, окружающая среда, и есть вторая часть — деятельность, и между ними происходят какие-то сложные процессы. Дело в том, что сама категория взаимодействия очень плохо отработана. И это вторая причина, почему, я так думаю, авторы учебника осознанно или не осознанно эту категорию не применяют. И здесь, оказывается, приходится обсуждать, уже забираясь в саму эту категорию «взаимодействие», совершенно другой план процессов. Потому что, во-первых, вообще-то категория взаимодействия достаточно долго отрабатывалась в физике, например у Галилея, где обсуждался процесс соударения шаров. Собственно оттуда и берутся идеализации взаимодействия, которые стоят за этой категорией. На примере с шарами всё там достаточно сложно и непонятно, как трактовать само это взаимодействие. Следом появляется вторая категория — «процесс» по отношению к взаимодействию. Приходится анализировать «процесс взаимодействия» человеческой деятельности и природы. А это уже некоторая структура, где есть одна точка, вторая точка и между ними — сложное поле взаимного влияния или взаимного соприкосновения силы, идущей из одной точки, и силы, идущей из другой. И есть, фактически, момент только структурной связи этих векторных сил, или же сам процесс одного типа воздействия и опосредованного, непрямого другого типа воздействия. То есть можно даже состояния этих взаимных действий выделять, и тогда вводить категорию «процесс». 122 Есть и второй, очень сложный момент. Когда мы говорим про категорию взаимодействия, то речь идет о том, что всякое взаимодействие — это последовательность воздействий. То есть был один акт человеческого воздействия на природу, в частности создали атомный реактор или атомную бомбу, потом эту атомную бомбу взорвали, или разорвалась чернобыльская атомная установка, и после этого начинается обратное воздействие природы на человека. И взаимодействие это есть не что иное, как просто сорганизованный во времени процесс этих двух взаимных обменов реакцией, где есть один тип воздействия и есть обратный тип воздействия. Или под воздействием понимается одновременно осуществлявшийся этот самый процесс взаимопроникающих влияний, который меняет сами исходные субъекты этого действия. То есть уже в тот момент, когда начинается промышленная разработка атомной энергетики, в силу ограниченности знаний нашей науки, в силу плохого понимания медицины происходит необратимое изменение человеческого организма, продуктов питания, которое обратным ходом сразу же влияет на самих людей. С этой точки зрения, получается совершенно другая модель взаимодействия. Но как только мы начинаем выкладывать эти разные моменты взаимодействия, то приходим к выводу, что основное, что нас удерживает от того, чтобы дать четкий математический ответ, что происходит с нами и с природой, это сама форма, по которой мы начинаем структурировать эти процессы взаимодействия. В этом смысле «форма» является замыкающей категорией, которая в данном случае организует и устанавливает нашу мысль. А вот уже определившись с формой, то есть фактически установив, что данная формулировка, которую я привел, обозначает (этот момент я бы просил отметить) то, что нам в параграфе непонятно, мы можем определить то, что требует нашего дальнейшего рассуждения, дальнейшей мыслительной работы. Она направлена не на фиксацию того, что отложилось, или того, что очевидно, а позволяет нам организовать то, что при продумывании параграфа учебника и той исходной его формулировки, которую мы разбирали, оказалось непонятным. С этой точки зрения, непонятна нам как раз форма самого процесса взаимодействия между человеком и природой. И момент «нежелательности» здесь оказывается ключевым. Нам непонятно, почему в результате для человечества то, что оно осуществляет целенаправленную деятельность (антропогенную), те изменения, которые наступают вследствие такой целенаправленной деятельности, оказываются нежелательными. И вот здесь тоже наступает очень тонкий момент использования категории «форма». Поскольку «форма» в тех случаях, когда мы работаем с объектом (а мы в данном случае выявляли, как строится процесс, что лежит в основе антропогенных изменений окружающей среды, что задает его основную характеристику, его основную структуру), позволяет определить границы (и тем самым организовать) того, что нам в нашем предмете мысли неясно и требует дальнейших уточнений, выявлений и объяснений. 123 На этом мы закончим обсуждение учебника географии. Есть ли у кого вопросы и замечания? Х.Х.: Непонятно, какую категорию мы выделили, «взаимодействие»? Ю.В.: Момент такой. Та категория, на которой работают авторы учебника, это категория «изменение». Она дана в формулировке. А категорию «взаимодействие» ввели мы, работая над фразой «нежелательные изменения» и начиная придавать понятийный смысл самому термину «нежелательный», восстанавливая его. Х.Х.: То есть прямой пример категориального анализа, когда надо выделить категорию автора, а потом привнести свою?. Ю.В.: Да, в данном случае это мы и делали... Х.Х.: Но где анализ текста с точки зрения категорий «форма — содержание», «форма — материал»? Ю.В.: А вот с точки зрения категорий «форма — содержание», «форма — материал» вопрос И.Г. Назарова задавала. У нас что получается? Когда мы стали рассматривать категорию взаимодействия, то обнаружили достаточно много разных типов взаимодействия между человеком и природой, поскольку есть прямой тип взаимодействия и есть опосредованный характер взаимодействия, а есть и такой тип взаимодействия, последствия которого не ясны. С этой точки зрения, возникает момент, связанный с тем, что сама категория взаимодействия в данном случае сложнейшего развертывания отношений человека с природой, сама форма этой категории сегодня в культуре и практике отношений человека с природой не отработана. Она, в этом смысле, является проблемной, то есть неясной. В отличие, скажем, от каких-то формул из физики. То есть сам тот тип материала, который мы рассматриваем, является проблемным, поскольку у человечества в этом плане ответа на вопрос, скажем, о судьбе Байкала фактически нет. Поэтому в данном случае категория «форма» выполняет очень важную функцию: она мне позволяет каким-то образом отнестись к категории «взаимодействие». При чтении параграфа я понял, разбирая формулировку «нежелательные изменения», что основной вопрос, который нужно выяснять: как строится процесс взаимного действия человечества и природы? Но сам характер, сам тип этого взаимодействия неясен, он остается скрытым. Д.Б.: То есть, фактически, получается, что за счет того, что я начинаю работать с категорией «форма — содержание», я обнаруживаю, что содержание, представленное в тексте, неясно и не очевидно. И я за счет того, что использую категорию «форма — содержание», вот эту дырку в содержании обнаруживаю. Вот здесь этот момент анализа и начинается. То есть эта категория служит средством обнаружения того, что неясно не только мне, но и авторам текста. Х.Х.: Не знаю, я долго пыталась работать с категориями «форма — содержание» и «форма — материал», и у меня всё прекрасно получилось. Ю.В.: Отлично, давайте это обсудим. Х.Х.: Никаких у меня сложностей с взаимодействием не возникало. У меня даже не возникало такого вопроса. 124 Ю.В.: Давайте тогда ваш пример рассмотрим. Что у вас получилось? Х.Х.: Я под формой имела в виду человека, то есть для меня человек выступал в разных ролях. В одном случае человек добывает полезные ископаемые, и тем самым разрушает естественную структуру почв. Во втором случае человек синтезирует новые вещества, и эти синтетические вещества, которых нет в природе, туда попадают. А даже в этом же параграфе учебника географии написано, что очень опасно, когда незнакомые природе вещества попадают в нее. У меня получается, что первая и вторая форма в общем-то одинаковы, так как это — человек. Только в первом и втором случаях фигурирует совершенно разный материал, с которым человек работает. То есть в первом случае материал — это земная кора, которую он разрушает, а во втором случае он оказывает влияние на атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну. А потом я еще пыталась сделать утверждение с точки зрения категории «форма — смысл». И с точки зрения категории «форма — смысл» получается, что в результате такой деятельности людей произойдет самоуничтожение человечества. Ю.В.: Давайте разберем два исходных примера, потому что они ключевые. Человек синтезирует вещество, и оно попадает в природу. С этой точки зрения, характер того, что произойдет в природе, когда в нее попадет вещество, в принципе непонятно. Так? Х.Х.: Это вещество природа просто не сможет переработать... Ю.В.: Это вещество не сможет переработаться, а характер тех изменений, которые начнут происходить в природе, не ясен. Х.Х.: Понятно одно, что опять будет происходить разрушение. Ю.В.: Да, понятно, что будет происходить разрушение. Возникает такой исходно первый момент: когда мы такую картинку объекта задаем. Когда вы даете эту формулировку, то, фактически, начинаете рисовать определенную картинку того, как человек через создание нового вещества (вот он создает определенное вещество, которое потом попадает в природу, и последствия этого неизвестны) воздействует на природу (см. Схему 5). 125 И вот здесь возникает ряд достаточно сложных вопросов, который в этом параграфе учебника и проявляется: что нам дает для прорисовки этой картинки категория «форма», потому что любая категория является средством, позволяющим что-то новое раскрыть или что-то новое начать организовывать и упорядочивать? Что в этом случае, на ваш взгляд, нам дает категория «форма»? Почему вы думаете, что используете категорию «форма», а, скажем, не просто проговариваете слова «форма», «содержание»? Вы уверены в данном случае, что категорию «форма» используете? Где доказательство того, что для вас категория действительно средство, которое организует в данном случае ваше мышление? Поскольку на эти вопросы мне точно так же всё время приходится отвечать, когда я анализирую тексты или вообще всё то, что я в процессе работы делаю. Потому что вроде бы на вашей картинке ваша работа определяется чем-то другим. Чем — это отдельный вопрос. А именно, чем? У нас есть процесс: вот мы делаем вещество, это вещество куда-то попадает, начинает что-то менять, а результат этих изменений как-то опять потом будет предъявлен нам, которые делали это вещество. Возникает самый центральный вопрос: что определяет возможность операций, изменений, преобразований той картинки, с которой вы работаете? Что я имею в виду? Скажем, я такой случай могу рассмотреть: на что сделанное нами вещество воздействует непосредственно, а какие влияния будут опосредованными, и когда они будут возвращены назад и предъявлены? Или другой случай: какие из этих типов воздействий неизвестного вещества прогнозируются, а какие — нет? И еще вопрос: при помощи какого специального средства моя работа на этой картинке упорядочивается? Когда я говорю, что при помощи категории «форма», это означает, что весь тот тип преобразований, который я строю на картинке, он должен определяться этой категорией. Что эта категория «форма» должна предполагать? Итак, у меня есть некоторая выделенная мною и описанная структура, и в зависимости от того, как я прорисовываю эту структуру, всё, что возникает в границах этой структуры, подчиняется ее законам, то есть законам этой формы. И я при наложении этой структуры начинаю вычерпывать некоторое новое содержание из того объекта, на котором я начинал работать. Х.Х.: Я пока исходила из того, что форму можно наложить на материал, и материал будет деформироваться под действием формы. Тогда получается, что в данном случае материалом является природа, на которую человек воздействует. То есть человек как бы накладывает свою деятельность на природу и этим ее деформирует. Ю.В.: Действительно так получается, но момент такой. Фактически, в чем отличие моих формулировок от ваших?.. Д.Б.: Мне кажется, что она реально использует категориальную оппозицию «форма — материал», но только в некоторой другой функции. Она фактически не налагает эту категориальную оппозицию для анализа текста, как делали вы, а делает другое — то, что стал делать Филипп, а именно говорить о том, что некоторая категория выч126 леняется, а именно та категория, категориальная оппозиция, на которой работает автор текста. Реально тогда что происходит? Саму форму, а именно некоторое воздействие на природу как вредное и нежелательное автор текста начинает множить и предъявлять на разном материале: на материале литосферы, гидросферы, атмосферы. Мне показалось, что за счет того, что сделала Женя, было выделено, как автор мысли, не разбираясь с первым моментом, как тут связаны содержание и форма, сразу начинает накладывать эту неясность на другие предметы. Будяева Женя: Я не поняла, почему неясность? Д.Б.: В том-то и дело, что для тебя неясности нет, потому что ты работала как автор, а для него тоже неясности нет. А для Юрия Вячеславовича смысл проделывания категориального анализа состоит в том, что я могу обнаружить то, что у автора не домыслено. Ю.В.: Женя, здесь действительно всё очень просто, сам этот момент очень красивый и яркий. Итак, есть деятельность человека, есть человек, который делает, который накладывает разные формы или разные такие масштабы изменений на разный материал природы: на гидросферу, на литосферу и т.д. Возникает вопрос: что такое тогда «нежелательное»? И даже математически получается всё очень четко. Женя: ...Случайное то, что не было продумано. Ю.В.: Отлично. А как этот момент нежелательности представлен в этой схеме? Потому что если жестко следовать вашей математической формулировке... Женя: Там «нежелательность» как раз и не представлена. Там же человек не специально производит какую-то синтетическую целлюлозу только для того, чтобы ее потом выбросить в природу. Для него это нежелательно, но в то же время вот так получилось. Вот этот выброс и есть случайный? Ю.В.: Категория «случайность» подключена вами к категории «форма». Момент здесь следующий: захватывает ли ваша категориальная формулировка весь смысл, который представлен в данном тексте? Вот здесь начинается работа с категорией «форма — смысл». Почему? Итак, есть момент наложения разных форм на разный материал природы. При этом вы говорите, что есть момент нежелательности. Он мне как-то понятен: если человек всё делает не специально, например, выбрасывает в природу целлофановые пакеты. Но возникает вопрос: каким образом вот это ваше понимание нежелательности с целлофановыми пакетами включено в саму исходную категориальную формулировку и работает внутри нее? Женя: Никак не включено. Ю.В.: Правильно. Женя: Там в этой категории не предусматривается... Ю.В.: В этой категории не предусматривается. Поэтому мы эту формулировку с «нежелательным» просто вообще из категориального момента убираем. Женя: Я ее убрала. 127 Ю.В.: Вы ее убрали. Я про это и говорю. А мне нужно ее как-то использовать, привлечь. А привлечь ее в процессе применения категории «изменение» или просто в наложении человеком каких-то форм не удается. Почему? Потому что когда это делает человек, то он действительно накладывает форму — это определяется его целевой деятельностью. А то, что в результате происходит то, чего он и не задумывал, человек относит на момент случайности. Но ведь так можно всё перевернуть, например, приписать фактор действия самой природе, то есть утверждать, что природа сама оказывает такое же достаточно целенаправленное действие на человека. То, о чем говорил Ф. Энгельс еще в XIX веке, что «природа нам мстит», тогда всё еще не было видно, но он это предчувствовал. Женя: Правильно. Нельзя рассматривать человека отдельно от природы, потому что человек — частичка природы. Ю.В.: А вот это уже спорно, это уже другой момент. Женя: Почему спорно? Ю.В.: Потому что на этом вся проблематика построена. Человек, с одной стороны, — природное существо, а с другой стороны, он по самому своему факту существования природе противопоставлен. Поэтому приходится учитывать оба плана: и то, что он внутри природы, и то, что он природе противопоставлен.. В этом вся сложность. Женя: Тогда работает утверждение, что человек — это царь природы. Ю.В.: Нет, человек — не царь природы. Сама схема иерархии, что человек наверху природы, неправильна. Он противопоставлен потому, что не природен и вне природен. С одной стороны, он вроде бы часть природы, а с другой стороны, человек — существо духовное. А все духовные структуры стоят вне природы, они как бы «а-природны». Например, человек может переделывать свою природу так, как это делают йоги. Не то, как мы это делаем в лабораториях (то, что мы делаем в колбах, — не способ переделки природы человека), а то, что делают йоги, когда они, перерабатывая свое природное тело, облекают его в другую, йогическую форму. То же самое делает мыслитель, потому что мышление и дух не природны, они противны природе. Х.Х.: Хорошо. А если рассматривать человека не как духовное существо, то в этом смысле он — дитя природы, а как духовное существо он противостоит природе. И в этом вся сложность. Женя: Я убрала духовность. Ю.В.: Я это понимаю. Но я не могу убрать духовность. Потому что, если я это уберу, то всё человеческое выпадает — вся история, культура и т.д. Но пример, который вы проделали, для меня принципиален и очень важен, потому что вы построили действительно очень жесткое категориальное определение. И ваша же работа при помощи категорий «форма — материал», «форма — смысл» действительно очень четко, буквально математически просматривается. Потому что действительно первая категория «форма — материал» очень жестко идет в плане объекта. 128 А дальше возникает этот момент со словосочетанием «нежелательное изменение». Так вот это «нежелательное изменение» как у вас закладывается в категориальную формулировку? Оказывается, что просто за счет категории «форма» в данном случае анализа не проведешь, потому что в данном случае нужно задавать вопрос: форма чего? То есть мы объект прорисовываем и говорим, что накладываем форму, но здесь возникает этот момент с «нежелательностью». И задается вопрос: форма чего? И получается, что мы здесь имеем дело не с одной категориальной структурой, а с двумя или даже с тремя. Это очень сложный случай. Оказывается, что тот объект, который мы строим, должен быть построен как наложение двух-трех категориальных понятий. А за счет чего? За счет постановки вопроса: а форма чего? И вот у меня получилось, что это форма взаимодействия человека и природы. Здесь я с вами поспорил не по поводу категории, а по поводу другого. Я-то ведь специально хитрю: не говорю, что человек венец природы, а природе присваиваю такую же равноценную, как и человеку, субъективную форму. В этом смысле я утверждаю: человек просто должен вступать в равноправный диалог, общаться с природой, как с живым существом, которое имеет такой же голос, как и он сам. И мне кажется, что это более сильная формулировка, чем просто утверждать, что человек — царь природы... 129 Я стою на той точке зрения, что природа и человек — равносильны. И в этом смысле у человеке есть определенная миссия по отношению к природе — не разрушать, а привносить туда свою душу, одухотворять и улучшать... 129 Лекция 7. РЕФЛЕКСИЯ В КАТЕГОРИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ТЕКСТА. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ Итак, обсуждая категориальный анализ текстов учебников, мы с вами выделили одну достаточно простую, но очень важную вещь. Во-первых, категориальный анализ текста может быть связан с восстановлением того содержания и тех категорий, которые использовал сам автор. То есть читая текст, можно восстановить те категориальные формы мышления, которые использовал сам автор, и которые, фактически, зашифрованы в тексте. И нужно просто расшифровать те приемы и те ходы мышления, которые в текст заложены. Это один тип категориального анализа. Во-вторых, совершенно другой тип категориального анализа возникает тогда, когда категории начинает привносить в текст сам аналитик-читатель. То есть он начинает использовать категории как средства анализа того материала, с которым работает, и, привнося эти категории, начинает по каким-то определенным законам трансформировать и менять тот фрагмент учебного материала, который ему представлен. Итак, в одном случае категории достаются и вынимаются из самого текста, который мы читаем, а во втором случае делается другая работа. Ты, с одной стороны, как бы понимаешь всё, что написано в тексте, а с другой стороны, по каким-то причинам (и эти причины надо специально обсуждать) начинаешь использовать собственные категории для изменения того материала, который в тексте учебника представлен. При этом, естественно, возникает вопрос: а по какой причине, для чего и как нужно не довольствоваться расшифровкой и восстановлением тех категорий, которые заложены в текст учебни130 ка, а привносить какие-то другие? Почему так всё это происходит, и для чего это нужно? Чаще всего введение другого типа категорий, нежели те, которые заложены в тексте, определяется тем, что тот тип представлений, который заложен и излагается в тексте, по каким-то причинам читающего не устраивает. По каким причинам? Это тоже надо специально обсуждать, но только в том случае, если перед нами текст научный или учебный, то есть мыслительный, а не чисто беллетристический, в котором, как правило, нет никаких структур мышления. Второй план представляет наибольший интерес: при каких условиях нас не удовлетворяет представление, заложенное в тексте, в результате чего мы вынуждены строить какое-то своё, другое представление, чем то, которое заложено в тексте, и, выстраивая это представление, привлекать какие-то иные категории? Здесь очень важно сделать такую небольшую рефлексивную преамбулу (слово «рефлексивная» означает мысль, которая непосредственно отступает от самого русла того, что я говорю, и требует выхода в некоторую позицию над излагаемым мною текстом). Дело в том, что читать тексты, любые, в том числе тексты учебников, а тем более философские, — это достаточно сложное искусство. В основном, у людей есть два типа чтения. Первый тип чтения заключается в том, что люди просто погружаются, как бы проваливаются в текст, то есть они себя начинают «склеивать» с текстом. Они читают текст и в какое-то время перестают различать, сами они так думают или с ними так общается автор текста. Такой тип чтения наиболее распространен. На этом построена сегодняшняя современная культура чтения художественной литературы. Люди так измучены жизнью, что просто специально достают детектив, читают и туда как бы падают, «исчезают» из внешнего пространства. В этом смысле, когда, например, едете утром в переполненном метро, то вы можете наблюдать эту картину «не существования». Люди как бы исчезают, погружаясь в детектив или фантастику. Они перестают существовать в окружающем их реальном мире, а «проваливаются» в текст своей книги, и там внутри, где-то в чем-то существуют: отдыхают или с ними еще что-то происходит. Приблизительно такая же манера у нас чтения всяких других текстов. То есть мы просто подпадаем под влияние текста и постепенно перестаем понимать, что это мы так думаем про то, что возникает из текста, или это кто-то продумал до нас, а мы просто всё это воспроизводим. Другая, более сложная процедура чтения заключается в том, что читающий обязан различать, фактически, три вещи: своё понимание текста, авторскую позицию того человека, который с ним через текст как бы говорит, и свои мысли по поводу авторской позиции. Вот, например, перед нами текст. А я как работающий с текстами, обозначенными двумя звездочками (что означает то, что всю эту картинку запределивает), обязан различить, вопервых, текст понимания (я вроде бы читаю текст, а на самом деле там у меня идет текст понимания — то, как я понял). Если записать то, как я понял, а потом срав131 нить с текстом учебника, возникают очень интересные существенные расхождения. Во-вторых, различить позицию автора текста. И, в-третьих, определить свои самые разнообразные встречные рефлексивные мысли (рефлексивные, то есть в позиции со звездочкой — по поводу того текста, который я читал). Вот это всё, как минимум, требуется. Поэтому при таком чтении вместо формы «не существования» при попадании в текст от читателя требуется достаточно интенсивное существование, где он четко дает себе отчет о том, что, собственно, понял, как это его понимание относится к тому, что на него из текста идет, и наконец — какие у него есть несогласия с тем, что он читал и понимал. Как правило, те, кто любит читать, стихийно делают всю эту работу, но одновременно и не различают ее. И в ответ на вопрос о том, что он, собственно, понял из текста, такой читатель сплошь и рядом начинает говорить о своем несогласии с какими-то фрагментами своего понимания. И поэтому в принципе вот эти три герменевтических (то есть связанных с пониманием. От слова герменевтика — наука о понимании. А само это слово произошло от имени древнегреческого бога Гермеса — покровителя торговли и всяких изящных искусств, в том числе искусства понимания) требования обязательно нужно соблюдать, потому что без них не удается понастоящему работать с текстом. Теперь возвращаемся к тексту учебника географии. При чтении этого текста, особенно его первой части на страницах 21, 22 и 23 под цифрой 1 (я тут просмотрел ваши работы, и мы это обсуждали, и тем более до этого обсуждали категории «форма — содержание», «форма — смысл», «форма — материал»), возникает очень интересный вопрос: как мы работаем, осуществляя категориальный анализ, что мы при этом делаем? Поскольку на предыдущей лекции я такого типа категориальный анализ просто демонстрировал, показывал, как я его осуществлял, то сейчас у меня есть возможность проделать на том же тексте совершенно другую работу. То есть не повторять еще раз категориальный анализ, а обсудить вопрос: что мы делаем, когда его осуществляем? Чувствуете различие жанров? То есть в первом случае я просто проделываю эту работу и вам ее демонстрирую: читаю текст учебника и все эти процедуры по шагам осуществляю. А вот после того, как я их осуществил, у меня появилась очень интересная возможность, фактически, это еще раз не повторять, а ответить на другой вопрос: а как, собственно, я проделываю категориальный анализ? Тем более, у меня есть письменный материал ряда ваших попыток проделать категориальный анализ. За счет этого возникает достаточно счастливая возможность вдуматься в то, как мы вообще проделываем категориальныхй анализ, читая текст. Из тех письменных работ, которые мне были представлены (и часть слушателей проделали категориальный анализ до моей лекции, и это очень важно и хорошо, потому что возникло желание самостоятельно попробовать проделать подобную работу), возникает достаточно 132 простая процедура, которая должна быть обсуждена и проанализирована. А именно — дать свою собственную переинтерпретацию — мне важно это слово, я его потом буду пояснять — всего понятого вами из чтения текста на основе использования той или другой категории. В данном случае на основе использования категории «форма — материал». Когда я говорю слово «интерпретация», то дальше мне придется (это достаточно сложно, но мы будем вынуждены это делать) различать интерпретацию и собственно понимание при работе с текстом учебника. Само различение интерпретации и понимания довольно тонкое дело, и для тех людей, которые им пользуются, оно является достаточно высоким критерием мыслительной культуры. Речь идет о следующем. Я прочитал текст, вот эту самую сакраментальную фразу, к которой мы еще раз специально вернемся: «Загрязнение окружающей среды — нежелательное изменение ее свойств в результате антропогенного поступления различных веществ и соединений». А на лекции я уже обсуждал категорию «форма — материал» на примере того, как ее вводил Аристотель, анализируя работу скульптора над изготовлением медной статуи. И здесь возникает достаточно простая процедура — интерпретация, которая отличается от понимания. А именно такая процедура: с точки зрения метода Аристотеля, человечество можно уподобить такому скульптору, который накладывает различные формы на природный материал окружающей его среды. Следовательно, можно сказать, что в данном случае наиболее приемлема для анализа категория «форма — материал». Но почему использование категории «форма — материал» осуществляется в процессах интерпретации, а не в процессах понимания? По одной простой причине: для того, чтобы употребить эту категорию, я специально построил вторичный текст. Это очень важно. Первичный текст это текст учебника, который был приведен выше. А я построил вот такой вторичный текст: «Изменение окружающей среды это есть не что иное, как наложение человечеством самых разнообразных форм в виде промышленных отходов, других форм вторжения в природную среду на исходный материал природы». В этом смысле моя вторая формулировка (то есть, фактически, мое понимание текста учебника) есть не понимание текста, а его интерпретация. Потому что я ввел другую терминологию. Вроде бы я текст понимаю попрежнему и могу даже сказать, что это тождественно. И как бы слушающий третий человек, которому я читаю и при этом говорю: «Послушай, видишь какой странный текст, а я его понимаю так — и даю свою версию: человечество накладывает формы и т.д.», скажет: «Да, вообще-то похоже, это то же самое». Но дело в том, что это вроде бы то же самое, но сама словесная форма выражения уже другая, то есть я туда ввел ряд других ключевых терминов. Следовательно, я от текста понимания, в котором восстанавливаю смысл сказанного в тех терминах, которые в нем заданы, уже перешел к другому тексту, в котором я вроде бы добиваюсь тождества понимания, но использую другие термины. 133 А после того, как я построил свой встречный текст, что произошло? Есть текст автора учебника и есть я, понимающий этот текст. Но я, фактически, построил встречный текст. Не текст понимания, который как бы продолжает в данном случае текст учебника, а свой, встречный текст, который если я затем сопоставлю в рефлексивной позиции с текстом учебника, то могу зафиксировать массу терминологических различий. Потому что я ввел другие термины. А после того, как я это проделал, уже могу из такой своей интерпретации извлечь вполне определенную категориальную форму, потому что я уже туда ее вставил, когда строил этот второй текст. А именно — категорию «форма — содержание» или, точнее, — категориальную оппозицию «форма — содержание». Теперь возникает такой интересный вопрос: а как по-другому можно осуществлять категориальный анализ? Вроде бы так и происходит: у меня есть определенная категориальная оппозиция, например «форма — содержание». Я читаю текст учебника и как бы приноравливаюсь, могу я ее как-то применить, использовать и туда, в свой текст понимания ее вклеить или нет. И в общем-то при определенной способности к интерпретации мне это удается. То есть я, выделяя ряд тонких моментов, строю вторичный текст и туда эту категорию вклеиваю, а потом строю свою интерпретацию. Правомерность такой моей работы доказывается достаточной близостью текста интерпретации с текстом учебника. И это является моим критерием. Но при этом очень важно рефлексивно понимать то, что я сделал. Вот на это, собственно, и был направлен приведенный сейчас ряд моих рассуждений. Но в принципе, категориальный анализ используется в основном для другого. А именно для чего? Он используется для восстановления тех мыслительных средств, которыми оперировал либо сам автор учеб134 ника, либо которыми вынужден оперировать я как читатель, если меня не удовлетворяет то представление, которое в данный текст заложено. После этого наступает серьезный момент, когда мне нужно ответить на вопрос: а как все-таки извлекать категориальные структуры из самого текста, не осуществляя введения категориальных форм через текст интерпретации? Это можно делать только одним образом — выделяя в самом тексте ключевые слова, которые имеют категориальную трактовку. То есть получается своеобразная такая герменевтическая математика, если хотите, поскольку в каждом определении такие ключевые слова есть, если, конечно, текст мыслительный. (Потому что бывают и не мыслительные тексты, в которых, фактически, понятийно-категориальных определений как таковых нет. То есть текст просто пуст, как белый шум. Ты его слушаешь, а после того, как задашь себе вопрос: в чем там мысль? — то оказывается, что мысли-то и нет. Смысл есть, шум такой прошел через сознание, а никаких мыслительных форм нет.) Но, слава Богу, рассматриваемый нами текст не такой. Итак, снова читаем текст: «Загрязнение окружающей среды — нежелательное изменение ее свойств в результате антропогенного поступления различных веществ и соединений». Фактически, в этом тексте ключевым словом, имеющим категориальную трактовку, является слово «изменение». И в этом смысле автор текста (если имманентно восстанавливать понятийно-категориальный смысл того, что он делал) использует в данном случае категорию «изменение». Она для него является ведущей и фактически в текст заложена. Автор рассуждает простым и определенным образом: есть вот этот самый антропогенный фактор, или деятельность человечества, работа человечества, от этого человечества много чего попадает в природу, в окружающую среду, а затем с природой происходят всякие изменения. И поэтому ключевая категория, на которой работает автор, это категория «изменение», поскольку она для него очень важна. Итак, выявление категории на основе понимания текста автора, в отличие от применения категории по отношению к текстам интерпретации, заключается в том, что в случае понимания я обязан в самом материальном устройстве текста восстановить ключевые термины, связанные напрямую с той категорией, которая используется. То есть я должен найти (в отличие от текста интерпретации, где я строю, фактически, второй смысловой обвод или задаю свой встречный текст, с которым дальше и работаю) текст своего понимания, вторичный, который только по терминологии отличается от исходного текста. В случае восстановления тех категорий, которые использует сам автор, я обязан в материальной структуре самого текста выявить узлы понимания, связанные с этими категориями. То есть здесь должно быть материальное свидетельство, доказательство идентичности применяемых категорий с авторскими, что в случае текста интерпретации не обязательно. В процессе построения текста интерпретации я сам творец — как хочу, так и трактую. Главное — в соответствии с мои135 ми критериями не изменить основной смысл текста. А в том случае, когда я обязан восстановить категории самого автора, я должен дойти до специфики тех терминов, то есть буквально тех слов, которыми он пользуется. И ответить на вопрос: почему он пользуется данными словами? То есть если я, например, восстановил, что вроде бы ключевой категорией для автора учебника является категория «изменение», то дальше возникает вопрос: а почему он использует эту категорию, что она ему дает? Однако, обсуждая в прошлый раз то, какая в данном случае категориальная пара могла бы быть здесь использована, я специально остановился на слове «нежелательное», которое в тексте может иметь совершенно разный смысл. То есть этот термин может быть понят двойственно, имеет много смыслов. Например, в одном случае под «нежелательным» имеется в виду, что эти изменения нежелательны с некоторой этической позиции, по типу приведенной пословицы «Плоха та птица, которая загрязняет свое гнездо». Нежелательно в том смысле, что вообще-то этого делать не надо: не надо пачкать природу, загрязнять гнездо. И здесь термин «нежелательное» является каким-то размытым, этическим. Он связан с тем пониманием, что есть масса вещей, которые люди делают, но вообще-то их делать нежелательно. Известно, например, что курить нежелательно. Есть масса исследований, которые доказывают, что это вредно, но тем не менее люди курят. А есть совершенно другая трактовка термина «нежелательное», которая тоже допустима и возможна. Она заключается в том, что «нежелательное» это чтото косвенное, а не целевое. То, что человек не хотел получить: он в свою цель не закладывал, например, пыльные бури, когда леса вырубал, а это в результате получилось. То есть нежелательное — то, к получению чего человечество непосредственно не стремится. И этот момент достаточно интересный, потому что такая двойная трактовка термина «нежелательное» делает двусмысленным толкование самого текста: с одной стороны, можно понять, что «нежелательное» не хорошо с этической позиции, а с другой стороны, «нежелательное» означает то, что получается в результате деятельности людей, хотя они не ставят своей целью это получить. То есть не ставят, например, цели получать пыльные бури, а они возникают, когда люди распахивают целину. Не ставят целью уничтожение животного мира, а уничтожают, когда с XVII века осуществляют промысел пушных зверей на севере Западной Сибири, и т.д. И если я дохожу до такого типа двойственности при трактовке текста, это значит, что необходимо осуществить его проблематизацию. И вот этот термин, с которым я имею дело, для меня очень важен. Еще раз проследим всё по порядку, так сказать «по шагам». Итак, мы различили интерпретацию и понимание. Вот те текстуальные фрагменты, которые я выделил из текста учебника географии, как раз связаны с применением категории по отношению к текстам интерпретации. Там происходит следующее: я читаю текст учебника, строю его вторичное толкование, которое достаточно близко по смыслу к тому, что изложено, и затем в это толкование вкладываю ту или иную 136 категориальную пару. То есть, фактически, это использование категорий, которые организуют мое вторичное толкование или вторичное понимание текста. Вот такая интерпретация текста, собственно, отличается от его понимания, когда я должен восстановить буквально материальнотерминологическую структуру текста и ответить на вопрос: почему используются данные слова, почему они выявляются? И в данном тексте, который мы обсуждаем, таким ключевым или главным словом, которое указывает на тип категории, который используется, является слово «изменение». Потом мы доходим до второго слова, имеющего двойное толкование, за счет чего весь текст может быть как бы «разрезан» на две совершенно разные смысловые части, или трактовки. И следовательно, выявление двух разных трактовок текста указывает на то, что он является двусмысленным. Если я до этого момента дошел и определил, что текст двусмысленный, то по всем мыслительным канонам (или процедурам) обязан начинать проблематизацию текста. Проблематизация текста — это процедура, в соответствии с которой я должен перейти, по крайней мере, к попытке постановки проблемы. Другими словами, процедура постановки проблемы и является, собственно, проблематизацией. Вообще слово «проблема» очень интересное. Оно происходит от древнегреческого слова «????????», «?????» — «бросать», «???» — направление вперед. То есть термин «проблема» дословно означает «забрасывать вперед». Я должен мысленно что-то «забросить вперед», и если я это сделаю — это будет проблема. Почему такая трактовка? Потому что в случае проблематизации, или постановки проблемы, мы, фактически, закладываем для самих себя вперед некий сложный вопрос, на который у нас в настоящий момент нет ответа. Вот когда мы вскрываем такой вопрос, то, фактически, для себя как бы заготавливаем возможность над этим вопросом думать и попытаться на него ответить. Отсюда и возникает метафора «забрасывания вперед». И еще одно рефлексивное замечание по типу того, как мы читаем текст, которое я сделал вначале. В том типе культуры, к которой мы все принадлежим, совсем не популярен момент задавания себе или другим людям таких сложных вопросов, на которые нет ответа, поскольку основной ценностью общепринято считать такое положение, когда мы должны иметь ответы на все вопросы. Это у нас достаточно интенсивно культивируется, и мы постепенно привыкаем считать, что самое важное в жизни — иметь ответы на все вопросы. Почему всё так сформировалось — вопрос сложный, и надо специально делать отдельную лекцию, чтобы это обсудить. А пока в нашем обществе, в нашей культуре и даже в культуре всего мира (в США, Германии и т.д.) большее значение придается ответам на вопросы, а не их постановке. Интересно, что в другие периоды истории (например, Античность, Средние века) способность ставить вопросы, на которые нет ответов, приравнивалась, а в некоторых случаях даже ставилась выше, чем способность иметь ответы на все вопросы. При этом речь, конечно, идет не о каких-то абсурдных вопросах, а о логичных, правильных, мыс- 137 лительно совершенных, без каких-то недомолвок и ошибок. Но вместе с тем, как раз в силу правильности этих вопросов становится совершенно понятно, что ответа на них нет. В этом плане проблематизация, или постановка проблемы, имеет отношение к вопросам именно такого типа. То есть когда человек ставит вопрос, на который у него в данный момент ответа нет. При этом возникает такое интересное понимание или, вернее, непонимание: а откуда, собственно, берется такой вопрос, на который нет ответа? Почему на какой-то вопрос нет ответа, за счет чего это возникает? Так вот, на мыслительный вопрос нет ответа в том случае, если у мыслящего человека, который задал этот вопрос (или у всех людей, если задается вопрос, адресованный всему человечеству), в данный момент еще нет мыслительных средств для того, чтобы на этот вопрос ответить. Но при этом по-прежнему всё равно остается непонятным, на основе чего и как мы узнаем, при помощи каких критериев, есть у нас средства для ответа на этот вопрос или нет. И собственно, основным способом, который был отработан и достаточно широко используется, при помощи которого мы получаем очевидный критерий того, что у нас таких средств нет, выступает процедура проблематизации, в которой мы сталкиваем два альтернативных (прямо противоположных) утверждения, каждое из которых может обладать известной долей осмысленности и истинности. И когда нам удается при анализе мыслительного текста относительно некоторого единого предмета понимания выделить две прямо противоположных формулировки, это означает, что мы, фактически, подошли к постановке проблемы, потому что мысль начинает как-то очень по-другому, странно двигаться. Она и первую формулировку признает, и вторую, и начинает колебаться, как бы «перебегать» от одной формулировки к другой и т.п. В этом смысле Декарт называл такое состояние «контролируемым сумасшествием». То есть человек при постановке проблемы вводит себя в своеобразное «контролируемое сумасшествие», когда задает две взаимно исключающих или две совершенно отличных друг от друга формулировки по поводу некоторого единого предмета мысли, или некоторого единого предмета понимания. И вот когда он за этим контролируемым сумасшествием наблюдает: может и это принять, и может — то, возникает так называемый «эффект буриданова осла» (когда ослу предлагались одновременно две охапки сена, и он никак не мог выбрать, какую съесть, — то к одной пойдет, то к другой, — потому что они находились на равном расстоянии друг от друга и были одинаковых размеров. Поскольку осел силой воли не обладал, то так и метался между этими двумя охапками до тех пор, пока не умер от голода). В принципе, проблемная ситуация организуется всегда (если это делать правильно) по типу эффекта «буриданова осла», то есть когда суждение «разрезается» таким образом, что две сталкивающиеся формулировки могут обладать взаимно исключающими характеристиками, и человек потом может каким-то образом на всё это прореагировать. Собственно, это и есть один из ключевых приемов проблема138 тизации. Есть еще и другие, но при работе с текстами он является центральным. Так вот, с этой точки зрения, когда мы анализируем фразу про «нежелательные изменения» и выделяем две разных трактовки термина «нежелательное», где, с одной стороны, под нежелательным имеется в виду этически недозволенное, а с другой стороны — что-то не целенаправленное или получаемое косвенно, мы фактически приближаемся к этой ситуации проблематизации. Но для того, чтобы выявить ее в объеме, то есть сделать очевидной, хотя уже сама двусмысленность этой фразы нас толкает на разные способы интерпретации (пока еще не на прямо противоположные, а на разные), должен быть восстановлен понятийно противоположный тезис тезису «нежелательные изменения природы». Всего двум ключевым словам — «нежелательные» и «изменения». И после того, как задаемся вопросом о том, что противостоит термину «нежелательные изменения», мы выделяем прямо противоположную пару — «целенаправленные преобразования». Назарова И.Г.: Почему именно такая противоположная пара, а не, например, «желательное сохранение»? Ю.В.: Значит, возьмем пару: «нежелательные изменения» — «желательное сохранение» и пару: «нежелательные изменения» — «целенаправленные преобразования». При этом очень важно, что ни термина «желательное сохранение», ни термина «целенаправленные преобразования» в самом тексте нет. Поэтому здесь нужно восстанавливать нечто такое, чего как бы непосредственно в материальном виде словесных обозначений в тексте не содержится. Но теперь возникает следующий момент. В чем, фактически, отличие двух этих оппозиционных формулировок: моей и той, которую привлекла И.Г. Назарова? Различие этих формулировок содержится, во-первых, в двойственности самого термина «нежелательное». О чем я и говорил раньше. Оппозицией «нежелательному» является «желательное». Но меня-то при этом в моей трактовке волновал не столько момент, связанный с «нежелательным» в плане этическом, сколько момент, связанный с «нежелательным» в плане не целенаправленного и косвенного — дальше я буду пояснять, почему к этому веду. Поэтому относительно не целенаправленного и косвенного (того, что я получаю, хотя этого получить не хочу), я восстанавливаю свою оппозиционную пару, потому что к проблематизации, к постановке проблемы ведет в данном случае именно она. А «желательное сохранение» в данном случае, фактически, выступает своеобразным текстовым антонимом, то есть тем оппозиционным смыслом, который может быть заложен в текст, если я просто выстрою ряд антонимов — слов, имеющих прямо противоположный смысл: «нежелательное — желательное», «изменение — сохранение» — в том порядке, как они противостоят. С этой точки зрения, что здесь мы обязаны проделать, и откуда будет появляться процедура проблематизации? Она будет появляться из вопроса, который мы в прошлый раз обсуждали о том, как в этой 139 формулировке с «нежелательным изменением» автор учебника понимает отношение человечества и природы. И еще один важный момент заключается в том, что для того, чтобы построить процедуру проблематизации (если я почувствовал момент двусмысленности термина «нежелательное»), мне нужно анализировать то исходное представление или тот исходный момент, который за текстом скрыт. То есть фиксируя двойственность самой формулировки, которая в тексте есть, мне надо при этом отвечать на вопрос: а какого типа объект или какого типа объектное представление в тексте рассматривается, о чем оно? Здесь вроде бы понятно, что речь идет об отношении человека (поскольку говорится об антропогенном) и окружающей среды, то есть отношение человечества и природы. С этой точки зрения, чтобы разбираться с этим моментом двойственности, мне надо восстанавливать ту исходную картинку отношения человечества и природы, которая за этим текстом лежит. Итак, самый интригующий момент наступил тогда, когда я обнаружил, что в тексте есть слово, обладающее двумя разными трактовками. В данном случае это слово «нежелательные». Поскольку по смыслу, с одной стороны, «нежелательное» — то, что является этически отрицательным, чего не надо бы делать, а с другой стороны, «нежелательное» — то, что получается косвенно и не целенаправленно. Таким образом, возникает ситуация, где я должен осуществлять процедуру проблематизации. И сразу возникает вопрос: как эта процедура проблематизации осуществляется? Здесь очень важный момент заключается в том, что я должен осуществить скачок (то, что, к сожалению, технологизировать нельзя) от текста к видению объекта, который за текстом стоит. То есть ответить на вопрос: а что автор учебника в целом обсуждает, какого типа объект он рассматривает? И в общем-то ясно, что он обсуждает отношение деятельности человечества и природы, или окружающей среды. И вот этот объект — отношение деятельности человечества и окружающей среды — мне, фактически, придется для себя продумывать, отвечая самому себе на такой довольно странный вопрос: почему автор текста, исходя из понимания этого объекта, дал такую формулировку, а именно — «нежелательные изменения»? Теперь вернемся к тем двум оппозициям, одну из которых сделал я, а другую И.Г. Назарова. Действительно, как бы прямо противоположными в грамматическом смысле (не в логическом и не мыслительном) словам «нежелательные изменения» являются слова «желательное сохранение» или «желательная консервация». То есть антонимы так получаются: к слову «нежелательное» — «желательное», к слову «изменение» — «сохранение». Но я-то, когда вводил свою формулировку, определенным образом как бы схитрил, потому что я уже шел от определенного объекта. То есть ввел объект и от него шел к противоположным формулировкам. Почему именно от него? Потому что нужно было ответить на вопрос: каковы типы отношения человечества и природы, каковы его основные типы? И когда мы задаем себе этот вопрос, то можно сразу четко зафиксировать, что основной, ведущий тип 140 отношений, который сложился у человечества с природой, — целенаправленное преобразование природного материала. Основное, чем занималось человечество многие века, — оно целенаправленно (то есть исходя из определенных целей) осуществляло преобразование и изменение разных типов природного материала: от лесов до сокровищ, которые в недрах лежат, и др. И следовательно, основным типом действий человечества при его взаимодействии с природой являлось целенаправленное изменение материала природы. А после того, как я это фиксирую (мне при этом важно, что здесь есть скачок), — и на это правильно отреагировала И.Г. Назарова, — здесь появляется определенное противоречие в лекции, которую я читаю в алгоритмически-процедурном стиле. И лекция направлена на то, чтобы по процедурам показать, как осуществляется вхождение в проблематизацию на материале текста учебника. Но процедурно осуществить саму проблематизацию невозможно, поскольку внутри нее заложен скачок, где человек непонятно по каким причинам должен как бы сделать прыжок. Куда? — можно указать. А вот как он делает сам прыжок, можно демонстрировать, обсуждать, но расписать по процедурам до конца невозможно. Смысл этого прыжка заключается в том, что от двойственности термина в тексте я должен перейти к видению мыслительного объекта, который за текстом стоит. А прямые, обратные, оппозиционные и всякие другие формулировки выявлять, уже работая и с текстом, и с тем видением объекта, которое здесь восстанавливается. Потому что у нас фактически получается следующее: всё, что касается загрязнения окружающей среды, автор связывает с нежелательными изменениями свойств окружающей среды, но при этом одновременно не обсуждает, что основной способ связи, основной способ отношения человечества с природой — целенаправленные изменения природного материала. Когда мы эти обе пары берем: «целенаправленное изменение природного материала» и «нежелательное изменение окружающей среды», то возникает основной вопрос: как строится взаимодействие человечества с природой, когда целенаправленные преобразования природного материала приводят к нежелательным изменениям окружающей среды? Потому что две эти формулировки вроде бы и характеризуют всю полноту отношения человечества с окружающей средой, с природой. Итак, после того, как скачок проделан, продолжим процедуру вхождения в проблематизацию. А процедурно дальше делается очень простой, элементарный ход. После того, как я нашел двойственность термина в случае с «нежелательным», я должен выйти к мыслительному объекту, который стоит за авторским текстом учебника. Этим объектом является отношение деятельности человечества с природной средой. Затем я должен выделенный фрагмент текста, а именно «нежелательные изменения» расположить на этом объекте, сориентировать и ответить на вопрос: захватывается ли этим выделенным фрагментом текста вся полнота мыслительного представления, заданного на объекте? То есть должен проверить этот смысловой «кусочек» текста 141 на полноту выделяемого мыслительного объекта. И как только я это сделаю, становится понятно, что нежелательные изменения окружающей среды это всего лишь один тип отношений человечества с природой при не предъявлении второго, наиболее важного и распространенного, которое веками складывалось и осуществлялось. И этим вторым типом отношения человечества с природой и окружающей средой является целенаправленное изменение природного материала. Собственно, в двух этих формулировках: «нежелательные изменения» и «целенаправленные преобразования природного материала» и задается вся полнота отношений человечества с природой. И здесь может быть обнаружено два тонких момента. Один такой момент заключается в том, что нам надо научиться (это дело наживное, мы этому научимся) различать понимание текста и его интерпретацию. А вот второй момент более сложный — нужно от текста перейти к тому мыслительному объекту или к той ключевой идеализации, на которой, фактически, автор, часто зная это, а иногда и не зная, строит свою работу и дает текстовые определения. Как бы «выскочить» от текста к видению мыслительного объекта. А уж после того, как я таким образом «выскочил», то, в соответствии с требованиями проблематизации, основное, что я должен проделать, — проверить на полноту относительно мыслительного объекта данную автором формулировку. И в случае, если она не полная, то ее заполнить, вводя тот элемент, который отсутствует. С этой точки зрения, у нас здесь получается, что нежелательное изменение природной среды есть, фактически, обратная сторона целенаправленного преобразования природы. Тут важно заметить, что, с исторической точки зрения, про такое восстановление текста, если бы у нас сидел историк философии на нашем обсуждении, он бы сказал: «Да, всё прекрасно, но фактически в этой оппозиционной паре вы нас возвращаете к известной формулировке Ф. Энгельса из «Анти-Дюринга», где Энгельс еще в XIX веке все эти экологические ужасы предвосхищал, когда говорил, что основной тип отношения человечества с природой, который сложился к концу XVIII — началу XIX века, — это борьба с природой, и человек в этой борьбе вышел победителем. А дальше он пишет, что природа ему за это будет нещадно мстить, за эту победу». И действительно, в этой паре «нежелательные изменения» (что указано автором учебника) и «целенаправленные преобразования» мы в какой-то мере возвращаемся к той симметричной антиномической формуле, которую фиксировал Энгельс в «Анти-Дюринге». Это я к чему говорю? Дело в том, что обычно в тех случаях, когда нам проблему удается поставить, то есть дойти до постановки проблемы, почемуто сразу так оказывается (много раз было), что ее уже в истории кто-то много раз ставил. Вот как-то так всегда получается... Но нам здесь важно продвинуться дальше в сторону категориального анализа. Хотя и здесь очень интересный момент, потому что весь категориальный анализ развертывается на процедуре проблематизации. Но с этой точки зрения, тогда, когда я понял, что нежелатель142 ные изменения свойств окружающей среды являются обратной стороной процесса целенаправленного преобразования природы, мне становится ясно, что автор учебника (осознанно или нет) вторую часть всего дела фактически скрыл, потому что про это ничего в тексте учебника нет. А есть только одно — «нежелательные изменения». То есть возникает такой образ, что всё человечество как бы находится в каком-то непонятном летаргическом полусне, и за счет этого без участия людей какие-то на Земле происходят всякие нежелательные, не целенаправленные изменения. А ситуация заключается совершенно в другом: человечество не спит, а очень активно из недр выкачивает нефть, уничтожает животных, уничтожило, фактически, всю сельву в бассейне реки Амазонки, практически уничтожило всю Сибирь. И всё это оно уничтожает целенаправленно, поскольку не уничтожать не может, потому что будет голод, а в силу тех промышленных систем, которые запущены, будет и топливный кризис, по крайней мере в нашей стране, если мы всё это вдруг остановим. А обратной стороной всего этого и становятся те самые естественные «нежелательные изменения», поскольку люди не их желают, а желают, чтобы не было голода и топливного кризиса. В чем тогда заключается проблема, которую косвенно, однобоко, через один какой-то боковой фокус выражает автор учебника в этой формулировке про загрязнение окружающей среды? А проблема заключается в том, что два этих отношения: одно целенаправленное, связанное с целенаправленным преобразованием, а другое, выступающее как фактор последствий этого целенаправленного преобразования, для человечества никак не скоординированы, и оно не знает, как их скоординировать. Ведь что происходит? Есть зона, в которой человечество на природу непосредственно влияет и эти последствия знает. То есть если срубить дерево, то в течение 20 лет, если я новый росток не посажу, дерева не будет. А вот, что будет, если я распашу целину? Это уже лежит в другой зоне. Сейчас уже стало ясно, поскольку эксперимент прошел во времени, что если распахать в Казахстане целину, будут пыльные бури. А вот когда распахивали, то этого не знали, просто таких экспериментов не было. То есть перед нами возник другой уровень последствий. И есть, наконец, уровень последствий, которые вообще не предсказуемы. Например, если создать новую генетическую болезнь и ее запустить в человеческую или звериную популяцию, то каковы будут последствия того, что начнет меняться генный материал, изменения которого запустили, или какого типа генные необратимые изменения возникают после того, как произошло радиоактивное облучение на Чернобыльской АЭС? И поскольку состояние абсолютно всех людей отследить невозможно (кто заражен, а кто нет), как невозможно и запретить браки среди людей с нарушенным генофондом, возникает очень своеобразный процесс изменений. Многие японские институты заняты в основном этой проблемой и считают Россию в этом смысле гигантским экспериментальным полигоном для генных исследований. Они всё очень просто просчита143 ли и выяснили, что последствия чернобыльской аварии пустопорожними сетями нашей медицины совсем не выявить, потому что просто канцерогенные, раковые заболевания еще долго будут систематически по непонятным причинам вспыхивать во многих регионах страны и необъяснимым образом косить миллионы людей, а медицина будет списывать это на недостаточные знания о раке. Крупное Ю.В.: На плоскостопиеГромыко Ю.В.: Или на плоскостопие будет списывать. И это как бы третий уровень, то есть такой уровень отношения человечества с природой, где последствия не просто плохо прослеживаются, поскольку нужен временной период, после которого можно было бы получить некоторые результаты, а они вообще не предсказуемы и не ясны. Это такой тип воздействия, который не просто систему выводит из равновесного состояния, а переталкивает ее в такое состояние, где вообще никаких предварительных расчетов нет и средств мыслительных, чтобы просчитать и проанализировать то, что будет, — практически тоже нет. То есть мы, фактически, попадаем в такую зону, где и знаний на эту тему никаких нет. И, следовательно, в этом и заключается основная проблема, над которой автор учебника (хочет он того или нет) «кружит как ястреб». И после этого возникает вопрос, про который я говорил: а почему автор таким образом выражает эту проблему? Почему для него ключевой формулировкой является фраза «нежелательные изменения ее свойств»? Это обязательная процедура. Если я работаю с пониманием, а не просто с интерпретацией, и после того, как мне кажется, что я поставил проблему, мне нужно теперь вернуться назад и объяснить самому себе и тем, кто захочет, почему автор эту проблему не ставит, а строит тот способ изложения, который сейчас в тексте задан. Назарова И.Г.: Юрий Вячеславович, а можно все-таки здесь уточнить, почему вы именно на этом фрагменте настаиваете, что это проблема? Тут два возможных варианта. Либо всё дело в том, что такое состояние, когда мы можем выделять по отношению к действиям человека три разных зоны в отношении возможности понимать последствия, является принципиальным. Тогда понятно, что это действительно проблема, что всегда будут оставаться зоны, где мы не можем контролировать последствия своих действий. Либо всё заключается в том, что наших знаний просто недостаточно, чтобы действовать осмысленно и прогнозировать максимально далеко все последствия наших действий. В этом смысле, тогда нет вообще никакой проблемы, а есть некоторая трудность, временное состояние нашей науки, допустим, и т.п. Ю.В.: Которое будет постоянным. И.Г.: Которое мы когда-нибудь преодолеем, сможем прогнозировать последствия взрывов на Чернобыльской АЭС и т.д.. Ю.В.: Но мы же при этом дальше будем осуществлять целенаправленное преобразование природы. То есть ликвидировать последствия мы сможем, а взрывы в космосе не сможем. У нас же будут 144 при этом целенаправленные воздействия расширяться. Но проблема-то не в этом. Проблема задана в отношении двух этих формулировок. В этом смысле, чтобы дойти до проблемы, мы обязаны конфликт довести до коммуникативно-логической формы. Проблемой является отсутствие у человечества и у нас у всех ясной связи между целенаправленным преобразованием природного материала и нежелательными изменениями окружающей среды. Вот два этих момента, они и охватывают целостность отношений человека с окружающей средой. А уже из этой проблемной ситуации можно давать массу самых разнообразных формулировок других проблем. И, кстати, очень важно, что вскрытая проблемная ситуация предполагает затем массу самых различных формулировок проблем. То есть когда удается поднять проблемный пласт, фактически возникает достаточно широкое поле осмысления, где в этом поле можно выделить и сформулировать массу проблем, в том числе те, о которых И.Г. Назарова сказала, и другие. Но проблема заключается в первом, а именно в том, что два этих отношения — «целенаправленное преобразование природного материала» и «нежелательные изменения окружающей среды», — никак для человечества не скоординированы и взаимно не связаны. Но после этого возникает еще один важный вопрос: почему автор текста, формулируя проблему загрязнения окружающей среды, экологические проблемы, концентрируется только на «нежелательных изменениях свойств окружающей среды в результате антропогенного поступления различных веществ и соединений»? Здесь, к сожалению, можно выдвигать только гипотезы и вводить какие-то представления, почему он так делает. Хотя сама эта процедура, связанная с необходимостью ответа на вопрос, почему так происходит, обязательна при проблематизации текста. А всё дело в том, что если мы начинаем признавать, что при анализе экологических проблем или загрязнения окружающей среды нам нужно одновременно рассматривать целенаправленные изменения природного материала и нежелательные изменения окружающей среды, то сама постановка этого вопроса оказывается не научной. Она в рамках науки рассмотрена быть не может. Это тоже очень интересный момент. Потому что рассматривать изменения окружающей среды еще как-то можно, и это даже попадает в компетенцию географии как науки о Земле. Поэтому дальше не случайно автор учебника и располагает эти изменения окружающей среды по оболочкам планеты: литосфера, гидросфера и атмосфера. Это всё есть в предмете географии. А если мы начинаем рассматривать целенаправленное преобразование материала природы, то есть всю проблематику промышленности и разных ее типов, и связывать эту проблематику с теми необратимыми изменениями, которые происходят и которые фиксируются в медицине — пример чернобыльской аварии, землетрясения и т.д. (то есть самый разнообразный спектр замыканий и самый разнообразный тип материала, который должен быть рассмотрен), то оказыва145 ется, что эта проблема втиснута в предмет географии, к сожалению, быть не может. Она является комплексной и полидисциплинарной. И с этой точки зрения, то, что экологические проблемы рассматриваются только в учебнике географии, не совсем правильно. Они охватывают целый ряд наук, а их осмысление в целом, то есть осмысление причин, оно вряд ли в одну географию может быть втиснуто и только к географии сведено. И тогда становится понятным, почему автор учебника таким образом это обсуждает. Потому что ему это всё надо втиснуть в географию, чтобы оно из географии выступало. В противном случае ему скажут: «Извините, но вы строите какоето философское осмысление, и тогда пишите учебник по обществоведению». То есть все школьные предметы уже разложены по разным полочкам. И есть второй момент, понятийно-категориальный. Он заключается в следующем: категория «изменение» в отличие от понятия «преобразование» действительно принадлежит наукам и может в науке рассматриваться. Потому что изменение — это процесс. И с этой точки зрения, все науки (например, физика изучает изменение положения тел, химия — изменения вещества и т.д.) занимаются только тем, что анализируют различные процессы изменения. Это момент почти математический. Почему автор учебника географии выбрасывает именно эту часть формулировки о преобразованиях? Потому что целенаправленные преобразования, как правило, в науках не рассматриваются. Единственное исключение здесь химия, потому что есть давнишний спор о том, является ли химия наукой или это особое инженерное дело с веществами, как это и замышлялось основателем химии Кондильяком. Но, в принципе, преобразование в науках не рассматривается, а изменение — сколько угодно. И поскольку автору учебника географии важно всё подвести к науке, то ему ничего не остается, как применить только эту категорию — «изменение». А уж тем более, ни в каких науках не рассматривается соотношение процессов преобразования, которые являются искусственно-целевыми и действенными, и процессов изменения, которые являются естественными. Процессы изменения естественны, они происходят помимо целей, которые ставит в своей деятельности человек. Это то, что происходит само собой, естественно как-то трансформируется. И для этого категория «изменение» была придумана, чтобы анализировать поведение физических и природных тел независимо от вмешательства человека, то есть объективно. Всё, что происходит объективно. Для этого, собственно, категория «изменение» и была создана, и начиная с Аристотеля напряженно развивалась и обсуждалась. Потому что нужно было ответить на вопрос о том, как всё происходит, изменяется само, объективно, то есть без какого-либо целенаправленного искусственного вмешательства. А категория «преобразование», наоборот, направлена на оценку того, как целевым образом человек во что-то вмешивается, трансформирует, меняет. А поэтому взять и соединить вместе категории «преобразование» и «изменение» — это значит как бы «выскочить» 146 за рамки естественных наук в том виде, в каком они сложились, и какими основными онтологическими, объектными предпосылками пользуются. После этого возникает самый важный вопрос, потому что это, фактически, рефлексивный анализ того, что я делал в прошлый раз, только рефлексивно описанный. На прошлой лекции я демонстрировал проблематизацию, а сегодня должен ответить на вопрос о том, что я делал в прошлый раз, то есть рефлексивно это описать. А какое это имеет отношение, в частности, к категориям «форма — материал», «форма — содержание» и «форма — смысл»? Всё дело в том, что процесс проблематизации и есть форма моего мышления, которую я осуществлял и демонстрировал, — вот что очень важно. И категория «форма», на мой взгляд, самая важная с точки зрения обучения техникам мышления. Она не только описывает то, что происходит независимо от меня в объекте, а когда я, скажем, строю такую интерпретацию, что человечество накладывает многочисленные формы в виде всяких гадостей (сернистого газа и еще чего-то) на материал природы, то тем самым пытаюсь категорию «форма — материал» использовать и в плане самого объекта. Есть независимое от меня человечество, которое крутится, что-то производит и непрерывно выделяет сернистый газ в атмосферу (как бы накладывает его на воздух), поливает кислотными дождями землю. И это всё происходит вне меня. И вот то, что происходит вне меня, я описываю: человечество с формой что-то там делает, там есть еще материал, на который оно всё это накладывает. Это развертывается вне меня. Но категория «форма» может быть еще применена относительно того процесса мышления, который я сам выстраиваю. И при этом важно ответить на вопрос: форму какого мышления я осуществляю? В данном случае я фактически осуществлял проблематизацию, которая и являлась формой организации моего мышления, которое я вам демонстрировал. А теперь рассмотрим вопрос о том, что же является содержанием этого процесса. Если всё, что я процедурно по шагам описывал, было процессом проблематизации, то есть фактически формой организации моей мысли, то что является содержанием? А содержанием здесь является восстановление объектного представления об отношении человеческой деятельности и природы. Другими словами, содержанием этого мыслительного процесса является восстановление объектного представления, или представления об объекте, о том, как устроен объект «отношение человеческой деятельности и природы». И с этой точки зрения, произошло следующее: формой мышления, которое я осуществлял, являлась проблематизация, а содержанием, соотносимым с этой формой, — восстановление объектного представления, позволяющего описать и выделить отношение человеческой деятельности и природы. Но дальше происходит следующее. Когда мы начинаем описывать, как организовано само это объектное представление, то, оказывается, что категория «форма — содержание» может быть использована вторично. Поскольку основной проблемный момент 147 соорганизации данного объектного представления заключается в том, что сегодня отсутствует и не ясна форма взаимодействия человечества и природы. То есть основная характеристика объектного представления заключается в том, что форма взаимодействия человечества и природы не ясна. И здесь очень важно при этом разделить совершенно разное использование категории «форма». Потому что одно дело — это когда категория «форма» применяется для описания организации того процесса мышления, который строю я сам, осуществляя проблематизацию, вот так, «по шагам», как мы это делали. И совершенно другое — когда категория «форма» применяется для анализа характеристик выделенного мыслительного объекта. То есть одно дело — когда категория «форма» применяется для моей деятельности, которую я осуществляю, а другое дело — когда категория «форма» применяется к характеристикам объекта. И в том случае, когда категория «форма» применяется к характеристикам объекта, она есть не что иное, как способ постановки и фиксации проблемного вопроса. Поскольку на этом мыслительном объекте, фактически, не ясно отношение деятельности человечества и природы. Таким образом происходит двойное употребление категории «форма». Один раз категория «форма» относится к тому процессу мышления, который я осуществляю, рассматривая данный текст учебника. И в этом случае категория «форма» требует от меня ответа на вопрос: какую форму мышления я строю в данном случае? И я в данном случае строю форму мышления — проблематизацию, то есть проблематизирую здесь основное высказанное положение. При этом рассуждаю, почему автор учебника ограничился категорией «изменение», обсуждая экологическую проблему отношения человечества с окружающей средой. А другой раз категория «форма» употребляется тогда, когда я начинаю эту категорию относить к тому мыслительному объекту, который восстановил и выделил за данным текстом учебника. И за данным текстом учебника я выделил сложные и до сих пор неясные отношения человечества, человеческой деятельности с природой и зафиксировал, что форма самого этого отношения не ясна. А это фактически означает, что я категорию «форма» начинаю относить к структуре объекта, то есть использую ее совершенно в другой функции, в другом качестве. Какие у вас здесь есть вопросы? И.Г.: Можно небольшое замечание, касающееся этого же материала? Мне недавно в руки попался журнал двадцатилетней давности со статьей, которая называется примерно так: «Будущее за конструктивной географией», где все вот эти вот вопросы, о которых вы говорите, фактически, поднимаются без формы проблематизации. Там утверждается, что география как описательная наука себя изжила, и в этом смысле должна переходить к построению естественного объекта. А второй вопрос, который там ставится, о том, что география должна иметь отдельный инженерный раздел. И в этом смысле просто интересно ваше отношение, поскольку я географию более 20 лет назад кончила учить. Интересно было бы понять, сколько за эти 20 лет 148 в конструктивной географии на этот счет сделано с построением объектов и разрешением всех этих экологических проблем? Ю.В.: Харвей книжку написал «Методология географии», и там это всё обсуждается. Теперь подведем итоги того, что нами фактически было проделано за две последних лекции. Они меня наиболее волнуют, потому что мне важно, чтобы оттуда были извлечены определенные результаты. Итак, на примере этого третьего параграфа из учебника географии мы анализировали то, как может осуществляться категориальный анализ, и выделили два самых важных момента. Во-первых, мы выяснили, что, фактически, категориальный анализ текста учебника может строиться как реконструкция текста автора и воспроизведение тех категорий, которые он использовал. И, во-вторых, что может осуществляться совершенно другая работа, когда я, например, через свой мыслительный анализ привношу туда совершенно другие категории, преобразуя и меняя по определенным законам тот предметный материал, который выделил в тексте учебника. Это первый момент. Теперь второй момент, очень важный. Мы различили понимание и интерпретацию, потому что привносить какие-то категории через интерпретацию, то есть через построение вторичного текста, внутри которого я употребляю категории, — это одно. А совершенно другое — это фактически выделять категории из самой той терминологической структуры, то есть из самого материала текста, который построил и задал автор текста. Теперь следующий момент. В том случае, когда начинаю преобразовывать и изменять само содержание, сам материал текста, я осуществляю некоторую мыслительную работу. И, следовательно, с точки зрения категории «форма — содержание» очень важно ответить на вопрос о том, какова форма мыслительной работы, которую я строил. В данном случае я строил процесс проблематизации. Вот этот третий момент — принципиальный. То есть тогда, когда я не просто вычитываю и реконструирую категории, заложенные автором, а начинаю преобразовывать материал, заданный в тексте учебника, не интерпретируя его, то очень важно использовать категорию «форма — содержание» для того, чтобы ответить на вопрос: а какова форма организации процесса мышления, который я строю? И четвертый момент уже касается самого процесса проблематизации. Он наступает в случае, если я в тексте учебника нашел и сумел логически как бы вскрыть некоторую формулировку, восстановить двусмысленность терминологии. Ведь двусмысленность терминологии скрыта, не лежит на поверхности текста, и мы ее еще должны обнаружить логически. И в том случае, если я обнаружил двусмысленность терминологии, то должен от текста учебника перейти к восстановлению мыслительного объекта, который стоит за этим текстом. Этот четвертый момент наиболее сложный. Поэтому я попрошу вас дома выполнить следующее задание: во-первых, самостоятельно восстановить две последние лекции, а затем проделать анализ параграфа из учебника истории для 10-го класса, преамбулы «Основная характеристи149 ка современной эпохи». А мы на следующем занятии это все опять вместе проделаем и обсудим. Итак, уже становится ясно, к чему надо дальше двигаться, переходить от категориального анализа. И основная процедура, которую надо дальше обсуждать, — как от текста происходит переход к мыслительному объекту, то есть к структуре основных идеализации. Потому что видение объекта конституируется идеализациями, которые скрыты за тем или другим мыслительным текстом. 150 Лекция 8. СХЕМА И МЕТОД В РЕФЛЕКСИИ. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА ПОНЯТИЕ МЕТОДОЛОГИИ Одно употребление происходит тогда, когда я начинаю категорию «форма — содержание» применять к тому объекту, который представлен и описан в учебнике. В частности, таким объектом может служить и то, что как бы скрыто за текстовым материалом. И как мы выяснили, его ещё надо как бы «вытащить», реконструировать из текста, то есть перейти от некоторого текстового материала к видению того самого объекта, который за текстом стоит. И в этом, собственно, заключается основная проблема. Часто мы читаем текст и так устаем от этого текстового месива... Но в том и заключается одна из трудностей всякого мыслительного искусства, чтобы на основании самого текста суметь выйти во вне текстовую рамку, куда-то за текст. Во второй половине XIX века был такой очень интересный психолог и философ Теодор Липс, который этот момент представлял метафорически. Он говорил, что «сознание должно выскочить за свою тень». То есть само сознание кроме света имеет что-то еще, как говорил Декарт: «Всегда, когда есть свет — значит есть тень». Следовательно, сознание, кроме того, что испускает свет, ещё отбрасывает и тень. Так вот проблема и заключается в том, чтобы «выскочить за свою тень». Так точно происходит и с текстом. Вроде бы текст читателя куда-то ведет, на что-то указывает, но оказывается, чтобы прочесть текст по-настоящему, восстанавливая то, что в нем написано и о чем сказано, нужно ухитриться «выскочить» за текст, то есть «за тень сознания». И с этой точки зрения, мы пришли к тому, что категория «форма» прежде всего применима к тому объекту, который восстанавливается за данным текстом. В нашем случае этим объектом являлось отношение человеческой деятельности и природы. И здесь возникал вопрос о том, каким образом мы пришли к категории «форма», анализи- 151 руя этот объект — взаимодействие деятельности и природы. Мы пришли к выводу, что неясна сама форма объекта, потому что до сих пор сегодня в науке и на практике не отработана форма взаимодействия человека и природы. И поэтому абсолютно неясно, каким образом человек взаимодействует с природой с точки зрения последствий и результатов такого взаимодействия. В нашем понимании всё это представляется большой «черной дырой». И отсюда возникает такая неточная и многозначная формулировка в учебнике географии по поводу «нежелательных изменений» природы, где биологические кризисы объясняются тем, что они связаны с нежелательными явлениями, которые происходят в природе. То есть человек сначала что-то делает с желанием, а после того, как он это делает, уже без всякого его желания начинает разрушаться природа. И это, как я в прошлый раз пытался показать, связано с тем, что неясна форма взаимодействия совокупного человечества, или человеческой деятельности и природы. Это как бы одно направление — одна трасса. А здесь нам придется исследовать разные трассы использования категорий. Есть ещё и другой план использования категории «форма — содержание». Это собственно деятельность, или тот способ мышления, который я демонстрировал, как вы помните, в связи с проблематизацией. Когда мы, выделяя один тезис, искали по отношению к нему второй — антитезис (или контр-тезис), и на отношении этих тезисов и антитезисов (контр-тезисов) фиксировали, что собственно в тексте отсутствует. При этом я отмечал, что второе использование категории «форма» связано с организацией определенного способа мышления (см. Схему 1). И в данном случае таким способом мышления являлась проблематизация. И у нас получилось, что, оказывается, категория «форма — содержание» имеет два совершенно разных пласта интерпретации. Это с одной стороны. Но за счет этой же категории, с другой стороны, эти два пласта интерпретации могут быть завязаны в единое целое. Потому что вроде бы одна и та же категориальная оппозиция используется по отношению к двум совершенно разным пластам. Итак, в одном случае — это использование и применение категории «форма — содержание» по отношению к объекту, а в другом — использование категории «форма — содержание» по отношению к способу мышления. В нашем случае в качестве объекта рассматривалось 152 взаимоотношение человеческой деятельности и природы, а способом мышления была проблематизация. Таким образом у нас реально получилась вот такая достаточно простая, в какой-то мере элементарная схема. И мы по ней, фактически, осуществили наше смысловое движение. Схема задает некоторую единицу, которая для меня и называется методом. Собственно это и.есть метод. И когда говорят «методология», «метод», то, фактически, такого типа единица и образует метод, потому что она собственно и позволяет организовать мою достаточно сложную интерпретационно-понимающую деятельность и мыслительную работу. С другой стороны, схема позволяет восстанавливать собственно предметный план той науки или того содержания, с которым я работаю, в данном случае всё, что связано с объектом. В то же время оказывается, что я всегда с объектом работаю не в каком-то безвоздушном пространстве, а на земле, в реальном окружающем меня мире. И аналогия, которую я всё время воспроизвожу, какая-то не та, я её всё время как бы отрицаю. Потому что мы все свои представления о мышлении берем из той области жизни, которая нам доступна. А это, фактически, наш чувственный мир. Нам пока что доступно то, что мы хорошо понимаем. А мы хорошо понимаем наш чувственный опыт: есть вещи — мы с ними сталкиваемся. Так вот, аналогии, связанные с вещами, когда мы переходим к процессам мышления, оказываются невозможны. И в данном случае оказывается невозможным такое представление, что есть объект, он где-то вне меня, и я могу на него смотреть, как-то к нему относиться. И задача как бы заключается только в том, чтобы правильно это отношение построить, правильно его видеть, не искажать, когда я на него смотрю, и выделять в нём те характеристики, которые мне нужны. А оказывается, что ситуация состоит совершенно в другом. А именно в том, что для того, чтобы начать как-то работать с объектом, я должен форму своей работы ещё специально предварительно построить. Вот и в прошлый раз мы для того, чтобы дойти до объекта, осуществляли процедуру проблематизации. То есть строили вполне определенный, отрабатывавшийся и складывавшийся в очень длительном временном отрезке современный способ мышления. Хотя проблематизация имеет корни ещё в античности, то есть в манере Сократа, в процедурах Платона, но это — современный способ мышления. Фактически, он начинает применяться с Николая Кузанского, затем интенсивно развивается в Новое время и выходит «на простор» общечеловеческого мышления в XX веке. В этом смысле, работать, не умея проблематизировать, на мой взгляд, в XX, а тем более в XXI веке невозможно. Но мне важно еще раз подчеркнуть, что, фактически, выход на объект предполагает одновременно построение и организацию определенного способа мышления, с помощью которого на этот объект можно выйти. Другими словами, выйти на объект, не выстроив никакого способа мышления, — невозможно. Мы осуществляем выход на объект только за счет того, что одновременно с этим выходом на объект по тем или иным правилам организуем свое 153 собственное мышление. И у нас как бы два плана возникает: с одной стороны — объект, с другой стороны — способ мышления. И вот эта двуплановость образует ту единицу, которую я называю методом. В данном случае так получилось, что за счет нескольких уроков мы фактически отработали процедуру метода. И с этой точки зрения, выделение процедуры метода здесь является принципиальным и важным. Но теперь я должен характеризовать эту самую единицу (метод), прежде чем мы перейдем к параграфу истории. Дальше мы попробуем сделать следующую работу, которая тоже очень принципиальна. После того, как метод выделен на том или ином фрагменте материала, его всегда очень полезно перенести на другой фрагмент материала. Итак, метод мышления строится всегда при работе с конкретным предметным материалом. И после того, как он получен, то есть на одном фрагменте предметного материала мышление осуществлено, мы дошли до некоторого результата, который нам важен, в частности зафиксировали проблему в учебнике географии. После того, как мы отрефлектируем, каким методом здесь действовали, возникает следующий очень важный момент, связанный с переносом метода с одного фрагмента материала на другой. Итак, при работе с методом мы выделяем три части. Во-первых, собственно построение метода при работе на предметном материале. Это то, что мы проделывали на предыдущих двух или трех занятиях относительно учебника географии. Во-вторых, после того, как мы проделали эту работу на материале учебника и фактически восстановили метод при работе с этим материалом, мы осуществили следующую процедуру — рефлектировали и описывали метод. Вот это достаточно простое графическое изображение (см. Схему 2) и есть способ построить символическую репрезентацию метода. И важность этого момента состоит в том, что я, с одной стороны, всё понимаю, как двигался, как осуществлялось мое движение в мышлении, но теперь это своё понимание должен перевести в некоторую материальную форму. И тем самым отрефлектировать метод своего движения. В частности, это изображение на рисунке 2 и является такой попыткой. И в-третьих, после того, как я всё это сделал, я должен попробовать перенести метод на следующий фрагмент материала. За счет этого переноса потом, уже на следующем витке рефлексии, я могу что-то, может быть, новое понять и про сам метод. Потому что оказывается, что при переносе метода на новый материал (это мы уже обсуждали с точки зрения категории «форма — материал») приходится преобразовывать саму форму, то есть сам метод при переходе на следующий фрагмент материала. И собственно вот здесь вся игра этих трех категорий («форма — смысл», «форма — материал» и «форма — содержание») впервые становится очевидной и начинает активно работать. (Это я вам напоминаю лекции, в которых обсуждал эти три категории.) Теперь следующий момент, который характеризует данного типа форму мышления, которая осуществляется при помощи метода. Здесь 154 важно, что левая часть, выделенная на схеме (Схема 2), характеризует предметную составляющую метода, а правая часть на схеме характеризует и определяет формально-мыслительную составляющую метода. С этой точки зрения, разложение метода на такие составляющие является весьма искусственной процедурой, потому что эти составляющие в реальном процессе мышления завязаны друг с другом, переплетены. Это я так показываю на схеме для того, чтобы можно было специально о них поговорить. Левая составляющая называется «предметная составляющая метода», а правая — «формально-мыслительная составляющая метода». Но такая организация метода мышления весьма проблематична и до настоящего времени не принята в разных научных, профессиональных и предметных сообществах. Потому, что так представленный метод — это есть, собственно, попытка построить некоторую взаимосвязь между философией и наукой. Таким образом организованный и представленный метод — это способ ответить на стародавний вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа: а какова, собственно, связь между философией и наукой? Вообще, философия и наука — это одно и то же или это совершенно разное? Если мы открываем учебник философии, любой наш советский учебник или самый новый, который недавно вышел, и по нему все сдают кандидатский экзамен (старым преподавателям, но по новому учебнику), также происходит очень интересное взаимодействие формы и материала. Правда, здесь не поймешь, кто — форма, а кто — материал. То ли старые преподаватели — это материал, а новый учебник и прочитавший его студент — форма, которая накладывается на этот материал, то ли, наоборот, студенты — материал, а преподаватели — старая форма? Тем не менее все, кто не подходит под форму, отсекаются. Так вот, если мы откроем этот новый учебник — там сказано, что философия — это наука. Поэтому здесь возникает очень сложный следующий пласт при описании самой структуры этого метода. Поскольку это, фактически, вопрос о том, как связаны и связаны ли во что- 155 то одно философия и наука? Если при анализе этого вопроса придерживаться, с одной стороны, традиции немецкой классической философии, если двигаться относительно этой традиции в направлении таких фигур, как Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, и других, помельче: Шульце и др., то в работах этих философов утвердилась точка зрения, что создаваемая ими спекулятивная философия и должна в конце концов заменить собой науки. Такая закладывалась вполне осмысленная, жесткая программа, направленная на то, чтобы создаваемая спекулятивная философия могла бы заменить науку. Собственно, системы, которые создавались этими величайшими философами, и представляли собой попытку каким-то образом проинтерпретировать результаты наук, которые были получены к тому периоду и затем их, фактически, снять в системно проработанном, развернутом виде. Но поскольку мы рассматриваем уже период после того, что произошло, когда такая форма, немецкая классическая философия, была создана, мы имеем целый набор различных школ продолжателей великих немецких философов: кантианцев — представителей таких школ и направлений, которые осознанно воспроизводят метод Иммануила Канта, работая и с философией, и в разных научных и предметных областях, соответственно точно так же фихтеанцев, шеллингианцев, гегельянцев. Вот собственно все эти течения, которые особенно мощно разрослись в конце XIX и начале XX века, — это основные направления развития философии, обозначенные по именам ведущих немецких философов. Сторонниками этих направлений и движений было отчетливо показано, что собственно снять (я этому слову придаю философский смысл. Это понятие очень любил Гегель, где для него слово «снять» означало — «преобразовать и вытеснить ту или другую культурную функцию». С этой точки зрения, Гегель считал, например, что христианство «сняло» язычество. То есть все проблемы, которые существовали в языческой религии, христианство втянуло внутрь и дало им совершенно новую программу и интерпретацию. И поэтому любая культурная функция не разрушается, а с точки зрения Гегеля — «снимается».) в философии проблематику наук не удалось. Тем более, что в конце XIX и начале XX века развернулась резкая критика со стороны ведущих представителей различных позитивных наук основных философских программ. Критика шла и со стороны физиков, и лингвистов, и естествоиспытателей (в общем, какую область знаний ни возьми). В первую очередь они осуществляли жесткую критику программ философских настроений, философских идей, которые были созданы до этого. Поэтому период конца XIX — начала XX века называется в истории философии периодом резкой вспышки позитивизма, то есть такого направления, где в оппозиции к философии выступает на первый план собственно научная форма. И нам уже в середине XX века приходится фиксировать этот факт, как абсолютно достоверный и реальный, и утверждать, что собственно философские способы мышления, понимания, как они сложились, прежде всего, в немецкой философии, и научные способы мышления, как они сложились в Новое время и дальше развивались и получали 156 все новые и новые интерпретации, существуют как две равнозначные формы мышления и не могут рассматриваться в плане «снятия» одной формой другой. И в этом смысле, просматривая эти два века, мы должны, как наблюдатели, просто признать и зафиксировать, что две эти культурные формы, а именно — философская и научная — существуют как равномощные. И причем, несмотря ни на что, некоторый перевес здесь получила научная форма, сделав ряд заимствований у философии и осуществив ряд интересных и достаточно сложных преобразований. Но поскольку эти формы выделены, зафиксированы и противопоставлены друг другу, возникает необходимость более содержательно и полно проинтерпретировать, что из себя обе эти формы представляют с точки зрения устройства самого мышления. Другими словами, как они могут быть описаны и представлены. Потому что пока этот факт взаимодействия, попыток взаимного отрицания и «снятия» философией науки и наукой философии может быть представлен как борьба каких-то социальных групп. Одна из них называет себя философами, а другая — учеными, и каждая пытается захватить ведущую проблематику, принизить для общественного сознания, то есть для всех остальных людей, всего общества значимость другой группы. И хотя такой социальный факт имел место, но в философии и в науках, особенно в XIX веке, всё происходило культурно, не так «коммунально» и грубо, как в конце XX или в начале XXI века. Например, в конце XX века вполне можно представить такую картину: большая толпа философов может прийти в Академию наук и всех выгнать оттуда, сказав, что все ученые очень плохо относятся к рынку и вообще не нужны стране за Чернобыль, разрушенный Арал и т.д. И наоборот, ученые могут однажды прийти в «желтый дом» (здание Института философии РАН) и сказать: «Убирайтесь все, потому что вы не построили за 80 лет знание про общество, мы не знаем, в какой стране живем, и т.п. Вы не способны ничего создать в новых экономических условиях, не строите знание!». Сейчас и такое возможно. А иногда даже полезно такие картины себе представить, чтобы задать вопрос: почему они до сих пор этого не делают? И здесь поэтому снова приходится реконструировать и обсуждать различие самих форм мышления: философской и собственно научной. Так вот, с точки зрения этих форм мышления, мы должны зафиксировать следующее, что философская форма мышления, прежде всего, связана с использованием категорий, категориальных структур. Например, мои лекции про категории были скорее философско-методологического плана, с ударением на первом слове. Категориальная форма является как бы основной формой философского мышления. И фактически программу такого развития философского мышления, как отмечает такой крупнейший европейский ум и очень интересный философ первой половины XX века Эдмунд Гуссерль, заложили еще Платон и Аристотель. Э. Гуссерль даже фиксирует в форме своей какой-то догадки, что надо всё это искать в элементах непрерывной коммуникации, в каких-то даже игровых моментах взаимодействия, 157 которые осуществлялись в Академии Платона и потом в Лицее Аристотеля. Дескать, там регулярно собирались какие-то «умные мужи», женщин туда не пускали, что-то там обсуждали, о чем-то спорили, веселились, а потом человечество на 2000 лет оказалось спрограммированным. Оно стало эксплицировать и развивать эту форму мышления, которая оказалась невероятно мощной. Если вдуматься, то становится немножко не по себе от того, что действительно форма мышления, сложившаяся у Платона и Аристотеля (то, что эти два человека, представители двух групп, во взаимодействии друг с другом фактически наметили), оказалась мощнее, чем вся религиозная программа Христианства. С этой точки зрения, философия, прежде всего, связывается с категориальной работой. А сама эта категориальная работа, то есть использование категорий, может быть представлена совершенно по-разному. В том числе существуют и философские школы, которые утверждают, что они двигаются и работают вообще без категорий. Если, например, взять сочинения французского философа-экзистенциалиста Жан-Поля Сартра, то собственно такой четко выраженной, представленной категориальной работы в его текстах не найдешь. Тем не менее, его всё равно нужно относить к философам и описывать его работу с точки зрения этого гигантского пласта мышления, связанного с работой в категориях. Потому что использование категорий задает определенный уровень или пласт самого мышления. С этой точки зрения, категории — не просто язык, скажем, слова «форма — смысл», «форма — содержание», «форма — материал», о которых я прошлый раз рассказывал, а это еще и определенный уровень мышления. И он требует, как мы это, например, делали на учебнике географии, не только анализировать текстовой материал, но и собственно восстанавливать основания того текста, который в данном случае описан. Поэтому категории — это один из способов выявлять основания той мысли, которая осуществляется и строится. И собственно для выявления этих оснований категории и используются. Но вместе с тем, мышление, при помощи которого можно работать с основаниями того или другого суждения, той или иной мысли, — это, собственно, рефлексивное мышление. И рефлексия — это вторая важнейшая характеристика, если говорить на философском языке (все философы, как правило, делают ударение на втором слоге — «рефлексия», а собственно слово «рефлексия» с ударением на последнем слоге методологи изобрели). Рефлексия и рефлексивное мышление — это вторая важнейшая характеристика собственно философского мышления. А категории являются, фактически, средством организации такого мыслительного стиля. То есть когда я не просто смотрю, как это Фихте блестяще описывал, «сам я смотрю на стену — я вижу стену», а начинаю анализировать то, как я смотрю, что означает само мое «смотрение», обнаруживаю себя, и дальше это всё развертывается: сам этот переход от смотрения на стену или от смотрения в текст к анализу того, как я смотрю, и что это означает, что я смотрю. Собственно, вот этот стиль, эта форма характеризует рефлексивное мышление. 158 И как это обычно бывает в любых культурных образованиях при движении любых культурных функций, две выделенные характеристики могут отделяться, входить в оппозицию друг к другу. Могут делаться попытки, скажем, выбрасывать вообще категориальное построение и обращаться только к рефлексивным способам движения. Но поскольку исходно, в самом истоке, при формировании философии две эти характеристики выступали в синтетическом единстве, то есть для Платона и Аристотеля собственно рефлексивная форма мышления и использование категорий было «единым», одним, то как бы потом представители последующих школ философии ни изолировали, ни пытались разделить и разбить две эти важнейшие характеристики философского мышления, всё равно, человек, изучающий сам стиль философского мышления, всегда может восстановить оба эти плана. С одной стороны, наличие в философском мышлении категориальных структур, которые могут быть вытеснены и не представлены на поверхности, и, с другой стороны, — собственно рефлексивных структур мышления. Это первый момент. Теперь, если с этой точки зрения характеризовать научное мышление, то важнейшей его характеристикой является предметность, или предметная организация. Установить точно, когда возникла наука, — достаточно сложно. Но есть ряд ученых, которые считают, что зачинатель всех наук — Аристотель. И это весьма обоснованно, если рассмотреть эту версию с помощью категорий «форма» и «содержание». Потому что Аристотель действительно является зачинателем если не всех, то многих европейских наук. Но он создавал все эти науки в форме философии. Это тоже очень важно. Если мы различаем категорию «форма» и «содержание», то нам уже понятны такие переходы, когда содержание одной формы может воспроизводиться и осуществляться совершенно в другой. А вот собственно создание научного мышления, как особой формы. отличной, противопоставленной философии, — это, конечно, заслуга Нового времени, и прежде всего таких мыслителей, как Бэкон, Галилей и Декарт. Они и считаются родоначальниками научной формы мышления. Хотя Бэкон и Декарт больше являются философами, а Галилей — больше ученым, они работали с обеими формами мышления. И это был достаточно редкий, счастливый момент в развитии мышления, когда три таких выдающихся европейских мыслителя использовали наравне обе формы мышления — и философскую, и собственно научную, которую они же и создали как таковую. Кроме того, они создали предметную форму организации научного мышления. Что ее характеризует? А ее характеризует наличие определенной структуры или системы знаний, отнесенных к четко обозначенной и выделенной структуре объекта. Вот собственно наличие такой единицы: с одной стороны, системы знаний (эту систему может репрезентировать и одно какое-то знание, но в принципе — система знаний), то есть нескольких знаний, согласованных и связанных друг с другом (я пока под словом «система» понимаю нечто такое достаточно простое), и, с другой стороны, эта система знаний жест159 ко отнесена к четко прорисованной и выделенной структуре объекта. Наличие такого типа единицы и организации мышления позволяет нам дальше обсудить, что такое естественнонаучная, или научная, форма мышления. Я не оговорился: науки возникли, прежде всего, как естественные науки. В частности, физика является таким образцом науки, по которому затем строились все известные нам науки, или делались попытки создать или построить новые науки. В этом смысле, когда говорится, по крайней мере, в нашем европейском ареале о Науке с большой буквы, то имеется в виду прежде всего физика. Итак, нам нужно характеризовать научную форму мышления точно так же, как мы характеризовали философскую форму мышления. Так вот, научная формы мышления организуется и строится по такой единице, когда есть, с одной стороны, знание или система знаний, которые согласованы и соотнесены, а с другой стороны — проработана и очерчена выделенная структура объекта. И дальше я свое мышление подчиняю различным способам движения по такой единице. Поэтому я уже не могу характеризовать и описывать некоторое знание, не строя некоторого жесткого объектного отнесения, не определяя вообще, к чему это знание относится, и что я под этим имею в виду. С точки зрения такой структуры мышления, философское мышление оказывается чем-то недействительным, слишком свободным, слишком фантастичным, фантазирующим, поскольку жесткое выделение и прорисовка структуры объекта осуществляются, прежде всего, в формах моделей. Отсюда возникла и вся проблематика моделирования, которая закладывалась в естественные науки, поскольку моделирование является в этом плане значительно более жестким, жестко организованным. Таким образом, с одной стороны, наличие рефлексивного мышления и категорий определяет характеристику философской формы мышления как таковой, а с другой стороны, наличие такой единицы, как система знаний, соотнесенная с прорисованной и выделенной структурой объекта, характеризует научную форму мышления. Как я уже сказал, для тех людей, которые создавали предметную организацию собственно научного мышления, словосочетание «предметная организация» очень важно. Наличие такой структурной единицы, где система знаний соотнесена с прорисованной и выделенной структурой объекта и задает организацию научного мышления. То есть я свое мышление (если я — ученый) организовываю подобным образом. И всё время стараюсь выделенное знание (или набор знаний) четко фиксировать, к какому объекту оно отнесено. И наоборот, относительно того, как прорисован объект, у меня могут возникать новые гипотезы о его устройстве. Я тогда могу ставить вопрос: а эти мои гипотезы, они подкреплены какими-то имеющимися знаниями или нет? И осуществлять как бы обратное движение (точнее, прямое и обратное). Так вот, эти прямые и обратные движения и есть, фактически, форма организации моего мышления, которая называется предметной. И эта структура в целом, то есть система знаний, соотнесенная с прорисован160 ной структурой объекта, и задает единицу предмета. Он может рассматриваться дальше, и там могут появляться другие составляющие. Вообще, любая наука, если она настоящая, обязательно содержит внутри себя такого типа единицу. Берем ли мы физику или какие-то другие дисциплины, там всегда присутствуют та или иная модель и знание, которое к этой модели отнесено. Это обязательный момент. Как я уже говорил, для Галилея, Декарта и Бэкона (создателей предметной формы организации мышления) не было проблемы со-организации философии и науки, потому что они сами работали и блестяще продвигались в обеих этих ипостасях. В определенный момент были философами, а в другой момент — учеными; и даже их тексты так можно группировать. Таким образом организована, например, книга Галилея: ряд «бесед» у него — это в чистом виде философские тексты, а другой ряд «бесед» — сугубо предметные. Точно так же, скажем, у Декарта: в разделе аналитической геометрии он — ученый-математик, а в знаменитых рассуждениях о методе он выступает как философ. И с этой точки зрения, для этих мыслителей не надо было решать проблему связи науки и философии, потому что они всё это организовывали в своем живом мышлении, осуществляя то сугубо философскую работу, то чисто научную. А в дальнейшем, особенно в немецкой классической философии, проводились попытки снять научную форму мышления и построить философскими средствами альтернативу наукам. В этом смысле такой достаточно последовательно проделанной попыткой является система Гегеля. Например, Гегель в своей «Философии природы» ставит задачу построить спекулятивную физику. Не физику в обычном смысле, а спекулятивную физику, то есть дать в структурах рефлексивно-категориального мышления свою собственную интерпретацию и понимание того, чем должны заниматься науки о природе. После чего наук в их обычном устройстве быть не должно. Последующий после немецкой классики период развития философии связан как раз с попыткой реализовать эти программы, представленные в философских системах. При этом было обнаружено, что реализовать эти попытки не удается, и, таким образом, философией науки не вытесняются, не уничтожаются и не вытесняются. И собственно весь XX век обсуждался вопрос о том, каким образом философия и наука могут быть связаны, в чем основания этой связи, могут ли они быть связаны вообще, и даже возникали такие радикальные вопросы типа: нужна ли вообще наука? Хотя у этого последнего вопроса о том, что наука не нужна, до сих пор есть свои последователи-философы, положительно он не решается. Потому что наука за последние два века установила очень прочные связи с системой производства и инженерией, став действительно важнейшей производительной силой. Поэтому вопрос об уничтожении науки сейчас не имеет смысла, и человечество вынуждено обсуждать какие-то другие вопросы: о критике науки, о замене существующего типа научности каким-то другим, то есть о типах научности: не что такое наука вообще, а какой тип научности нужен человечеству. 161 И с этой точки зрения, в контексте противопоставления философии и науки, где в течение XX века взаимная проблематизация данных форм мышления была доведена до предела, постоянно ставился вопрос: может ли быть построена и формировалась ли на протяжении всей истории такая мыслительная форма, которая могла бы обеспечивать связь этих двух разных форм мышления? А обоюдная критика философией науки и наукой философии заключается в следующем: с точки зрения философии, наука является безответственной формой мышления, то есть эта невероятно мощная форма мышления абсолютно безответственна. И в плане того, что такое наука, есть два совершенно разных типа интерпретации фигуры Галилея. Как правило, обычно Галилей противопоставляется философу Джордано Бруно. Тот пошел на костер за свои убеждения, а Галилей — остался жить, и якобы спасая свою жизнь, в конце концов утверждал, что Земля неподвижна, то есть отстаивал суждение в русле системы Птолемея, освященной церковью. Но поскольку Галилей был фигурой сложной (он был хитроумным, как Одиссей), то в этом поступке разными литераторами и философами усматриваются две стороны. С одной стороны, беспринципность и безнравственность, и здесь Галилей противопоставляется Джордано Бруно. Хотя сложно судить человека из глубины веков: если мы на себя всё это как бы примерим, то нам станет здесь совсем не просто: всё равно, что 1937-й год на себя примерить. Как бы мы себя повели на месте Галилея и Бруно? А с другом стороны, теми, кто отстаивает научную форму мышления и гений Галилея, выделяется другой эпизод, связанный с тем, что Галилей перед смертью сказал: «А все-таки, она вертится!», и в этом смысле как бы обманул инквизицию. Обе эти стороны важны, и они, видимо, фигурируют в научной форме мышления. И вообще всё это символизировано в судьбе такого мыслителя, как Галилей. Но основная и последовательная критика философией науки состоит всё-таки в том, что наука безнравственна и безответственна. Что это означает? Дело в том, что, как правило, ученые не продумывают до конца тех оснований и последствий, к которым приводят их теоретические построения. Поскольку ученый строит объективное знание, то есть независимое от человека и от субъекта, и это заложено в качестве основной, важнейшей характеристики научности как таковой, которая формировалась в естественных науках. Ученый должен получить объективное знание, двигаться к истине. А обратной стороной этого утверждения является то, что самоопределение ученого от его нравственных исканий и его нравственной позиции, фактически, не зависит. Потому что есть объективность, которая существует независимо от деятельности ученого, и ученый должен открывать законы этой объективности. И поэтому, собственно, ученый не отвечает за те результаты, которые получаются. Он, фактически, просто подглядел то, что независимо от его деятельности, объективно существует. И с этой точки зрения, он выступил таким своеобразным, как говорил Хайдеггер, «разведчиком бытия». Он разведку осуществляет. 162 Есть бытие, которое существует объективно, то есть независимо от человека, а ученый ведет разведку и на основании полученных данных приходит к тем или иным выводам. Это как бы критика науки со стороны философии. А почему, собственно, философия так утверждает? На основании чего философия предъявляет такие серьёзные обвинения науке? Потому что такие серьезные обвинения можно предъявлять, только зная некоторые «секреты», на основании которых возможно диагностировать другую форму мышления. Этот секрет и заключается в рефлексии, то есть рефлексивном характере мышления. Ведь в самом слове «рефлексия» всё это задано приставкой «ре-», которая обозначает ход назад, или обратный ход. То есть я не просто подглядываю за тем, как устроен мир с точки зрения философов, а осуществляю как бы движение назад, вспять самому себе и задаю вопрос: а кто я сам есть — тот, который подглядывает? Как я устроен и что при этом делаю? И с этой точки зрения, метафора Хайдеггера о «разведчике бытия» имеет обратную, очень важную для философии составляющую (коррелятиву): идущий в разведку человек должен обладать определенным уровнем развития личности и мышления. В противном случае, как говорил Декарт, «...откуда я знаю, что мне дьявол не подкладывает просто на мои кадрики, которые у меня на сетчатке, определенные видения». Я собрался разведку производить, а весь этот мир, может быть, специально кем-то организован для того, чтобы эту разведку я не осуществил. И откуда я знаю, что всё, что наблюдаю, — достоверно? А если мне это всё специально подложили, или я сам для себя специально всё так расположил? Или ввел себя в определенный физиологический режим? И поэтому приставка «ре-», связанная с рефлексивным мышлением, как бы всё оборачивает на самого наблюдателя. Грубо говоря, задает вопрос: а ты-то кто, который наблюдает? И это, собственно, есть вопрос о самоопределении и принятии на себя определенной ответственности. А второй момент, более сложный, связан с рефлексивным мышлением. Потому что всё относится к личности, к человеку, к его мышлению. И вопрос с категориями здесь выдвигается потому, что только при их помощи, с точки зрения философии, можно проанализировать и выявить устройство самого мышления, которым пользуется ученый. Ведь в своей работе он использует определенные, наработанные до него средства, методики, процедуры. Он присвоил тем или иным образом ту научную традицию, в которую попал. В этом смысле, каждый ученый первоначально присваивает ту или иную научную традицию, а средства, процедуры, способы, наработанные в этой традиции, делает своими и начинает их использовать. И здесь выступает проблема, связанная с тем, знает ли ученый, какие средства и процедуры использует. И есть ли у него особые техники, методы, способы, чтобы эти используемые им процедуры, средства и методы проанализировать и личностно к ним отнестись, то есть понять, чем он пользуется? И с точки зрения философии, у науки таких средств нет. Потому что для этого, во-первых, необходима ре163 флексивная форма, то есть «возврат к себе самому» того человека, который осуществляет исследование. И второй момент — наличие уже достаточно сложного инструментария, в частности категорий, при помощи которого само мышление, его процедуры, техники, методы могут быть проанализированы и описаны. Именно отсюда возникают претензии и обвинения философами науки и ученых в безнравственности и безответственности. На мой взгляд, XX век (поскольку в XVIII и XIX веке эти утверждения о безответственности науки в основном исходили от философов и теологов, то есть тех, которые занимались вопросами религии) предъявил нам безответственность науки по всей форме. Потому что два величайших события — взорванные летом 1945 года атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки, когда сотни тысяч людей были заживо зажарены, и чернобыльская катастрофа в мае 1986 года — являются бесконечно трагичными, незабываемыми символами XX века, демонстрирующими эту характеристику научной формы, связанную с ее безответственностью и безнравственностью. С этой точки зрения, на мой взгляд, это был четкий, по-своему даже «красивый» эксперимент, проделанный всем человечеством, потому что всё это не может быть поставлено в вину и адресовано конкретным людям. Наоборот, в той мере, в какой американские и советские ученые последовательно, очень хорошо, с максимальными усилиями осуществляли свою научную работу, то есть очень тщательно, абсолютно бескорыстно добивались научных результатов, тем жестче и напряженней они приближали сброс атомной бомбы на Хиросиму и взрыв Чернобыльской АЭС. В этом смысле, если бы немецкие физики во время войны в 1941-1945 годы работали более интенсивно, чем их противники, то, естественно, атомные бомбы упали бы на Советский Союз и зажарили какую-то часть нашего населения. В этом плане атомный эксперимент был проведен достаточно жестко и тщательно. И эта научная форма мышления и одновременно связь науки с производством и техникой были, так сказать, во всей своей мощи всем нам, людям XX века продемонстрированы. Просто в это надо уметь как следует вдуматься. С этой точки зрения, двусмысленно выступает фигура нашего основного правозащитника А.Д. Сахарова. Потому что с его стороны, как «отца водородной бомбы», то есть следующей, наиболее зловещей формы оружия массового уничтожения, полного отчета о том, чем является он, и чем является XX век, так и не последовало. Потому что Андрей Сахаров занял позицию, на мой взгляд, не совсем логичную со стороны человека, прошедшего свой научный путь «под крылом» советского государства и создавшего в результате следующую сверхмощную бомбу по заказу этого государства: после всего случившегося он стал защищать природу и выступать против того же государства. В этом есть, на мой взгляд, определенная непоследовательность, которая, по-видимому, присуща всей научной форме мышления как таковой. Но с этой точки зрения, есть и обратная критика философии со стороны науки: дескать, философия ничего не создает, является, 164 так сказать, свободным искусством, критикой различных научных и прагматических программ. Философия, по мнению сторонников научной формы мышления, не предлагает ни одного реалистичного проекта переорганизации общества, которые могли бы осуществляться, а такой проект должен быть предметно просчитан, что делает только наука, которая может это сделать на моделях объекта. И поэтому философская форма, с научной точки зрения, в равной мере безответственна, только эта безответственность связана не с ответственностью за последствия выдвинутой научной программы, а с отсутствием некоторого продуктивного результата, который мог бы реально и действенно влиять на практику. У каждой из этих точек зрения есть множество оппонентов и представителей прямо обратных позиций. Альберт Швейцер, скажем, так отвечал на научную критику философии: всё, что создано за период конца XIX века и за весь XX век, запрограммировано выдающимися немецкими философами, то есть собственно Кантом и Гегелем. И этот диалог в принципе может продолжаться до бесконечности, потому что каждая из этих сторон, то есть представители научной формы мышления и философской, может выделять и вводить всё новые и новые аргументы. Кира: Но ученые могут обвинить философию, что она не дала таких знаний о жизни, чтобы результаты науки не имели таких плачевных исходов. Ю.В.: Правильно. Хотя философия утверждает, что она, с этой точки зрения, «фирма с ограниченной ответственностью», в отличие от науки. Её интересует не проблема получения новых продуктивных результатов, а вопрос о том, что такое сам человек, который эти продуктивные результаты хотел бы получать. Начиная с вопросов Сократа, который раздражал всё афинское общество. Например, он приходил к сапожнику и говорил: «Да, ты сапожник, тачаешь сапоги, а зачем ты это делаешь?» Он разрушал, фактически, устоявшиеся взгляды людей на смысл своей деятельности. Потому что, например, человеку ясно, зачем он это делает, когда тачает сапоги, а если начинать всё это последовательно продумывать (как это делал Сократ), то даже в этом деле оказывается масса несуразностей. Хотя с точки зрения Сократа, в таком продумывании заложен гигантский смысл. И ещё было очень важно, чтобы человек после того, как ему задали такие вопросы, оставался слушать и поддерживать беседу. Кира: И перестал бы делать то, что делал... Ю.В.: Поскольку у Сократа не было проблемы связать философию с практическими формами жизни и, более того, он считал, что практические формы жизни — зряшные, те люди, которые его слушали, часто переставали делать то, чем они до этого занимались. Это и вызывало гнев у афинян. Они сетовали: какой-то толстый чудак отрицает древнегреческих богов, говорит про какого-то своего демона, и молодежь перестает заниматься общественно полезными делами, все ходят за ним, располагаются вокруг него и обсуждают какие-то непонятные вещи. 165 Х.Х.: А может быть, вот эту непоследовательность А.Д. Сахарова можно объяснить его определенной эгоистической эволюцией. Он не сразу разобрался, но сразу же стал бороться с государством, которое, собственно, и использовало в свое время его определенную незрелость. Ю.В.: Но я-то вижу непоследовательность в другом. Можно всё действительно переводить в проблематику государства, которое просто эксплуатирует гениального ученого, хотя потом и награждает за это. Но А.Д. Сахаров достиг тех высот, на которые поднялся, только сознательно совершив определенный личный поступок, потому что он в результате обладал всем. Но с другой стороны, можно и так понять, что действительно есть такой ужасный, страшный монстр — государство, которое набрасывается на талантливого ученого и силой заставляет его порождать не светлые, радующие всех вещи, а какие-то ужасные, страшные, связанные с массовым уничтожением людей. Но можно всё это переводить и в совершенно другой пласт, связанный с тем, что так вообще устроена наука. Не государство так устроено, а сама наука строится так, что она совершенно определенным образом начинает вторгаться в проблему ядерного синтеза, которая в первую очередь направлена не на сохранение, приумножение и развитие форм жизни, а на создание орудия уничтожения всего человечества. Сейчас идут очень интересные и сложные дискуссии по поводу того, правильно ли человечество сделало, что именно так начало свое вторжение в проблематику атомного ядра. Туда, безусловно, вторгаться надо — это процесс познания, но правильно ли люди стали это делать? Точно так же всплыл сейчас вопрос о генной инженерии: то есть интересоваться устройством гена и анализом того, что такое ген, безусловно, надо, а вот, правильно ли человечество это стало делать? Поскольку группа философов, представителем которой я являюсь, тоже както локализована в этой дискуссии, я буду высказывать как мнение этой группы, так и свои собственные соображения по этой проблеме. То, о чем я до этого говорил, — это как бы «медицинский факт»: какой сейчас ни откроешь номер журнала «Вопросы философии», — он заполнен полемикой о роли науки и философии. И есть такие работы философов, где критика научной формы с философской позиции проведена наиболее последовательно и выпукло. Например, создатель оригинальной философской доктрины — «феноменологии» (то есть науки о явлениях) Эдмунд Гуссерль вообще утверждал, что в XXI веке или даже во всем III тысячелетии основной проблемой, которую должна решить философия, будет создание новой формы научности. Потому что та парадигма, которая лежала в основе европейских наук (у него есть даже такая статья «Кризис европейских наук»), фактически, исчерпана. А нельзя ли создать такую форму мышления, которая одновременно соединит в себе два совершенно разных основания? То есть она, с одной стороны, являлась бы рефлексивной и могла использовать категориальный язык анализа «описания», а с другой стороны, сохра166 няла бы предметный характер своих построений и интерпретаций, который так важен для науки? Можно ли создать такую форму мышления? Потому что тогда, фактически, всё могло как бы оставаться «на своих местах». То есть, человек, осуществляющий мышление, мог бы сам постоянно анализировать основания своих собственных мыслей и суждений, но при этом само его мышление оставалось бы предметным и конкретным. Это означает, что постоянно бы самим мыслителем ставился вопрос о том объекте или о той структуре объекта, с которой он работает. И ряд философских направлений конца XIX века пытались создать такую форму мышления. На мой взгляд, к середине XX века такая форма мышления была создана. Эта форма мышления называется «методология». Соответственно оформилась под таким же названием и философская дисциплина, которая работает с методами, то есть единицей работы которой является метод. Чем характеризуется методологическая форма мышления? Во-первых, эта форма мышления — синтетическая. То есть, с одной стороны, для этой формы мышления является обязательным весь арсенал собственно философского инструментария: наличие рефлексивного мышления, то есть обязательно связанного с выявлением оснований самого мыслящего субъекта, и выявление собственно категориальных средств, при помощи которых можно описывать мышление. Но с другой стороны, для этой формы мышления точно так же обязательно выделение каждый раз, при построении каждого знания четко обозначенной и выделенной структуры объекта. Другими словами, вообще вся работа по созданию этих структур объекта. То есть используется весь арсенал естественных наук, поскольку естественнонаучная форма мышления одна из самых наиболее разработанных за два последних столетия. И прежде всего в естественных науках разработаны процедуры построения объектов, схем объектов или создания моделей. Таким образом, собственно весь арсенал естественных наук тоже включается в методологическую форму мышления. А не является ли всё то, что я сейчас сказал, некоторой декларацией? Как это можно проверить? Можно, например, заявить так: «Ну да! Такой вы создали своеобразный мешок, куда складываете что-то из одной формы, что-то из другой, — всё туда складываете! А за счет чего осуществляется само это складывание? В чем заключается этот способ складывания? Как это можно делать технологически?» С этой точки зрения, в методологии отработана одна очень важная процедура, которая формировалась в определенных направлениях философии и прежде всего в работе «Наукоучение» И.Г. Фихте — крупнейшего немецкого философа, одного из главнейших предтеч, провозвестников методологической формы мышления. Не случайно он поэтому говорил о мыслительном искусстве, то есть, что мышление — такое же искусство, которому можно учиться, как любому другому виду искусств. Так вот, соединить собственно предметную форму, которая существует в науках, и философские формы работы можно, сделав описание самих предметных форм мышления. 167 И с этой точки зрения можно сказать, что основная беда науки состоит в том, что она не описывает собственные формы мышления. Это — очень важный момент. Теперь можно по-другому рассмотреть и смысл упомянутой выше фразы Хайдеггера, что ученый — «разведчик бытия», задав вопрос: а входит в эту разведку описание и диагностика средств самой разведки? Потому что философия-то как раз и требует диагностики самого разведчика: способен ли он осуществлять объективную «разведку бытия», а не изображать его исходя из непроверенных, ложных данных какого-то своего собственного устройства, скажем, психофизиологического аппарата или ненадежных методов и способов из того арсенала, которым он пользуется. И само соединение научной формы и собственно философской формы мышления возможно за счет того, что и та, и другая форма мышления может стать предметом описания и выявления того, как она устроена. То есть, как эти формы вообще строятся. И вот собственно этот момент, что вообще-то и ученый, и философ осуществляют определенную деятельность, впервые был зафиксирован Фихте. Фактически, Фихте выяснил и сформулировал мысль, что дело не в философской оппозиции «субъект — объект», а в том, что всякий философ, всякий мыслитель — это не только познающий субъект, но на определенных принципах и объект, который он сам затем изучает и создает. То есть осуществляет ряд процедур и операций по построению объекта. И собственно, эти процедуры и операции, и сам характер его мыслительной работы должны стать предметом специального анализа. Таким образом, сам мыслитель точно так же может быть и должен превращен в объект. И собственно, этот пункт является важнейшим. Потому что, оказывается, само мышление, как естественнонаучное (то есть, его предметная форма организации), так и философское — может стать предметом анализа, описания, демонстрации и представления. Если мы до этого говорили, что предметное мышление — это набор каких-то слов, то есть не очень понятно, в чем состоит предметность этого самого предметного мышления, то, когда я стал утверждать, что предметная форма организации мышления характеризуется наличием единицы — системы знаний, отнесенной к выделенной структуре объекта, тем самым я практически осуществил описание предметного мышления, введя такой рисунок. Или когда я стал говорить, что философское мышление характеризуется наличием рефлексии и использованием категориального языка описания, то, фактически, тоже осуществил его описание. И выделением собственно философской составляющей осуществил описание философской формы мышления. А дальше возникает вопрос о том, собственно из какой позиции я это описание делал. Так вот, позиция, из которой я эти описания делал (поскольку есть описание и той и другой формы мышления, и следовательно, уже своими описаниями, своим анализом я собираю эти две формы во что-то третье), из которой это «собирание» происходило, и является методологической. И с этой точки зрения, методологическая форма мышления предполагает одновременно, во-первых, обяза- 168 тельное осуществление предметной составляющей мышления, то есть обязательную работу с той или иной структурой объекта, а во-вторых, анализ той самой формы мышления, в которой я этот предмет выделяю. И она, собственно, является формально-мыслительной составляющей, которую я должен анализировать, как-то выстраивать и выделять (см. Схему 2). Так вот в истории философии и в истории развития мышления за предметную составляющую всегда отвечала естественнонаучная форма мышления, а за формально-мыслительную составляющую — философская, которая прежде всего интересовалась тем, что такое мышление вообще. А собственно методологическое мышление, сама методологическая форма мышления и ставит перед собой задачу (и в какой-то мере её решает) соединения предметной и философской составляющих. И когда происходит соединение разных форм и действительно создается нечто третье (процедура синтеза), то это третье может быть противопоставлено и той, и другой форме, то есть исходным формам, по отношению к которым этот синтез осуществлялся. Вообще, по этой схеме возникают все новые образования в культуре, когда некоторая новая форма создается из двух предшествующих (например, из научной формы мышления и философской формы создается методологическая форма мышления), и после этого она противопоставляется первой и второй формам, из соединения которых возникла. Кира: Как я могу противопоставлять себя чему-то, из чего я была создана? Ю.В.: Хороший вопрос. Дело в том, что схема происхождения, то есть процесс происхождения, когда нечто создается из того, из чего оно уже состояло, отличается от схемы функционирования. С этой точки зрения, я, например, состою из своих родителей, или кто-то состоит из своих родителей, однако существует конфликт поколений, когда созданный родителями человек вступает в противоречие со своими создателями. Кира: Нельзя сравнивать человека и формы мышления. Ю.В.: На мой взгляд, вы не различаете сейчас процедуры сопоставления, то есть сравнения, соотнесения и отождествления. Потому что я когда говорю про кого-то, что это — человек-стол, или про себя: «Так устал, что сейчас, как стол», — то я этим себя отнюдь со столом не отождествляю. Я четко знаю, что я — не стол, но моё состояние сейчас подобно состоянию стола. А я ведь вам как хитро стал отвечать, говоря, что вы правы с определенной точки зрения, когда работаете в схеме происхождения. Тогда действительно получается: есть философская форма мышления и есть научная, и возникает третья — методологическая форма, внутри которой эти две формы соединены. Возникает вопрос: как целое можно соотносить с частями? В рамках этого рассуждения — действительно, никак. Но с другой стороны, после того, как возникает методологическая форма мышления и начинает действовать, от этого ведь представители научной формы мышления и философской формы не исчезают, а продолжают реали169 зовывать свои программы. И дальше в социальном или в научном пространстве происходит столкновение носителей этих разных форм мышления. То есть ученый начинает сталкиваться не только с философом, но и с методологом. И тип конфликта здесь будет совершенно другой, чем конфликт между ученым и философом. А ведь когда сталкиваются носители разных форм мышления (вот, скажем, пришел Сидор Петрович — большой ученый-физик, и Иван Петрович — методолог, и они начали спорить), то мне вообще-то, с точки зрения, например, истории культуры, их столкновение, как носителей, не очень интересно. Меня будет интересовать другое: как через этих носителей сталкиваются эти две формы мышления. И какая из них мощнее, какие у этих форм мышления выявляются достоинства и недостатки. То есть, сказав, что сталкиваются носители, я просто всё это довел до предметного основания, чтобы вы поняли, о чем идет речь. А после этого я могу вернуться к своему тезису, что через этих носителей сталкиваются формы мышления. Это старый вопрос: кто кем овладевает? Есть мнение, что человек осваивает формы мышления и начинает их транслировать, осуществлять, а есть и обратное утверждение, что форма мышления овладевает человеком, и дальше он начинает действовать по законам этой формы. Мне, кстати, вторая точка зрения наиболее симпатична. Потому что я считаю, что формы мышления в этом смысле являются более мощными, чем сам человек. Хотя человек им иногда обязан противостоять, как в примере с академиком А.Д. Сахаровым. Вопрос заключается только в том, что нам с вами интересно выяснить в споре. Вот, например, мы с вами сталкиваемся мнениями и начинаем спорить. После того, как мы поспорили, у нас есть разные возможности анализа результатов дискуссии. Мы, например, можем с удовольствием отметить нашу с вами увертливость. Но, на мой взгляд, в этом смысл небольшой, лично для меня. Потому что меня в первую очередь интересуют содержательные аргументы. И поэтому меня будет интересовать не наша с вами увертливость, не хитроумность аргументации, а то, в какой мере я в своей аргументации с вами двигался в рамках той формы мышления, которую осуществляю. Ведь всё зависит от того, что понимать под формой мышления. Если, например, форму мышления создавал сложнейший человеческий организм, который складывался многими поколениями, и я двигаюсь в рамках этой формы (да, у меня есть разум), но тогда сама форма мышления, являясь таким сложнейшим историческим человеческим организмом, обладает сверхразумом по отношению ко мне. Потому что, с одной стороны, выступаю я, как один слабый носитель мышления, со своим, еще слабым разумением, а с другой стороны — гигантский человеческий организм, который существует в истории. То есть гигантский организм из людей, который всё это строил в течение многих поколений. Поэтому, если я двигаюсь по законам этой формы, то двигаюсь по законам сверхразума. А в противном случае я двигаюсь по законам увертливости. Но меня больше интересует первое. Мне, во всяком случае, так бы хотелось... 170 Лекция 9. КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1: «Современная эпоха всемирной истории». С одной стороны, можно понять авторов учебника: они не успевают за лавиной событий. Учебник писать в общем-то вещь хлопотная и долгая. Поэтому сегодня, может быть, их надо писать как-то иначе. Тем не менее, учебник — не газета, и в этом есть своя прелесть. Этот учебник пока еще написан в старом стиле, хотя, на мой взгляд, в новом стиле его написать не удастся, потому что для этого надо будет просто переписать какой-либо современный учебник политологии или перевести на русский язык американский учебник. Но сейчас нас интересуют не новые, свежие информационные потоки, а тот тип мышления, который в этот учебник заложен. И с этой точки зрения, посмотрим, что здесь есть. Жирным шрифтом выделены три основные рубрики: «Новый этап мирового развития». «Социализм и капитализм в новейшее время». «Периодизация новой истории». Поскольку по периодизации можно понять, как авторы членят мировой исторический процесс, происходящий в новейшее время, то в нем можно выделить всего два основных этапа. Первый этап — от победы Октябрьской революции 1917 года до Второй мировой войны, и второй — события после Второй мировой войны и до наших дней. Фактически, Октябрьская революция и Вторая мировая война — основные вехи такого членения. Самый интересный раздел, который необходимо проанализировать и отнестись к тому, какая форма мышления в нем заложена, это, собственно, пункт второй: «Социализм и капитализм в новейшее время». Я попробую сейчас телеграфным стилем кое-что в нем выделить, а потом будем всё это обсуждать: «Советское государство прошло через годы суровых испытаний. Несмотря на все трудности и невзгоды советский народ самоотверженно отдавал свои силы. Социалистическая идея после смерти Ленина подверглась извращениям. Сталинские деформации социализма, тяжелые последствия. Народ, заплативший за это огромную цену. Были отброшены крайности сталинского режима. Недооценка скачка в раз171 витии науки и техники, приведших в индустриально развитых странах к созданию новых технологий. Тяжелые последствия командноадминистративных методов. С 1985 года начался процесс революционных преобразований в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Развернулись сложные процессы преодоления негативного опыта. Жизнь доказала, что монополистический капитализм не кратковременная стадия. Произошло изменение форм и характера деятельности международных монополий. Ходом истории капитализм был поставлен в условия соревнования, что ему пошло на пользу (как авторы учебника уверяют). Научное понимание социализма и капитализма существенно изменилось по сравнению с тем, каким оно было недавно. В социализме правомерно видеть мировой процесс, представленный как социалистическими странами, так и различными течениями социалистической мысли. Форму собственности и характер политической власти определяют коренные различия социализма и капитализма. Современный уровень развития ставит на первое место общечеловеческие ценности, интересы и взгляды, требует гуманизации. Возросла потребность взаимодействия государств независимо от их общественного строя в решении глобальных проблем современности». Такой подход, исходя из всего прочитанного, всегда удивляет при чтении учебников истории советского периода. Если противопоставить им учебники истории начала XX века, прежде всего Кареева и Карсавина, то, в отличие от них, в современном учебнике истории нет цельного авторского видения мирового исторического процесса. И автор никогда не обсуждает, на основании чего он именно так упорядочивает исторический процесс, каким образом его организует. Поэтому для того, чтобы выудить из этого достаточно водянистого параграфа некоторую мысль, необходимо всё это ужать. В чем заключается мое понимание текста второй рубрики? В том, что авторы учебника пытаются обсуждать взаимодействие двух разных общественно-экономических формаций, а можно говорить и про разные по типу государственные системы, собственно, капитализм и социализм. А дальше достаточно туманно авторы подводят нас к мысли о том (к такому псевдоисторическому обоснованию), почему с 1985 года наша страна стала распадаться, а мы начали круто менять тот тип общественного строя, или общественного устройства, который у нас возник после Октября 1917 года. Вот эта абсолютно прозрачная, неуклюжая мысль, точнее, неуклюжее понимание, и связано с необходимостью так сложно и витиевато объяснять, почему от нас в результате ничего не осталось. И эту вторую неуклюжесть мы как бы убираем, поскольку всё это — проблема мировоззренческого самоопределения авторов: как они сами определяются, что для них тут важно. С другой стороны, можно предположить, что авторы по своему типу убеждений «коммунистические перестройщики», как их можно бы условно назвать. Если их позицию сравнить с позицией, например, бывшего ректора Историко-архивного института, а теперь ректора Гуманитарного университета Ю.А. Афанасьева, то он, конечно бы, совершенно иначе определился на этом историческом пространстве. 172 Наверное бы, Ю.А. Афанасьев обсуждал большевистский переворот, убийство Царской семьи, создание страшного тоталитарного режима и т.д. С этой точки зрения, чтение всякого гуманитарного исторического текста отличается от чтения других текстов, которые мы разбирали. Потому что здесь обязательно присутствует мировоззренческая позиция авторов. То есть для того, чтобы описывать то или другое понимание некоторого исторического или гуманитарно-духовного явления, автор, который с этим явлением имеет дело, обязательно должен самоопределиться. И этот момент самоопределения всегда необходимо в тексте находить и выделять. Вообще-то, самоопределение авторов, представленное на страницах 5-8 во второй рубрике, достаточно понятно. С одной стороны, авторы всеми силами защищают социализм, а с другой стороны, всю ответственность сбрасывают на И.В. Сталина, который всё в основном извратил, и слегка «попинывают» Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева за то, что те вовремя и всерьез не отнеслись к технологическим и научным изменениям во всем мире. И дальше с каким-то таким юношеским воспарением, с энтузиазмом воспринимают «весну 1985го года». Не случайно слова «весна» и «1985-й год» символизируют, по мнению авторов учебника, те «радостные, эволюционные светлые преобразования», которые у нас тогда начались. Из этих пунктиром намеченных акцентов становится понятным самоопределение авторов. То есть они, с одной стороны, верят в социалистический выбор, как и Михаил Сергеевич Горбачев в 1991 году после Фороса, а с другой стороны, отрицают всякие такие излишества, извращения, перегибы, недопустимые для нашего государства. И этот как бы обязательный слой нам тоже необходимо при анализе снять, потому что самоопределение может быть многообразным. Для примера тут можно сымитировать самоопределение Ю.А. Афанасьева, который к этому отнесся бы совершенно по-другому. Он бы обязательно сначала поведал о том, что германским правительством приехавшие в Россию в пломбированном вагоне большевики были приняты на службу, вообще являлись шпионами, а потом бы рассказал про зверское убийство Царской семьи под Екатеринбургом, про ужасы уничтожения интеллигенции, фактически сразу же после прихода В.И. Ленина к власти; привел бы отрывки из писем Короленко, в которых писатель указывал, что начали расстреливать и убивать без суда не при И.В. Сталине, а при В.И. Ленине. Потом бы Ю.А. Афанасьев обязательно сообщил про знаменитый пароход, на котором весь цвет русской интеллигенции и в том числе крупнейшие русские философы были отправлены за рубеж. Они же затем основали во всем мире новейшие направления науки — от экзистенциализма в философии до новых форм экономики и социологии (В. Леонтьев), а также новые направления в литературе (В. Набоков). Потом бы обязательно сказал, как морально тяжело жилось всем при Сталине, потому что в быту культивировалось поголовное доносительство. Такое же приблизительно, которое чуть не началось после августовского путча в 1991 году. Далее Ю.А. Афанасьев привел бы строки из «Архипелага ГУЛАГ» 173 А.И. Солженицына о том, какие гнусности творились в советских концлагерях. По поводу Великой Отечественной войны он сказал бы, что наша страна понесла гигантские, чудовищные потери, не сопоставимые с Германией, и что фашизм мы победили «числом, а не умением воевать». И наконец бы перешел к наиболее легкому для него периоду «позднего брежневизма», потому что в этот период Ю.А. Афанасьев как раз учился в Сорбонне. То есть стал бы говорить про скудоумие политиков, про потерю инициативы, про зажим для представителей молодой интеллигенции всякого продвижения на какое-либо ключевое руководящее место, про атмосферу духовного гонения и «психушки» для диссидентов. Очень важно для того, чтобы понять, как автор самоопределяется, сымитировать его позицию и задать в нее свой слой отношения и видения. Но при этом истинное самоопределение автора проявляется не всегда... Мой пример с Ю.А. Афанасьевым в этом плане, может быть, не типичен. Потому что не всегда ясно самоопределение автора при создании гуманитарного и особенно историко-политического текста. Иногда оно бывает произвольным и, как я пытался показать на этом примере, недостаточно полным и объективным. Если рассмотреть позиции других людей, у которых есть определенные мировоззренческие основания для тех или других фиксаций, например А.И. Солженицына, то за его типом самоопределения стоит значительно более сложное содержание, чем у Ю.А. Афанасьева. Но вместе с тем, как бы то ни было, блок, связанный с мировоззренческим самоопределением, достаточно просто вычленяется из всех остальных, то есть он может быть легко «вытащен» и воспроизведен. Но после того, как мы как-то «сняли» этот слой самоопределения, то есть определили позицию автора данного учебника, наступает следующий шаг в процедуре нашего анализа текста. Если формулировать это задание на языке физика, который потом стал гуманитарием, вопрос звучит так: а что, собственно, твердое содержится в данном тексте? Не сводится ли этот исторический текст к одной «воде», связанной с таким самоопределением автора, когда он то одним способом определяется, то совершенно другим, и, соответственно, все события компонует то так, то эдак: то одним, то другим образом их закручивает, раскручивает, сталкивает, меняет... И вот в нашем случае этот текст тем и хорош, что вроде бы кажется, что всё здесь настолько произвольно, что, как говорил упомянутый выше физик, «ничего твердого в этом тексте нет». А «твердое» между тем есть, и оно-то нас интересует! Таким твердым, фактически, является вопрос о том, что собой представляло всё это время (с Октября 1917 года до настоящего времени, пока окончательного обвала и разрушения не произошло), взаимодействие двух типов общественных систем, каждая из которых заявляла, что имеет совершенно другую форму и другое понимание самой себя. То есть всё это по-разному можно объяснять: заговором В.И. Ленина, захватом большевиками власти, всякими другими манипуляциями, но с 1917 года по настоящее время действительно был такой феномен в истории (и существует до сих пор), что две 174 разные общественные системы утверждали, что они совершенно противоположны (антагонистичны) друг другу, и строили достаточно жесткие отношения между собой с элементами жестокого противоборства. И вот после того, как мы зафиксировали, что было такое взаимодействие двух общественных систем, собственно и возникает основной вопрос: а как это анализировать, обсуждать и, самое главное, попытаться осмыслить? При этом, что очень важно, как бы человек ни самоопределялся, то есть какие бы у него ни были эмоции, он вынужден признать, что этот феномен действительно был и есть до сих пор. Две противоположные общественные системы в историческом пространстве существовали. Правда, сторонники уже рассмотренной точки зрения в этом блоке (и Ю.А. Афанасьев, и А.И. Солженицын) будут утверждать, что, фактически, это не столько вопрос об общественных системах, сколько о типе тоталитарных режимов. И поэтому, с их точки зрения, это всё нужно полагать в другую плоскость, а именно обсуждать правомерность существования в XX веке тоталитарных режимов. И тут тоже применяется определенное отработанное идеологическое клише: каким-то образом всячески объединять или, другими словами, отождествлять фашистскую Германию и Советский Союз. При этом утверждать, что феномен совсем не в том, что существовали общественные системы с разным устройством, а совершенно в другом — в тоталитаризме, то есть военизированном, всё подавляющем государстве, построенном на жестких диктаторских принципах. Хотя при задании такой позиции всё равно возникает вопрос: чем считать и как вообще рассматривать то, что происходило в истории, с одной стороны, до возникновения фашистской Германии, а с другой стороны — после ее уничтожения и разгрома? И здесь даже представители англо-американского либерального мира, враждебно относящиеся к тому, что происходило в СССР, признают, что основная заслуга в разгроме фашистской Германии принадлежит Советскому Союзу. Можно по-разному анализировать количество жертв, но в документальных исторических источниках правителями западных держав — союзников по Второй мировой войне, соответственно, Рузвельтом и Черчиллем, а также французским генералом де Голлем утверждается, что основная заслуга в победе в Великой Отечественной войне принадлежит СССР. Поэтому мы принимаем это условие, потому что нам интересно разобраться, о чем, собственно, идет речь, когда говорится про взаимодействие систем, имеющих разный общественный строй. И уже в этой формулировке мы, наконец, подходим к основному категориальному вопросу. Потому что основной категорией, которую здесь необходимо использовать, является категория «взаимодействие». Следовательно, нужно обсуждать, что собой представляет взаимодействие систем, имеющих разный общественный и государственный строй. И вот здесь, после того, как мы всё это зафиксировали, начинается новый поворот, возникает новая сложность при анализе текста учебника истории. Потому что, оказывается, совершенно не ясно, как 175 авторы понимают это взаимодействие. Если мы приняли гипотезу, что категориально нужно обсуждать взаимодействие общественных систем, то у нас здесь обязательно появляются и разные государства. Но даже если мы встанем на точку зрения, что основной характеристикой XX века является судьба тоталитарных государств, то всё равно тогда рабочей категорией остается категория «взаимодействие». Но уже надо будет обсуждать взаимодействие тоталитарных государств с не тоталитарными, демократическими. И с этой точки зрения, какую бы мировоззренческую позицию мы ни заняли, нам придется обсуждать категорию «взаимодействие». После того, как мы поняли, что ведущей категорией является категория «взаимодействие», надо еще раз прочитать фрагмент учебника, чтобы выявить, проанализировать, что относится конкретно к этому взаимодействию. И как всё-таки авторы отвечают на вопрос о том, каков тип взаимодействия систем, имеющих разный общественный и государственный строй. Здесь нужно найти сакраментальную, действительно существенную фразу, которая бы определяла различие этих систем. С нашей точки зрения, это последняя фраза на странице 7: «Формы собственности и характер политической власти определяют коренные различия социализма и капитализма». Эта достаточно важная фраза несет определенную понятийноконцептуальную нагрузку, то есть за ней стоит некоторое содержание. И авторы, фактически, отвечают на вопрос, что собственно характеризует и определяет два этих шара (А и В — см. схему 1), которые находились в состоянии взаимодействия. Но нам, чтобы работать на такой введенной нами модели (это мы пока такую модель ввели для того, чтобы еще раз прочесть текст учебника. То есть это моя модель, моя схематизация. Я прочитал текст и вроде бы понял, что речь идет о взаимодействии, и, следовательно, после этого нужно сделать рисунок, аналогично тому, как мы это делали, обсуждая учебник географии), надо схематично изобразить то. о чем идет речь. Вот мы и делаем такой достаточно простой рисунок. На нем у нас с одной стороны шар А (капитализм, авторы его так и называют), а с другой — шар В (социализм). Для того, чтобы начать осмысливать отношения между социализмом и капитализмом, нужно сначала ответить на вопросы: в чем характерное различие каждого из этих шаров? Что они собой представляют? А затем задать вопрос: что собой представляет само взаимодействие между этими шарами? Без решения этого вопроса невозможно ответить и на все остальные, поскольку здесь заложена характеристика основного понимания категории «взаимодействие». Итак, взаимное действие, то есть действие первой системы на вторую и одновременно второй системы на первую, взятое как единый разнонаправленный процесс, должно пониматься как взаимодействие. Это во-первых. И во-вторых, для того чтобы определять действие одной системы на другую, нужно первоначально восстанавливать различие самих этих систем. Этого и требует категория «взаимодействие». Надо ответить, в чем проявляется такая сущностная разность одного 176 пара от другого. А потом начать определять действие одной системы на другую. И вот что у нас получается, когда я операционально нарисовал эту схему: Нужно выяснить отличие А от В. Нужно определить действие В на А. Определить действие А на В. Что такое взаимное действие? Что же, фактически, мы проделали? А мы проделали следующее: Выбрали основную категорию, которой является категория «взаимодействие. Восстановили формальный план работы с этой категорией. Как я уже говорил, за каждой категорией лежат свои достаточно жесткие процедуры и операции, а также языки описания. Значит, к процедурам и операциям относятся: сам этот момент действия в одну сторону, действия в другую сторону и построение конструкции взаимного действия, когда два шара одновременно действуют друг на друга. Таков план, связанный с операциями. А план, связанный с разными языками описания, заключается в том, что в категории «взаимодействие» содержатся разнонаправленные действия. И всё это тоже из данной категории можно извлечь. Потому что в самом понятии взаимодействия, как взаимного действия, есть действие двух агентов друг на друга. С этой точки зрения, мы восстановим формальный план категории, который извлекается не из текста учебника, а из самой категории. Это тоже такой интересный и вообще-то мистический момент с категориями. Потому что, когда читаешь текст, то в нем как бы ничего такого нет. Кстати, это один из способов ответа на экзамене. Например, в иезуитских колледжах учат именно таким образом себя готовить к действию в сложной ситуации. Ты попадаешь на экзамене в некоторую сложную ситуацию, где тебе нужно готовить ответ по сумме каких-то знаний. И основной момент, когда готовишь такой ответ, состоит в том, чтобы восстановить те категории, на которых он должен строиться. То есть сначала организовать свой ответ формально. Потому что любой экзаменатор всегда ориентируется на то, как 177 у человека организовано мышление и вообще изложение материала, насколько он его четко и точно структурирует. И с этой точки зрения, бывают известные парадоксы. Скажем, рассматриваешь такой-то учебный или научный материал, а он как бы «водянистый», с первого взгляда в нем ничего нет. А используешь определенную категорию, и в ней самой уже, оказывается, заложено всё то, что надо обсуждать. Таким образом, в нашей работе с текстом, во-первых, нужно сказать, в чем заключается отличие одной системы от другой. И во-вторых, показать, как первая система действует на вторую, как вторая система действует на первую и в чем проявляется характер взаимного действия. Лучше всего закончить изложение материала демонстрацией вот этой формальной схемы, изображенной на нашем рисунке. Потому что при обсуждении материала и собственно наполнении схемы могут возникнуть всякие мировоззренческие разногласия. И вот, когда мы фактически восстановили этот формальный план, нам важно теперь анализировать категории «форма — материал», «форма — содержание» и «форма — смысл». Значит всё, что мы развернули, — это формальный план. А после этого мы формальный план, который стоит за категорией, будем заново относить к смыслу, работать с категорией «форма — смысл», фактически заново анализируя текст учебника. Другими словами, используя формальный план, будем восстанавливать план смысловой и смотреть, в какое взаимоотношение они вступают. Итак, установить отличие А от В и вообще их взаимное различение, задать им определенность помогает фраза на странице 7: «Формы собственности и характер политической власти определяют коренные различия социализма и капитализма». То есть говорится: А отличается от В, поскольку у них формы собственности разные и характер политической власти разный. Этим они, собственно, и отличаются друг от друга. Дальше читаем текст в первой рубрике: «Советское государство прошло через суровые испытания, извращения социалистической идеи, крайности сталинского режима, модель государственно-политического капитализма». Эти, на мой взгляд, четыре первых абзаца, если не считать абзац про судьбу страны, просто причитания по поводу того, как вообще кружку В (социализм) было очень трудно в этот период. Здесь как бы мысли, имеющей отношение к категории «взаимодействие», фактически нет. Сюда же можно отнести и последнее высказывание про 1985 год: «Процесс сложных революционных преобразований развернулся». А дальше говорится о том, что в то же самое время происходило с кружком А (капитализм): «Капитализм в новейшее время неоднократно переживал революционные взрывы и кризисные ситуации, однако мировая система не исчерпала себя. Монополистический капитализм не кратковременная стадия, а наиболее развитая форма капиталистического способа производства, при которой все его черты получают наиболее полное проявление и выражение. Государственно-монополистические формы хозяйства сложились в капиталистических 178 странах после Второй мировой войны. Силы монополий и силы государства соединились в единый механизм. Произошло изменение формы и характера деятельности международных монополий. Место международных союзов картельного типа заняли транснациональные корпорации». И это всё, что касается вопроса о том, что происходило с капитализмом. С этой точки зрения, преподаватель истории, читающий этот параграф, должен бы сказать, что в этом вопросе основным оппонентом авторов учебника здесь выступает В.И. Ленин с его работой «Империализм как высшая стадия капитализма». В основном авторы и спорят с этой ленинской работой, но как-то косвенно и вяло. Наверное потому, что в подлинном смысле спор не получается, потому что работа Ленина написана в один исторический период, а авторы как бы используют информационные знания из современной ситуации. И в этом столкновении спора-то не получается. И, фактически, в следующих абзацах в том же ключе характеризуется то, что происходило с капитализмом в XX веке. А вот дальше в тексте уже что-то начинает излагаться по поводу того, что нас интересует, то есть ближе к категории «взаимодействие»: «Ходом истории капитализм был поставлен в условия соревнования двух общественных систем. Это стимулировало процесс его совершенствования. Во многих капиталистических странах была создана система социальной амортизации, позволяющей правящим кругам путем перераспределения части национального дохода ослаблять социальную напряженность. В результате напряженной упорной борьбы трудящихся за свои права повысилась их социальная защищенность. Руководящие круги на Западе были вынуждены умерить свои глобальные притязания. Новым источником развития капитализма является научно-технический прогресс, широкое использование его достижений в различных сферах жизни. Значительную роль сыграли создание механизма саморегуляции, образование и деятельность различных политических, экономических и социальных структур, обеспечивающих жизнеспособность капиталистического строя. Это не означает ликвидацию противоречий капитализма. Научное понимание социализма и капитализма и характера отношений между ними существенно изменилось по сравнению с тем, каким оно было в недавнем прошлом. В социализме правомерно видеть весь мировой процесс, представленный как социалистическими странами, так и различными течениями социалистической мысли. Мировой опыт социализма признает естественное существование множества моделей и вариантов. Изменилось отношение к социал-демократии. Создание ядерного оружия и накопление его запасов, угроза уничтожения мира на Земле и обострение экологической и других глобальных проблем отчетливо показали, что современный мир, несмотря на всю его противоречивость, является взаимозависимым и во многом целостным. Формы собственности и характер политической власти определяют коренные различия социализма и капитализма. Но обе эти общественно-экономические формации принадлежат к единой человеческой цивилизации». 179 Вот такие, собственно, подпункты. Что отсюда следует и как это относится к категории «взаимодействие»? Первый момент: авторы вроде бы пытаются рассмотреть как один из вариантов категории «взаимодействие» процесс соревнования. Это по поводу того, что «ходом истории капитализм был поставлен в условия соревнования двух общественных систем». Но это как бы не категориальное определение, потому что остается непонятным, что собой представляет сам процесс соревнования как момент взаимодействия. И остается скрытым, почему, собственно, два этих мира — капитализм и социализм — стали друг с другом соревноваться. И что в данном случае означает слово «соревнование»? Почему это ни с того ни с сего они стали друг с другом соревноваться? И тут появляется новый, совсем интересный момент, который вроде бы в нашем обсуждении отсутствовал и никак на схеме не представлен. Он возникает, прежде всего, в таких пунктах: «В результате продолжительной и упорной борьбы трудящихся за свои права повысилась их социальная защищенность, капитализм использовал опыт социалистических стран. Руководящие круги на Западе были вынуждены умерить свои глобальные притязания». При чтении этих пунктов возникает вопрос: о чем здесь идет речь? То ли об описании того, что происходило с кружком А (капитализмом), то ли о чем-то другом? И, собственно, в этих пунктах: «Капитализм использовал опыт социалистических стран. Руководящие круги на Западе были вынуждены умерить свои глобальные притязания» — речь идет о том, что был вынужден делать капитализм в условиях существования рядом с ним социализма. То есть авторы описывают, фактически, то, что происходило с капитализмом в процессе воздействия на него социализма, какой получился эффект. За счет того, что В влияло на А, во-первых, капитализм был вынужден использовать достижения социалистических стран и, во-вторых, — поощрять борьбу трудящихся за свои права и умерить свои глобальные притязания. А как влиял капитализм на социализм, об этом не сказано. Это, на мой взгляд, определенное авторское «перестроечное» новшество, потому что в предыдущем учебнике истории говорится следующее: «Капитализм на социализм влиял следующим образом: социализм был вынужден все время вооружаться, вести развитие исследований прежде всего в области обороны и развития своих вооруженных сил, потому что всё время боялся варварских, агрессивных нападений со стороны капиталистических стран. Страшно развился аппарат разведки. И с этой точки зрения, все люди при социализме недоедали, потому что им нужно было работать на оборону». Если убрать момент идеологический, то в основном всё это довольно правдиво. Потому что действительно у нас до перестройки наиболее развитым промышленным комплексом был блок отраслей, работавших на оборону. И до сих пор наших инженеров, работавших в военнопромышленном комплексе, покупают на Западе, и они там оплачиваются выше, чем американские специалисты. И этот фрагмент текста в новом учебнике как бы выпал, но его как-то можно воспроизвести. Но основной момент, который возникает в нашем тексте и который, 180 собственно, характеризует категорию «взаимодействие», это абзац на странице 7: «Научное понимание социализма и капитализма и характера отношения между ними существенно изменилось по сравнению с тем, каким оно было в недавнем прошлом. В социализме правомерно видеть мировой процесс, представленный как социалистическими странами, так и различными течениями социалистической мысли и общественными движениями в остальной части мира». Это очень важный абзац, и нужно еще понять, что, фактически, за ним стоит. Сюда же относится и другой фрагмент: «Мировой опыт социализма признает естественное существование множества моделей и вариантов социалистического развития не только в международном масштабе, но и в каждом отдельном обществе». И, наконец, последний абзац, который тоже очень важен: «Создание ядерного оружия и накопление его запасов, угроза уничтожения жизни на Земле, обострение экологической и других глобальных проблем отчетливо показали, что современный мир, несмотря на его противоречивость, является взаимозависимым, во многом целостным... Обе эти экономические формации принадлежат к единой человеческой цивилизации». Эти фрагменты текста представляют большой интерес с точки зрения обсуждения категории «взаимодействие». Что же в них авторы текста хотели сказать? Назарова И.Г.: Тот слой анализа, который вы задаете, и выбор категории «взаимодействие» — это всё не может принадлежать слою исторического анализа. Вы, скорее, задаете какой-то политологический или социологический крен, потому что безотносительно учебника истории, на мой взгляд, основной категорией для исторического вообще исследования и анализа является категория «процесс», поскольку изменения во времени (а история это вроде бы изменения во времени) характеризуют именно с помощью этой категории. Ю.В.: Это возражение снимается очень просто. С этой точки зрения, каждая категория имеет достаточно сложное иерархическое устройство. Я фиксирую категорию «взаимодействие». И возникает вопрос: какая категория определяет данную категорию, ее устройство? Категория «взаимодействие» по своему типу относится к процессам. То есть она обязательно имеет процессуальную структуру. Поэтому ваше возражение очень легко снимается, если применить формулу «процесс исторического взаимодействия». Когда я говорю «процесс исторического взаимодействия», то тем самым подчеркиваю, что это взаимодействие нужно рассматривать как исторический процесс, привнося туда все исторические пласты интерпретаций. Но от этого ничего не меняется. Потому что этот пласт задает некоторые общие требования к организации категориального мышления: верхний пласт определяет понимание того, что это за процесс (исторический процесс), а нижний пласт, где я вписал категорию «взаимодействие» (см. Схему 2), определяет то, как должен быть предметно организован сам материал, что там, собственно, надо понимать. А нам, вроде бы, нужно понимать взаимодействие двух противоположных систем, имеющих разный общественный и государственный 181 строй. То есть разные формы собственности и разное государственное устройство. И это всё происходило в историческом процессе: в нем была историческая последовательность, всё развернулось на большом временном пространстве, в это были втянуты огромные человеческие контингенты. И.Г.: Можно тогда считать, что модель, которую вы нарисовали, это есть схема той единицы, которая в истории сменяется? Ю.В.: Да. С которой что-то в истории происходит. Дмитриев Д.Б.: Тогда, фактически, категория «процесс» является как бы пронизывающей эту модель. Ю.В.: В данном случае она является формальной категорией, не сквозной. А вот исторический процесс у нас протекает во времени. И нам нужно понять, что внутри этого исторического процесса происходит. А внутри этого исторического процесса у нас и лежит такое вот взаимодействие (см. Схему 3). Собственно, пункты, которые я прочитал, являются в нашем тексте центральными. А всё остальное подразделяется на чисто идеологическую «воду», которую надо бы просто выбросить, и на некоторые общие утверждения, которые достаточно просто интерпретируются. Например: «Капитализм был вынужден использовать опыт социалис182 тических стран». Фактически речь идет о том (и это действительно общеизвестный факт), например, что японцы с колоссальным вниманием изучали методологию создания плана ГОЭЛРО. Они считали, что это действительно подлинно плановая работа, которую сделал Г.М. Кржижановский, и с большим почтением относились к его работам. И точно так же они изучали работу Генерального штаба ВС СССР, в частности маршала Г.К. Жукова во время Великой Отечественной войны, поскольку считали, что Г.К. Жуков изобрел гениальную технологию, связанную с оперативным определением стратегических направлений для нанесения главных ударов по противнику. И японцы считали, что весь гений Жукова заключался в том, что он всегда искал и точно определял, в каком месте и когда нанести главный удар, чтобы разгромить врага. И тот же метод японцы даже начали применять в своей экономике. Или например, развитие форм кооперации в странах Латинской Америки. В СССР еще до перестройки часто приезжали студенты из Латинской Америки и учились в Институте кооперации. Им, конечно, было довольно смешно выслушивать наши представления о кооперации, потому что в странах Латинской Америки кооперация — это форма борьбы с тоталитарным государством, то есть политическая сфера. Но латиноамериканские студенты считали, что в своих первых, непонятых многими до сих пор замечаниях «О кооперации» В.И. Ленин именно их теорию кооперации заложил, которую они дальше стали у себя создавать. И в этом смысле таких фактов много, они действительно были. Но эти факты очень просто интерпретируются по данной схеме. Фактически речь идет о том, что В воздействовало на А. Это обозначено на приведенной схеме стрелкой Р (см. Схему 3). Потому что на схеме стрелка взаимодействия складывается из процессов взаимных действий В на А — ? и А на В — ?. Собственно, пункты 2 и 3 нашего текста достаточно просто сюда укладываются. Но другие пункты параграфа из учебника истории, которые я сейчас приведу, в нашу схему укладываться «не хотят», и поэтому представляют особый интерес: «В социализме правомерно видеть весь мировой процесс, представленный как социалистическими странами, так и различными течениями социалистической мысли и общественными движениями в остальной части мира». Или вот эта фраза: «Современный мир, несмотря на всю его противоречивость, является взаимозависимым и во многом целостным». А дальше подчеркивается: «Ядерное оружие, накопление его запасов, угроза уничтожения жизни на Земле». И затем говорится про то, что «различные общественно-экономические формации принадлежат единой человеческой цивилизации». Возникает вопрос: что же фактически стоит за этими фразами? А за этими фразами лежит следующий момент, который приходится здесь обсуждать. Что, по всей видимости, мы, когда рисовали эту модель, то закладывали туда вполне определенное понимание взаимодействия, а именно по типу взаимодействия двух шаров (то, что 183 показано у Галилея). Есть два шара, и происходит их соударение. В акте соударения шаров возникает эффект взаимодействия, где один шар воздействует на второй. И, как пишет Гегель в «Философии природы», в моменте соударения возникает идеальность, то есть некоторый идеальный план, который уже не принадлежит ни одному из шаров. То есть, как он считал, для того, чтобы описать соударение шаров, мы должны принять, что в результате этого взаимодействия само взаимодействие — это вообще какаято такая идеальная структура, которая не принадлежит материи ни одного из шаров. В точке взаимодействия возникает нечто, что не принадлежит ни одному из шаров. Но в этом плане категория «взаимодействие» прежде всего отработана для такого типа физических экспериментов. Для понимания взаимодействия как идеи взаимного действия двух разных тел друг на друга. А можно ли при помощи этой категории описывать некоторые социальноисторические процессы, — вопрос неясный. И с этой точки зрения, что, фактически, лежит в этих фразах о том, что в социализме правомерно видеть мировой процесс? Авторы учебника считают, что «в социализме можно видеть мировой процесс, представленный как социалистическими странами, так и различными течениями социалистической мысли». Здесь же по аналогии возникает другой вопрос: а можно ли видеть в капитализме мировой процесс? Или нет? То есть можно ли видеть в капитализме мировой процесс, который тоже представлен в разных странах? Потому что есть прямая зависимость: если социализм начинает на что-то проецироваться, то возможен тот же самый подход и по отношению к капитализму. А это означает, что говорить о случае взаимодействия таких образований, как разные общественные и социальные системы, принимая гипотезу о наличии некоторой твердой оболочки (то, что мы имеем у шара), вообще очень сложно. Оказывается, что в случае с общественными системами (как, например, авторы учебника пишут по поводу того, что социализм представлен не только социалистическими странами) это всё можно как-то локализовать и обвести, но уже какими-то другими способами, которые можно фиксировать и выделять в других системах. И с этой точки зрения, например, следующую фразу о том, что «трудящиеся ведут борьбу за свои права в капиталистических странах», можно трактовать так, что мы и там наблюдаем некоторые элементы социализма. Получается, что, с одной стороны, есть какие-то непонятные, сложные явления, которые мы должны относить от шара В (социализм) к шару А (капитализм) и, наоборот, когда какие-то другие явления, характеризующие общественный строй и относящиеся к капитализму, мы должны относить к социализму, считая, что они как бы пронизывают социализм (см. Схему 4). И собственно уже исходя из этого пункта для меня становится ясно, что фактически происходит с авторами учебника. Мы здесь сможем наблюдать очень важную и понятную вещь, но для этого надо будет 184 снова вернуться к категориальной оппозиции «форма — содержание». Дело в том, что авторам учебника не ясен сам процесс взаимодействия одной формации с другой. Учебник воспринимается как водянистый и размытый не потому, что у авторов нет мировоззренческой позиции (она есть и достаточно жесткая, и я про это уже сказал, что авторы — сторонники социалистического выбора после весны 1985 года). А потому, что у авторов очень плохо организовано мышление, и они не понимают, в каком месте их мышления дыра, откуда всё и выливается. А дыра-то у авторов учебника в следующем: для них остается скрытой и неясной форма взаимодействия государств, имеющих разные общественные устройства. На что авторы бы в ответ возразили, что они ни слова не говорят о взаимодействии. Но вот слово «отношение» у них есть в рубрике: «Научное понимание социализма и капитализма и характера отношений между ними». И с этой точки зрения всё происходит точно так же, как в учебнике географии, когда мы его обсуждали. То есть когда я дохожу до следующего понимания того, что произошло: я выбрал некоторую категорию, при помощи которой можно, на первый взгляд, всё содержание, находящееся в тексте учебника, фактически упорядочить. И действительно, в нашем тексте всё попадает под категорию «взаимодействие»: есть два строя, и они находятся друг с другом в жестком соприкосновении. И я соответственно выстраиваю весь формальный план, который стоит за данной категорией. И всё вроде бы действительно сюда укладывается, можно даже формальный ответ строить на экзамене. Дальше, используя выделенную таким образом форму, я заново начинаю восстанавливать смысл. И нахожу какие-то фрагменты текста, которые оказываются более тонкими, и под этот план моего членения не попадают. Но тут ведь важно понимать, что эту модель с шарами фактически ввел я, в учебнике таких шаров нет, что считаю минусом авторской работы. Дальше я буду обсуждать, почему так получилось. И я считаю, что то, что у авторов нет какой-то определенной модели, — это минус, поскольку они за счет этого плохо понимают то, чего не знают. В этом смысле, простые смысловые схематизации типа моей модели взаимодействия шаров нужны для орга185 низации нашего мышления. И за счет того, что мы начинаем строить простые модели и их относить к тексту и текст жестко с этими моделями сталкивать, добиваемся понимания того, что из текста на первом этапе полностью подпадает под нашу модель, а что — не подпадает. И если у нас модель прикреплена к определенной категории, мы за счет этого можем понять, что объективно в структуре мысли, которую мы анализируем и которая представлена в учебнике, не проработано или отсутствует. И может оказаться, что всё это происходит по очень сложным причинам. Потому что, например, вообще эта категория не отработана у всего человечества. Кира: А правильно ли мы выбрали категорию? Ю.В.: Правильно, это наш произвольный выбор. А как это можно проверить? Только подобрав лучшую категорию, под которую всё будет подпадать. Важно понимать, что есть два совершенно разных типа текстов. Есть тексты, в которых авторы сами провели категориальный анализ, и тот тип категории, который использовали, они выделили. И собственно по структуре этой категории строится текст. И тогда мы просто восстанавливаем ту категорию, которую авторы осознанно использовали, упорядочивая содержание. Совершенно другой случай, когда этот сложнейший момент, связанный с выбором категории или ее использованием, у авторов текста учебника отсутствует. И тогда наступает очень тонкий момент, связанный с тем, что некатегориального мышления не бывает. И как тот господин Журден, который к пятидесяти годам только выяснил и очень удивился, что «говорит прозой», любой мыслитель и любой автор, который осуществляет процесс мышления, и равно в той мере, в какой он этот процесс осуществляет, обязательно использует категории. Он просто этого может не осознавать и не понимать. Возникает вопрос: как правильно категории воспроизвести? И с этой точки зрения, читаешь, например, текст и вроде бы в нем никакой категории не запрятано, и авторы явно специально категориального анализа своего понимания не строят... Поэтому приходится уже мне самому, как читателю, проделать более сложную работу, чем авторам текста. Потому что я должен попытаться за этим текстом, достаточно размытым, восстановить некоторый категориальный план и начать решать следующий вопрос о том, в какой мере восстанавливаемый мною категориальный план относится к данному тексту. То есть данный текст может быть при помощи этого категориального плана организован — это первый момент. И второй момент — я должен специально фиксировать и выделять те места, которые под выстроенный мною категориальный план не подходят. Я специально начинаю обращать внимание не только на то, что подходит, но и анализировать те места, где смысловой текст к этой категории не подходит. А затем выясняю, почему этот текст к данной категории не подходит. Ведь если бы у меня была задача всё как угодно переинтерпретировать, то я бы просто на те места, которые не подходят, вообще внимания не обращал: легло как-то там более или менее по смыслу, достаточно сносно всё это интерпретирую, и хоро186 шо. А я-то начинаю обратную задачу решать: после того, как использую категорию, специально начинаю выделять те места, которые, вроде бы, данной категории противоречат. Оказывается, что когда какой-то фрагмент текста не подпадает под категорию, это, с одной стороны, может объясняться непродуманным произволом читателя в выборе категории, то есть моей плохой работой, а с другой стороны, — плохой работой автора учебника. Но это самые неинтересные случаи, поскольку они, как правило, не имеют отношения к мышлению, а относятся либо к моим каким-то фантазиям, либо к размытости и неартикулярности (нечеткости, неясности) мысли автора учебника. К мышлению имеют отношение только те моменты, где я могу показать и доказать необходимость того, почему данный фрагмент текста не подходит под категорию. И вот это уже имеет отношение к мышлению. Здесь уже дело не в произвольных оценках, если я смогу доказать другим то, что мне стало очевидно. С этой точки зрения, здесь начинают действовать характеристики, о которых говорил Декарт: «Истина не требует доказательства, она очевидна». Поэтому, если я могу всё это показать, что мне очевидно, и другим могу это доказать, то значит, так оно и есть. Очень простой принцип. Но от простого фантазирования эту работу отличает наличие трех или четырех процедур. Например, когда я фантазирую, то читаю текст, и когда первая попавшаяся полумысль в голову приходит, я счастлив и доволен. А в серьезной мыслительной работе требуется совершенно другое. Рассмотрим всё по шагам. Сначала я специально выделяю и анализирую, какую форму буду накладывать, и эту форму расписываю — это первый шаг. Второй шаг: я начинаю эту форму накладывать. Для этого специально выделяю те места в тексте, которые хорошо подпадают под эту форму, и те, которые не подпадают. Третий шаг: выделяю места, которые не подпадают под эту форму, и на этом этапе я могу сменить категорию, выдвинуть какую-то другую и затем повторить первый и второй шаг. То есть ту категорию, которой я заменил прежнюю, заново формально разложить и заново опять накладывать на текст. И снова выделять те места, которые подпадают под категорию и которые не подпадают. И я могу этот шаг проделывать несколько раз, до тех пор, пока не выберу подходящую категорию. Но с определенного момента оказывается, что я все категории перебрал, а вроде все равно еще есть места, которые под них не подпадают. Поэтому дальше начинается самая интересная работа: я начинаю анализировать (и это четвертый шаг), почему некоторые выделенные мною места в тексте под данную категорию не подпадают. Вот мы, фактически, этот момент в учебнике истории и начали анализировать, выяснять, почему определенные места в тексте учебника под категорию «взаимодействие» не подпадают. И приходим к следующему выводу, что за категорией «взаимодействие», которую я использовал и которая отработана в естественных науках, стоит вполне определенная идеализация или определенное видение того, как устроено это взаимодействие. То есть что представляет сам процесс вза187 имодействия. А у авторов учебника возникают только смыслы, которые под данное описание взаимодействия не подходят. А что именно не подходит? Что предполагает процесс взаимодействия? Идеализация взаимодействия отработана в естественных науках таким образом: есть два, отграниченных друг от друга физических тела, пространственно отграниченных, которые приходят в процесс физического взаимодействия или соударения, как шары. При этом границы этих тел приходят в соприкосновение. И в этом соприкосновении пространственных границ возникает нечто третье, что и является характеристикой одновременно двух тел. На это Гегель и обращает внимание, как я говорил выше. А у авторов учебника начинает проявляться, когда мы анализируем общественные процессы, что такой пространственной изолированности, ограниченности, как у двух физических тел, нет. И, следовательно, для того чтобы описывать всё это, надо менять категорию «взаимодействие». А именно в этой категории надо менять представление о том, точнее, видение того, как строится в этом случае сам процесс взаимодействия. Другими словами, нужно выходить за рамки того схематического изображения, той модели взаимодействия, которую я нарисовал. Вот на этой точке я и остановлюсь. Итак, по сравнению с авторами учебника я уже проделал более сложную работу: попытался излагаемые ими смысловые фрагменты подвести под некоторое формальное видение, в частности, под категорию «взаимодействие». Выделил стоящую для меня за этой категорией определенную формальную схему и посмотрел, по каким параметрам и на какие смысловые фрагменты эта схема не накладывается. После этого мне становится понятно, что авторам учебника не ясна сама форма взаимодействия. Они такой проблемы не ставят, она им не ясна. Если бы они это понимали, то сделали бы вывод, что проблема истории XX века заключается в вопросе о том, что такое процесс взаимодействия двух выделившихся общественных систем и каковы формы взаимопроникновения, взаимной критики, взаимовлияния и взаимного анализа этих общественных систем. Кстати, вот эта модель двух физически отграниченных тел по типу шаров у нас а стране тоже создавалась, когда между странами социализма и капиталистическим Западом был опущен так называемый «железный занавес» с невозможностью выезда за границу, запретом любых контактов с иностранцами и т.д. И в то время, фактически, мы пытались взаимодействие строить именно по типу двух соударяющихся шаров. Хотя взаимовлияние всё равно как-то косвенно осуществлялось в форме философской мысли, культуры и т.д. Но с этой точки зрения, в тексте учебника так всё и происходит, поскольку авторам не ясно, как нужно описывать и характеризовать процесс взаимодействия. И получается, с одной стороны, что действительно процесс взаимодействия не может быть сведен к моменту соударения двух физических тел, а с другой стороны, категория «взаимодействие» не отработана. То есть нет специальных философских и методологических работ, где был бы дан ответ на вопрос, как вообще строить взаимодействие, если мы имеем дело не с фи188 зическими шарами, а с общественными формациями. Если до сих пор непонятно, как душа взаимодействует с телом (то, что Декарт фиксировал), то тем более сложно понять, как взаимодействуют социальные организмы в истории. Вот, собственно, в этом пункте и возникает основная проблема, которая в учебнике начинает «сквозить», начинает быть видна. Доходим до такой формулировки, что нас с этой точки зрения интересует форма взаимодействия. И авторам форма взаимодействия не ясна, потому что, если бы авторы знали эту форму, то они бы это прямо сказали. Например, сказали бы о том, что собой представляет в целом глобальный исторический процесс, который мы наблюдаем с начала XX века по настоящий период. Хотя что-то на это уже начинает намекать. В частности, они говорят, что мы принадлежим к единой человеческой цивилизации. То есть хотя мы и разные, в разных шарах сидим, но принадлежим к единой человеческой цивилизации. Что для одного шара и для другого есть одна общая проблема. В частности, ядерная катастрофа, плохая экология и т.д. Но при этом не показывают, что собой представляет этот глобальный процесс в цепом. То есть здесь уже возникает несколько возможностей, но они не ясны. То ли нам надо рисовать подложку из глобальных процессов, относительно которых мы все — единое человечество — и поверх них рисовать вот эти выделяющиеся шары. Тогда будет одно понимание истории (см. Схему 5). А именно следующее: что на протяжении всего XX века человечество стремилось с пользой для себя решить проблему экологии. Это общая проблема XX века для всего человечества. А в рамках решения этой проблемы еще происходило обособление и выделение разных стран в разные общественные системы, что затрудняло процесс их взаимодействия в рамках решения единой экологической проблемы. Чувствуете? Совершенно другое понимание истории возникает, потому что определенным образом додумывается и доопределяется категория «взаимодействие». Может быть и совершенно другое понимание истории: основное, что происходило в XX веке, — то, что весь цивилизованный мир как 189 бы раскололся на две никак не соединимых части. Одна часть — это государства, которые приняли один тип общественно-экономической формации (социализм), а другая часть — государства с другим типом общественно-экономической формации (капитализм). Исторический процесс был разорван на две такие части. И потому, что этот процесс у разных формаций шел в диаметрально противоположных направлениях, у человечества возникли всякие проблемы. Люди стали бездумно использовать атомную энергию и угрожать друг другу, всячески вредить на территории своих «вероятных противников», зарывать там, например, радиоактивные отходы и т.п. Таким образом, возникает совершенно другое понимание глобального исторического процесса. А это означает (я уже это показывал на примере учебника географии), что после того, как я зафиксировал проблему с некоторой идеализацией, которая у авторов учебника отсутствует, можно приступать к решению этой проблемы, то есть ввести свое собственное представление о той идеализации, которая здесь может стоять. И следовательно, этот параграф из учебника истории можно переоформить, исходя из этой введенной идеализации, переписать и себе самому предъявить. Для этого можно использовать даже такую схему (см. Схему 6). И в этом смысле, теперь у меня уже появилось некоторое доказательство того, что я подошел ближе к некоторой исторической правде. Но это значит, что я дошел, собственно, только до идеализации, до некоторого видения процесса. Но теперь на основании этой идеализации я могу построить текст в рамках самого предметного текста учебника, заложив туда более определенную версию относительно того материала, который представили авторы. И затем буду уже эти текстовые предметные версии сопоставлять. Но тут возникает довольно сложный момент. Он связан с вопросом: почему, как правило, учебники по истории СССР или по новейшей истории вызывают у школьников иногда смех или такую снисходительную улыбку? На самом деле они вызывают такую реакцию только 190 потому, что никто не пытается серьезно, при помощи категориального мышления продумать, что за всем этим авторским текстом стоит. С одной стороны, авторы учебника это всё скрывают. С другой стороны, создается такое впечатление, что у нас в гуманитарных науках до сих пор ничего коренным образом не изменилось. Хотя вроде бы провозглашена невероятная свобода во всем. Но оказывается, что все эти несвободы, как один автор сказал, заключаются в том, что существует запрет на мышление. А свободно мыслить так никому и не дают. Все бегают на демонстрации, орут на митингах, взявшись за руки, а кардинального ничего не происходит. Поэтому и возникает вопрос: как жестко додумать то, что в учебниках заложено, например, по истории? И когда этот момент возникает, я читаю учебник и усиленно ищу, в рамках каких категорий его текст обладает хоть каким-то смыслом. И для меня хоть каким-то смыслом обладает всё, что авторы пишут (если, конечно, там не просто вредная демагогия, пудрение мозгов), если это всё определяется категорией «взаимодействие». И.Г.: В учебнике понятия первобытнообщинного строя, рабовладельческого, феодального, капиталистического трактуются как последовательные состояния общественного исторического процесса. В этом смысле сам вопрос о том, что капитализм и социализм как-то взаимодействуют... Ю.В.: Это неправильно. Вы путать начинаете. С одной стороны, есть такое представление о смене общественных формаций: сначала был первобытнообщинный коммунизм, потом рабовладение, феодализм, затем возник капитализм, а потом на смену ему пришел социализм. Но в реальной истории, что сплошь и рядом происходит, некоторые страны могут миновать определенный тип формации. Ну, например, однажды какие-нибудь молодые люди из Кении поехали учиться в Институт Дружбы народов (сейчас это Государственный Университет Дружбы народов) и затем, приехав в свою страну, сделали там революцию, и весь их народ прямо из первобытного коммунизма и людоедства «прыгнул» в социализм. Всё возможно. Это первый момент. Но есть и другой момент. Он связан с тем, что вся эта схема смены формаций была задумана в свое время классиками марксизма как нормативная, то есть только для того, чтобы им самим было проще разобраться со всеми этими формациями, которые все до сих пор одновременно существуют на Земле. Например, какая-то страна уже дошла до социализма, но поскольку общественное развитие неравномерно, то оказывается, что в Китае, например, уже социализм, а, скажем, в той же Кении — людоедство и первобытнообщинный строй. Сейчас, правда, Кения даже нас догнала, потому что там нефть нашли... Но момент-то какой?! И это неправильно, что всё очень жестко в наших гуманитарных науках разделяется. И, например, историки, которые эту схему до сих пор осваивают, продолжают разделять все страны и народы мира по типу общественно-экономических формаций, считая одних более развитыми и цивилизованными, а других, наоборот, менее развитыми и т.п. А это всё, с одной стороны, просто нормативная схема для бо191 лее четкого изучения того, как эти формации развиваются. Но, с другой стороны, когда мы эту нормативную схему накладываем на то, что происходит в мире в целом, то оказывается, что разные кружки (страны на этой схеме) обладают разными качествами. Но перед нами поставлен вопрос о другом: какую нужно выбрать категорию, чтобы осмысленно организовать данный текст учебника? И как бы мы ни понимали, как изучаются и развиваются общественно-экономические формации, нам приходится обсуждать вопрос о взаимодействии в данном случае государств или систем, имеющих совершенно разное общественное устройство. И тут никуда не денешься. Поэтому выбор этой самой категории — момент не формальный, то есть у этой мыслительной процедуры строго заданного алгоритма для нас нет. 192