Только он один, только ему одному
реклама
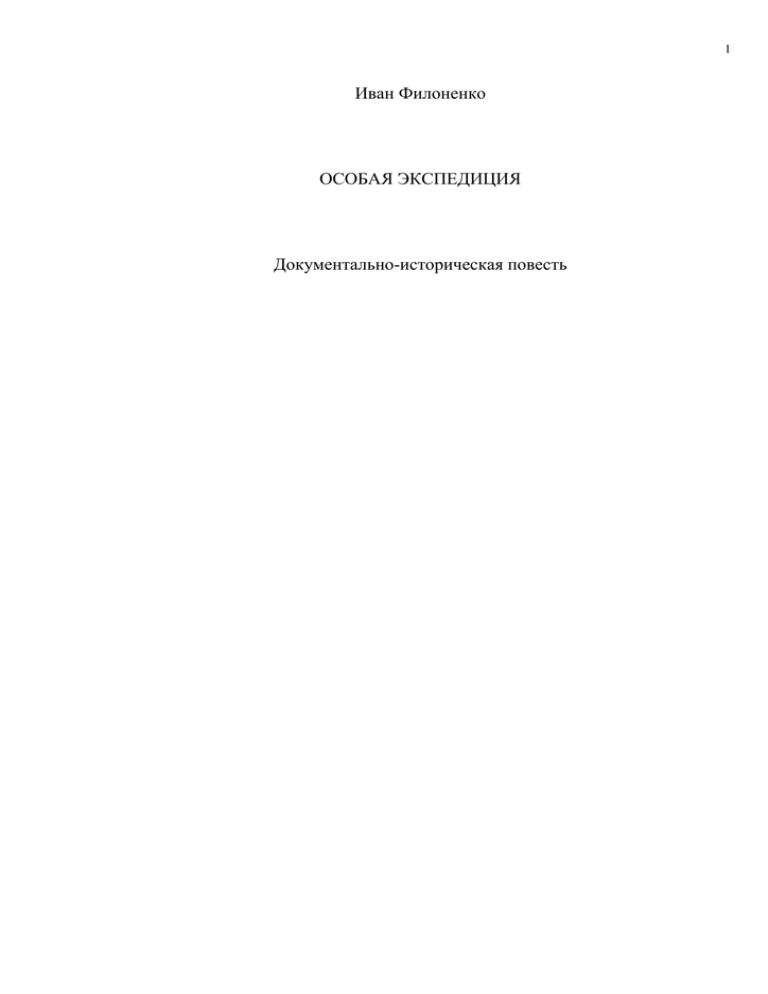
1 Иван Филоненко ОСОБАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ Документально-историческая повесть 2 В этой книге совсем нет вымысла. В ней вы встретитесь с людьми, прославившими Россию. Между тем судьбы многих из них оставались для нас малоизвестными. На основании архивных изысканий автор воскрешает их жизнь и деятельность для того, чтобы подвигнуть соотечественников на такие же добрые и полезные Отечеству дела, чтобы вселить надежду и веру в силы свои. 3 Только он один, только ему одному ''Насколько плохо и насколько не подобает о жизни нечестивых спрашивать, настолько не подобает жизнь святых мужей забывать, и не описывать, и молчанию предавать, и в забвении оставлять'', – размышлял Епифаний Премудрый в начале XV века, без малого шестьсот лет назад, приступая к написанию ''Жития Сергия Радонежского''. Я руководствовался тем же: плохо и не подобает. Однако в 1991 году, когда была завершена многолетняя работа над этой книгой, жизнь в стране так перевернулась, что даже плохое с хорошим перепуталось, ''жизнь святых мужей'' перестала интересовать читателей и издателей, повсеместно их потеснили ''нечестивые''. И рукопись книги, принятую издательством ''Современник'' и уже набранную в типографии, вернули автору: мол, не на такую литературу сейчас спрос. И посоветовали поискать заказчика, который бы оплатил издание. Я ходил по министерствам, в которых могли бы заинтересоваться этой книгой. Выступал с рассказами о жизни своих героев, имена которых многим слушателям были известны со студенческой скамьи. Слушали, затаив дыхание. Потом громко возмущались, что не издается такая полезная всем книга. Но помощи никто не предлагал: мол, решить этот вопрос может сам министр. Добивался встречи с министром, который сочувствовал и разводил руками: и рад бы помочь в добром деле, но денег нет. В конце концов я отступил: им всем не до книг, не до добрых дел, и тем более не до воспоминаний о прошлом, пусть и славном. Да и вообще для чиновников наступило время наживы, а не созидания. Я же мог предложить лишь одно: издать книгу без гонорара автору за его многолетний труд. Однако им-то какая радость от этого – мое предложение никого не заинтересовало. Но один человек среди этой унылой чиновничьей армии (не сват мне, не брат, и даже не друг) сказал, как поклялся: ''Книга хорошая, и я сделаю все, чтобы она была издана, потому что она нужна людям''. Он говорил о ней с биз- 4 несменами, с руководителями академий, крупных научных учреждений, фондов, предприятий – заинтересовать пытался. И (О, настойчивость деятельного человека!) нашел! Неугомонный этот гражданин – Виктор Викторович Нефедьев. Есть, есть еще небезразличные люди и на нашей грешной земле, спешащие делать добро на общую пользу. Только его заботам и появилась эта книга. Автор 5 Посвящаю тем, кто прожил великую, прекрасную и полезную жизнь. 6 Иван Емельянович Филоненко – писатель, публицист, в прошлом лесовод. Его статьи, очерки, рассказы регулярно печатались в газетах и журналах. Издал несколько художественно-докуметальных книг. Широкую известность в начале 80-х годов принесла ему повесть ''Хлебопашец'', рассказывающая о жизни и трудах самородка земли русской Терентия Семеновича Мальцева. В работе над ней зародился новый замысел – написать книгу о людях, прославивших Россию, проживших великую, прекрасную и полезную жизнь, но сегодня полузабытых, а то и вовсе забытых нами. Книга эта – ''Особая экспедиция'' – перед вами. 7 Содержание Книга первая ОСОБАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ К читателю ''На пользу общую...'' ''Какую правду желаете знать?...'' Особая экспедиция ''Однозначащая с защитой государства'' Книга вторая ВСЕ МИНЕТСЯ – ПРАВДА ОСТАНЕТСЯ Хлеба России Накануне событий В полосе боевых действий Пробуждение Звездный час Смутное время На переломе И украсится земля Модель будущего Расскажу вам сон 8 ''Слова и иллюзии проходят, факты же остаются''. К ЧИТАТЕЛЮ Меня, как читателя, всегда интересует, почему тот или иной автор решил вдруг взяться за ту или иную историческую тему. Упреждая этот закономерный вопрос, скажу так. Еще в пятидесятых годах, когда я учился в агролесомелиоративном техникуме, готовившем специалистов, которым предназначалось выполнять Государственный план преобразования природы, нам часто и увлеченно рассказывали о Каменной степи, показывали фотографии, говорили о величии подвига человека, преобразовавшего природу когда-то пустынного края, иссыхавшего до каменного состояния. И исподволь Каменная степь вошла в мое сознание как мираж, прекрасный, манящий своей почти реальной красотой. Я знал, что это вполне конкретная географическая точка, однако как только я прочитывал где-нибудь эти два слова ''Каменная степь'', так конкретность эта тут же исчезала и мне виделось что-то вроде романтичной Земли Санникова – Каменная степь была для меня где-то за пределами наших реальных границ. Это ощущение крепло еще и потому, что я, многократно проехав всю нашу страну, побывав почти во всех ее областях и республиках, Каменной степи не видел, хотя и очень хотел увидеть, и конечно же, знал ее географическое местонахождение. Но вот, работая над документальной повестью ''Хлебопашец'', я решил коснуться предыстории – голодного 1891 года. И хотя в повести достаточно было лишь краткого упоминания о нем, но мне захотелось узнать о той бедственной године значительно больше, чем требовалось для повести. Так, перечитывая литературу о том времени, я натолкнулся на материалы ''Особой экспедиции по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и вод- 9 ного хозяйства в степях России''. Возглавлял эту экспедицию родоначальник науки о почве Василий Васильевич Докучаев. В июне 1892 года он с учениками своими отправился в самый центр многих засух, на водораздел между Волгой и Доном, туда, где простиралась Каменная степь. Здесь Докучаев и основал опытную станцию, целью которой была «реставрация природы степи». А чтобы это сделать, чтобы окультурить изнывающие от зноя земли, энтузиасты, собравшиеся под начало Докучаева, создавали систему прудов, сажая полезащитные и снегосборные лесополосы, покрывали лесом склоны балок и оврагов. Чем больше я вчитывался, тем больше хотелось мне узнать об этой экспедиции, о сподвижниках Докучаева и о нем самом в этот период. Однако кроме отчетов самой экспедиции история, кажется, никаких иных материалов нам не сохранила. Этот период и в трудах исследователей жизни и деятельности Докучаева, как и его именитых сподвижников, один из самых неясных – белое пятно. Решил, надо ехать в Каменную степь – станция, внесшая огромный вклад в отечественную и мировую науку, давно уже переросла в научноисследовательский институт, и там наверняка найду материалы, которые восполнят пробел. Еду. Однако что за странные чувства и откуда они? будто две противоборствующие силы овладели мной. Одна торопила вперед и, распаляя мое любопытство, напоминала: ''Там, впереди, степь, которую мечтал увидеть еще в юности''. Однако другая сила упиралась в грудь мою, и с каждым километром все сильнее сердилась и сердито выговаривала: ''Разве мало ты видел запустения, небрежения к тому, что сделали предки? Если вырубаем леса, корчуем парки, если реки и озера губим, то почему ты думаешь, что за сто минувших лет не порубили докучаевские полосы, не порушили прудовые плотины? Увидешь – и исчезнут все твои романтические видения''. Я соглашался и спорил: видеть-то доводилось всякое, но в Каменной степи что-то, кажется, осталось. Даже не что-то, а многое – о том и статьи в газе- 10 тах, журналах свидетельствуют. Стоят, стоят еще ''докучаевские бастионы'' в степи... А по сторонам дороги, куда ни глянь, открытые всем ветрам поля, изнывающие от зноя, то тут, то там работают дождевалки – поят посевы. Ни кустика вокруг. И вдруг впереди во всю ширь горизонта обозначился лес. Он все отчетливее выявлялся в знойном мареве и все яснее становилось, что дорога никак не минует его. Судя по километражу, Каменная степь где-то за ним, за этим лесом. И вот по обеим сторонам дороги замелькали лесные полосы, пруды, озерки, в окно машины дохнуло живительной прохладой. Местность, еще недавно казавшаяся безлюдной, становилась все оживленнее: одни собирали чтото в лесополосах, другие купались в прудах и озерах. Вот ведь как: по дороге от города было пустынней, чем дальше от него, но ближе к природе. Да, это лесополосы издали показались мне лесом. Они тянулись вдоль дороги, убегая от нее влево и вправо, охватывая квадраты полей, и поэтому создавали вид сплошного массива. А я все всматривался вперед – не хотелось упустить вот-вот откроющегося вида на Каменную степь. А полосы становились все гуще, дубы в них и ясени все крупнее, выше и величественнее – ширококронные, со стволамиколоннами. Все чаще машина шла в тени, отбрасываемой этими великанами. В машине становилось все прохладнее, хотя солнце в небе палило все так же яростно. Я закрыл окно. И в этот момент увидел указатель у перекрестка: ''Каменная степь''. И тут же ''Научно-исследовательский институт сельского хозяйства ЦЧП имени В.В.Докучаева''. Я глянул влево, куда и повелела посмотреть стрелка указателя: среди зелени, в конце дороги-аллеи, стоял знакомый по фотографиям четырехэтажный корпус института. Признаюсь, даже разочарование накатило на меня: выходит, я давно уже в пределах Каменной степи? А где же степь и степные просторы? 11 Сами понимаете, что первое мое чувство вскоре сменилось иным: это же хорошо, что нет просторов, что земля так защищена от суховеев и бурь! Однако меня ждало и настоящее разочарование: почти никаких материалов Докучаевской экспедиции в институте не было – ни в музее, который только-только начал создаваться, ни в библиотеке. Славная история оказалась здесь в таком забвении, что многие и многие ученые ''Докучаевки'' даже высказали сомнение: мол, еще неизвестно, бывал ли здесь сам Докучаев. ''Ну, а что известно о его сподвижниках, отдавших преобразованию Каменной степи годы жизни?'' – спрашивал я. И о них – лишь смутные предположения, догадки, но не знания. И совсем огорчили меня старожилы: рассказывали, что еще лет 15-20 назад в институте были и старые карты, составленные экспедицией, и в библиотеке были журналы и книги с материалами экспедиции, но в один какой-то день очищали кабинеты от хлама и все это снесли в большой костер и сожгли. Я усомнился: не могло быть, чтобы не просто грамотные, а ученые люди в костер сносили и свою историю – за давностью лет кто-то что-то путает. И тогда один из них здесь, в Каменной степи, родившийся и здесь давно уже работающий, развернул огромный лист ватмана и сказал: «Вот, унес я тогда домой от костра». Это была карта Каменной степи. Не карта, а портрет ее со всеми черточками местности, с планом будущих лесополос, питомников, прудов и колодцев. Вычерчена чинами экспедиции в первый год работы в Степи и ими подписанная. Одно извиняло нынешних каменностепцев – они прекрасно сберегли наследие, оставленное экспедицией в натуре, сберегли, восстановили, где была нужда в восстановлении, добились, чтобы именно Докучаевский оазис стал заповедной зоной, а вокруг на многих и многих тысячах гектаров заложили новые лесополосы, создали новые пруды и практически давно уже закончили ''реконструкцию природы степи''. 12 Да, тот лес, что увидел я во всю ширь горизонта – это лес Каменной степи. И лесная прохлада – тоже в бывшей степи. И лесные великаны – дубы и ясени, затенявшие широкую дорогу, выросли в той самой степи, которая когдато каменела от зноя и суховеев. Степь стала лесостепью. А на той земле, которая ничего не рождала, кроме перекати-поля, теперь даже в самые засушливые годы меньше 40 центнеров зерна с гектара не намолачивали. И это без всякого орошения! Почти вековой опыт подтвердил правоту Докучаева, верность его научного провидения. Однако как мне рассказать о прошлом, если нет никаких документов? Но где-то же они есть, значит, надо заняться их поиском в архивах, перечитать в библиотеках газеты и журналы тех давних лет, перечитать все, сто написано Докучаевым, его друзьями, сподвижниками и учениками. Я взялся за этот нелегкий труд, и бывал счастлив, когда в ворохе архивных дел выискивал хоть фразу, проливавшую свет на искомое прошлое. Передо мной раскрывалась жизнь России, словно из небытия воскрешали и врывались в сегодняшний день заботы ее сынов. Каждая находка раскрывала что-то новое, а порой и неизвестное нам, неизвестное даже в биографии такого выдающегося ученого, как Николай Иванович Вавилов. Скажите, а при чем здесь Вавилов? Вот это и есть неизвестное. Оказывается, Николай Иванович на протяжении многих лет приезжал в Каменную степь, потому что здесь испытывались и размножались чуть ни все те культуры, семена которых он собирал по всему миру и которые составили ныне знаменитую мировую коллекцию. Больше того, как свидетельствуют документы и письма самого Вавилова, именно здесь, в Каменной степи, его соратники и начинали «прорыв в тайны генетики». Здесь начиналось становление многих ученых, как известных ныне, так и незаслуженно забытых, имена которых, труды которых знает лишь узкий круг специалистов. 13 Так исподволь Каменная степь в моем сознании начинала обретать совсем иную значимость, стала населяться и обживаться все новыми и новыми людьми, достойными восхищения и памяти. Дело, начатое Докучаевым, переходило, словно по эстафете, из рук в руки. Насидевшись в архивах и библиотеках, я возвращался в Каменную степь, чтобы походить, посмотреть, встретиться со старожилами, которые уточняли мои прикидки на местности. Вместе с ними по архивным материалам мы обнаружили в поселке один из первых домов, поставленных экспедицией в голой степи, – бытовало мнение, что первые дома давным давно обветшали и их разобрали на дрова. И уж вовсе с абсолютной достоверностью (по старой фотографии) установили лабораторный дом, в котором многие вечера просиживал Вавилов в кругу молодых генетиков, дерзавших покорить тайны наследственности. И покоривших! Их имена знает весь научный мир. Теперь я ходил по Каменной степи как по храму – здесь все напоминало о людях, прославивших нашу науку и отечество. Мой долг – рассказать о них, ничего не выдумывая. Да, ничего, даже разговоров и раздумий моих невымышленных героев. И пусть читатель не обвиняет меня в будто бы неверных, по нынешним правилам, речевых оборотах – привожу их по документам, найденным в архивах, по письмам и, конечно, по научным трудам, оставленным нам. Как и всегда в жизни, многие факты оказывались противоречивыми, неясными, забытыми. В этих случаях, дорогой мой читатель, я приглашаю тебя пройти вместе со мной дорогой поиска. На ней мы многое откроем для себя и для истории, обнаружим много таких фактов и встретим таких людей, которые никак не вписались бы в сложную сюжетную повесть. Итак, в путь, без всякой выдумки. 14 «НА ПОЛЬЗУ ОБЩУЮ...» 1 Они могли быть друзьями, на дружны были не все, хотя хорошо знали друг друга. Каждый в чем-то первенствовал и в этом был признанным авторитетом для других, однако признание это не избавляло их от разногласий, симпатий и антипатий. И все же в главном они были согласны, а поэтому каждый из них мог сказать: «Есть в мире нечто, стоящее больше материальных удовольствий, больше счастья, больше самого здоровья, – это преданность науке». Самый старший из них, которого многие считали своим советчиком, наставником и учителем, вынес эти слова на обложку основанного им «Химического журнала». Он, старший, был профессором агрономической химии в Петербургском земледельческом институте, где трудами своими содействовал развитию науки и русского сельского хозяйства, а взглядами – пробуждению демократических идей среди студенчества. За первое удостоен российской Академией наук Ломоносовской премии, а за втрое – арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Однако вскоре был «помилован» и выслан из столицы под гласный надзор полиции в село Батищево Дорогобужского уезда Смоленской губернии без права жительства в университетских городах и выезда за границу. Ссыльный профессор, которому еще недавно прочили великое будущее, да и сам он чувствовал в себе силы на незаурядную деятельность, ехал в деревню. Не в отпуск ехал, не по своей доброй воле, а как государственный преступник, под надзором. Он был в общем-то молод, – не исполнилось и 39 лет, – и в сознании его еще теплилась надежда, что едет в эту бездорожную глухомань не навсегда, что знания его еще понадобятся России и он будет вызволен из ссылки, снова явится в институтскую химическую лабораторию, его стараниями созданную, и будет работать, работать, работать. 15 Шел январь 1871 года. Ссыльный профессор, еще недавно пользовавшийся известностью в петербургском обществе и популярностью в студенческой среде, в которой его называли «шестидесятником», привыкший и к этой известности, и к этой популярности, ехал мимо смоленских деревушек и все больше мрачнел. Временами ему даже казалось, что совсем недавно здесь прошла война, – так все разрушено и запущено. Но он-то знал, что никакого нашествия неприятеля тут со времени Наполеона не было, так что и разрушения эти не военные – все рушилось само собой. С тоской смотрел он на это разорение, вспоминал Петербург и учеников своих. В мыслях они тоже были с ним. Провожая, бодрились, а поехал – и словно в гроб опустили, потому что знали: все, научная деятельность этого талантливого человека кончилась на самом взлете. И вовсе не потому, что ослабел духом, но в глуши, далеко от лабораторий и библиотек, без общения с коллегами ни один гений ничего еще никогда не сделал. – Сопьешься ты в деревне, – сказала родственница, недавно вернувшаяся в Петербург из своего имения и хорошо знавшая жизнь в глуши. – Не сопьюсь, – ответил он. Пройдет несколько лет и он подтвердит: «Я не спился, но понимаю, как спиваются и от чего спиваются». Его лабораторий сделалась окружающая жизнь и земля, а литературу доставляла почта. Доставляла и письма. В одном из них ссыльный профессор прочитал: «Так как у вас, вероятно, найдется свободное время, то вы могли бы употребить его с пользой, изобразив современное положение помещичьего и крестьянского хозяйства...» Письмо пришло от редактора журнала «Отечественные записки» Салтыкова-Щедрина. Время-то найдется, да очень уж положение жуткое... А может, так только вот тут да по дороге в глухомань? 16 С письмом Салтыкова-Щедрина в кармане он поездит по соседним уездам, внимательно изучит состояние сельского хозяйства в них и убедится: так всюду. Подавляющее большинство помещичьих хозяйств за минувшие после отмены крепостного права 12 лет успело прийти в полное расстройство. Запашки за это время уменьшились более чем наполовину, урожайность полей резко снизилась, количество кормов уменьшилось, скотоводство пришло в упадок. А ведь он тоже считал, как и многие петербургские либералы, что 19 февраля 1861 года в России совершилось действительно великое событие, которому едва ли найдется равное по громадным благодетельным последствиям во всей русской истории. Более 23 миллионов русских людей освобождены из крепостной зависимости – треть населения государства российского получила гражданские права, получила свободу распоряжаться своей личностью, собственностью, трудом, свободу направлять свои силы к производительным занятиям по своему усмотрению, отдаваться умственным и нравственным наклонностям и стремлениям, не подавляя природных дарований. Теперь видел своими глазами: положение крестьян стало гораздо лучше, чем при крепостном праве, но и крестьянское хозяйство тоже в плохом состоянии. Большинство не имеет в достатке своего хлеба, так что многие вынуждены для уплаты повинностей и для пропитания прибегать к заработкам – идут к помещикам, уходят в города. А в помещичьих хозяйствах, как и при крепостном праве, все так же преобладал почти даровой труд – редко где платили больше 15 копеек в день. Это и давало возможность помещикам существовать, получать хоть какой-то доход даже при самом никудышном хозяйствовании. Барин, блюдя обычай, по-прежнему не желал платить за работу настоящую цену, а «вольный» малоземельный мужик, получив еще зимой за предстоящую летнюю работу деньгами или хлебом, – нужда вынуждала брать то, что давали, иначе не дожил бы до весны, – разрывался потом между своим наделом и хозяйской землей. При этом работа исполнялась дурно, а иногда и вовсе не исполнялась. 17 Нищая, помещики злорадствовали: изленился, испоганился русский мужик без твердой руки. Ослепленное барство! Не понимали, не хотели понять они, что как раз при крепостном праве, при даровом труде мужиков, сами-то и извратились до последней степени. Это оно, крепостное право, так аукается, и кто знает, сколько еще будет аукаться России. Оно сформировало характеры тысяч и тысяч бар, приучило их бездумно и самоуправно господствовать над подневольным народом, когда все ошибки этих господ искупались тем же народом. Оно сформировало и характер работника, а значит, и характер народный: сколько ни работай – все растранжирит барин, поэтому и стараться нечего. У одних накапливался опыт беззастенчивого взыскания, у других – обман и отлынивание. Но ни у тех, ни у других не накапливалось опыта ведения хозяйства. Пало крепостное право. Крестьяне и баре растерянно оглядывались по сторонам и обнаружили себя среди запущенных, заросших бурьянами полей, на которых вызревали скудные урожаи. Но жить надо, надо хозяйствовать, а у хозяев не запасено ни знаний, ни капитала, чтобы с умом возделывать эти заросшие бурьянами земли... Да, у него найдется свободное время и он употребит его с пользой, изобразит «современное положение помещичьего и крестьянского хозяйства» так, как никто еще не изображал. Спасибо Салтыкову-Щедрину – предложение его, как озаряющая идея, определит всю дальнейшую жизнь опального ученого, не даст ему заглохнуть в глуши. Он заявит о себе России не только как опытник, который многое введет в практику отечественного земледелия впервые, но и как гражданин, как исследователь и страстный обличитель современной ему жизни. Отсюда, из глуши, он будет посылать в «Отечественные записки» письма «Из деревни», которые внимательно читал Карл Маркс и которые, по свидетельству Ленина, много раз цитировавшего их, пользовались «прочной симпатией читающей публики». 18 Да, это был Александр Николаевич Энгельгардт. Друзья его – Докучаев, Костычев, Ермолов. Они редко встречались, но умели обстоятельно разговаривать письмами. «Разговаривать письмами – моя страсть, а разговаривать с Вами так приятно!» – признавался ссыльный профессор бывшему своему ученику Костычеву, с которым у него долгое время были лишь деловые отношения. А уж откровенничал, изливал душу, делился мыслями или с Докучаевым, который иногда наезжал к нему в Батищево, или с Ермоловым, тоже бывшим учеником своим, увлекшимся выработкой научной организации полевого хозяйства на основе русской системы земледелия – хватит заимствовать агрономические способы, употребляемые в Англии или Германии. Покидая Петербург, Энгельгардт запасся книгами по сельскому хозяйству – собирался хозяйствовать в имении по всем правилам науки. Перечитал их и – не нашел ничего путного для российского хозяина. С досады обругал всех этих Шварцев и Шмальцев, побросал их книги под стол и пошел бродить по полям и лугам. Ходил, смотрел и думал. Мысли его выльются в убеждение: «Естественные науки не имеют отечества, но агрономия, как наука прикладная, чуждая космополитизма. Нет химии русской, английской или немецкой, есть только общая всему свету химия, но агрономия может быть русская или английская, или немецкая... Мы должны создать свою русскую агрономическую науку...» Отсюда, из смоленской деревни, отныне он будет корректировать отечественную науку о сельском хозяйстве, все громче заявлявшую о себе миру. Одних ученых будет поддерживать, с другими – спорить, третьих – беспощадно опровергать практикой. И от всех будет требовать пользы и только пользы – бедствующий народ ждет от науки помощи. 19 2 С положением опального ученого и сельского хозяина Энгельгардт, кажется, свыкся быстро, а свыкшись, и думать перестал про иную жизнь, вернее – уже и не мыслил себя в Петербурге среди чиновного люда. Но вот осенью 1883 года приходит в Батищево письмо с официальным предложением ему, Энгельгардту, баллотироваться на должность секретаря Вольного экономического общества – и как же встрепенулась его душа. «Любезнейший Алексей Сергеевич! – пишет он бывшему своему ученику Ермолову, с которым посоветоваться решил. – Что это такое? Разве теперь такое положение дел, что я на старости лет требуюсь для какой-нибудь общественной деятельности?» – накануне летом ему исполнился 51 год. Жизнь, считал он, прожита. Хотя... – «Я могу быть деятелен и энергичен, если дело меня заинтересует... В Батищеве, мне, собственно говоря, делать теперь нечего, потому что я, кажется, сделал все, что по обстоятельствам сделать можно... Мне хотелось бы более широкой деятельности, и мне кажется, что императорское Вольное экономическое общество могло бы ее предоставить...» Мысли опережают руку, а мечты уносят его в светлые дали, где ждет уйма непочатых дел, полезных России. И он не может сдержаться, пытается пусть бегло, но очертить их: «Недостатка в деле не может быть. Разработка массы вопросов требуется, начиная с самых мелких технико-агрономических и кончая важнейшими экономическими и социальными. Важна уже одна постановка живых вопросов (например, вопрос о том, какая экономически социальная форма хозяйства может быть в России? Можно ли остаться при существующей кулацкой?), и стоит только суметь привлечь к делу силы, которых, без сомнения, немало дремлет в России. Я не настолько самолюбив, чтобы думать, что я один могу это сделать, но ведь Вы говорите, что в обществе собирается много лучших сил, много годной на дело молодежи; на помощь ее-то и следует рассчитывать. Я придаю 20 огромное значение разработке в России сельскохозяйственного вопроса, разумеется, достаточно широко поставленного. Я был бы очень счастлив, если бы мог на старости лет быть искоркой, которая зажгла бы очень важное дело»... Энгельгардт обращался к Ермолову как к другу своему, который к тому же «не чужд сельскохозяйственных и иных сфер» – знает, что делается в Петербурге, в Обществе, и может совет дать. Ермолов откликнулся без промедления, обрисовав ситуацию. «Ответ Ваш меня вполне удовлетворяет, – снова пишет ему Энгельгардт. – Вы говорите, что в Вольном экономическом обществе собирается много лучших сил, много молодежи, годной на дело и ищущей его, что общество, несомненно, хочет работать, хочет дело делать, что оттого-то оно так и ухватилось за меня и пр… Если там действительно лучшие силы, если там действительно годная молодежь и пр., то и желать ничего лучшего не надо. Разумеется, и в этом деле, как и во всяком, все в том, чтобы попасть на правильную дорогу, верно установить основные положения. Но Вы не хотите отвечать, может ли что-нибудь выйти из этих стремлений Вольного экономического общества. Вы не находите возможным отвечать отрицательно, как бы Вам, по-видимому, хотелось, и оставляете дело под сомнением. Но для меня ясно из второй части Вашего письма, что Вы сомневаетесь в успехе этих стремлений. Почему? Находите ли Вы, что эти лучшие силы, эта жаждущая деятельности молодежь слишком слабы? Что это только говорильни? Думаете ли Вы, что нельзя найти настоящего дела для общества? Или что я его не найду? Во всяком случае, я рад, что Вы признаете невозможным для этого дела приносить жертвы. Я и сам так думал, но мне важно Ваше подтверждение, так как я Вам верю...» Нет, Ермолов не сомневался в успехе стремлений тех молодых сил, которые собрались в Обществе и среди которых он был не на последнем счету. Сомневался в другом: будет ли дозволено ссыльному профессору баллотироваться на должность? Однако опасениями своими поделиться не решился, да и поздно 21 было – Энгельгардт уже дал согласие, пусть и уклончивое, как он сам расценивал свой ответ. Ах, как же бесцеремонно поступили с ним... Лучше б и не предлагали, не обнадеживали. Однако Энгельгардт крепился, как мог. «Не особенно скорблю я, что не устроилось мое поступление в секретари императорского Вольного экономического общества, – делился он бедой своей с Ермоловым. – Прочитав в газетах о бурном заседании, которое было в начале октября, я подумал, что вряд ли состоится мое поступление, – так оно и вышло. Я думал только, что прямо забаллотируют, но вышло несколько иначе. Жалею об одном только, что спрашивались у начальства (желал бы знать, у кого именно) и что оно не одобрило меня. Если здешние начальники узнают об этом, то мне станет хуже жить: опять станут придираться, подкапываться. Вам все это смешно, пожалуй, кажется невероятным... но это верно, как и то, что я об этом тотчас подумал, как прочитал письмо, уже показывает вероятность этого. Положим, сделать мне ничего не могут, так как существенно ко мне придраться нельзя, но согласитесь сами, что тяжело, например, находиться под надзором крестьян, которые уверяют, что становой им обещал 25 руб. за донос на меня или кого-нибудь из моих, и случается, что иногда даже стращают этим. Ведь тяжело все это, и вот почему отчасти мне хотелось получить место в Петербурге: здешнее начальство уважать бы стало. А теперь узнают о неодобрении начальством – хуже мне будет. И зачем было спрашивать? И у кого? Ну да уж этого не поправить. Как основательный человек, в ожидании выбора в секретари, я проштудировал Труды и, знаете ли, пришел к тому заключению, что если бы меня теперь и выбрали, то через 3 года, при новых выборах, вероятно, многие из выбравших теперь положили бы потом налево. Мне кажется это потому, что многим я с моими воззрениями показался бы нелиберальным, не тем, чего они ожидают. Вообще мне кажется, что у нас там не совсем понимают суть дела, нутро...» 22 Энгельгардт пытался утешить, обмануть самого себя, сгладить случившуюся беду, однако обмануть не удавалось – рухнула надежда, так встрепенувшая его. Все, не будет «более широкой деятельности» – это уже ясно. Подобные крушения убивают человека, который сделал все и делать здесь больше нечего. И точно – нечего: последнее, как полагал Энгельгардт, одиннадцатое письмо «Из деревни» написано и опубликовано в «Отечественных записках», а опыты завершены и обобщены. Тут сделал все, а там жить и работать отказано... В том 1883 году Энгельгардт впервые ничего не опубликовал, нигде не выступал с докладом. Да есть ли в мире нечто, стоящее больше материальных удовольствий и больше счастья, больше самого здоровья? Когда-то он сказал: есть, это преданность науке. Не только сказал, но и начертал эти слова в качестве девиза для себя и других. А может они, высокие эти слова, звали вперед только тогда, когда в жизни были и удовольствия, и счастье, и здоровье? Нет, что бы ни случилось, он никогда не изменит своему девизу. Просто он устал. Просто он закончил одни дела, а к другим еще не присмотрелся. Ищущий ум его победил хандру, ищущий ум его обнаружил такую уйму непочатых дел, полезных для России, что и думать позабыл о какой-то там иной деятельности. Опальный профессор приступает к опытам с применением минеральных удобрений. 3 Идея «кормления» растений для Энгельгардта была не нова – она увлекла его с первых шагов преподавательской работы в земледельческом институте. Здесь, в химической лаборатории, он и занимался в основном исследованиями удобрительных материалов. Летом 1886 года проехал по Смоленской, Орлов- 23 ской, Курской и Воронежской губерниям с целью изучения залежей фосфоритов. И уже тогда рекомендовал коллегам своим заложить опыты с удобрением полей минеральными веществами. Однако дело с практическим «кормлением» минеральными удобрениями не ладилось. Опыты не удавались. Даже Дмитрию Ивановичу Менделееву, организатору первых полевых экспериментов. И он же в докладе Вольному экономическому обществу 17 февраля 1872 года вынес приговор: «Фосфаты у нас не действуют, потому что наши земли, выражаясь языком практиков, грубы, их надо довести до спелости». После такого-то заключения великого Менделеева и приступает Энгельгардт к опытам, теперь уже в полевых условиях, а не в лаборатории. И вот... «Любезнейший Алексей Сергеевич? Не могу не поделиться с Вами, моим бывшим сотрудником, моею радостью, моим счастьем. Опыты удобрения фосфоритной мукой в моем хозяйстве дали поразительные, просто неожиданные результаты. На безнавозных землях, удобренных одной только фосфоритной мукой, рожь сравнительно с ничем не удобренными землями поразительно хороша. Полосы, удобренные фосфоритной мукой, также резко отличаются от ничем не удобренных, как навозные нивы от безнавозных». Есть, есть в мире нечто, стоящее больше материальных удовольствий! Признался: «Кажется, только этим и живу, только это и поддерживает мое существование. К будущему году я задумываю опыты в очень большом размере... Буду жив-здоров – добьюсь своего, сделаю опыты в широком размере. Только вот денег нужно, муку нужно купить, интеллигента-помощника нанять, а деньги нынче туги. Всего много, но никто не покупает ничего. Насилу-насилу семя льняное продал. Нет денег. Не то что золота и серебра, а и бумажек. Нам бы сюда хоть каких-нибудь стареньких, рваных. У нас бы всякие сошли, главное – 24 у купцов денег нет. И дешево бы отдал, потому что урожай хорош, да никому не нужно. Да, урожаи у меня стали хороши...» Он мог торжествовать – перещеголял самого Менделеева! Однако к черту мелкое тщеславие, пусть им тешутся бездари и завистники. Его волновало другое: почему такие же опыты не удались Менделееву, а потом и ученым Петровской академии? Причина неудач могла крыться лишь в одном – в разности почв, на которых проводились опыты, и в недостаточном знании этих почв. Однако утверждать это без проверки Энгельгардт не мог. Догадку свою надо еще проверять и проверять. Эх, как нужна была ему сейчас химическая лаборатория! Но... Ничего, выход есть. В Петербурге, в Лесном (бывшем Земледельческом) институте работает Костычев, ученик его, унаследовавший лабораторию, в которой вполне можно делать анализы почвенных образцов. И завязалась оживленная переписка с Костычевым, пошли в Петербург посылки с образцами почв. Ему думалось: вот будут у него на руках анализы – и перед ним предстанет полная картина. Получил. И с огорчением признался: «Я ничего не вижу». Не потому не видел, что химические анализы выполнены плохо, а потому, что они не давали ему, агрохимику, повода для научных выводов и обобщений. 4 Он еще не знал, что ответ подскажет ему только что полученная от Докучаева книга «Материалы к оценке земель Нижегородской губернии». Начал читать, но, не дочитав до конца, сел за письмо: «Милостивый государь Василий Васильевич! Сердечно благодарю вас за присылку книги вашей... С величайшим интересом читаю эту книгу – ВОТ КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ НАМ НЕОБХОДИМЫ! Одних только химических анализов почв недостаточно. Необходимо, как это сделали вы, соеди- 25 нить химические анализы с основательным геологическим исследованием, которое может быть дает более, чем анализы... Примите уверение в совершенном моем уважении и преданности». Через восемь дней пришел ответ. Да еще какой! С обещанием «в самом конце этого месяца или начале будущего месяца» заехать в Батищево... Значит, в мае или июне пожалует к нему в гости сам Докучаев, автор «Русского чернозема», которым наделал немало шума в ученом мире. А еще сообщил, что летом Вольное экономическое общество командирует в Смоленскую губернию «славного молодого человека», кажется, Вернадского, – Энгельгардт не разобрал его фамилию, ну да все равно, – который обязательно завернет в Батищево, чтобы взять образцы почвы с опытных полей. «Милостивый государь, любезнейший и многоуважаемый Василий Васильевич! Несказанно рад, что вы задумали заехать в Батищево. Пожалуйста приезжайте. Мне так много хотелось бы поговорить с вами. И думаю, что из наших разговоров вышло бы дело... Когда задумаете приехать, – возьмите поезд из Москвы до полустанка Дурово (6 часов утра). Извозчику, который повезет из Дурова, прикажите ехать на Дедово, по дороге будут мои фосфоритные поля. Везде надписи «удобрено фосфоритом», тотчас узнаете, где удобрено, где нет, – передайте то же и Вернадскому». Докучаев приехал в Батищево в двадцатых числах мая. Уже по дороге на Дедово, как и указывал в письме Энгельгардт, он увидел тощие хлеба на тощих землях, бледно-зеленые льны – тоже по скудной почве высеяны, и рядом с ними поля высокой, широколистной ржи – пудов на сто с десятины. Так и есть, вон и дощечка с надписью: «Удобрено фосфоритом». Они объедут в коляске все поля, в самых дальних уголках побывают, постоят на ржаном поле, и на клеверах, и на пустоши. Говорили о почвах, вспоминали давно минувшее, и в этих воспоминаниях было много близкого – ведь Докучаев тоже в смоленской глубинке родился и вырос, а когда Энгельгардт 26 преподавал в Петербурге, Докучаев учился в университете, и, конечно, слышал о студенческих волнениях в Земледельческом институте, после которых и началась для Энгельгардта вот эта жизнь. Много говорили по опыты с минеральными удобрениями. – Неправда ли, интереснейшие результаты? – тормошил хозяин гостя. Он не похвалы добивался, он недоумением своим делился. – На тощей подзолистой почве, давно выпаханной и никогда не удобрявшейся навозом, фосфоритная мука производит громадное действие. А вот красная почва, постоянно находившаяся в культуре, постоянно удобрявшаяся навозом – тут никакого результата! Вот и извольте объяснить это. Я не могу объяснить. Нужно бы сообщить Дмитрию Ивановичу Менделееву и спросить его мнения. Очень интересно знать, что он на это скажет. (Вернувшись в Петербург, Докучаев расскажет Менделееву и услышит: «Право, не знаю, этот вопрос требует особой работы, особого внимания»). – А все же скучно, поди, вам тут, вдали от Петербурга, – вырвалось у Докучаева сочувствие. – Было бы скучно, если бы не увлекающее дело. А есть дело, – и, кажется, привык, все интересы жизни уходят на опыты, на ожидания осени – с нетерпением ждешь, что-то покажут зеленя! Вот уж который год делаю опыты с фосфоритной мукой, а до сих пор не могу привыкнуть: чудеса из чудес! Сяду около десятины, удобренной фосфоритом, да и сам начинаю сомневаться: неужели это в самом деле так? Неужели и на этой десятине будет такая же рожь, как вот на той, которая застлана навозом? Не верится как-то. Вот и ждешь с нетерпением осени. А осенью – сердце не нарадуется. Вот уж правда – чудо! Докучаев любовался зеленым ржаным полем, слушал хозяина – и – преклонялся перед ним вот за эту неугомонность, за то, что не сник, что обстоятельства не сломили его, не заглушили в нем мысль. Они стояли среди поля. Две могучие фигуры возвышались над хлебами: высокие, широкоплечие, головастые. Энгельгардт был на 14 лет старше, однако 27 эта разница в годах замечалась не сразу. Оба осанистые, одинаково вскинутые гордо головы, широколобые, такие же крупные черты лица. Только, пожалуй, у Энгельгардта борода была не такой широкой и пышной, да усы не вразлет, а вислым клинышком. Именно эта обвислость да чуть приоткрытый рот и придавали строгому лицу едва уловимое выражение горести. Однако, не только это, глаза хоть и смотрели прямо на собеседника, но взгляд был строже и как бы суше, а веки потяжелее. Да, это уставшие веки придавали глазам и всему лицу выражение горести, какого у Докучаева не замечалось, а поэтому и черты лица его казались мягче, взгляд добрее и спокойнее – все в нем дышало уверенностью в себе, в завтрашнем дне, в торжестве разума и воли. Стояли в поле два человека, по облику – баре, по разговорам – мужики русские. Правда, гость больше слушал, а хозяин, наскучавшись в деревне по собеседнику, все говорил и говорил: – Можете себе представить, с каким наслаждением я езжу смотреть такие зеленя и как счастлив, если есть кому их показать. Думаешь, хоть департамент чиновника какого прислал бы посмотреть, чтобы тот потом засвидетельствовал перед начальством и департаментскими агрономами, а то они никак не могут согласовать мои опыты с ходячими воззрениями своими. Ведь они были совершенно убеждены, сто фосфоритная мука скорее подействует на богатых перегноем почвах, на черноземах, но не на наших подзолистых суглинках. При всем моем желании угодить агрономам, я ничего, однако, сделать не могу. Я нисколько не виноват перед ними, что фосфоритная мука так поразительно действует как раз на тощих подзолах, в которых едва ли есть много перегноя. И я рад этому, потому что посредством фосфорита мы можем миллионы десятин бесплодных земель превратить в плодородные и сделать из наших пустошей степь... Докучаев, конечно, спрашивал, как финансировались все эти опыты. Энгельгардт отвечал: 28 – Никак, и расходы мои, и труд мой, никакой платы не получал. А хозяйство я должен вести для получения денег, презренного металла, что не так удобно совмещать с опытами. Что-нибудь да страдает – либо хозяйство, либо опыты. Если бы я поменьше занимался опытами и вел бы хозяйство только для доходов, то теперь курил бы сигары и имел бы бутылку вина за обедом. Я вижу это здесь на других хозяйствах, которые прямо воспользовались моими опытами. – Дорогой Александр Николаевич, в своем хозяйстве вы создали первую в России постоянную опытную станцию по изучению минеральных удобрений – и за это народ вам когда-нибудь скажет «спасибо». А без сигары да бутылки вина прожить можно. – Да вот живу... Обидно другое, я делаю то, что должны делать образцовые казенные фермы, которые содержатся Департаментом земледелия. Однако что-то не слышно, чтобы они что-нибудь путного сделали, чтобы они разработали опытом хоть один важный вопрос. Выходит, лишь сами кормятся при этой казенной кормушке. – А вот это нехорошо у нас: вам не дают помощи, а у кого ничего не получается, тех кормят. – Те, кого кормят, много обещают, вот им, за обещания, и дают. К тому же они проходят по Департаменту земледелия, а я – частное лицо и при казенной кормушке не состою... Однако не о том я сейчас жалею – упущено много лет. Я же 15 лет тому назад, как попал в деревню, хлопотал в Департаменте земледелия о содействии мне в производстве опытов над фосфоритами – отказали. А за 15 лет эвона сколько было бы сделано!... Да ладно обо мне. Много ли вы получили за свои исследования русского чернозема? Докучаев промолчал, только улыбнулся грустно. – А ведь этой работой вы решили важнейший из вопросов настоящего времени – вы дали характеристику степным почвам. Теперь такого же почвенного исследования ждет и бедная наша северная Россия – нельзя дальше хозяй- 29 ствовать на земле, ничего не зная ни о наших почвах, ни о влиянии на них, на растения и удобрения нашего климата. А мы действительно ничего не знаем, на авось хозяйствуем, а утешаемся пословицей: "Молись богу, землю паши, а урожай будет». С этой верой в грядущий урожай и живет русский народ, а наука ему не помощница, наука вся в Петербурге при университетах и департаментах, служит сама себе, а народу служить не хочет, не научена, не умеет. Ему очень хотелось подвигнуть Докучаева на эту многосложную работу, пусть не сам он, но чтобы изучением занялись почвоведы его школы, по его методу. – Ах, Александр Николаевич, уж сколько раз мы ставили этот вопрос. То, отвечают, нет денег на это у России, то нужды нет. – Много ли денег надо, расход-то тут пустой. – Расход-то мал, да есть люди, которые говорят, что почвенные исследования ни к чему. – Дурость наша... Жалеют денег на почвенные исследования, на которые и надо-то гроши. По копейке с десятины – вот и сложится сумма, достаточная для исследования, чтобы установить типы почв и составить почвенные карты, необходимые агроному, и администратору, и оценщику земель. А что такое копейка с десятины? На среднее имение в 300-600 десятин это фунт-два икры! – Я держусь такого взгляда: убедить в чем-либо человека, погрязшего в рутине и в групповщине, невозможно. Но я не думаю, чтобы им удалось надолго затормозить начатое нами изучение почв России. Ведь они много раз пытались провалить и мои черноземные исследования, но провалить сами. После «Русского чернозема» уже вышло больше десятка работ, суть которых далеко не на стороне наших зоилов. Так что, глубокоуважаемый Александр Николаевич, в этой борьбе с темными царствами и вы могли бы оказать самую существенную помощь. – Помогу, любезнейший Василий Васильевич, потому что убежден – почвенные исследования есть одно из важнейших дел для нашего хозяйства. И в 30 том убежден, что в деле этом нужен именно почвовед. В прошлом году я взял для Костычева десять образцов почвы и полагал, что взял достаточно и правильно. А нынче, только переговорив с вами, понимаю – надо брать пробы иначе. Это-то и важно. Хозяин смотрит односторонне и слишком субъективно. Его можно слушать, по пробы брать должен почвовед, в том числе и для химических анализов. Почвовед по-другому все видит... Докучаев тоже дал обещание: добиваться финансирования почвенных исследований, хотя бы поначалу в одной только Смоленской губернии. 5 После этой встречи и бесед он, Энгельгардт, тоже стал иначе видеть: почвы как бы обрели те отличия, которых он раньше не замечал. Что и говорить, хороший год выдался. Сразу после Докучаева приехал молодой человек, – действительно славный, – Владимир Иванович Вернадский, магистр геологии и минералогии. «Хотя он не агроном, – сообщал Александр Васильевич Советов, председатель сельскохозяйственного отделения Вольного экономического общества, – но, надеюсь, что исполнит свою миссию удовлетворительно, а, побывав у Вас, может быть, полюбит и агрономию или, по крайней мере, сделается почвенником, как мы теперь называем молодых людей, занимающихся изучением русских почв». Договорились, – об этом был разговор и с Докучаевым, – это о результатах удобрения полей фосфоритами Вернадский будет докладывать в Вольном экономическом обществе. Через месяц, перед самой жатвой, приехал Костычев – ученик, ставший уже знаменитым почвоведом. Правда, взгляды его расходились с докучаевским направлением, и разговоров на эту тему Энгельгардт избегал (не касался он ее и в беседах с Докучаевым). 31 Четыре дня провели они вместе – целыми днями на полях. Всюду побывали, все высмотрели. Рожь, удобренная фосфоритами, была отменной: и колосом отличалась, и высотой, и поспевать начала раньше, а поспевая – все ниже склоняла колос. – Вот как в ножки клонится хозяину за то, что хорошо ее накормил, – делился радостью своей Энгельгардт. – А я ужасно, по гордости моей, люблю, чтобы рожь кланялась хозяину, была почтительна, благодарила его за то добро, которое он ей сделал. И фосфоритная рожь, умница, любит, почитает хозяина, кланяется ему, – Так и вам люди поклонятся, Александр Николаевич, – откликнулся Костычев. – Вы первым в России ввели фосфориты на поля, и теперь уже не может быть сомнения – они хорошо послужат нашему земледелию. Забвения тут быть не может, люди обязательно воспользуются вашими опытами. – Я тем и живу, любезнейший Павел Андреевич, что бесконечно верю в добро и знания. Зло есть и будет, но добро всегда берет верх над злом, потому что оно – добро. Знание же есть сила, которая действует в пользу добра... Ученик давно уже сравнялся с учителем по положению своему в науке, занимал в ней и в обществе вполне достойное место, и все же что-то мешало им в душевном сближении – деловое единомыслие не перерастало в сердечную близость. Учитель чувствовал в собеседнике своем какую-то постоянную внутреннюю настороженность. Догадывался: ученик не хочет быть младшим, менее знающим, менее опытным. Что ж, Энгельгардт и не собирался поучать его, много успевшего сделать в науке, – сам спрашивал, внимательно слушал, не скупился на похвальные слова. Однако настороженность не исчезала. Ему и в голову не пришло, что годами выработанная защитная реакция была совсем иного свойства. Костычев родился в крепостной семье, вырос в нужде, в помыканиях, и теперь, став вровень с дворянами, превзойдя многих и многих из них, но все же чуточку робел передними, и это унижало и раздражало его, держало в 32 постоянной настороженности, которую одни принимали за высокомерие, другие – за демонстрацию превосходства своего. Между тем к опальному Энгельгардту Костычев испытывал вполне дружеские чувства, которые, однако, явно не выказывал. Причиной этому был Докучаев – его он больше чем недолюбливал. Ему казалось, что этот бывший попович нежданно-негаданно перехватил у него славу первого почвоведа России, оттеснил его на вторую роль. Смириться с этим Костычев не мог, потому что, считал, в теории Докучаева много ошибок и неверных положений, о чем и говорил на всех диспутах, в которых терпел поражения, но иногда и верх одерживал. Знал Костычев и то, что зимой Вольное экономическое общество будет слушать доклад об энгельгардтовских опытах с фосфоритами, и что инициатором этого слушания оказался опять же Докучаев, да и докладчиком назначен Вернадский, молодой докучаевский ученик. Все это тоже вызывало в нем легкую досаду и на Энгельгардта, которому он, Костычев, давно уже помогает своими химическими анализами, и на Докучаева – и тут перехватил у него дело, которое, конечно же будет признано важным и полезным. 6 В декабре, продав мешки ржи скупщикам и собрав деньжат, Энгельгардт засобирался в Петербург. Ехал, по совету Докучаева, на заседание Вольного экономического общества, которое состоится в январе 1888 года. ''Ваше сообщение в Вольном экономическом обществе, – писал Докучаев, убеждая его приехать, – могло бы в сильнейшей степени подвинуть вопрос о применении фосфоритов во всей северной подзолистой России''. Поразмыслив, Энгельгардт решил: в случае успеха у него будет повод напомнить о себе – в нем еще не загасла надежда на перемену своего положения. Нет, он не решился бы опять быть профессором, о чем и Докучаеву гово- 33 рил, но с удовольствием поработал бы в Вольном экономическом обществе, или на худой конец, управляющим казенной опытной фермой. Встречавший его в те дни Вернадский вспомнит через несколько лет и запишет в дневнике: «Он тогда надеялся на многое – перед ним, казалось, открывалось блестящее поприще, но так же безжалостно и грубо русская бюрократия била его». В Петербург Энгельгардт приехал накануне Нового года. Побывал в гостях у Докучаева и был тронут заботой, которой его встретили в доме на 1 линии Васильевского острова. Встреча эта надолго останется единственным светлым пятном в его двухмесячном пребывании в Петербурге, где он оставил, как потом жаловался Докучаеву, «и энергию, и здоровье». Вернулся усталый, больной, долго не мог поправиться. Опыты его признали полезными, однако хлопоты об исследовании почв Смоленской губернии тоже ни к чему не привели. А без этого, сказал он, без почвенных исследований, какая же отчаянная голова решится дать программу для опытов с минеральными удобрениями в каком-нибудь хозяйстве. Нельзя без этого. Без знания почвы мы никогда не сможем управлять процессами, в ней происходящими. И пора понять, что именно эти процессы и определяют жизнь почвы, ее плодородие, устойчивость и величину наших урожаев. Правда, Вольное экономическое общество вошло с этим делом в сношение с Департаментом земледелия, но родится ли что путное – неизвестно. Скорее всего, пустой номер выйдет, как и с прошением. Это же надо! Департамент не отстоял его назначения даже агрономом на казенную опытную ферму. И предложил-то он себя не на какую-то там пригодную ферму, а куда угодно, хотя бы в Могилевскую губернию. Прикидывал так: Батищево оставит на попечение взрослой дочери, а сам будет жить, хозяйствовать на казенной ферме, при земледельческом училище, где есть лаборатория, библиотека, ученики, специалисты-преподаватели, где не 34 требуется от хозяйства дохода, а требуется только выработка правильных приемов хозяйствования в данной местности. «Думал, ухватятся за мое предложение, – делился обидой своей с Докучаевым, который предпринимал усилия в устройстве Энгельгардта. – Ученики земледельческого училища будут мне помощниками, организую опыты, полезные и ученикам и учителям – отлично может выйти. Однако не тут-то было – против? Кому и чем помешаю в департаменте, что буду управлять фермой и заведу на ней образцовое хозяйство? Или боятся департаментские чиновники всякого свежего человека, чтобы тот не нарушил их чиновничьи порядки? Сами говорят, что их казенные фермы плохи, что им нельзя поручить производство каких-либо опытов, что из этого никогда ничего не выйдет. Но попросил поручить в управление казенную ферму – сейчас же множество затруднений»... И – не пал духом, не опустил рук. Были дела поважнее личных забот... Это состояние Вернадский охарактеризует так: «Он был поставлен в известные рамки и должен был пойти по колее, чтобы быть в состоянии делать немногое». Энгельгардт продолжал хлопотать о почвенных исследованиях. «Если мне удастся добиться этого, – пишет Костычеву после возвращения из Петербурга, – то я надеюсь, что меня включат в поминальницы. Расход на исследования составит 1/2 коп. на десятину. Если бы это состоялось, то... я бы со своей стороны дал хороший хозяйственный материал и всеми бы средствами ПОМОГ БЫ исследователям как в Батищеве, так и Смоленской губернии вообще». Он, конечно, хорошо знает отношение Костычева к Докучаеву, и все же пишет ему, занимающему не последнюю должность в Департаменте земледелия: «Я не сомневаюсь, что если бы это дело было поручено Докучаеву, то он нашел бы на него молодежь добрую, которая много бы сделала». Ах, эта вражда между людьми, которые, объединившись, могли бы принести куда больше пользы. И добавляет не без умысла: 35 «Меня в Петербурге очень неприятно поразили контры между учеными. Не разъединяться должны люди науки, а соединяться, высоко держать свое знамя. Для меня, деревенского жителя, привыкшего к простоте жизни, все это было тяжело и непонятно». Ничего подобного Докучаеву не писал. Неправым считал Костычева, поэтому ему и намекал. С Докучаевым ведет разговор задушевнее, пишет ему с горечью и сарказмом: «В департаменте почвы не интересуют, теперь все интересы устремлены на свиней. Хотят обогатить Россию вывозом соленой свинины. Нат-ка выкуси? У самих, у мужика, сала в горшке только по воскресеньям, а еще вывозить хотят свинину за границу?» Ситуацию Энгельгардт нисколько не шаржировал. Так и было в действительности. На международных рынках вдруг обнаружился повышенный спрос на свинину, возросли и цены на нее. Вот и надумали в петербургских канцеляриях воспользоваться конъюнктурой – за счет вывоза свинины поправить торговый баланс. Заседали комиссии, департаментским чиновникам уже виделись направляющиеся за границу эшелоны, битком набитые солониной, уже подсчитывали возможные барыши. Ах, российский чиновник? Он и в самом деле был убежден – свиней у крестьян уйма, вон их сколько бродит по улицам всех деревень и пригородов, в каждой луже валяются, и не только в Миргороде. Эту мечту, одну из так часто посещающих русских чиновников мечтаний, несколько поразевали и подпортили, как всегда, ученые умы. Существовавшее в России свиноводство, сказали они на одном из заседаний Вольного экономического общества, никуда не годится, так как приученная обходиться без хозяйского пригляда свинья хоть и действительно может днями лежать в дорожной луже, однако именно поэтому для мирового рынка она никак не годится – тоща и жестка. 36 Тогда стали думать о скорейшем улучшении свиноводства. Только вот в каком направлении действовать? То ли пойти путем наказания мужика за пребывания свиньи в луже, то иным каким путем. «Нат-ка выкуси!» – сказал Энгельгардт. Сколько их, прожектеров, обитало всегда в чиновничьих апартаментах! сколько прожектов государственного масштаба сотворили. Увлеченные их творением, они забывали обо всем другом. Что им почвы, что им опыты и исследования, когда вот он – легкий и скорый успех. И всякий раз жизнь показывала им кукиш: «Нат-ка выкуси!» И так было не только в том далеке. Уже на моей памяти, то ли в конце шестидесятых, то ли в самом начале семидесятых годов случился недород картошки. Чтобы избежать повторения подобной ситуации – в России нет картошки? – правительство поручило Министерству сельского хозяйства разработать соответствующие меры. Вскоре ответный документ был готов. Я читал его и дивился уму чиновников и ученых: они просто-напросто предложили вдвое увеличить картофельное поле страны. При этом оперировали цифрами так, будто кроме картошки нам не нужно больше ничего, а пашня, предлагаемая под картошку, просто пустует. Подобным образом они когда-то расширили зерновое поле, распахав кормовые травы, – и нашлись ученые, поддерживавшие и обосновавшие это расширение. Точно так же могли поступить с любой другой культурой. Правда, с картошкой в тот раз, кажется, ничего не получилось: то ли поняли в верхах, что так решать проблему нельзя, то ли забыли – иногда и такое бывает, забывают о поручении, поэтому опытный чиновник не торопится отдавать начальству исполненный прожект: надо будет, спросят... 7 Бурным выдался для Докучаева 1889 год. Долго и тщательно готовили первую коллекцию русских почв на Всемирную выставку в Париже, от участия 37 в которой русское правительство отказалось – она открывалась в ознаменование 100-летия первой французской революции. Это обстоятельство сильно осложняло и без того трудное дело сборов – никакой помощи, никакого содействия. Делали вид, что это частная инициатива, о которой и знать никто не знает. И все же коллекция была подготовлена и отправлена в Париж. Представлял ее на выставке Вернадский, тот славный молодой человек, который приезжал к Энгельгардту, а потом докладывал в Вольном экономическом обществе об опыте применения минеральных удобрений. Это и его немалая заслуга в том, что коллекция получила золотую медаль выставки, а ее составитель Докучаев отмечен французской академией дипломом «За заслуги по земледелию». «Душевно радуюсь, – писал Докучаеву полтавский агроном Измаильский, – что Французская академия и т.д., но очень жаль, что наша академия между русскими находит известных людей лишь между мертвыми, да и то изредка». ... Земля родящая, родимая земля. Она кормила хлебом тех первых поселян, которые возделывали ее, отвоевав у леса, у дикой ковыльной степи. Здесь, на росчистях, на драках (драть приходилось), и жилье ставили, а места, которые дером осваивали, называли деревнями. Родимая земля... Для первого поселенца она, политая потом, была лишь землей родящей. Однако для его детей земледельческое это понятие и иной смысл обрело – тут они родились, тут родимая земля и край родимый. На этом новом понятии и формировались высокие чувства Родины, закладывались основы нации и государства. Чувства эти поднимали оратая на защиту своих деревень, родимой своей земли от вражеских набегов. Оратайхлебопашец на время становился ратаем-воином. Издревле на Руси так было. Издревле по количеству пашенной земли исчислялась ратная повинность и взимались полати – крепились обороноспособность и экономика государства. А значит, так же издревле должны были знать 38 на Руси и учитывать свое главное богатство – землю, как государственную меру. Сначала, должно быть, учет этот велся лишь местным обществом, местными начальниками, и этого было достаточно, чтобы по совести и правде собрать подати и княжескую дружину созвать. Потом, но мере укрепления государственности, и учет должен был обрести важность государственного дела. Так в XV века появляются «Писцовые книги» с подробным раскладом угодий земли русской – лесов, лугов, болот и пашен. С особой тщательностью обмеривались и оценивались пашенные земли – по качеству они подразделялись на пашню «добрую», «среднюю», «худую» и «добре худую», «каменисту» и «песчату». Историки утверждают: книги эти, помимо нового этапа в учете главнейшего источника силы и богатства, явились и первыми почвенно- географическими трудами, выполненными на высоком для того времени уровне. Ни одна соседняя страна в ту пору еще не имела подобных описаний, и никакой нужды в них не видела. А кто не слышал про «Большой чертеж» – подробную карту Московского государства, составленную в конце XVI века. Сама карта до нас не дошла, но сохранилась «Книга глаголемая Большой Чертеж», которая вобрала в себя обширные пояснения к ней, в том числе по географии почв, и служила путеводной звездой не одному поколению исследователей земли русской. Потом, во второй половине XVIII века, была написана одна из самых славных страничек в истории познания родимой земли. Только одна страничка эта, помеченная 1763 годом, должна была принести ее автору славу первооткрывателя, однако современники ее не заметили и обнаружилась она без малого через полтора столетия. А пока страничка с открытием лежала на библиотечной полке, все покрываясь пылью, ученые всего мира яростно спорили о тайне происхождения почвы вообще и чернозема в частности. 39 К XIX веку в России твердо установилось народное название почв: чернозем, серый чернозем, подзол, серые и солонцеватые земли. Самой загадочной почвой во все времена был чернозем, то дающий обильные урожаи, то страдающий от засухи так, что даже затраченных семян не возвращал земледельцу. И разгорелись об этом загадочном сфинксе жаркие споры в науке. Одни, и первым среди них знаменитый Паллас, говорили, что «эта черная земля более похожа на почву, происшедшую из морского ила». Другие опровергали подобное мнение и доказывали, что чернозем – это «черный ил болот и озер». Третьи догадывались, что чернозем произошел «из наземной растительности», но расходились в предыстории: то ли произошел на илистом месте отступавшего моря, то ли на иле высохших болот и озер. В своем труде «Русский чернозем» Василий Васильевич Докучаев назвал 22 имени, вошедших в историю этот полуторавекового спора, в котором каждым была выдвинута своя гипотеза, далекая от истины. А между тем именно эту истину и хранила та страничка, которая все еще пылилась на библиотечной полке. Однако и Докучаев не подозревал о ее существовании, но он знал другого носителя этой истины и с гордостью за него написал: «Оказывается, что и в решении этой задачи, как и во многом другом, НАРОДНОЕ СОЗНАНИЕ ОПЕРЕДИЛО НАУКУ». Да, русский земледелец первым открыл тайну происхождения почвы. Точнее сказать, он не открывал, он всегда знал ее и знание это жило в поколениях русских хлебопашцев. Именно это знание и было зафиксировано в 1763 году на той заботой страничке, которую обнаружат лишь в 1900 году. Страничку эту, а вернее, научный трактат «О слоях земли» написал вовсе не безвестный россиянин, а великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов. Да вот беда, опубликовал он его в качестве скромного приложения к «Первым основаниям металлургии или рудных дел», вскоре забытым. Канул в небытие и трактат, хранивший открытие сущности почвообразовательного процесса: 40 «Итак, – подытожил Ломоносов свои исследования почвы, – нет сомнения, что чернозем не первообразная и не первозданная материя, но произошел от согнития животных и растущих тел со временем». Теперь сравните эти слова первого российского академика вот с этим свидетельством путешественников, которые писали, что уже издавна в России существовало «общенародное мнение о происхождении чернозема от согнивания растений (степных), при содействии атмосферных влияний и от замешивания образовавшегося перегноя с рыхлыми суглинками подпочвы». Докучаев подтверждал: «То же самое мнение о данном вопросе приходилось не раз слышать и мне в самых разнообразных уголках черноземной России». Да, народ знал, но именитые иностранцы, предпринимавшие путешествия по черноземным степям России, посмеивались над этим, как им казалось, примитивным «народным сознанием». Они конечно же выдвигали иные гипотезы образования черноземов, подкрепляли их научными доказательствами, которыми и смущали не только русских чиновников, но и ученых. Под влиянием этих иноземных толкований выводы первого российского академика, опиравшегося именно на «народное сознание», оказались потом забытыми. В 1900 году, выступая в Полтаве с лекциями о почвоведении, Докучаев скажет с горечью: «На днях профессор Вернадский получил поручение от Московского университета разобрать сочинения Ломоносова, и я с удивлением узнал от профессора Вернадского, что Ломоносов давно уже изложил в своих сочинениях ту теорию, за защиту которой я получил докторскую степень, и изложил, надо признаться, шире и более обобщающим образом». Пройдет еще несколько лет, и в 1911 году Владимир Иванович Вернадский, талантливейший ученик Докучаева, представит русскому обществу найденное им сочинение Ломоносова «О слоях земли». Высоко оценив этот «не только научный, самостоятельный труд», но и «одно из первых научнопопулярных произведений русской литературы», он напишет и такие слова: «Судьба этой работы была печальна. Она была совершенно забыта и русским 41 обществом, и наукой. Ломоносов отчасти сам был виною этому. Он скрыл ее в другом своем сочинении – в «Первых основаниях металлургии», напечатав ее в виде приложения второго». Да, так получилось, что Ломоносов, изложив теорию почвообразования, сам лишил труд свой самостоятельного значения. И мало того, что приложил его к сочинению, с которым «данная работа ничего не имеет общего». Он приложил его к трактату, написанному значительно раньше, еще в 1972 году, и, естественно, к моменту издания, через два десятилетия, многие наблюдения и факты по металлургии успели устареть – «книга вышла уже обветшалой». Вот почему, по мнению Вернадского, «при этом заглохло и блестящее, огромной научной важности... приложение», то есть сочинение «О слоях земных», написанное Ломоносовым в конце 1760 или в январе 1761 года. Как раз в это время он работал в Академии наук по исправлению «Российского атласа» и составлению «Российской географии». Так Ломоносов, явившийся, по оценке Вернадского, «не только первым русским почвоведом, но первым почвоведом вообще», был забыт как почвовед почти на 150 лет. Добрым словом нужно вспомнить и первого профессора «сельскохозяйственного домоводства» М.И.Афонина, начавшего, по инициативе того же Ломоносова, преподавание почвенной науки в Московском университете с 1770 года. Это он на торжественном собрании профессоров университета произнес «Слово о пользе, знании, собирании и расположении чернозему, особливо в хлебопашестве». В этой речи, как свидетельствуют историки, Афонин не только призвал коллег своих к изучению почв России, но и одним из первых «дал классификацию черноземов, указал необходимые для поддержания их плодородия агротехнические мероприятия и поставил вопрос об организации почвенных музеев». Рассматривая почвоведение в России, его прошлое и настоящее, Докучаев поставил деятельность Афонина в один ряд с деятельностью Вольного эконо- 42 мического общества, подчеркнув, что они «почти одновременно» начали действовать в этом направлении. Да, практическое изучение почв России, вопреки ложности признанных гипотез, продолжало двигаться своим путем. И в этом огромную роль сыграло Вольное экономическое общество, основанное в 1765 году (в этом году умер М.В.Ломоносов). А начало оно свою деятельность с разработки и рассылки губернаторам и другим лицам, «имеющим команду», вопросника, в котором спрашивалось, «какого рода земля в разных провинциях находится: тучная или легкая, или болотистая, песчаная, иловая». Учредители Общества поклялись «совокупным трудом стараться об исправлении отечественного земледелия и домостройства» и начертали на знамени своем девиз: «Пчелы, в улей мед приносящие». Клятву члены общества выполнили, девиз не посрамили – принесли действительную пользу, всячески способствуя развитию отечественного сельского хозяйства. Это с их помощью составлялись географические описания, в которых немалое место занимали данные о расположении почв, и в первую очередь чернозема. Вышли две почвенные карты Европейской России. В работе над второй картой – Чаславского, вышедшей в 1879 году, активное участие принимал молодой Докучаев, которого Чаславский пригласил «составить нормальную почвенную классификацию и описание русского чернозема», необходимые для объяснительной записки к карте. Как говориться, да будет благословен тот день, когда он высказал это предложение, а молодой Докучаев принял его. Вольное экономическое общество не поскупилось отдать ему все деньги, которые имело и которые предназначались на различные исследования. Это пошло на великую пользу и молодому ученому, и отечественной науке в целом. За два лета Докучаев исследовал почти всю черноземную полосу Европейской России, проделав по ней пешком, на крестьянской бричке около 10 тысяч верст. Вот в этих-то путешествиях он и пришел к выводу, что «народное сознание опередило науку». После этих путе- 43 шествий он и начал утверждать теорию растительно-сухопутного происхождения черноземов и доказывать, что почва вовсе не ил и не минерал, а самостоятельное естественноисторическое тело. Вначале на заседаниях Вольного экономического общества, а потом и в статьях излагает все основные положения новой, им же создаваемой в «жестокой борьбе с оппозицией» новой науки – генетического почвоведения. Эти 10 тысяч верст и доклады по возвращении принесли ему «ученую известность». Однако сам он понимал: это еще не победа, в его теории есть еще много уязвимых мест. И он, с благословения того же Вольного экономического общества, предпринимает еще несколько поездок по России, а потом пишет свой новый труд, который сразу же стал классическим и знаменитым не только в России, но и далеко за ее рубежами. Это была «одна из тех работ, которые составляют эпоху в науке, – так отозвались о ней даже современники, и явилась прочным фундаментом генетического почвоведения – науки, которая одержит победу во всем мире, обогатит многие другие науки и породит новые. Труд этот – «Русский чернозем». Принято считать днем рождения новой науки о почве 11 декабря 1883 года. В этот день Докучаев защищал «Русский чернозем» в качестве своей докторской диссертации. Диспут в переполненном актовом зале Петербургского университета длился четыре часа. Начался он, против ожидания, «довольно сдержанно и тихо». Официальные оппоненты А.А.Иностранцев и Дмитрий Иванович Менделеев (великий русский химик, гроза всех диссертантов! именно его больше всего боялся и Докучаев) «рассыпались в похвалах и лишь слегка указывали «по обязанности» на те или другие недостатки и промахи «капитального», по их отзыву, труда. Но вот поднялся Костычев, принципиальный противник Докучаева по очень многим вопросам почвоведения, и пошла уже настоящая «схватка боевая»... Спор длился долго, вспоминал один из учеников Докучаева. Костычев, прекрасный спорщик, немало потрудившийся над лабораторным изучением 44 почв, ярко нападал на многие положения автора «Русского чернозема». Докучаеву было нелегко отражать это натиск, но его выручали уверенность в своей правоте и знание почв, приобретенные не в лаборатории, а в поездках по России. Диспут продолжался около четырех часов. Наконец профессор Н.А.Меншуткин, покивав по обыкновению вопросительно в сторону различных членов факультетов, произнес торжественное признание диспутанта «доктором геогнозии и минералогии». И зал взорвался шумной овацией и возгласами. Из продолжительного горячего спора ученики Докучаева, все до одного сидевшие в зале, вынесли твердое убеждение в правоте своего учителя и верности направления зарождающейся науки о почве. Убеждению этому способствовали и последующие события: Академия наук присудила Докучаеву за «Русский чернозем» полную Макарьевскую премию, а Вольное экономическое общество вынесло ему особую благодарность. Итак, почва – это вполне самостоятельное тело природы, ее творение и ее зеркало, «зеркало местного климата и притом климата как современного, так и особенно давно минувших времен». Разгадка эта, доведенная до сведения образованного человечества, потрясла его воображение. Мир заговорил о почве как об открытии неизвестного ранее четвертого царства природы (к трем известным царствам относили минералы, растения и животных). И не случайно не что-нибудь рукотворное, а почвенная коллекция получила золотую медаль Всемирной выставки. Французская академия отметила Докучаева дипломом «За заслуги по земледелию». – Скоро придется учиться русскому языку тем иностранным почвоведам, которые хотели бы стоять на современном научном уровне, – сказал коллегам своим известный мюнхенский профессор Раманн. Такое признание труда русского ученого за границей резко изменило отношение к нему на Родине. 45 «Почти вся чиновничья братия в Питере совершенно изменилась по отношению ко мне: не знаю, надолго ли, – сообщал Докучаев полтавскому агроному Измаильскому. Уверен был, не надолго, поэтому тут же дописал: – Куй железо, пока горячо». И он ковал, приняв на себя все заботы по созыву и проведению Восьмого съезда русских естествоиспытателей и врачей, который оставит заметный след в истории многих отраслей отечественной науки. Ковал, не щадя своих сил, жертвуя своим временем и здоровьем во имя важнейшей поддержки учеными его предложения о создании в России самостоятельного Почвенного учреждения (комитета, института), с музеем и лабораторией при нем. Оно необходимо для выполнения систематических научных исследований русских почв, составления почвенных карт и решения многих вопросов практического характера. Идея не была новой. Впервые Докучаев высказал ее в своем обзорном труде «Картография русских почв», изданном в 1879 году. В том же году VI съезд естествоиспытателей и врачей постановил обратиться с ходатайством об открытии Почвенного учреждения к министру государственных имуществ князю Ливену. Однако ходатайство это, как и проект учреждения, министр категорически отверг. Теперь Докучаев делал новую попытку: считал, идея эта вполне созрела в обществе, да и на посту министра другой человек, не такой ретроград. Докучаев собирал под знамена своих единомышленников. Послал приглашение и Энгельгрардту, – именно его хотел он видеть «главным бомбардиром» на съезде. Однако накануне съезда Энгельгардт откликнулся с явными нотками грусти: «Не знаю, буду ли на съезде натуралистов; вернее, что не буду. Различные причины, главное – плохое состояние здоровья, едва ли позволят мне приехать». – Он уже два месяца не выходил на улицу. А как ему хотелось быть на этом съезде, «чтобы, вероятно, в последний раз повидаться со старыми друзьями». 46 Ему станет лучше только в конце января, да и то не совсем. Однако мыслями он был там, с друзьями, в Петербурге. Выдержат ли они борьбу с «темным царством» департаментской науки? Не смог приехать и Измаильский, служивший управляющим имением князя Кочубея под Диканькой, – не отпустил патрон. Но поддерживал Докучаева письмами, высылал по его просьбе образцы почв – между ними давно уже завязались дружеские отношения. Съезд длился долго, прерывался, как шутили, новогодними фейерверками, катаниями, елками и иллюминациями. Начался он 28 декабря 1889 года, а закончился 7 января. Поэтому и газеты больше занимались новогодними гуляниями, чем съездом – расскажут о нем лишь в конце месяца. Да, кажется, и сам Докучаев не сразу осознал результаты своей работы. Во всяком случае, в первом после съезда письме Измаильскому сообщал лишь о своей усталости: «Верьте мне, что во все время съезда, иначе – с 26 декабря, примерно, по 10 января, я спал не больше 4-х часов в сутки. 12 января по совету врача я уехал в деревню, где также не мог ни читать газет, ни писать писем, – даже не телеграфировал, – до такой степени настала у меня апатия к печати и письму. Можете себе представить, я потерял всякий вкус к газетам!» И тут же, как бы мимоходом: «Успех съезда создал мне массу врагов, но зато, правда, и множество успехов! Расскажу, надеюсь, при свидании». Вывел его из состояния апатии Энгельгардт. Сидя в смоленской деревне, он «с разных сторон получал сведения относительно агрономической секции съезда». Даже дневником съезда обзавелся. Проанализировав все сведения и документы, он написал Докучаеву: «Не будь ваших почвенников, что бы осталось в агрономической секции – несколько профессоров агрономов да еще «департаментская секция». Плохо себя заявила «агрономия» на съезде и все ВЫВЕЗЛА ВАША ШКОЛА ПОЧВЕННИКОВ... Утешительно, что вас, ваших учеников и вашу школу наконец-то признали... В 1887 году никто слышать не хотел о почвенных исследованиях, а теперь 47 говорят и «департаментская секция» сдается. Если результатом ... VIII съезда будет учреждение почвенного комитета с лабораторией при нем и пр., то это будет ужасно важно». А в конце письма добавил: «Необходимо Министерство земледелия и торговли. Министром, разумеется, Менделеев»... Аграрная Россия, как ни странно, не имела министерства земледелия, был лишь департамент в Министерстве государственных имуществ. Назревал период преобразований, который должен выдвинуть на авансцену самых прогрессивных и бескорыстных деятелей. Так думали и этого хотели многие, кто видел и знал подлинное состояние сельского хозяйства в Отечестве. 8 В ноябре 1890 года Энгельгардт приехал в столицу. Приехал, чтобы поддержать Докучаева и выступить в Вольном экономическом обществе с докладом «О значении почвенно-геологических исследований«. Но не только для этого – его снова поманили обещанием места в Петербурге. На этот раз он скажет четко и определенно: для полного изучения почв необходимы и геологические, и ботанические, и химические исследования. «Только при таком полном изучении почв, какое производят почвенные школы Докучаева, возможно установить типы почв и дать настоящие почвенные карты, столь необходимые для агрономов и хозяев. Не имея почвенных карт, основанных на всесторонних почвенных исследованиях, ... мы, хозяева, все будем ходить вокруг да около». Вот так же решался и вопрос с подысканием ему места в Петербурге – «вокруг да около». Это окончательно вывело его из себя и он с досадой выговорил Костычеву: 48 – Я в Батищеве делал то, что должны были делать ваши образцовые казенные фермы. Все двадцать лет прошли в постоянной разработке опытом разных вопросов, важных для хозяйства нечерноземной России. Вот я и думаю, что за мои труды по фосфоритному делу, которое я поставил на ноги, за труды по выработке системы ведения хозяйства в этой зоне не грех было бы департаменту выхлопотать мне пожизненную правительственную пенсию. Было бы совсем разлюбезное дело, если бы мне дали профессорскую пенсию, 2400 рублей в год, так я бы ничего лучше не желал, никому собой не надоедал и, глядишь, еще сделал бы что-нибудь полезное... Он понимал, что не от Костычева все это зависит, хоть тот и служит в департаменте. Но в данную минуту именно Костычев как бы олицетворял собой всех, кто здесь правит, поэтому ему и упреки бросал: – Неужели же департамент так и не вознаградит меня если не пенсией, то хотя бы единовременной денежной наградой? В конце-концов она мне следует как плата за труд по производству опытов для департамента, которому я посылаю отчеты. Или, может, мои опыты здесь находят неудовлетворительными?.. Разговор, Энгельгардт и сам это понимал, получался очень неловким и даже унизительным для него. Покидал департамент с чувством противным, надолго отравившим всю его жизнь. Однако и не высказать всего этого не мог: они-то получают жалованье, получают награды и звезды, а он-то что ж всю жизнь работает даром, все делает за свой счет. От этих мыслей делалось еще противней: не о том все, дело не в плате, не в деньгах, а в признании. Однако, он же видит, на него смотрят будто на попрошайку какого. Странное дело, в Петербурге он вдруг испытал жгучее чувство тоски по деревне, по полям своим. Здесь, в городе, он был словно на чужбине. Ему все больше не хотелось места, не хотелось идти в неволю, и он перестал хлопотать о месте, а потом и думать о нем перестал, что подтверждало – оно ему уже не нужно. Ну, а что касается вознаграждения за труды, то тут ничего зазорного 49 нет, – работал, тратил свои деньги, пусть хоть часть вернут. Но тратить время нечего, надо пойти с прошением прямо к директору департамента земледелия, что он и сделал. Через две недели его уведомили, что министр государственных имуществ согласился «испросить высочайшего разрешения на награждение, но предварительно сделан запрос в министерство внутренних дел относительно вас». О, Русь-матушка и ее владыки? Минуло двадцать лет, а он все еще опальный, все еще униженный сын родины своей. Да кто, как не он, почестей достоин. Нет, «сделан запрос», и не на орден, не на звезду, а всего лишь на денежное вознаграждение за труды. В конце января 1891 года Энгельгардта известили, что разрешено выдать ему за труды 5 тысяч рублей, но без публикации об этом в «Правительственном вестнике» и без занесения в формуляр. – Ну и черт с ней, с публикацией, – говорил он Докучаеву, напуская на себя веселость. – Мне бы синицу поскорее в руки. Тогда куплю себе шубу, шапку, сюртучную пару, шесть рубашек, двенадцать кальсон, двенадцать платков и прочее. Вид у него и правда не профессорский, что, конечно же, его смущало, и он большую часть дня просиживал в своем «Пале-Рояле», в меблированных комнатах на Пушкинской. А там – скука. Глянешь в окно – тоже не радостнее, упираешься взглядом в стены противоположного дома, в котором столько же люду, сколько во всех деревнях родной волости. Так что он действительно ждал этих денег, чтобы одеться, и уж тогда возобновить свои старые знакомства – пока он ни кого, кроме Докучаевых, и не был. – Однако, Александр Николаевич, – шутливо откликнулся Докучаев, усмотрев в перечисленных покупках явную промашку, – придется вам еще и фрак шить. Не в сюртучной же паре поедете благодарить министра. 50 Шутка эта, чего Докучаев никак не ожидал, повергла Энгельгардта в уныние: уплывут все деньги. Новые расчеты привели его к мысли, что на фрак тратить нет смысла, лучше взять напрокат. Так и сделал. Однако, нет, отвык он от визитов, от светских разговоров, неизбежных на обедах и ужинах. Иное дело у Докучаевых: ни позировать не надо, ни чепухи молоть. Здесь, в 12 квартире на втором этаже дома № 18 по 1 линии Васильевского острова, ему всегда было хорошо. Сюда съезжались как бы по делу: ученики приходили посоветоваться, сотрудники и профессора – поспорить, обсудить план предстоящих баталий. Тут было хорошо еще и потому, что гостеприимная хозяйка Анна Егоровна была в курсе всех забот, споров и разногласий. Временами даже казалось, что вот эту школу почвоведов, сгруппировавшихся вокруг Докучаева, создала именно она, оказывая то ободряющее, то смягчающее, и всегда благотворное влияние как на именитых профессоров, так и на молодых соискателей ученых званий во имя прославления России. Она так серьезно и уважительно относилась к этим будущим ученым, что все делались равными и в равной степени талантливыми. Благодарные мужи науки назовут ее без всякой иронии первой русской женщиной-почвоведом – это звание сохранится за ней навсегда, имя ее войдет в историю той науки, которая зарождалась вот в этой квартире, где она была доброй и умной хозяйкой. Здесь Александру Николаевичу было всегда хорошо и он отходил душой – тут люди мечтали, горячились, говорили и думали о той пользе, которую ждет народ от них, от науки. Эти люди готовы были в любой час сорваться с места и надолго отправиться на исследования русских почв. И уже ездили! Прошагали под командой своего учителя вдоль и поперек всю Нижегородскую губернию, а потом Полтавскую. Не просто прошагали, а как исследователи, с пользой – дали первое почвенно-геологическое описание этих губерний, зафиксировав на картах лик земли, как скажут потомки. В Ниж- 51 нем создадут естественноисторический музей, первый в России, а потом такой же откроют в Полтаве – для пропаганды знаний о почве и изучения лика земли. Жаль, земские деятели других губерний все еще не осознали пользы таких исследований. Энгельгардту очень хотелось увидеть всех этих увлеченных людей у себя на смоленской земле. Однако, будь они неладны, «темные царства», – так он аттестовал рутинные силы в научной ли среде, или в среде власть имущих, – все еще волынили, ни «да», ни «нет» не отвечали. – Потерпите, любезный Александр Николаевич, – утешал его Докучаев. – Вы же сами говорили, что бесконечно верите в добро и знания. Я тоже верю в это и знаю, никаким силам не остановить теперь того живого дела, которому мы служим и которое стоит уже достаточно твердо. Надо только настойчивее атаковать эти ваши темные царства. Они и без того были в неустанных атаках. Атаковали и в одиночку, избрав для действий своих тех или иных лиц, выходили и кучно, сгруппировав свои ряды. Не оставался в бездействии и Энгельгардт – ради этого и задержался в Петербурге на четыре с половиной месяца, «зажился», как он говорил. Были у них и победы. Самую решающую, как им казалось, они одержали в министерстве государственных имуществ. Министр М.Н.Островский признал основание почвенного института и последующих исследований вполне целесообразным и важным для интересов русского земледелия, а признав, «изволил приказать составить при участии профессора Докучаева проект организации названного учреждения». Проект был составлен и передан в Ученый комитет министерства на рассмотрение. Не остался незамеченным и доклад Энгельгардта о значении почвенногеологических исследований для сельского хозяйства, с которым он выступил в Вольном экономическом обществе. Слова, конечно, забылись бы, но Общество быстренько отпечатало доклад отдельной брошюрой в 500 экземпляров. 52 – Блестящая брошюра! – радовался Докучаев, способствовавший ее выходу. И как же она пришлась не по нутру противупочвенникам. Один из них, Валериан Черняев, инспектор министерства государственных имуществ, ядовито вышучивал в кулуарах и на обедах почвенные исследования Докучаева и опыты Энгельгардта. – Для подобного шутовства ума не надо, – бросил реплику Энгельгардт в кругу «противупочвенников». Пусть передадут Черняеву – если и не притихнет, то шутовство все же оставит. На обеде у редактора «Земледельческой газеты» Баталина Энгельгардт столкнулся с этим самым Черняевым. Видно было по нему – передали. Долго помалкивал, но когда зашел разговор о брошюре, которую Общество разослало всем своим членам, не сдержался и сказал Энгельгардту: – Исход спорного дела предрешить хотите? – А вы все вышучиваете это дело? – откликнулся Энгельгардт. – Однако, может, «Географический чертеж русской земли» отыскали? Так несите его в музей, а нам жить по нему не приказывайте. Он устарел давно, как устарели и другие почвенные карты. А грамотные люди знают, что устаревшее нужно заменять новым – это же так ясно и просто, господин Черняев... Ясно, да не всем. Измаильский, прочитав брошюру Энгельгардта, написал Докучаеву: «Масса еще долго не поймет практического значения почвенных исследований. Статья Энгельгардта как ни реальна, а для большинства нашей черноземной силы она недоступна». И все же, сомневаясь, они надеялись сломить и «темные царства», и «черноземную силу» – так Измаильский называл землевладельцев юга России. Ждали заседания Ученого комитета, на рассмотрение которому передан проект, одобренный министром, что и вселяло надежду. И вот 14 марта 1891 года Докучаев извещает Энгельгардта спешной запиской: 53 «Глубокоуважаемый Александр Николаевич... В субботу – первое заседание в Ученом комитете о Почвенном комитете...» Итак, в субботу, 16 марта. Вот и настал долгожданный день. Открыл заседание Иван Павлович Архипов, профессор-химик, председатель Ученого комитета, поддерживавший все начинания Докучаева. В связи с этим поговаривали, что они в дружеских отношениях. Однако, отношения между ними скорее можно было назвать официальными, да и встречались лишь по делу, в кабинетах министерства и на совещаниях. – Милостивые государи, – начал он с некоторой торжественностью, – мы сегодня должны обсудить вопрос об учреждении в России почвенного комитета. О его целях и задачах я говорить не буду, так как, надеюсь, вы все читали проект данного учреждения, составленный ординарным профессором СанктПетербургского университета Докучаевым. Прошу высказаться... И грянул бой, какого никто не ожидал. «Бой был жестокий, – сообщал Энгельгардт своему другу на родину. – Противники Почвенного комитета (Комитет не нужен, почвенные карты не нужны) – прямые – Щепкин, Черняев, которые выступают в виде застрельщиков. Затем Ковалевский, Костычев, Ермолов, Гримм, Масальский... Главнокомандующий Баталин. Партия Докучаева слава: он да я. Поддерживают Архипов, Веселовский, отчасти Карпинский, Мушкетов, Лясковский, Никитин, Шульц. Партии резко определились и даже сообразно расселись...» Докучаев досадовал на Архипова – не так повел совещание. Не следовало обсуждать вопрос, нужен или не нужен Почвенный институт – по этому поводу вполне ясно высказал свое положительное мнение министр государственных имуществ. Следовало говорить исключительно о проекте организации Почвенного учреждения, который он представил Ученому комитету. И Докучаев пишет Архипову форменный протест: 54 «С этой точки зрения большинство заявлений и дебатов, бывших в заседании нашего присутствия марта сего года, нельзя не признать, по меньшей мере излишними, не соответствующими действительному положению и СУЩЕСТВУ дела, превышающими наши полномочия, и, очевидно, не отвечающими официально заявленным намерениям министерства государственных имуществ. Ввиду всего сказанного выше, имею честь почтительнейше заявить Вашему превосходительству, что если соединенное присутствие не признает возможным держаться ТОЧНОГО СМЫСЛА ПОСТАВЛЕННОЙ НАМ ЗАДАЧИ, то я покорнейше прощу считать меня выбывшим из состава присутствия и возвратить мне составленный мною проект положения Почвенного института». В ответ пришла записка, свидетельствовавшая не только о добром отношении к адресату, но и об отсутствии всякой амбиции. «Многоуважаемый Василий Васильевич. Весьма сочувствую Вашему предложению и желая вполне осуществить его, я для успеха дела советую Вам переговорить с директором департамента И.И.Тихеевым. Со своей стороны буду всеми средствами содействовать, но, боясь, что многие самолюбивые люди могут повредить нам, откровенно высказываю, что надо сделать. Когда будете в министерстве, не откажитесь зайти предварительно ко мне. Содержание письма должно остаться между нами. Обо мне слова не говорите. Искренно преданный И.Архипов». И снова свидетельство Энгельгардта: «Вчера опять было заседание Ученого комитета по вопросу об учреждении Почвенного комитета. Опять нападали чиновники: Ермолов, Ковалевский, Костычев, Гримм, Щепкин. Черняев молчал должно быть потому, что Архипов (председатель) поддерживал. Докучаев отбивался от нападок сам». «На мой проект Почвенного института набросились все силы тьмы и ада... Уступать не думаю ни одной пяди», – писал Докучаев 22 марта в Москву профессору Петровской земледельческой академии Алексею Федоровичу Фор- 55 тунатову. А тремя неделями позже в письме Измаильскому сообщал: «Борьба с темными силами идет на всех парах. ТВЕРДО надеюсь, что в конце концов победа будет не на их стороне». Иначе оценивал ситуацию Энгельгардт. «Не знаю, выгорит ли дело, – писал он на родину без прежних эмоций. – Главные противники Ермолов, Ковалевский, Костычев, Щепкин, Шульц, т.е. почти весь Ученый комитет. Защищают Почвенный комитет Архипов (председатель), Докучаев, я, Иностранцев; примыкают Лясковский, Карпинский, Веселовский (но молчанием)». И все же «департаментская секция» дрогнула и согласилась с необходимостью иметь в России Почвенный естественнонаучный комитет с целями и задачами, выдвинутыми Докучаевым. Оставалось решить, быть ли Комитету самостоятельным, или он должен войти в состав какого-либо другого управления. Большинство, 14 членов совещания, высказались против самостоятельности. За самостоятельность проголосовали те же: председатель Ученого комитета И.П.Архипов, академик К.С.Веселовский, академик А.П.Карпинский, профессор В.В.Докучаев, профессор А.А.Иностранцев, А.Н.Энгельгардт и профессор Н.Е.Лясковский. Победа была не полной, но дело, казалось, теперь на ходу. Так думал и Энгельгардт, когда пожаловался Докучаеву: – Устал я, скучаю, надоело все, да и нездоровится что-то... В одном не признавался: за четыре с половиной месяца проживания в Петербурге поиздержался крепко – скоро ни рубля не останется, да и до чертиков надоели ему все эти «самолюбивые люди», двое из которых когда-то были его учениками. Докучаев распростился с ним, и 14 апреля 1891 года Энгельгардт покинул столицу. Утром 16 апреля он уже был дома. 9 56 Ему казалось, он впервые вздохнул полной грудью. «Хорошо у нас, – писал Докучаев через несколько дней после возвращения в Батищево. – Луг зазеленел, лес начал одеваться, березка распускается. Погода прекрасная, воздух чистый, духовитый, отовсюду несется песня... В моей скворешне над флигелем, где я живу, скворцы по утрам так хорошо «играют»... Кукушка кукует в роще. Хорошо. Как жаль, что вас тут нет». На душе у него действительно было хорошо – он вернулся в свой мир. Вернулся – и «теперь двумя руками крещусь, что покинул распрекрасный Петербург». Спрашивал, конечно, «чем разрешится Ученый комитет», но спрашивал, как сам признавался, «издали, без особых надежд и волнений. Весна шагала по земле, пробуждая к жизни все, что способно расти, ползать, летать. Он, Энгельгардт, тоже словно бы пробуждался, приводил «малопомалу все мысли в порядок – в петербургской сутолоке все нити оборвались», и все реже вспоминал Петербург, где «людей-то ведь нет – все только чиновники... Ах, как много чиновников!» Регулярно приходили письма от Докучаева: обещал вот-вот приехать в Батищево, отдохнуть от всех петербургских дрязг. В ответах своих Александр Николаевич подзадоривал друга: «У вас комиссии, а у нас соловьи поют! У вас комиссии, а у нас черемуха цветет! Пора на траву». Ободрял: он, Энгельгардт, дело не оставил, пишет директору департамента Тихееву, что для распространения опыта удобрения фосфоритами «нужно знать почвы». И обещает: «Мы их проберем. На бумаге-то лучше для меня и легче, чем на словах...» И опять за свое: в деревню, к нему в деревню ехать надо, и как можно скорее. Убеждает: «Худо у вас в Петербурге. Хорошая научная деятельность и жизнь, но все отравлено чиновничьими дрязгами, завистью, подставлением 57 ножки и пр. Деньги все портят, т.е. не деньги, а недостаток простоты в жизни. Все тянутся... тянутся...» Докучаев приехал в Батищево в середине мая, но лишь на два дня, посоветоваться: что делать дальше – отстоять самостоятельность Почвенного комитета так и не удалось. Правда, собрание ученых постановило представить общий журнал состоявшихся пяти заседаний на усмотрение министра, однако теперь остается лишь ждать его решения. Договорились: надо настаивать на самостоятельности Почвенного комитета. При этом не плохо бы создать в каждой губернии опытные агрономические станции, которые все испытывали бы в собственном хозяйстве и давали земледельцам своего округа готовые рецепты. – Такие агрономические станции, – согласился Докучаев, – нам очень нужны и они будут иметь огромное практическое значение. – Если в них не разовьется чиновничества, которое все опаскуживает. Они вышли прогуляться, но, пройдя сажен двести, Александр Николаевич закашлялся, задохся и сел отдохнуть. И Докучаев увидел на земле кровавый плевок. – Лечиться вам надо, дорогой мой Александр Николаевич. Энгельгардт через силу улыбнулся и сказал: – Позову доктора, когда умирать буду, чтобы он морфий давал для облегчения страданий. А пока – ну их, докторов, не верю я им. Вернувшись во флигель, он сел в кресло и долго молчал. Молчал и Докучаев, ему казалось, что друг его задремал. Но Александр Николаевич повернул к нему широколобую гривастую голову и сказал, будто и не прерывали разговора: – Как бы хотелось мне дожить до того счастливого дня, когда почвенники приедут в Смоленскую губернию и, под вашим руководством, начнут ее исследовать. – Внимательным и долгим взглядом посмотрел на Василия Васильевича и вздохнул: – Поскорее бы только... 58 – Ручаюсь, дорогой Александр Николаевич, ни один почвенник не проедет мимо, не заглянув к вам. Энгельгардт благодарно пожал руку друга и попросил прощения, ему надо отдохнуть. На другой день Докучаев уехал – впереди у него было путешествие по Волге, которое обернется странствованиями по волжскому правобережью, по саратовским и воронежским степям, а завершится в Полтавской губернии, где в Новых Санжарах летом жила его семья, и где он на короткое время остановится передохнуть. Они расставались, договорившись встретиться осенью. Но расставались навсегда: 21 января 1893 года Энгельгардт умрет от паралича сердца. Однако до этого скорбного дня оставалось еще полтора года. Он еще успеет заложить новые опыты, теперь уже с калийными удобрениями, на которые департамент земледелия выделил ему 150 рублей (просил 5 тысяч). Успеет выполнить работу, на которую департаментских денег не хватит и он приложит своих немало. По итогам опытов напишет несколько научных статей, которые окончательно утвердят его как выдающегося деятеля русской агрохимии. Но утвердят не при жизни, а, как часто случалось на Руси, после смерти. При жизни даже в департаменте, которому посылал научные отчеты, вслух говорили, что опыты его не научны. Разговоры эти дошли до Энгельгардта. Он не обратил бы на них внимания, но в ноябре, за два месяца до смерти, он получил «реприманду Ученого комитета» с замечаниями на его отчет. Замечания были написаны таким тоном, будто дело имели с несмышленым учеником. «Ну все равно, если бы Ученый комитет сделал химику, которому поручено производство анализа, замечание, почему тот не указал в отчете, была ли вымыта посуда, чисты ли были реактивы». И он с гневом пишет Ермолову, который только что побывал у него в гостях: «Кто ввел фосфорит в России? Я. Кто указал значение каинита? Я... Нечего 59 ученому комитету передо МНОЮ ФОРДЫБАЧИТЬ. Пусть прежде сам сделает что-нибудь...» Ему стало до слез обидно за все, что было в его жизни несправедливого, и он с сарказмом добавляет: «Ученому комитету не замечания следовало бы сделать, а наградить медалью, званием почетного члена, представить к чему-нибудь, а то у меня нет звезды. Теперь коллежские асессоры и отставные подпоручики большие звезды получают. Нельзя же министру быть без звезды...» Он еще не закончил «разговоры письмами», возобновит переписку с Костычевым и напишет ему: «А моя звезда еще не померкла! Счастье мне благоприятствует! Опыты нынешнего года дали очень интересные результаты». Звезда его еще горела, дорогая. Таким же затухающим, обманным, было и счастье. Ну, в самом деле, не счастье ли – пришла телеграмма из Смоленска: «Земское собрание признало необходимость почвенных исследований, ассигновало деньги, пригласило Докучаева». «Обрадовался ужасно! – торопится Энгельгардт поделиться радостью с Докучаевым. – Наконец-то наша мечта сбудется. Я ожидаю от почвенных исследований в Смоленской губернии большой пользы, как для НАУКИ почвоведения, так и для практики сельского хозяйства». Докучаев отправил в Смоленск письмо с согласием на руководство исследованиями, представил губернской земской управе программу работ и смету расходов. Но... в недобрую годину начала сбываться мечта – грянула засуха и наступил «глад во всю русскую землю». «Боюсь, – писал Докучаев в сентябре 1891 года, – что благодаря тяжелой године все наши проекты надолго застряну». И они действительно застряли, «ушли в глубь канцелярий», где и «канули в Лету». 60 «Несчастное наше сельское хозяйство, – воскликнет с горечью Докучаев, – ни людей науки, ни знатоков учебного дела, ни людей практики. Исключения все наперечет и торчат, как оазисы в Сахаре!» Оставалось надеяться лишь на одно: тяжелый недород подтолкнет к преобразованиям. «Я уверен, – писал Энгельгардт, – что должны произойти большие перемены, и на сельское хозяйство у нас будет обращено должное внимание». И наконец-то будет создано – о чем давно уже говорили – министерство земледелия, «а в нем, – высказывал Докучаеву надежду и мечту свою Измаильский, – громадный, вполне устроенный, деньгами не стесненный, под вашим управлением, Почвенный департамент». 61 «КАКУЮ ПРАВДУ ЖЕЛАЕТЕ ЗНАТЬ?...» 1 В середине мая 1891 года Ермолов, по поручению министерства финансов, в котором он возглавлял департамент неокладных сборов, выехал в южные губернии России. Поездка его, как он сам отмечал в отчете, не имела ничего общего с вопросами об урожае или неурожае, но, видел Ермолов, надвигалась страшная беда, которая неминуемо разразится страшным неурожаем. И он фиксировал все, что видел. «Картина, которая передо мной расстилалась, была ужасна и заставляла содрогаться за будущее, – набрасывал Ермолов для отчета. – Не только полевые растения, но даже сорные травы, даже вековые деревья не могли противостоять этим губительным метеорологическим условиям. Поля в большинстве местностей оставались черными, луга и степи были выжжены и желтели, деревья подсыхали и гибли целыми десятками. Солнце на небе было красно вследствие носившихся над землею облаков пыли, пыльные вихри столбами кружились над оголенными полями и степями. Люди приуныли в ожидании неминуемой невзгоды». С юга Воронежской губернии, где в Бобровском уезде было его имение, Ермолов проехал до Саратова, а потом и до Самары. И всюду видел ту же картину, сулившую неминуемую невзгоду. Видел не глазами царского чиновника и землевладельца, а ученого, написавшего капитальный труд о системах земледелия и севооборотах в России. Труд этот стал заметным явлением в сельскохозяйственной науке и «после чрезвычайно лестного разбора», сделанного Советовым, был удостоен Академией наук Макарьевской премии – высшей премии того времени. Только что, в самом начале 1891 года, в свет вышло второе издание этого труда. Конечно же, книга была с ним, автор мог радоваться – труд его не 62 остался незамеченным. Но «радость агронома всегда отравлялась скорбью человеческой». Горькие эти слова Александра Николаевича Энгельгардта подтверждались теми жуткими картинами, которые заставляли содрогаться. В пути, на станциях и полустанках, Ермолов спешил купить все столичные газеты, какие только доходили в степные эти края. Он ожидал, что там, в столице, уже спохватились, встревожились, и вот-вот должны что-то предпринять. Но газеты, словно сговорившись, на все лады убеждали сельских хозяев скорее воспользоваться поднявшимися ценами на хлеб и усилившимся на него заграничным спросом, чтобы выгодно продать имеющиеся запасы – советовали вывозить за границу как можно больше хлеба для лучшего нашего торгового баланса. Откликаясь на эти советы и уговоры, писал Энгельгардт из деревни: «Думали у нас и невесть сколько хлеба, а оказалось, что хлеба нет и при первом неурожае – голод. Думали, что у нас ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО хлеба (и выдумали же – перепроизводство, точно хлеб все равно, что ситец!), а вдруг хлеба-то и нет. Мужики говорят: «хлеб что деньги» и продают хлеб только в крайности. А тут перепроизводство! Делали все (тарифы и пр.), чтобы спустить хлеб за границу по дешевой цене, – коровушек там рожью кормят, как говорит Верещагин и нам предлагал тоже – продавать хлеб немцу себе в убыток, все чтобы денег заполучить. Ну и заполучили, курсы подняли...» «Сумасшедшие! – думал Ермолов, имея в виду не газетчиков, а высших правительственных чинов, от которых исходят эти дичайшие советы. – Не вывозить надо, а закупать и запасать для нужд собственного населения». Вернувшись в Петербург, он написал пространную записку, в которой красноречиво и честно изложил все, что видел. Явившись с отчетом к своему непосредственному начальнику – министру финансов Вышнеградскому, представил ему и эту записку. Министр долго и внимательно читал ее, и, Ермолов видел это, все больше сердился. Дочитав, министр сурово взглянул на Ермолова и сказал: 63 – Вы тут пишите, что на Россию надвигается страшный призрак голода и советуете теперь же, пока не поздно, принять самые решительные меры для предупреждения грядущего бедствия... Да, именно такими словами Ермолов заканчивал свою записку. – Так вот, – министр резким движением открыл ящик письменного стола, – следуя вашему совету, я принимаю самые решительные меры... – Тем же резким движением он сунул записку в ящик, энергично задвинул его, запер и добавил не без угрозы: – Из этого ящика ваша записка не выйдет и ни один человек не должен о ней знать. Ясно? Иначе вы мне своими глупостями все курсы испортите... 2 А из деревни летели письма, одно тревожнее другого: «Голод. Запасов хлеба нет. Помилуйте, из нашей несчастной Смоленской губернии хлеб пошел внутрь России! А к весне и у нас хлеба не будет! Денег у народа тоже нет – все повытащили. Спичку зажег – заплати в казну, керосину в лампочку налил – заплати, лемехи наладить нужно – заплати, шкалик водки выпил – заплати в 12 раз более, чем он стоит... Министерство государственных имуществ ввиду голода распорядилось допускать в казенных лесах бесплатно сбор грибов и ягод (прежде, до этого распоряжения, в казенных лесах и за грибы деньги брали! Иногда это был единственный доход с лесов, самый лес-то разворовывали). Вероятно, Министерство государственных имуществ дозволит и гнилые колоды брать. В голодные годы, говорят старики, случалось,.. гнилую колоду прибавляли в хлеб. По Костычеву – ведь это будет не хлеб, а пирог с грибами; ибо что такое гнилая колода, дерево, превратившееся в перегной, – ведь это гриб. Нельзя ли умудриться как бы чернозем кушать». 64 Только спустя два месяца Вышнеградский вынужден был извлечь ермоловскую записку из стола и запретить вывоз хлеба из России, но было уже поздно. Ничего, кроме паники на внутреннем рынке, этот запрет не принес. Теперь хлеб голодающих губерний закупался за тридевять земель и чуть ни с аукциона. А из деревенской глубинки Энгельгардт комментировал: «Хлеб сбывали за границу себе в убыток, а мы, производители, не могли его не продавать, потому что, когда курс поднялся, нам давали за хлеб и другие произведения – лен, пенька – мало рублей, хотя и более дорогих, а налогов не уменьшали, а еще прибавляли и брали с нас столько же, сколько и прежде, но дорогих рублей. Ясно, что это разорило земледельца. Запасов никаких, хлеб задешево весь спустили немцу. Даже священную историю забыли, где рассказывается, как Иосиф посоветовал фараону в урожайные годы скупать хлеб и делать запасы. А теперь и сиди. Откуда хлеба взять? Ни хлеба, ни денег, ни кредита...» Проживая в деревенской глубинке, Энгельгардт по-прежнему был в курсе всех дел, ядовито обсуживал их в письмах чиновникам департамента земледелия: «Так, по-петербургскому, голода нет? Да и газеты пишут: «Хлеб дешевеет», – и ликуют! А отчего дешевеет? Да оттого, что не на что его покупать. Едят всякую дрянь, а хлеба не покупают, потому что «купила» нет. Когда мануфактурный товар не идет, дешевеет – понимают, что это оттого, что на Дону или в Поволжье неурожай, недород, и потому не у мужика денег. Ну то же и теперь с хлебом. Будет дешеветь, как не на что покупать. И еще подешевеет, когда много народу перемрет с голоду. Вообще дело плохо и серьезное дело». Статьи в газетах все больше раздражали его. Один господин, отрицая бедствие, написал, что «голод, это – когда матери пожирают своих детей», чего 65 пока замечено не было. Дичь такая заставляла откликнуться сердито, не выбирая выражений: «Знаете, теперь, кажется, все перебаламутилось. Читаешь и глазам не веришь! Читали Вы в № 48 «Земледельческой газеты» статью «О приготовлении муки из соломы». Не читали – прочитайте или поверте мне. Теперь все хлопочут о суррогатах хлеба. Вот и в Перми члены Управления государственных имуществ надумались печь хлеб из соломы. Взяли соломы, изрезали на мелкие куски, высушили и привезли на мельницу молоть. Мельник не хотел молоть и уверял, что из этой затеи нечего не выйдет. Ну, мельник, конечно, дурак, неуч. Обратились к хозяину мельницы. Тот уважил и приказал смолоть. Получилась соломенная мука. Из этой муки, с прибавкой ржаной, спекли хлебы. Муку брали в разных пропорциях: 2/3 ржаной и 1/3 соломенной; 1/2 ржаной и 1/2 соломенной; 1/3 ржаной и 2/3 соломенной. Пробовали хлеб и нашли, что при первых двух пропорциях 1/3 и 1/2 соломенной муки получается очень хороший хлеб. При третьей пропорции (2/3 соломенной муки) хлеб вышел неудачен, но съедобный и не имел дурного вкуса. Сухари же из всех сортов хлеба выходили отличные. Конечно, чины пробовали хлеб с икрой, закусывая водку перед обедом, за которым подавалась цветная капуста и к ней масло с толчеными соломенными сухарями из соломенного хлеба. Поэтому и рекомендуют соломенную муку как суррогат ржаной муки. Но так как рекомендуют соломенную муку не неучи какие-нибудь вроде мельника, отказавшегося молоть солому, то и представили научные подтверждения – из «Справочной книжки русского сельского хозяина», где в таблицах состава кормовых веществ нашли, что солома содержит 37,7% перевариваемых веществ, т.е. лишь только вдвое менее, чем рожь. Из этого заключили, что 2 части соломенной муки могут заменить 1 часть ржаной. Конечно, чины не знали, что в таблицах показано количество веществ, перевариваемых травоядными животными, а не человеком. Наверное, мельнику говорили, что он, мужики, ничего не знает, что в соломе, так же как и в зерне, много углеводов и пр.» 66 А газеты продолжали наперебой давать советы. Да, подумал я, и по сей день никак не угомонятся советчики: то о вреде мяса пишут – и предлагают почти полностью исключить его из рациона питания, заменив растительными белками, то распишут достоинства веточного корма для скота, забывая указать, что к этому способу кормления прибегали и предки наши, но не от хорошей жизни. Много чего предлагают, каждый читающий может вспомнить не один такой совет, который об одном лишь свидетельствует: в магазинах по-прежнему нет мяса, на фермах все так же туго с кормами. 3 На первом же после каникул собрании Вольного экономического общества был поставлен вопрос об участии, «которое подобало бы принять Обществу» в изучении бедствия, его размеров, причин, последствий и мер противодействия. Предложение это было встречено с живейшим сочувствием, однако в ходе обмена мыслями признали, что ограничиться докладами и изучением «было бы неудобно для Общества, слывущего богатейшим в России». Решили: создать временный комитет для всестороннего изучения неурожая, выделить 500 рублей в пользу наиболее пострадавших селений. Конечно, это капля в море, поэтому в протоколе записали с оговоркой, что сумма эта «в смысле пожелания, чтобы ценою этой жертвы была оказана поддержка хотя бы только сотне дворов-хозяев (500 душ), то лишь бы в будущую весну они могли выйти на полевые работы». Вновь созданный комитет выработал для рассылке на месте «циркулярное приглашение», запрашивающее подробные сведения о неурожае и голоде. В ответ пришли письма, но не с ответами, а с вопрос: какую правду желаете знать, настоящую или только официальную? 67 «В высшей степени характерно», – прокомментировал этот вопрос и записал в отчет секретарь Общества. «Настоящую», – ответили из комитета. А вот на настоящую правду решились не многие. На 1250 разосланных приглашений, откликнулось только 52 «наиболее отзывчивых из корреспондентов». Первым прислал весьма пространные ответы крестьянин Московской губернии Н.С.Сергеев. Самым существенным средством к предупреждению неурожаев, писал он, будет «полный земельный крестьянский надел с лугами, пастбищами, выгонами и лесными отводами для отопления». И пояснил господам ученым: «Чтобы земля не истощалась, необходимо возвращать ей часть ее даров в виде естественных удобрений, но чтобы иметь естественные удобрения, необходимо иметь скот, а чтобы иметь скот, необходимо иметь для него корм; наконец, чтобы иметь корм, необходимо иметь естественные луга и пастбища». Но, не дурак мужик, понимал, что владеющий землей должен иметь и знания – и сам, и дети его, а для этого нужны не церковноприходские школы, а сельскохозяйственные, ибо «как медику необходимо знание медицины, юристу – юриспруденции, так точно земледелец должен знать качественные особенности почвы, естественные и искусственные средства подъема ее производительности и пр.». Прочитав такое письмо, Докучаев мог с горечью упрекнуть коллег своих: вот, даже крестьянин понимает, что должен знать качественные особенности почвы, а что же вы, ученые мужи, отвергли мое предложение? Нет, писали в один голос все 52 корреспондента, бедствие не было явлением неожиданным или следствием какой-либо внезапно проявившейся природной причины. И в доказательство ссылались на статистику: не реже, а чаще и чаще повторяются неурожаи и голодные годы. Недороды поражают все большее число губерний. Голод постигает Россию каждый третий год столетия. Особенно участились они с того года, как пало крепостное право. С отменой 68 его наши сельские хозяева внезапно очутились совершенно в непривычных условиях, остались наедине с землей без знаний и капитала. Что делать с ней? Принужденные отказаться от эксплуатации дарового труда и не умея организовать свои хозяйства на правильных сельскохозяйственно-экономических оснований, хозяева обратились тогда к эксплуатации матушки-природы, ее лесов и земель. Центр тяжести сельскохозяйственного производства переместился в нечерноземные губернии, где можно было получать доход от земли опять таки без правильной организации хозяйств, без труда, без знаний, без затрат, а благодаря одному только естественному плодородию почвы. Земли истощались, хозяйства не совершенствовались, а хозяева все более приноравливались лишь к выработке такого положения, при котором крестьяне, не имея достаточно наделов, вынуждены были арендовать землю по цене, какую барин назначит, и наниматься к нему еще с зимы за мизерную плату. В результате арендная плата во многих местностях России оказалась так высока, что далеко не всегда окупалась продуктами, получаемыми с арендованного участка, чаще урожай не окупал затрат и не вознаграждал труда, положенного крестьянином на обработку земли. С другой стороны, обычай дешевой наемки рабочих с зимы так усовершенствовался, что расход на рабочую силу в имениях был доведен до минимума – преобладал почти даровой труд, что и давало возможность хозяевам существовать и получать доход даже при самом никудышном хозяйствовании. Правда, и работы при этом исполнялись дурно, а в некоторых случаях и совсем не исполнялись. Барин по-прежнему не желал платить за работу, а «вольный» безземельный мужик если и работал, то кое-как. Да и нанимался он не с весны, а с зимы только потому, что голод вынуждал: бери, что барин дает, иначе помрешь, не дожив и до весны. Обычай этот, разорительный и для самих нанимателей, а еще более для нанимаемых, обычай, развращающий ум и душу нации, свято оберегался вчерашними крепостниками. Они предпочитали довольствоваться такой неверной 69 и плохой, но дешевой работой. Гнали прочь любые советы изменить систему и строй своих хозяйств, организовать потребную им рабочую силу на таких условиях, при которых труд рабочих вознаграждался бы правильно и обеспечивались бы интересы обеих сторон. Настоящее положение сельского хозяйства и крестьянства в России печально, будущее – туманно. 4 А между тем сведения, поступавшие в Петербург, рисовали картину жуткую: по всей вероятности, в 1891 году Россия недоберет более полумиллиарда пудов хлеба – обычно ежегодно собирала в среднем до 4 миллиардов пудов. Требовали продовольственной помощи 29 губерний и областей России. При этом, как показывали достоверные данные, в 17 из них, наиболее пострадавших, нуждаются в неотлагательной помощи не менее миллиона человек, их надо было если не накормить, то хотя бы дать каждому по куску хлеба. Как это сделать – толком в Петербурге не знали, но где-то по голодающим селам русских губерний уже ездил Лев Толстой, Чехов, Короленко и многие-многие другие, кто по зову совести отложил все дела и с головой окунулся в гущу голодающего народа, помогла ему. Они на пожертвованные деньги закупали хлеб, устраивали столовые и пекарни, чтобы поддержать бедствующих, не дать им умереть голодной смертью. Чтобы «обеспечить великодушным усилиям честной благотворительности соответственное важности дела направление и необходимое единство действий, во главе всей благотворительной кампании был высочайше учрежден Особый комитет под председательством наследника цесаревича, которому через три года суждено стать императором Николаем II, последним российским императором. 70 Следом за Толстым, Чеховым, Короленко поднялись тысячи добровольцев, так что благотворительному комитету не пришлось подыскивать уполномоченных, они сами заявляли о себе уже начатой деятельностью. Не пришлось искать и формы помощи – уже зимой 1891-1892 годов по российским деревням курилось 1498 пекарен, в которых добровольцы выпекали хлеб для бесплатной раздачи голодающим, открылось 8115 столовых, в которых бесплатно питалось свыше 636 тысяч человек. Отсюда из петербургского комитета, в который стекались отчеты добровольных уполномоченных по прокормлению, виделась радужная картина: по деревням дымят трубами пекарни и столовые, к ним стекается народ, накормленный, уходит в работу, благодаря в душе бога, царя и кормильцев своих. Издали всегда картина краше, издали ни слез, ни горя не слышно и не видно, а потому и беда не кажется бедой, да и какая может быть беда в народе, когда вон сколько труб дымится по деревням – всюду пекут, варят, бесплатно кормят. Совсем иные чувства испытывали те, кто добровольно возложил на себя обязанность кормить толпы голодающих, кому надо было «разливать эти капли помощи в море нужды». «При мне, – сообщал Чехов, побывав в Нижегородской губернии, – на 20 тысяч человек было прислано из Петербурга 54 пуда сухарей. Благотворители хотят пятью хлебами пять тысяч насытить – по-евангельски». В той же губернии за пуд муки крестьяне отдавали лошадь, которую нечем было кормить. По этой же причине скот продавался по баснословно дешевым ценам, однако покупателей все равно не находилось. Никакой другой помощи не было. Да и эту, от добровольцев, местные власти допускали неохотно. Господ дворян, все еще мечтавших о возврате крепостного права, раздражало это вторжение в их владения посторонних людей. Собираясь в собраниях, бывшие крепостники разражались гневными речами: «Господа! Мы давно уже слышим это нытье и печалование о нужде и грозном голоде. Мы слышали это уже и прошлой весной в нашем уезде. Знаете ли, как 71 мы распорядились (с ударение и расстановкой): не дали ни зерна, никто не умер, и поля оказались засеянными». Этой же мерой, не дать ни зернышка, хотели обойтись и ныне. Нужно было бить в набат. И Лев Толстой, переполнившись гневом, написал статью «О голоде». На страницы русской печати царская цензура не пустила ее. Толстой отправляет статью своему переводчику в Лондон и 14 января 1892 года в газете «Дейли телеграф» она появляется пол заглавием «Почему голодают русские крестьяне». Реакционные «Московские ведомости», категорически отрицавшие наличие голода в России, захлебнулись от гнева и объявили статью «открытой пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя...» А тем временем в передовых кругах русского общества она ходила по рукам, пробуждая совесть, взывая к действию. Нет, притесненная, по духу своему все еще крепостная Россия не молчала. То там, то тут раздавались вовсе не робкие голоса. И голоса эти не растворились в пустыне безмолвия, они, как далекое эхо, звучат и поныне. Я вслушивался в эхо голосов, а мыслями обращался совсем в другую эпоху, перескочив через сорок лет вперед. Да, история учит, но она не избавляет от повторения даже трагических ошибок, как наш личный жизненный опыт не предостерегает от таких же неверных поступков наших детей. На этом сорокалетнем пути будут и засухи и недороды, но мысли мои тревожит сейчас 1931 год и беда, о которой мы долго ничего не знали – она хранилась в тайне. В тот год страна собрала на 875 миллионов пудов зерна меньше, чем в предыдущую страду. Однако вывоз хлеба за границу не только не уменьшился, но даже увеличился – на внешний рынок было поставлено без малого 314 миллионов пудов. От каждого едока оторвали почти по два пуда хлеба. Во многих колхозах изъяли не только все хлебные запасы, но выгребли и семенной фонд, всегда считавшийся в народе неприкасаемой святыней. Вы- 72 гребли, вывезли за границу и сбыли по дешевке – в мировой экономике разразился кризис, и цены на зерно резко упали. За границей наш хлеб продавался за бесценок, себе в убыток, лишь бы валюты заполучить, а в наших селениях свирепствовал голод, какого давно не бывало. На Украине, северном Кавказе, Нижней и Средней Волге, Южном Урале и в Казахстане от голода вымирали целые селения. Однако беспомощный крик голодных людей не вырывался за пределы этих селений, наглухо закрытых для гласности». Казалось, никто не видел, не слышал мук народных. Но это неправда. Зрячие видели людские страдания, имеющие уши слышали стоны, но они, лишенные дара речи, решатся разомкнуть уста и рассказать о виденном и слышанном лишь полвека спустя – внукам и правнукам расскажут. Тогда же, спустя полвека, и ученые займутся исследованием, чтобы ответить своим современникам, сколько же человек погибло от голода страшной зимой 1932-33 года в селах зерновых районов обширной страны. Одни говорили о гибели трех миллионов человек, другие прибавляли к этим жертвам еще миллион человек. Кто ж регистрировал тогда смерть крестьян, которых, даже ставших колхозниками, считали массой, враждебной неимущему пролетариату и социализму... 5 «Глубокоуважаемый дорогой Василий Васильевич! – писал Энгельгардт. – Знаю из газет, что вы будете читать лекцию о степях. Вы пишите, что в этой лекции думаете коснуться злобы дня, т.е. неурожая, голода. Не знаю, как вы приурочите злобу дня к вашей лекции. Злоба дня есть вопрос экономический и социальный. Ни почвенные, ни метеорологические, ни агрономические институты не могут предотвратить такие явления, как нынешний голод. Для этого нужно, чтобы изменились экономические и социальные отношения . Неурожай, недород всегда может случиться на такой обширной территории, как Россия. Но если народ богат, то он перенесет неурожай без труда, и голода не 73 будет. У богатого народа всегда окажутся запасы хлеба и денег. А у нас даже при недороде небольшом сейчас же и голод... Не знаю, как вы этот вопрос приурочите к лекциям о степях... И заметьте при этом – все средства употребляются на то, чтобы мужик все продавал. Курица яйцо снесла. Как мужик будет яйцо есть! На элеватор яйцо, к немцу, за границу! Наука-то наука, не я стану отрицать значение науки (настоящей науки), но нужен и порядок. А порядка нет как нет...» Докучаев получил это письмо Энгельгардта накануне своего выступления перед публикой. Прочитал и задумался: ссыльный профессор конечно же прав, и было бы куда как хорошо, если бы изменились экономические и социальные отношения в России. Прав и в том, что недород всегда может случиться на обширной территории государства Российского. Но... есть же причины, не зависящие от экономической и социальной злобы дня. До каких же пор мы будем питаться не делом рук своих, своей энергии, своего знания, а, в сущности, манной небесной, то в виде обильных дождей, то в форме недородов в Западной Европе и прочее и прочее. До каких пор Россия, наделенная сотнями миллионов десятин лучших в мире земель, будет страдать от недородов. Однако что толку от лучших земель, если мы ни сил русской природы не знаем, ни ее естественных средств. Мы в крайне печальном, и крайне комическом положении – решительно не знаем ни своей земли, ни своей воды, ни климата, ни растительного и животного мира, ни даже нашего мужика. Отсюда наше полное бессилие в борьбе со стихиями, засухой, безводием, мглой, черными бурями, степным бесснежьем и прочими бедами, для успешной борьбы с которыми далеко не достаточно одних капиталов и власти... Странно, что мы, поедая иногда вместо хлеба мякину и осиновую кору, не можем понять такую простую истину... Эти причины наших бед кроются в тех природных условиях, которые в равной степени действуют и будут действовать при любом государственном устройстве. И будет великая честь науке, если она укажет эти условия и найдет 74 верный путь их улучшения, если она, ответив на вопрос: «Почему иссякают силы земли?», ответит и на другой– «Что можно противопоставить засухе?» Да, Энгельгардт прав, у богатого народа всегда окажутся запасы и хлеба, и денег на случай недородов. Но недороды-то все равно будут, в значит они будут изматывать даже зажиточный народ. Мы решительно ничего не сделали, чтобы приноровить наши пашни к засухам, чтобы разумно использовать наши речные, снеговые и дождевые воды. Мы до сих пор еще всю ответственность за наши урожаи преспокойно возлагаем на природу. На этот раз Энгельгардт – сам практический хозяин – судил лишь о том, что видел в деревне. Перед взором Докучаева расстилалась вся Россия, ее степи и пашни, которые подвергаются, хотя и очень медленному, но упорному и неуклонному прогрессирующему ИССУШЕНИЮ. И дело не в изменении климата, а в том, что повсеместно растут, все больше углубляясь, овраги и балки. Развитие густой сети оврагов, почти сплошная распашка степей привели к исчезновению от века существовавших в степях западин, блюдец, озерков, в которых собирались снеговые и дождевые воды и которые питали сотни мелких степных речек. А как поредели леса, защищавшие местность от размыва и ветров, скоплявшие снега, способствовавшие сохранению почвенной влаги, а вероятно, и поднятию горизонта грунтовых вод, охранявшие ключи, озера и реки от засорения, уменьшавшие размеры и удлинявшие продолжительность весенних водополей. Площади лесов – этих важнейших, наиболее надежных и верных регуляторов атмосферных вод и жизни наших рек, озер и источников, местами уменьшились в 3-5 и более раз... Результатом этого обеднения лесами и явились более суровые зимы и знойные сухие лета на юге России. Стало суше даже при сохранении прежнего количества падающих на землю атмосферных осадков. «Если присоединить сюда, – записывает Докучаев мысли свои, – факт почти повсеместного выпахивания, а следовательно, и медленного истощения 75 почв, в том числе и черноземов, то для нас сделается вполне понятным, что организм, как бы он ни был хорошо сложен, какими бы высокими природными качествами он ни был одарен, но раз, благодаря худому уходу, неправильному питанию, непомерному труду, его силы надорваны, истощены, он уже не в состоянии правильно работать, на него нельзя положиться, он может сильно пострадать от малейшей случайности, которую, при другом, более нормальном состоянии, он легко бы перенес или, во всяком случае, существенно не пострадал бы и быстро оправился. Именно, как раз в таком НАДОРВАННОМ, НАДЛОМЛЕННОМ, ненормальном состоянии находится наше южное степное земледелие, уже и теперь, по общему признанию, являющееся биржевой игрой, азартность которой с каждым годом, конечно, должна увеличиваться»... Однако, и Энгельгардт прав. И Докучаев к этой последней фразе делает сноску: «Здесь, как и во всей настоящей статье, мы ведем речь исключительно об естественных природных причинах и явлениях, вовсе не касаясь экономических и других сторон вопроса». Уточняет не для защиты от возможных нападок в игнорировании экономических и социальных вопросов, а чтобы подсказать читателю, знакомому с жизнью народной, насколько усугубляются все эти беды при существующем порядке. И, продолжая прерванную мысль, пишет: «Не само собой разумеется, что так дело продолжаться не может и не должно; никакой даже геркулесовский организм не в состоянии часто переносить таких бедственных случайностей, какая выпала в настоящее время на долю России. Безусловно должны быть приняты самые энергичные и решительные меры, которые оздоровили бы наш земледельческий организм». Какие же это меры? Прежде чем их назвать, Докучаев предупреждает, что, во-первых, «эти меры должны быть цельны, строго систематичны и последовательны, как сама природа». А во-вторых, меры эти должны быть направлены против тех причин, которые подрывают наше земледелие, и к совершенному 76 уничтожению того зла, «которое уже сделано частью стихийными силами, а частью и самим человеком». И далее набрасывает пять «надо», которые не потеряют своего значения и через сто лет. Надо заняться регулированием рек. Надо приступить к повсеместному регулированию оврагов и балок. Надо озаботиться устройством правильного водного хозяйства в открытых степях и на водораздельных пространствах. Надо выработать нормы, определяющие относительные площади пашни, лугов, леса и вод. Надо окончательно определить приемы обработки почвы, наиболее благоприятные для наилучшего использования влаги, и добиваться большего приспособления сортов культурных растений к местным условиям. Каждый из пяти пунктов Докучаев подробнейшим образом конкретизировал, по каждому указал возможные ошибки, допускать которые «НЕЛЬЗЯ И ОПАСНО В ИНТЕРЕСАХ ДЕЛА, В ИНТЕРЕСАХ ГОСУДАРСТВА». «Таковы ПРИНЦИПЫ, таковы ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, которые было бы крайне желательно, в интересах настоящего и, особенно БУДУЩЕГО России, осуществить, по возможности, в целом, во всей полноте», – констатировал Докучаев. И еще раз оговорил: «Но, вполне понятно, что в таком осуществлении должна быть строгая последовательность и величайшая осторожность; необходимо, чтобы само население южной Росси постепенно освоилось с новыми водными порядками и на деле воочию убедилось бы в их существенной пользе и необходимости». А чтобы на практике испробовать эти меры «во всей совокупности, со всеми предосторожностями», чтобы убедить население в пользе этих мер, предлагал заложить в южной части России 4-5 участков. И указал лучшие для этого места на степных водоразделах между крупнейшими реками. 77 Вот какими мыслями решил Докучаев поделиться с публикой, которая придет на его лекцию 15 января 1892 года. Он выскажет их, а умные люди пусть думают, злобы дня он коснулся или будущего России. 6 Я никогда не задавался вопросом, почему Докучаев, еще в начале сентября заговорив о чтении публичной лекции в пользу пострадавших от неурожая, прочитал ее только 15 января. Вернее, никогда не обращал внимания на даты, знал одно: лекцию такую он читал, на ее основе написал для «Правительственного вестника» ряд статей, которые вошли в книгу «Наши степи прежде и теперь», ставшую программой не только для русской науки. И вот в историческом архиве беру в руки дело «О порядке разрешения публичных лекций и чтений в столицах» за 1891 год. Взял с единственной целью: вдруг обнаружу в нем какую-нибудь подробность если не о Докучаеве, то о ситуации в голодный год. Читаю: Совет Петербургского университета «В заседании 30 сентября постановил ходатайствовать о разрешении публичных лекций». Далее следуют фамилии лекторов и темы их лекций. Все лекторы – профессора университета. Среди них – Докучаев, «Недавнее прошлое русских степей». Та самая лекция, с которой он и вышел к публике 15 января. Перед кем же ходатайствовал Совет? Перед ректором. Ректор с той же просьбой обратился к попечителю СанктПетербургского учебного округа – в его письме тот же перечень фамилий и лекций. Попечитель 16 ноября пишет господину министру народного просвещения. Тот обращается к министру внутренних дел «с присовокуплением программы». На нем, наконец, восхождение вверх прекращается. Начинается спуск вниз. И даже есть точная дата этот нисхождения – 26 ноября. В этот день ответные бумаги пошли спускаться по тем же инстанциям, как по ступенькам. Министр внутренних дел уведомлял министра народного 78 просвещения, что градоначальнику сообщено «о неимении препятствий к разрешению» читать лекции всем указанным лицам за исключением профессоров Файницкого и Яроцкого. «Что касается сих последних лекторов, – объяснил министр причину отказа, – тоя нахожу, что избранный ими предмет лекций – о народном продовольствии и неурожае – может дать им полную возможность высказать взгляды, несогласные с мерами и предначертаниями Правительства по этому делу». А меры, кои безусловно известны министру, заключались в том, чтобы никто не смел говорить о голоде, да и слово «неурожай» чтобы произносили помягче. Министр народного просвещения все понял и уведомил об этом попечителя учебного округа, а тот – ректора университета. Каждый участник этой переписки, адресуясь сначала вверх, а потом вниз, писал как бы от себя, ни словом, ни намеком не сославшись на ту инстанцию, где уже побывало прошение. Так что, будь предо мной только ответ попечителя, я был бы уверен, что это в его и только канцелярии пролежало прошение ректора почти три месяца. Так, должно быть, в тайных недрах канцелярий и исчезали многие и многие начинания. Так растворилось, заглохло дело о Почвенном комитете. Но как исполнены эти письма! Какими почерками! Усерднейшими Акакиями Акакиевичами исполнялись, не допускавшими ни единой помарки, каждую буковку выписывали. Да что там выписывали – творили, вырисовывали, сливая их в стройные строчки, которые придавали бумаге вид необыкновеннейшей красоты. Никогда доселе не доводилось мне видеть подобные шедевры письма, да еще в таком множестве и разнообразии. Что там докладные нашего времени, отпечатанные на машинке и испещренные не всегда уверенными росчерками визирующих. Если чем и способны поразить эти документы, то лишь количеством росчерков – на некоторых бумагах их десятки. Налюбовавшись творениями Акакиев Акакиевичей, я задумался о причине такого хождения прошений по инстанциям: может, в списке этом оказа- 79 лись в чем-то заподозренные университетские профессора? И готов был утвердиться в этой мысли, но полистал дело дальше и увидел: просят разрешить Менделееву и Бекетову чтение публичных лекций в помощь голодающим. Они тоже под подозрением? И сенатор Кони? Да что там сенатор! Даже товарищу обер-прокурора Сената Случевскому нет доверия. «На благоусмотрение» – последовал ответ. Даже «камергеру Двора Его Императорского Величества К.А.Бодиско» не сделали исключения – до того же министра внутренних дел дошло прошение на прочтение лекции, в которой конечно же не было не только «несогласных взглядов», но и не было ничего о народном продовольствии и неурожае, а уж о голоде и тем более. Можно понять гнев чиновников на Льва Толстого, который, поездив по деревням вдали от столиц, взял да и начертал черным по белому: «О голоде». Полная бестактность, несогласная «с мерами и предначертаниями». Могла ли цензура пустить такую статью на страницы российской печати! А может, цензор действовал, как и попечитель? Вполне возможно. Тайны канцелярий не разглашались Акакиями Акакиевичами – они создавали шедевры письма, нисколько не вдумываясь в содержание. Они пуще всего боялись помарок в своих шедеврах, творимых для «их высочеств и величеств». Словом, передо мной лежало не «дело» – приоткрылась картина российской жизни, выполненная искусными мастерами. Какую же силу воли надо было иметь, как же нужно было любить свой народ, свою Родину, чтобы верить в разум человеческий, в победу добра и с этой верой выходить к народу, затевать новые и новые дела. Дивные были эти люди. Нельзя, непростительно нам забывать их – они не науку, а Россию вперед двигали, и, надорвавшись, умирали под тяжелый вздох: «Как же трудно в России сделать что-нибудь». Тем ценнее для нас дела, свершенные ими, их труды и свидетельства, оставленные нам. Тем поразительнее, что они не молчали, что голос этих людей прорывал все барьеры. 80 7 В начале 1892 года на прилавках петербургских магазинов появилась книга «Неурожай и народное бедствие». Книга вышла без имени автора, однако раскупили ее быстро. Выручка от продажи, как распорядился аноним, шла в пользу пострадавших от неурожая крестьян Бобровского уезда Воронежской губернии – на содержание столовых. Полагали – написал ее один из литераторов, участвующих в «кормлении» (туда, в Бобровский уезд, отправились Чехов и Суворов). Однако при внимательном чтении обнаруживали, что многие цифры и факты литераторам вряд ли могли быть известны. Скажем, кто из них мог знать, что на январь 1891 года в запасных хлебных магазинах-житницах европейской части России числилось в наличности более 94 миллионов пудов хлеба – вполне достаточный запас при любой нужде. Кто из пишущих мог знать, что в действительности, когда грянула беда, этого количества хлеба не оказалось, и что запас его составил менее четверти должного количества, а житницы Тульской губернии были и вовсе почти пусты. Кто из них мог знать, что в пострадавших от неурожая губерниях хлеб был (и немало – 115 миллионов пудов!), но почти весь он вывезен крупными владельцами и продан за пределами своих губерний и за рубеж России. Книга разила фактами, прямо говорила о том, что бедствие, которое охватило 29 губерний России, «не от одного неурожая проистекает», а от правительственной и финансовой политики, которая сначала заключалась в упорном замалчивании факта назревающего бедствия, потом в запоздалом воспрещении вывоза хлеба за границу, и в такой же запоздалой и очень плохо организованной закупке зерна. Вышнеградский первым мог догадаться, кто написал книгу, а догадавшись, крепко насолить автору. Но бывший министр финансов в это время сам был под неослабным огнем критики. Газеты, которые еще недавно советовали 81 вывозить зерно за границу, чтобы «не испортить курсы», обрушились теперь на него, как главного виновника бедствия. Так что и хотел бы насолить Ермолову, но не мог. Да, Петербург уже знал, что книга эта написана именно Ермоловым, о котором говорили, которого молва настойчиво прочила в министры земледелия как человека толкового, умного, образованного, хорошо знающего сельское хозяйство России. В книге он предостерегал: от повторения подобных бедствий Россия ничем не застрахована. Больше того, они, бедствия, неминуемы до тех пор, пока мы будем идти «путем самой неразумной эксплуатации и расходования природных богатств русской земли». Выход один: «только при немедленном вступлении на путь серьезного изучения и улучшения естественных условий русского земледелия, будущность нашего сельского хозяйства, а с ним и благосостояние русского государства, могут считаться обеспеченными. Иначе нас ожидает участь самая печальная и безотрадная, так как никакое богатство, никакая мощь русского народа не будет в состоянии вынести тех тяжелых испытаний, которые ныне переживает русская земля, если они будут периодически повторяться». – Молодчина! – сказал Докучаев Анне Егоровне, прочитав ей эти строки. – Вот эту мысль и надо внедрять в умы наших чиновников. – И тут же набросал: «Если желают поставить русское сельское хозяйство на ТВЕРДЫЕ НОГИ, то ТОРНЫЙ ПУТЬ, если всерьез хотят лишить его характера азартной БИРЖЕВОЙ ИГРЫ, если желают, чтобы было приноровлено к местным условиям страны, то нужно, чтобы были исследованы все естественные факторы, и исследованы не только всесторонне, но непременно во ВЗАИМНОЙ их связи (почва, климат с водой и организмы). Без этого она навсегда останется БИРЖЕВОЙ игрой, хотя бы годами и очень выгодной». 82 – Очень интересная работа, – говорил Докучаев вечером, показывая ермоловскую книгу гостям, пришедшим «на огонек» без приглашения и даже без видимого повода – просто знали, что у Докучаевых кто-нибудь обязательно будет и будут разговоры, споры, поэтому никто лишним не окажется. Многие уже читали ее, поэтому тут же заспорили. Правда, спор вертелся главным образом вокруг упрека, который сделал Ермолов русской науке, будто бы «слишком далеко стоящей от потребностей жизни и игнорировавшей самые насущные ее запросы». Упрек этот считали не только незаслуженным, но и оскорбительным. Докучаев, улыбаясь, что-то записывал. – Как я вас понял, друзья мои, вы вот что хотели бы ответить любезному Алексею Сергеевичу, – Докучаев взял со стола листок, на котором только что писал, и прочитал: – Следует напомнить автору «Неурожая...», что люди науки уже десятки лет предостерегали кого следует о надвигающейся опасности, люди науки представляли, кому следует, десятки проектов и ходатайств об исследовании русских окраин, об изучении отдельных географических районов России, об исследовании оврагов и речек, об устройстве Почвенного института и организации почвенных исследований, об упорядочении водного хозяйства на юге России и прочее и прочее. Проекты эти обсуждались на съездах, поддерживались целыми обществами, но в конце-концов люди науки неизменно получали на это приблизительно такой ответ: «нет средств, есть более важные потребности, у нас этот вопрос уже намечен, Россия велика – всего не исследуешь, ваша работа протянется десятки лет и, бог знает, что из нее получится». Все это А.С.Ермолов прекрасно сам знает. – Знать-то он знает, да виноватых ищет не там. – Что ж вы хотите от должностного человека? Хотите, чтобы он правительство обвинил и тех, кто препятствовал нашим начинаниям? Но тогда бы мы не читали вот этой книги. Главное не в том, что он и сам немало препятствовал, а в том, что сказал правду о народном бедствии. Нет, друзья мои, не согласен я 83 с вами, любой поступок, любое дело надо судить по его достоинствам. Ермолов честно сказал о беде, и за это спасибо ему. Он другим дорогу проложил. – Но вы же сами только что зачитали упрек ему. – Упрек? Нет, я договори то, что он сказать не решился – на истинных виновников намекнул. Может, кто-нибудь это сделает еще откровеннее. Всю правду сказать одному человеку, да еще всю сразу, не дано никому. 8 А «Московские ведомости», яростно шельмуя Толстого, с злорадным умыслом оповещали своих читателей, что в народе ходят слухи об антихристах, появившихся в русских селениях под видом благотворителей. И тем самым поддерживали и распространяли эти слухи: очень уж не нравилась газете помощь «не под официальным казенным флагом», а главное, не нравились эти вольные деятели – они не только не старались угадать, «какой их ответ будет приятнее и доставит большее удовольствие», но печатно высказывали супротивные мысли. «Московские ведомости» «вместо голодающего народа» настойчиво выдвигали «образ лентяя, обманщика и попрошайки». «За отстранение помощи от голодающего народа» храбро выступили все мужиконенавистники во всех уголках России. Жандармский генерал Познанский строчил доклады министру внутренних дел, в которых благотворительные куски хлеба приравнивал к прокламациям, а столовые именовал очагами революции. Он был убежден: «кормить народ едут только смутьяны». В результате этих совместных усилий многим частным благотворителям было предложено «оставить пределы губернии»... Во многих и многих селениях остались не только без помощи, но и без всякой надежды выжить. 84 Вступала в силу знаменитая щедринская фраза, которой не один год открещивались на Руси в подобные невзгоды: «Ен достанит». В прежние-то годы не давали ни зерна, а ничего, выжил мужик, не помер, отдышался. Однако до чего же изленился этот попрошайка и обманщик – уже и лежа на печи помирает. Расшевелить его надо, нечего ему бока пролеживать. И заговорили о «помощи в виде работы» во имя физического и нравственного здоровья мужика и детей его. А заговорив, пришли к убеждению: крестьянин сам себя прокормит, ему надо только дать возможность копейку заработать. Стали думать, какое дело затеять, какую общественную работу найти. Да мало ли дела в России! Нет сносных дорог – строй. Леса руби – их еще уйма, копай колодцы, пруды, овраги загораживай, сажай лесные полосы. На всякое время годы работа сыщется. Нужно только, чтобы кто-то во главе всего этого дела стал. Но и в этом затруднений быть не может: славу богу, есть в России энергичный генерал Анненков, прославивший себя недавней постройкой Закаспийской железной дороги. Генерал охотно откликнулся на предложение – ему хотелось новой деятельности и новых почестей, вся Россия должна знать его. И узнает! Он, генерал, во главе всех общественных работ, которые развернутся чуть ни по всем губерниям России, от южных ее границ до северных, от западных – до Урала, а то и дальше. И всюду, у всех на устах и в мыслях он, Анненков! О лучшем поприще генерал и мечтать не мог. Правда, там, на Закаспийской железной дороге, все вершилось специалистами-инженерами, знающими свое дело, а генерал лишь главенствовал над ними, смотрел за порядком да взыскивал кого рублем, кого словом. По завершении дороги – им спасибо, а ему награды и слава. Однако, полагал генерал, точно так и на общественных работах будет: кто-то проекты составит, кто-то с этими проектами в руках будет указывать хлынувшему из деревень народишку, где и что делать. 85 Отдали ему на первое время, для зимних работ, 32 тысячи десятин казенного леса под рубку – пусть мужики валят, а куда сваленный лес девать, об этом после будем думать. Не первый раз помещичья и чиновная Россия откупалась лесами. Но впервые выдвигала благовидный предлог: лесов у помещиков и у казны много, а у крестьян, как все о том твердят, земли мало. Вот и пусть леса вырубают, а вырубки превращают в пашню. И под широкий взмах генеральской руки начали вырубать новгордские, костромские, ярославские, подмосковные, воронежские и другие леса. По всей европейской России запестрели вырубки-проплешины, отодвинувшие леса подальше от селений и городов. Потом, через несколько лет, даже царские чиновники осудят эту варварскую рубку, которая только измучила и оборвала и без того заморенных голодом мужиков, обезлесила многие земли, привела к оскудению многих территорий. Но это скажут потом, а пока – рубили. Рубили бестолково, без всякой пользы. Рубщики-мужики не только не зарабатывали на свой собственный прокорм, но погружались в еще большую нужду: мужики зарабатывали по 20, женщины и подростки по 15 копеек в день на своих харчах. Килограмм муки можно было купить на такой заработок. Нет, тут, на лесосеках, разбросанных по всем голодающим губерниям, генеральская слава явно не складывалась. И Анненков устремился на черноморское побережье Кавказа, где голодающие строили шоссе от Новороссийска до Туапсе и от Сочи до Нового Афона. Однако и здесь, на дороге, была та же бестолковщина, что и в лесу. Позже, по окончании общественных работ, чиновники зафиксируют, что полностью построить шоссе генералу Анненкову не удалось, а местами работу пришлось исправлять и переделывать. И все же мечты генерала хоть частично, но 86 сбылись: именно это шоссе долго будут называть то «голодным», то «Анненским». Генерал мог оставить заметный след на обширных просторах Самарской, Саратовской, Орловской, Тульской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской и некоторых других губерний, где во многих местах наблюдалось огромное скопление народа – разворачивалось повсеместное строительство прудов для орошения полей и обеспечения селений водой. Только в верховьях Дона было создано 777 прудов, на ручьях и речках построена 31 плотина. Но сколько было сделано по всем губерниям – этого так никто и не узнал, потому что генерал не успел отчитаться за потраченные миллионы, как первое половодье размыло и снесло почти все плотины. Остался «едва ли не единственный уцелевший, существующий и поныне пруд – в моем имении», – свидетельствовал через несколько лет сам А.С.Ермолов. Он же рассказывал в своей книге «Наши неурожаи и продовольственный вопрос» жуткие случаи, когда из прудов, построенных выше селений, вал вырвавшейся из прорванных плотин воды обрушивался на крестьянские дворы, погребая в мутных потоках избы, людей, домашнюю живность. Миллионы пошли прахом. Почему так случилось? Ведь Анненков не был ни дураком, ни авантюристом, ни казнокрадом да и прославить имя свое хотел делом, общей пользой. Еще в январе 1892 года, когда в особом совещании ученого комитета обсуждался вопрос об упорядочении водного хозяйства в самарских и придонских степях, то есть когда и намечалась вся эта деятельность по созданию прудов, именно он, Анненков, обратился за помощью к Докучаеву. В знаменитом, программном труде «Наши степи прежде и теперь» сам Докучаев сделал такую сноску: «Считаю нелишним заметить здесь, что эта статья (гл. VII) была составлена мною по предложению генерал-лейтенанта Анненкова...» А статья эта, опубликованная «Правительственным вестником» 2 февраля 1892 года и потом вошедшая седьмой главой, назвалась «Способы упорядочения водного хозяй- 87 ства в степях России». Глава эта – важнейшая в книге, она суммирует все научные выводы и предлагает практические пути решения проблемы. В ней Докучаев советовал, в первую очередь Анненкову, как лучше организовать предстоящие работы, подробно рассказывал, какие специалисты должна заниматься предварительными исследованиями избранной местности, какие обязательные исследования и в какое время их нужно выполнять. Напомнил: «Только по окончании этих изысканий... приступают уже к сооружению прудов, плотин, укреплению берегов, регулированию речных русел, посадкам и пр.» Получив этот подробнейший план работы в степях, Анненков должен бы задуматься, за какое непростое и ответственное дело берется, а задумавшись, – добиваться командирования специалистов для изысканий и руководства работами. Однако от него ждали решительных и быстрых действий – времени на изыскания не было. Генерал это хорошо понимал и на выполенении подготовительных работ не настаивал. Но не только потому, что угодить хотел и отличиться скорее. Он был сыном времени, «самой заметною чертою» которого, свидетельствовал Короленко, было «пренебрежение к знанию и науке, ко всякой теории и правильному обобщению, ко всему, что только выдвигается из уровня так называемой практики». В почете был «ПРАКТИЧЕСКИЙ человек и ПРАКТИЧЕСКИЙ хозяин, ИСТИННО-практический хозяин, наконец, ИСТИННО-практический и вдобавок еще РУССКИЙ человек и такой же хозяин!..» со своею «практичною» теорией, далекой от научной. Ну, в самом деле, ставят же мельники плотины без всяких изысканий – и ничего, по всей матушке России жернова крутятся. Русские мужики и без науки управятся. Может, и правда, мужики управились бы честь по чести, если бы не были эти работы и деньги, выдаваемые за работу, прокормочными. Мужики шли на работу с уверенностью, что она исключительно для их прокормления придумана, чтобы они, значит, не обленились. Никакой иной цели не видели, потому что, знали по опыту, всякое нешутейное дело вот так не затевается: без мастера, 88 без обмеров и промеров. Да и барина своего, который взялся распоряжаться общественными работами в уезде, знали хорошо: хоть и стал он теперь земским деятелем, однако дела не понимает. ну, не дурень ли: велит – перехватывай где сподручнее что речку, что овраг насыпью, вот тебе и плотина. Правда, иногда и барскую волю проявлял: браковал то место, на котором мужики остановились и вел на другое. В таких случаях мужики тихо бранились про себя: «Экая шельма, так и отводит с барской земли на нашу, мужицкую. Пруд ему понадобился. А шиш вот тебе, кровопивец...» И с этими думами брались за лопаты и тачки. С этими думами возводили плотины, сажали по оврагам и балкам деревья – сажали там, где скот крестьянский пасся. И опять та же дума: «Экая шельма, все выпаса себе побрал, а теперь и овраги отнимает...» Словом, если мужики не хотели, чтобы что-то росло, то оно и не росло, если не хотели, чтобы что-то мешалось им, то оно быстро исчезало с лица земли. Докучаев, выросший в деревне, хорошо знал это, и потому так настойчиво предупреждал: «Необходимо, чтобы само население южной России постепенно освоилось с новыми водными порядками и на деле воочию убедилось бы в их существенной пользе и необходимости». Не прислушались и к этому совету. Вернее, дворяне-попечители усвоили его в таком искаженном виде, что очень быстро настроили население против всего, что делалось вокруг. Мужик был убежден: все это затевается против него, все это обернется такими «Новыми порядками», от которых по миру пойдешь... Через несколько лет от прудов, плотин, посадок не осталось и следа. Не прислушались и к этому совету. Вернее, дворяне-попечители усвоили его в таком искаженном виде, что очень быстро настроили население против всего, что делалось вокруг. Мужик был убежден: все это затевается против него, все это обернется такими "новыми порядками", от которых по миру пойдешь... 89 Через несколько лет от прудов, плотин, посадок не осталось и следа. ОСОБАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1 И все же докучаевская статья "Способы упорядочения водного хозяйства в степях России", опубликованная в "Правительственном вестнике", заставила задуматься многих. "Перед грандиозным планом работ по обводнению края благоговею, – писал Измаильский автору статьи. – Но боюсь, что выполнение этого плана (займет) столько времени, что геологические условия страны, работающие в противоположном направлении, не дадут достигнуть желаемого". Докучаев ответил": "Что касается осуществления моего прожекта, то действительно ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ история может опередить ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ, если его – прожект – будут осуществлять ТАК, как это, к сожалению, обыкновенно делается на Руси. А, по-видимому, ТАК оно и будет": все больше и больше убеждаюсь, что с Анненковым на этом пути далеко не уйдешь..." Я много раз перечитывал эти строки из письма Измаильского и ответа Докучаева. Советую и читателю задержать на них свое внимание, чтобы – запомнить и задуматься. "Ну, да наше дело было СКАЗАТЬ, а их дело осуществлять", – подытожил Докучаев свою мысль. И перешел к планам на лето, и, в частности, сообщал: "Веду переговоры с Смоленским земством об исследовании данной губернии; она моя родная". Это было в марте. Однако и в начале мая планы те же – они никак не связаны с тем делом, которое ему предстояло возглавить и осуществить. Значит, он еще ничего не знал о нем, полагал, что осуществлять – это "их дело". 90 Лишь 12 мая пишет Измаильскому: "Возбужден вопрос о командировке меня на юг, с целью ПОПЫТАТЬСЯ что-либо сделать для упорядочения нашего водного южного хозяйства". А следом сообщение в "Правительственном вестнике": "С разрешения Министра Государственных Имуществ, при лесном департаменте было образовано особое совещание, с участием тайного советника Архипова, профессора с.-петербург.университета д.с.с. Докучаева и члена ученого комитета д.с.с.Лясковского, по вопросу о развитии облесительных работ в целях упорядочения водного хозяйства в степях... Особое совещание признало необходимым, в видах успеха дела, пригласить для руководства означенными исследованиями в качестве начальника особой экспедиции, профессора Докучаева, как лицо, заявившее себя в данном направлении целым рядом работ"... Итак, особое совещание состоялось 22 мая 1892 года, а 5 июня директор Лесного департамента Е.С.Писарев уже докладывал министру Государственных имуществ М.Н.Островскому выработанное комиссией "Разъяснение цели и порядка действий Экспедиции". Министр одобрил план действий и "имел счастье довести до высочайшего сведения" о назначении Докучаева начальником экспедиции. Государь не возражал... 2 Профессор спешно сзывал своих учеников, всех, кто уже бывал с ним в экспедициях по изучению почв Нижегородской и Полтавской губерний. Они еще не знали, зачем понадобились учителю – сообщение в "Правительственном вестнике" о снаряжаемой "Особой экспедиции" появится позже, оно их догонит уже в степи. Не знали, но догадывались по взволнованному тону профессо- 91 ра, – предстоит какое-то новое дело. Сошлись, как и прежде, в доме № 18 по 1 линии Васильевского острова в квартире учителя. Какие же они все молодые и энергичные! Докучаев относился к ним с отцовской любовью и гордился ими, увлеченными и честными служителями науки, готовыми во имя пользы Отечеству на любые лишения. А лишений выпадет им ой как много, особенно тем, кто отправится в Каменную степь – ни кустика там, ни жилья. Докучаев своими глазами видел ее, когда обследовал южные черноземы, суровее места не встречал, потому и выбрал для закладки опытов именно эту степь. Помощником начальника экспедиции единогласно назвали Николая Сибирцева, оставленного Докучаевым после завершения почвенных исследований Нижегородской губернии для собирания и организации первого в России естественно-исторического музея в Нижнем. Теперь это дело налажено, и Сибирцева, получившего от нижегородцев прозвание "премудрого" можно затребовать в Питер. Метеорологом экспедиции – тут и обсуждать нечего – будет конечно же Николай Адамов, ассистент по кафедре агрономии Петербургского университета. Почвенно-геологическими исследования в степи займется магистрант Константин Глинка. Лесовода, таксаторов, межевиков, наблюдателей на метеорологических станциях в ближайшие дни откомандирует Лесной департамент, с директором которого этот вопрос обговорен и на места от него, от Писарева, уже пошли телеграммы. Из Самары срочно затребован на должность лесовода Онисим Ковалев. Он не замедлил явиться в Петербург и предстал перед Докучаевым. Писарев отрекомендовал его как человека "особо похвального поведения", достаточно опытного в устройстве питомников, "так как уже занимался в течение нескольких лет степным лесоразведением". Потом подтвердил это и в письме: "Ввиду хороших отзывов Департамента уделов о Ковалеве, с которым Вы уже 92 познакомились в Петербурге и который хорошо знаком с облесительными работами, я счел полезным командировать его в Ваше распоряжение с тем, чтобы он познакомился пока с местными условиями относительно этих работ на всех трех участках. Онисим Ковалев в 1884 году окончил Петровскую академию, получив звание кандидата лесоводства". "Особо похвальное поведение" – вот главная черта, которая должна отличать и всех других кандидатов в Экспедицию. Таково было условие, выставленное Докучаевым Писареву. И указать таковых должны уже здесь, в Питере, а то губернские управители подсунут каких-нибудь бездельников – это тоже требование Докучаева. Писарев принял и это условия: в Уфу, в Тамбов, в Воронеж и Киев полетели телеграммы, с требованием безотлагательно командировать такого-то для работы в "Особой экспедиции". А тем временем те, кого Докучаев пригласил в экспедицию, уже получили деньги, должностные бланки и дорожные свидетельства, подтверждавшие, что предъявителю "должно быть отдаваемо преимуществ перед проезжающими по частной надобности, для получения с почтовых станций ... лошадей за указные прогоны, без платежа за повозки и смазку колес денег". И с этим выехали к месту назначения. Вместе с ними выехал и Докучаев. Но ему сначала надо побывать в Харькове, где должен встретиться с Измаильским – Докучаев просил его приехать туда из Полтавы, чтобы посоветоваться по делам экспедиции, вместе обсудить намеченный план работ. Встретились они в первых числах июня. А 3 июля Докучаев писал с дороги: "Простившись с Вами в Харькове, я до сих пор все еду и еду. Выбрал участок и пункты станций на нем в Беловодске; то же сделал в Хреновом; теперь занят изучением Велико-Анадольского лесничества". Он будет ехать еще долго. Побывает в Каменноватке, осмотрит здесь лесополосы, создание в 1882 году, поедет на юг в приазовские степи, по пути побывает на многих орошаемых полях, во многих степных насаждениях – ему 93 надо было знать, какие породы деревьев лучше уживаются в сухой степи. Записал себе: дуб и берест, яблоня и груша. С юга снова вернется на участки. "Дела по горло!" – припишет он в одном из писем Измаильскому, но дух письма бодрый – он занят живым делом. И все же накапливалась усталость и через месяц он признался: "Шатанье по южной России мне надоело страшно, и я с особым нетерпением жду окончания его". Однако программу "шатанья" ему никто не задавал, он ее наметил сам, и пока не посмотрел все, что намечал посмотреть, пока не наладил дело – не дал себе ни дня отдыха. А на участках еще не все в сборе. Из Хренового летит телеграмма Писареву: "Собеневского и трех кондукторов еще нет очень нужны прошу поспешить Докучаев". В тот же день из Петербурга в Уфу уходит депеша: "Донесите когда выехал Собеневский". Через несколько часов в департамент поступает ответ: "Собеневский откомандирован из лесничества 12 июня". Но вот все будущие каменностепцы в сборе. Докучаев облегченно вздыхает – можно выезжать в степь и приступать к делу. Степь... Плавно возвышаясь к горизонту, она вся была как на ладони. На всем этом пространстве, охватываемом взором, не видно ни деревца, ни кустика, ни ручейка. Сидя на бричках, они всматривались в этот простор, в это степное раздолье, испытывая тревожно-щемящее чувство первопроходцев, которым здесь жить. Да, они смотрели бы на степь совсем другими глазами, если бы им предстояло лишь пересечь ее: однообразие и зной притупили бы зрение, любопытство вскоре сменилось бы усталостью и ожиданием конца пути за этой унылой степью. Но они не путешествовали, они ехали в эту степь жить, работать, чтобы доказать на практике: разум человеческий способен одолеть стихийные силы природы. Ехали к той черте, где степь сходилась с горизонтом – здесь ее 94 самая высокая точка, открывая всем ветрам, суховеям, снежным и пыльным бурям. Они уже слышали немало рассказов, как во время июльских жаров прошлого года дождевые тучи только и были над лесом – выйдя в степь, облака медленно возвращались обратно, не только не окропив степь дождиком, но и ни одной капли не обронив. "Лес да долы, говорили старики, – притягивают тучи, а степь отталкивает их". Степь... Лишь издали она казалась ровной, как стол. Приближаясь к ней, путники все отчетливее различали пологие балки, избороздившие степь, то там, то тут обозначались западины-блюдца. Балки и блюдца делали степь волнистой. В такой степи талые и ливневые воды быстро скатываются в балки и по ним уносятся в реки. Кое-где обозначились одиночные халупы-времянки арендаторов казенной земли. Издали их можно было принять за кучи прелой соломы, обляпанные с боков глиной. Эти низенькие избенки, одиноко стоящие в степи, могли быть разве что убогим и жалким прибежищем от непогоды для пастухов. Однако вокруг них есть и пашня, и огород, и посевы. Значит, в хибарах жили, любили, рождались. Лоскутки обрабатываемой земли терялись в травянистых, залежных пространствах, размежеванных полосами бурьянов. Эти бурьяны свидетельствовали о том, что несколько лет назад арендатор-кочевник обрабатывал тут землю, а когда она истощилась, перестала кормить его, он забросил ее и перекочевал на другое место, туда же и халупу свою перенес. Кое-где по балкам можно было приметить остатки земляных насыпей – это арендатор пытался задержать и сохранить воду для себя, для скота и многочисленных своих ребятишек, но вода прорвала насыпь и ушла, оставив на месте пруда заилившееся, осокой поросшее сырое днище. Через несколько дней, когда участники экспедиции начнут изучать степь, они насчитают в балках 15 разрушенных плотин и нанесут на карту 3 ставкапрудика, пока еще хранящих воду. 95 Да, человек не мог здесь жить и хозяйствовать без воды. Даже будучи арендатором, а не хозяином, он все же решался взяться за нелегкое и долгое дело – в одиночку, надеясь лишь на себя да на помощь ребятишек своих, урывками, когда хозяйство давало ему короткую передышку, брал в руки лопату и шел сюда, в балку, чтобы отсыпать в давно начатую перемычку еще несколько тачек земли. Правда, потом, с великим трудом сомкнув перемычкой берега, он не удосуживался обсадить свою плотину деревьями, чтобы те укрепили ее корнями и тем самым надолго сохранили творение рук его. Ему казалось, такая гора земли, уплотнившись, будет лежать вечно. Но, придя суше однажды, он обнаруживал огромную промоину в земляной преграде – и человек, как ни странно, терял всякий интерес к тому, что столько лет занимало его. Продолжая жить тут, за восстановление запруды больше не брался: то ли силы истратил, то ли убедил себя, что живет тут временно. Эта временность сквозила во всем – мог сняться с места, и через короткое время в степи не оставалось и следа от его жилья, одни только густые бурьяны говорили опытному глазу, что здесь жил, копошился человек. Но вскоре и их вытесняли степные травы. Степь казалась безлюдной, дикой, первозданной. Однако едущие на телегах и бричках видели, что она пусть и не была обжитой, освоенной, но не была и девственной. Передними расстилалась залежная степь, выпаханная и отданная природе на излечение, на восстановление рождающей силы. Лишь коегде, на балочных склонах виднелись белые от цветущего ковыля откосы, никогда не знавшие плуга. Степь жила своими законами, и из обитавших на ней существ главенствовал вовсе не человек. Главным ее обитателем, как и в девственных доисторических степях, был сурок-байбак. Куда ни глянь – всюду в траве серые столбики, это сурки сидят у своих нор на холмиках рыжей земли, вырытой из глубин. От обилия сурчиных холмиков даже ровные пространства приобретали волнистую поверхность. 96 Однако главный обитатель был далеко не единственным. Докучаев знал это лучше всех, потому что много раз случалось ему ночевать в глухих хуторах, со всех сторон окруженных бесконечными степями. В этих захолустьях он любил выходить в тихую ночь на открытый воздух и вслушиваться: тишина поражала его бесконечным разнообразием звуков и движений – это мириады степных обитателей рылись и копошились в почве и травах. В такие минуты вспоминал чеховскую "Степь", которая приводила его в восторг, и очень жалел, что не дано ему умения описывать вот так же. В ночной степи Докучаев просиживал часами. Ему казалось, что он видит, как эти мириады обитателей роются и копошатся в почве, способствуя лучшему проникновению в нее воздуха и измельченных органических остатков, а это вызывает сильнейшее выветривание еще не разложившихся частей почвы и более правильное распределение в ней гумуса. Большая часть этих невидимых обитателей, питаясь живой и мертвой растительностью, способствует быстрому сгоранию ее и обогащению почвы... И снова думал: "Вот уметь бы так описывать!".. О чем говорили едущие на телегах? О степи, конечно, о любимом, как часто шутил Докучаев, и наиболее удачном творении Зевса, этого создателя царя почв – русского чернозема, возраст которого минимум 4-7 тысяч лет. Бывавшие с ним в степях уже знали, что это строгий и даже суровый на вид профессор может часами просиживать "пред каким-нибудь широким ландшафтом" и по немногим деталям пейзажа схватывать и рисовать "целое в необычайно блестящей и ясной форме". Молодых его слушателей, покоренных совершенно исключительным воображением, охватывало чувство удивления, "когда под его объяснениями мертвый и молчаливый рельеф вдруг оживлялся и давал многочисленные и ясные указания на генезис и на характер геологических процессов, совершавшихся и скрытых в его глубинах!" Спорили о том, какой была степь прежде и сильно ли отличается вот эта, теперешняя, от той, какой сотворил ее Зевс много веков назад. Припомнили, 97 конечно, степь, но которой ехал Тарас Бульба с сыновьями: в травах "всадника не было видно". И, конечно, опровергали Гоголя: то была не девственная степь, а бурьянная, бурьяны на залежах вон и сейчас в три аршина вырастают. Девственная, целинная степь была ковыльной, а ковыль вовсе не высок, самое большее по пояс. Почти все они уже бывали в степях и знали, что байбак никогда не роет нору на бурьянистой залежи – ему нужен обзор далеко окрест. Значит, дожить до наших дней этот, доисторический зверек мог лишь в степи пусть и с густыми, но невысокими травами, в ковыльной степи. Но, конечно же, сейчас их больше волновало не прошлое, а настоящее, поэтому много говорили о предстоящих работах. Такие же группы ехали в Деркульскую степь Старобельского уезда Харьковской губернии и на Великоанадольский участок (продолжит дело Граффа) под Мариуполем. В одной из этих групп, в Великоанадольской, находился молодой выпускник Петровской академии, агроном Георгий Николаевич Высоцкий, которому будет суждено стать основоположником научного степного лесоведения и степного лесоразведения. Ну а пока что он смотрел по сторонам и, переполненный впечатлениями, сочинял ''поэму'': "В июне все формальности свершили И в степь жрецы науки покатили, Взяв с собой для почвы буравы И папку для сушения травы. Для управленья ж, наема рабочих, Для канцелярщины и всяких прочих Хозяйственных работ привлечены "Таксаторами" юные чины..." 98 Верили ли они в успех задуманного дела? Безусловно. Об этом свидетельствует уже то, что большинство их них включилось в Экспедицию по доброй воле и ни один никогда об этом не пожалел. Но каждый свято верил своему учителю, который говорил: "Трудность дела не может служить препятствием к тому, чтобы взяться за дело, когда есть люди, желающие что-нибудь делать". Они были молодыми служителями молодой науки о почве и жаждали применения ее теоретических положений на практике. Без такого применения они не мыслили своего пребывания в ней. Слова, теории они должны были подтвердить делом, и время это настало, время свершения надежд на пользу народу, России. Продолжая сочинять "поэму", Высоцкий так выразил в ней владевшие ими чувства: "Уверенные в пользе насажденья В степи лесов для влаги накопленья, Взялись за дело это с первых дней, Чтоб результаты были повидней..." Вот здесь, в степи, как на чистом листе бумаги, они и должны установить правильное соотношение между водою, лесом, полями, лугами и другими хозяйственными угодиями. Это соотношение нужно, чтобы создать равновесие между степным климатом, пашнею и культурной растительностью, какое когда-то существовало между климатом, девственной степью и дикой растительностью. Только при таком равновесии и можно будет оздоровить надорванный организм, крестьянин будет хозяйствовать на земле без риска и жить без постоянной угрозы голода. Молодая наука возвышала их души. Учитель открыл им глаза на богатство России, стоящее, как он говорил, "неизмеримо выше богатств Урала, Кавказа, богатств Сибири". 99 – Все это ничто в сравнении с предметом нашего разговора, говорил профессор. – Нет тех цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь царя почв, нашего РУССКОГО ЧЕРНОЗЕМА. Два последних слова Докучаев произносил торжественно и гордо, потому что хоть и есть чернозем в других странах, да не тот и солоноват, и питательными веществами беднее, и площади его не так велики. И с тем же торжеством в голосе добавлял: Истинный почвенник, если он любит науку и истину, если он думает о благе народном, не должен ни на минуту забывать, что наш чернозем был, есть и всегда будет кормильцем России. Они, увлеченные идеями учителя, готовы были поклясться, что не только не забудут этого, но и сделают вот здесь, в степи, все для того, чтобы выработать меры по оздоровлению русского чернозема и ответить на труднейший вопрос, почему чернозем, царь почв, как величает его учитель, столь богатый питательными веществами, перестает кормить население. Нет, учителем Докучаев был там, в Петербурге, а тут он строгий начальник экспедиции, полководец, едущий во главе аръергардного отряда. Для такой роли, и это признавали все, он обладал всеми данными в изумительно счастливом их сочетании: широким и быстрым умом, способным легко ориентироваться в самых сложных условиях, железной волей, колоссальной энергией и работоспособностью, духом инициативы и смелостью, наконец, удивительной способностью убеждать, даже покорять людей... Да, они ехали в степь, но, думали, мечтали – в новую жизнь, которая открывалась только им и в которой они надеялись проложить новые пути к человеческому благополучию. А когда впереди свет, то кто ж страшится идти на него. Тревоги и страхи вызывает лишь темнота и неизвестность. 3 100 Не знаю, где в степи они остановились: то ли ночевали под открытым небом, под телегой, то ли в халупе арендатора, или же ездили в ближайшее село Орловку. Ближайшее, но не близкое – 12 верст до него. Ни в письмах, не в официальной переписке об этом нет ни слова. Это не значит, что отправили экспедицию и забыли о ней. Нет. В тот же месяц Писарев командировал в степь своего сотрудника, начальника четвертого отделения Лесного департамента Тура «по делам степного лесоразведения»". Письменно уведомил об этом губернаторов южных губерний: действительный статский советник Тур командируется для проверки экспедиции – не нужно ли ей чем помочь, не нужны ли какие добавочные меры. Тур выехал из Петербурга 21 июня, а вернулся 21 августа. В тот же день представил Писареву отчет, в котором говорилось, что вместе с Докучаевым он побывал на всех трех участках экспедиции. Касаясь нужд ее, высказал крайнюю необходимость скорейшей постройки 2 домов для таксаторов и 3 – для кондукторов. И заметил: "У арендаторов халупы, да и в те не пускают". Этот приезд Докучаева с представителем Лесного департамента в Велико-Анадоль нашел отражение и в "поэме" Высоцкого под названием "Степное лесоразведение", которую он, естественно, нигде не опубликовал, но записал ее в рукописной, "неофициальной" автобиографии: "Профессор же явился среди лета, Как в небе бородатая комета. А вместе с ним свершить служебный тур Командирован был начальник Тур. Лесничим преподал он разъясненье... Таксаторам же сделал он внушенье, Чтоб не снести служебное крушенье, Профессора начальником признать 101 И все приказы точно выполнять"... Как свидетельствуют резолюции и документы, относящиеся к этому отчету, Писарев немедля распорядится изыскать деньги на постройку домов: по 750 рублей на дом для таксатора и по 550 рублей – для кондуктора. Именно эти суммы указал в отчете Тур. Надо полагать, они были оговорены с Докучаевым на месте. Лесничему Хреновского лесничества Никольскому, на котором лежала обязанность получать и переправлять в степь все поступающие по почте грузы, было послано указание: необходимые для постройки домов лесоматериалы выделить Экспедиции бесплатно. В конце сентября в Каменной степи уже стояло 3 дома – в одном поселится таксатор, то есть Собичевский, в двух других – кондукторы, наблюдатели на метеостанциях. Это будет в конце сентября, а пока жили под небом на земле, если арендаторы в свои халупы не пускали. Через несколько лет профессор Бараков, один из участников экспедиции, напишет в воспоминаниях: "Сам руководитель, разъезжая по необъятным пространствам степей, наметил прежде всего места для метеорологических станций, втыкая колья и обозначая их номерами". И дальше расскажет о том, что Докучаев выбрал для метеостанций идеальные места. И уточнит: идеальные для изучения всех особенностей открытой степи – на самых верхних точках перевалов, на которых древние кочевники так охотно насыпали курганы. Но насколько выбор места удовлетворял научным требованиям, настолько же был неудобен для жилья человека, который должен на себе испытать все невзгоды открытой степи, особенно зимой во время метели, когда наблюдатель по несколько дней бывал отрезан от мира. Такие условия мог выдержать, не покинув одинокое свое жилье на степном юру, только самоотверженный человек. И таким самоотверженным должен был стать выпускник Хреновской лесной школы Баранец, по возрасту почти 102 мальчишка, аттестованный воспитателями по той же шкале достоинств – "особо похвального поведения". Однако невзгоды выпадут им позже. А пока устраивались. На месте колышков, воткнутых Докучаевым, устанавливали дождемеры, флюгеры и другое необходимое оборудование, поступающее из Петербурга в Хреновое, а оттуда на бричках – сюда, в степь. Бурили скважины для замера грунтовых вод, рыли наблюдательные колодцы. Принялись за возведение трех рубленых домов, которые будут готовы уже в конце сентября. А по вечерам уставший профессор говорил молодым своим помощникам: – В природе все красота, все эти враги нашего сельского хозяйства: ветры, бури, засухи и суховеи, страшны нам лишь только потому, что мы не умеем владеть ими. Они не зло, их только надо изучить и научиться управлять ими, и тогда они же будут работать нам на пользу... К августу обе метеостанции в Каменной степи были готовы. Тогда же, в августе, приступили и к наблюдениям за погодой, к изучению степного климата. Это были первые в России метеостанции, расположенные не в городе, а в естественных природных условиях, чего Докучаев добивался на протяжении многих лет. Много лет он доказывал, "что если и не все, то огромнейшая часть наших наиболее крупных станций, по самому ПОЛОЖЕНИЮ их, изучают климат собственно Петербурга, а не окружавших его болот и пустырей; климат Харькова, Саратова, а не соседних с ними ОТКРЫТЫХ СТЕПЕЙ, климат Нижнего-Новгорода, Костромы, а не Ветлужской и Унженской лесной ТАЙГИ’’. Говорил, "что на огромном большинстве станций... нет приборов, изучающих температуру и влажность почв, температуру и запас грунтовых вод, росы, солнечного освещения", поэтому "климат русских степей и до сих пор известен нам в самых общих чертах". Вот какой пробел ликвидирован! Станции в открытой степи действуют! 103 Главная физическая обсерватория, оценив всю важность метеорологических наблюдений в естественных условиях, отныне будет печатать их полностью в своих ежегодных "Летописях". Это, безусловно, свидетельствовало о полноте и высоком качестве наблюдений. Так молодые люди "особо похвального поведения" подтверждали данную им в школе аттестацию. Геодезисты в это время вели инструментальную съемку местности – им предстояло вычертить детальный план в масштабе 100 сажен в дюйме. За одно лето они проложили на местности 500 верст нивелировочных линий. На съемочные планшеты нанесли подробную ситуацию степи. Глинка, а потом и приехавший из Нижнего Сибирцев изучали геологическое строение степи и ее почвы, гидрографию и грунтовые воды. Ботаник Танфильев вел геоботанические исследования и фенологические наблюдения. Зоолог Силантьев изучал степную Фауну. Лесовод Ковалев еще только готовил землю для будущего лесопитомника, но уже завозили семена древесных пород из Шипова леса, Хреновского бора и Велико-Анадольского лесничества, уже прикидывали расположение в степи будущих лесных полос самого разного назначения: одни – для задержания и накопления снеговых вод, другие для защиты от ветра, третьи – для закрепления оврагов и балок. "Магазинами влаги" называл Докучаев степные насаждения, поэтому, обозначив колышками места будущих метеостанций, он занялся размещением "магазинов" – и тоже "выбрал места наиболее отвечающие целям". Во всяком случае надобности вносить какие-нибудь поправки не появилось и через сто лет. Инженер Дейч уже обошел все степные балки, сделал геологические изыскания и теперь был занят проектированием системы прудов, призванных задержать стекающие с поверхности степи талые и ливневые воды. 104 Докучаев осмотрел шесть "предположенных прудовых водовместилищ" и с выбором места согласился. И записал себе для будущего отчета: "Пруды являются простейшим средством к сбережению от непроизводительной траты той ДАРОВОЙ и ДОРОГОЙ влаги, которую отпускает степям природа... В КОЛИЧЕСТВЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕ СТОЛЬ МАЛОМ, как привыкли думать". И еще одна запись: "По сравнительной дешевизне устройства, прудовые вместилища доступнее иных способов искусственного обводнения степей, почему выработка приемов пользования ими и – опытный учет результатов заслуживает особого внимания". А в качестве примечания добавляет: "Характерно, что различного рода ставки и пруды на степных участках значительно и быстро поднимают арендную плату за землю"... Пруды эти целы и сегодня. И сегодня, по прошествии века, можно искупаться в их чистой воде, посидеть в прохладной тени вековых деревьев, оберегающих могучими корнями своими берега и плотины от размыва, а пруды – от заиления. Кажется, тут так все прочно и вечно, что приди сюда еще через столетие – здесь будет так же тихо, надежно, уютно, и так же шепнет кто-нибудь: "Слава вам, создатели!.." В сентябре недалеко от метеостанции Ковалев заложил первый древесный питомник в Каменной степи – для степных насаждений нужен будет свой посадочный материал. Съемочные и нивелировочные работы в Каменной степи, которыми руководил Собеневский, закончили в середине ноября, когда выпал снег. К этому же времени завершили и почвенные исследования. Они показали: всюду в степи, даже на выпаханных и оставленных по этой причине под залежь участках, был мощный чернозем (до метра толщиной!) и содержал он 8-9 процентов гумуса. И на такой-то земле, обладающей поистине богатырскими силами, случаются недороды... 105 Что же нарушено в атом мощном черноземе с богатейшим содержанием перегноя? Почему его считают выпаханным? Не потому ли, что в девственной степи чернозем обладает зернистой структурой и представляет из себя как бы самую лучшую губку, пронизанную мельчайшими порами и прекрасно пропускающую через себя воздух и воду? Выходит, в этой-то структуре чернозема и есть его главное достоинство? Да, пожалуй. Выходит, чтобы возвратить чернозему прежнее плодородие, надо возвратить ему структуру девственных степей; Нужно, значит, озаботиться тем, чтобы сгладить следы неразумной культуры, обратившей эту чудную зернистую почву в пыль. Через несколько лет, окончательно утвердились в своем убеждении, Докучаев скажет слушателям: – Я не могу придумать лучшего сравнения для современного состояния чернозема, как то, к которому я уже прибегал в своих статьях. Она напоминает нам арабскую чистокровную лошадь, загнанную, забитую. Дайте ей отдохнуть, восстановите ее силы, и она опять будет никем не обогнанным скакуном. То же и с черноземом; восстановите его зернистую структуру, и он опять будет давать несравнимые урожаи. 4 Здесь я должен прервать повествование, чтобы поразмышлять, почву бумаги, испрашивавшие разрешения на прочтение публичных лекций, ходили по канцеляриям, как вы помните, почти полгода, а с организацией экспедиции было решено в считанные дни? По-всякому истолковывалась эта поспешность позднейшими комментаторами. Однако все сходились в одном утверждении, что царское правительство торопилось создать видимость деятельности, и поэтому с большой помпой обставило организацию и отправку экспедиции. 106 Мне кажется, это ни на чем не основанное умозаключение. Во всяком случае никаких подтверждений этому я не нашел. Да, если думать, что никаких других мер правительством не предпринималось, то ему действительно нужно было бы поднять трезвон вокруг снаряжаемой экспедиции. Но вспомним, как раз в это время генерал Анненков уже разворачивал общественные работы чуть ни по всей России. По тому времени они казались, до того масштабными, что на их фоне Докучаевская экспедиция была едва ли заметна. К тому же она снаряжалась для "производства опытов", тогда как Анненков разворачивал практические работы (что они окажутся напрасными, то об этом мало кто догадывался). Однако, чтобы прийти к окончательному выводу, вспомним еще одно утверждение комментаторов Докучаевских трудов и его биографов. Они в один голос говорят, что инициатором экспедиции в южные степи был конечно же сам Докучаев. И читатели охотно соглашались потому что нам всегда хочется, чтобы великие личности были инициаторами всех добрых начинаний, тем более таких, которые успешно завершились и оставляли заметный след. Не скрою, мне тоже так хотелось думать и я искал этому подтверждения. Но, чем больше искал, тем сильнее сомневался, а потом сомнения переросли в уверенность; нет, инициатором был кто-то другой, но не Докучаев. Может, сам министр Островский?.. Нет, пожалуй. Он был стар и готовился уходить в отставку, а когда ушел, то многие деятельный люди вздохнули с облегчением. Даже директор Лесного департамент Писарев был рад смене министра, о чем и написал Докучаеву: "Я начинаю оживать духовно. У Ермолова много энергии, знаний и доброго почина. Совместная с ним работа делается крайне интересною". Да и Докучаев, конечно же, не забыл непоследовательности министра в деле организации почвенного комитета: ему говорил "да", и сам же отдал это цело на бесконечные обсуждения. Писарев?.. Директор Лесного департамента – человек активный всячески содействовал Докучаеву в делах экспедиции. На просьбы откликался момен- 107 тально, а главное, все их удовлетворял. И не случайно Докучаев, находясь в экспедиции, свои письма и телеграммы в Лесной департамент адресовал только ему, Писареву, а не столоначальникам, занимавшимся обеспечением экспедиции. Так что между ними завязалась, можно сказать, оживленная и весьма доброжелательная переписка. А может, Ермолов?.. Перечитывая письма, я задержался на фразе: "Наша экспедиция входит в программу нового министра, и необходимость этой экспедиции выяснена в книжке "Неурожай и народное бедствие", – сообщал Докучаева Писарев 23 марта 1893 года. Вы, конечно, заметили, что министр и книжка попали в одну строку? Дело в том, что новый министр вновь созданного Министерства земледелия и государственных имуществ и автор "Неурожая..." – одно и то же лицо, А.С.Ермолов. О нем высоко отзывались все прогрессивные ученые того времени, а Энгельгардт даже мечтал, чтобы министром вновь создаваемого министерства стал если не Менделеев, то Ермолов, человек честный, умный, деятельный, зарекомендовавший себя не словами, а поступками, к числу которых по праву относил и написание книги, в которой первым заявил обществу о народном бедствии. Конечно, он мог и поплатиться за этот смелый шаг, но молва опережала действия правительства. Молва поставила его во главе нового министерства задолго до фактической организации этого министерства. Слухи, как оказалось, не были ложными – по рекомендации С.Ю.Витте государь назначил Ермолова, "прекрасного человека, очень образованного и умного", министром государственных имуществ, с перспективой преобразования министерства в министерство земледелия. Значит, он вполне мог подсказать идею и настоять, не теряя времени, на необходимости научной экспедиции с целью закладки опытов в южных степях, о чем писал и в книге. 108 Предвижу, как ополчатся ученые на эти мои рассуждения: зачем, мол, доказывать недоказуемое. А я уверен, что в конце-концов доказательство найдется. Заново вчитываюсь в письма – вдруг что-то пропустил в них. Самая оживленная переписка в эти весенние месяцы 1892 года была с Измаильским. Так и есть! В письме от 20 мая Докучаев пишет: "А тут, почти канун моего отъезда из Питера, новое предложение со стороны Министерства государственных имуществ: взять на себя осуществление уже знакомого Вам проекта по регулированию водного хозяйства в южной России". Итак, "предложение со стороны министерства", а не согласие. К тому же, если бы Докучаев ходатайствовал, то он не обронил бы вот этой фразы: "Ну, да наше дело было СКАЗАТЬ, а их дело осуществлять". Читаю воспоминания С.А.Захарова, которого Докучаев взял с собой в свою последнюю поездку на Кавказ. В пути, на ночлегах молодой ученый, ставший почвоведом под влиянием Докучаева и бесконечно влюбленный в него, расспрашивает своего учителя – ему хочется знать о нем все. Задает Докучаеву и нужный нам вопрос: как родилась идея снарядить экспедицию? И вот ответ самого Докучаева "Наступил голодный год. Я прочел лекции о степях, где между прочим указывал на причины засухи и голодовок. Это обратило внимание кого следует, и я получил приглашение организовать всестороннее исследование природы степей на местах". В ответе не ясно лишь одно: кто именно обратил внимание. Может, Докучаев и сам не знал этого? Вряд ли. Тогда почему же не сказал? Тем более Докучаев всегда отличался объективностью, даже если речь заходила о противниках – сделавшему доброе дело он всегда отдавал должное и никогда не таил своей благодарности. Вот почему я думаю, что он сказал, назвал этого человека, но при публикации воспоминаний Захарова, а публиковались они в 1939 году, редакция 109 журнале "Почвоведение" заменила это конкретное лицо на "кого следует" – не решились упоминать царского чиновника, а то и министра. В Каменной степи мне показали игровой Фильм "Василий Докучаев", снятый в 1961 году. Есть в этом фильме и Ермолов, которого играл Е.Копелян. Боже мой, какой же это стоеросовый помещик-степняк, представший на коне перед Докучаевым мрачной силой, олицетворяющей все мыслимое и немыслимое невежество. Вскоре после этого я поехал в Зауралье к Терентию Семеновичу Мальцеву. Оказавшись в его богатейшей библиотеке, на всякий случай спросил, не доводилось ли ему читать труды Ермолова? – Ну как же, – быстро откликнулся Мальцев, – Алексей Сергеевич Ермолов, первый наш министр земледелия, был очень толковым ученым, его книги меня очень многому научили. – И, к немалому моему удивлению, снял с полки несколько объемных томов. Подавал один из них, сказал: – Советую и вам почитать, если не читали, очень толковые мысли высказывает не только о системах земледелия, но и о российской жизни много любопытного. Эта книга и сейчас у меня на столе, среди трудов Энгельгардта, Измаильского и Докучаева. С особым вниманием читаю те места, которые подчеркнул Мальцев, и убеждаюсь: даже через сто лет после написания книга и вправду многое могла подсказать Мальцеву в разработке его системы земледелия. Ее не грех бы читать и нынешним ученым, нынешним агрономам. И читать так, как читает Мальцев – с пользой. Скажут, ну а почему бы не допустить, что инициатором экспедиции был все же не чиновник, а ученый? Ведь в то время было немало выдающихся имен, Костычев, к примеру. Костычев?.. Да, время поставило эти два имени, Докучаев и Костычев, рядом. Поставило в высшей степени справедливо. Но при жизни у них никогда не было не только дружбы, но и согласия. Больше того, Костычев, как никто другой, всячески препятствовал всем начинаниям Докучае- 110 ва, и препятствовал так яростно, что министерским чиновникам приходилось уговаривать его сбавить пыл, искали пути, как нейтрализовать или обойти Костычева, Чаще всего обойти им не удавалось. Это был единственный человек, адресуясь к которому на совещаниях или заседаниях Ученого совета, Докучаев говорил "господин Костычев". Точно так же обращался к Докучаеву Костычев. Но и так обращались только на заседаниях – при встречах не замечали друг друга Нет, не мог Костычев ходатайствовать об экспедиции, в основу опытных работ которой легли Докучаевские положения, а их Костычев опять же яростно оспаривал. Улучшить природу степей, доказывал Докучаев, можно лишь экологической системой мер. Он стоял на том, что все природные условия в равной степени важны, а поэтому и решать проблему спасения от засух и неурожаев нужно в комплексе, путем улучшения всех широтных условий данной местности. Костычев считал, что решить эту проблему можно проще – совершенствованием агротехники, то есть тем, что Докучаев относил лишь к пятому "надо". Это противостояние двух великих ученых не отменит даже смерть. И хотя время вроде бы и помирит их, сделает их имена неразлучными, однако костычевское направление в науке и через сто лет будет, даже, не осознавая этого, враждовать с докучаевским и не даст ему проявить себя на больших территориях, не пустит за пределы Каменной степи. Вспомним снова, с какой быстротой решилось цело. Уже одно это свидетельствует о том, что инициатива принадлежала высокопоставленному чиновнику – предположения ученых никогда так быстро в жизнь не воплощались. Снова и снова я листал и перечитывал свои выписки из писем, архивных документов и старых публикаций. Не может быть, чтобы кто-нибудь из подвижников Докучаева, занимавших участие в экспедиции, не обмолвился об инициаторе. Вот воспоминания Петра Федоровича Баракова. Он участвовал в экспедиции, а в 1897 году, когда Докучаев заболел, принял от него должность 111 руководителя. Бараков как и Захаров, вспоминает лекции Докучаева, в который профессор "обратился с мощным призывом реставрировать современные нам степи". И сразу после этого пишет: "Островский и Писарев предложили Докучаеву казенные земли для исследований". Воспоминания эти написаны в 1914 году и тогда же были опубликованы в одном из научных трудов, изданных в Саратове. Подождите, подождите! Как же это я, столько раз читал "Труды Экспедиции" и не обратил внимания вот на эту фразу: "Заканчивая введение, мы не можем не принести здесь глубокой благодарности бывшему министру государственных имуществ, статс-секретарю М.Н.Островскому, министру земледелия и государственных имуществ А.С.Ермолову и директору Лесного департамента Е.С.Писареву за высокопросвещенный почин в столь важном для России деле". За почин, а не за содействие! И это не угодническое расшаркивание – Докучаев не только никогда не расшаркивался, но слыл в высшем свете грубияном, как раз за неумение льстить и угождать малополезным "болтунам". Он благодарил лишь тех, кто обнаруживал "горячую любовь к делу и ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ". К тому же, как вы заметили, Докучаев писал эти слова признательности, когда Островский уже не был министром. И если уж благодарил отставника, значит, тот того заслуживал. "Людей надо судить по тому, сколько и как они в жизни сделали", – часто говорил Докучаев, руководствуясь одним принципом – общая польза. Итак, Островский, Ермолов и Писарев. А я, было, вычеркнул первого из числа возможных инициаторов. Да, не зная всех фактов, не выноси суда ни одному человеку. Остается доискаться, что же побудило их на этот действительно "высокопросвещенный почин в столь важном для России деле". Пока я этого не знаю. 112 5 Россия подводила итоги еще одного сельскохозяйственного года. Хозяева, покончив с полевыми работами, могли "вновь предаться размышлениям о пережитом, переживаемом и имеющим быть впереди, так как сельский хозяин, более чем кто-либо, всегда жил и живет надеждами на будущее, что и дает ему силы переживать не очень-то радостное настоящее". Год был снова неурожайным: в центральных губерниях озимое уродилось плохо, овес – и того хуже, многие крестьяне едва лишь возвратили семена. Мало было и соломы как ржаной так и озимой: "первая составляет единственное топливо, вторая – единственное кормовое средство". Второй недород подряд. О нем читающая Россия знала меньше, чем о недороде 1891 года. И вовсе не потому, что засуха была не такой злой, что опалила она меньшую территорию, что меньше голодало и умирало народу. И не потому, что длительное народное бедствие притушило боль и сознание тех, кто еще недавно, отложив все дела, открывал столовые и приюты, помогая голодающим и будоражил общество. Ни Лев Толстой, ни Короленко, ни Чехов на этот раз не отправились по бедствующим деревням. Сострадали, помогали, писали гневные статьи – и вдруг ни слова, хотя бедствие продолжалось. Лето в том, что правительство категорически воспретило "всякую частную инициативу в селе помощи голодающим". Отныне не в отдельных уездах, а по всей России "деятельность лиц, посвятивших себя, по чувству христианской любви к ближним, делу помощи голодающим", рассматривалась противозаконной. Как же прав был Короленко, писавший, что всякое "воспрещение” и "ограничение" осуществляется у нас быстро, полно и решительно, точно по телеграфу. И наоборот, всякое "разрешение" и "дозволение" ползет на долгих, и даже после того, как оно уже проникает в самые дальние административные закоулки, на него все еще недоверчиво косятся и не спешат с его осуществлени- 113 ем, как бы предчувствуя, что оно просуществует недолго, а "воспрещение", незаконное, неосмысленное и прямо нелепое, воспрянет опять во всей силе живущего факта. И оно воспряло. Екатеринославский губернатор князь Оболенский "выслал административно целый санитарный отряд, снаряженный одесским обществом врачей для помощи голодающим и больным Елисаветградского уезда, и с его легкой руки то же отношение к частной помощи водворилось во всей России". Границы голодающих губерний закрывались не только для частной помощи, но и для гласности. Умолкла честная русская публицистика. Правда, все что хотела сказать, она сказала в период между "дозволением" и "воспрещением", – рассказала о горе людском, о страдании народном и даже о пороках социальной системы. Но обошла вниманием все те сельскохозяйственные проблемы, которые так волновали Докучаева и его единомышленников, призывавших действовать и обустраивать землю так, чтобы ей были не страшны засухи. Пробел этот восполняли учение и сельские хозяева – публицисты в те поры подобными проблемами не занимались. Однако и в размышлениях сельских хозяев звучало настойчивое требование "немедленно приступить к разведению леса, чтобы по возможности восстановить равновесие в пропорциональном отношении земли, занятой лесами и находящейся под полевой культурой". Их мучило то, что "ни о каких подобных мероприятиях, или только проектах таковых, что-то не слышно даже после прошлогоднего бедствие и всего того, что говорилось и писалось в прошлом году по всем вопросам злобы дня – нашего земледелия". Нет, не пропали даром публичные лекции Докучаева, не зря писал он свои статьи в "Правительственный вестник", которые объединил в одну книгу "Наши степи прежде и теперь" и указал на ее обложке: "Издание в пользу пострадавших от неурожая". Деньги от продажи книги пошли в пользу голодаю- 114 щих, иди начинали служить Отечеству, о чем и свидетельствовали речи на съездах, статьи в газетах. Сознание необходимости лесоразведения настолько окрепло "в более интеллигентном обществе сельских хозяев", сообщалось в публикациях, что многие частные лица уже приступили к посадкам по своей доброй воле. К сожалению, труды этих пионеров составляли "лишь каплю в море нашего степного безлесия, о чем, конечно, приходится только сожалеть". Не замолчали и сами пионеры. Один из них с отчаянием взывал: "И когда-то голос наш дойдет и будет услышан тем, словом которого все на Руси зиждется, все движется, все работает на пользу отечества..." В том "интеллигентном обществе сельских хозяев", к которому относился и взывающий, все отчетливее понимали, что "работать в убыток немыслимо, какова бы не была привязанность к земле", и ох как ненадежна эта привязанность, постоянно испытываемая недородами и голодом. И хозяин, возвысившись до научного понимания проблемы, писал: "Настала однако пора взяться за ум, за восстановление равновесия в природе, равновесия, нарушенного хищническою рукой цивилизованного человека. Теперь приходится позаботиться об обеспечении существования не только будущего поколения, но и настоящего, иначе нам останется только бежать, покинув все, куда глаза глядят – в Сибирь, в Америку, туда – где земля и природа все еще в состоянии дать пищу человеку. Попытки этих бегов мы уже видим". Вот так. В те же самые дни тульский губернатор отрицал "наличность бедствия" по вверенной ему губернии, а тульский землевладелец едва сдерживал крик о скорейшей помощи в борьбе с общим стихийным врагом – повсеместным оскудением влаги. И все же не сдержался, крикнул: "Вразуми же Бог того, кому вручена судьба нашего многомиллионного отечества, войти в положение нашего земледелия и тем спасти нас и детей наших от будущих бедствий и разорения". 115 Вразуми! Не блудного сына своего, не убогого умом домочадца (с такими просьбами кто не обращался на Руси) – Царя вразуми!.. Да такого не позволял себе ни один критик, а если и позволял, то лишь в доверительных разговорах с друзьями, в письмах, но не в статьях своих. Вразуми!.. Я еще раз посмотрел на название газеты, опубликовавшую эту дерзкую просьбу, и поразился: "Гражданин"! Газета, издававшаяся на правительственную субсидию и которая уже в те годы открыто называлась черносотенной и ультраконсервативной, редактировал которую князь Мещерский Владимир Петрович, "злейший враг даже умеренных реформ". Видно, не ожидал князь Мещерский такой мерзости от землевладельцадворянина, опубликовал, не дочитав статью до конца. Однако просьба сельского хозяина так и не дошла до бога. Просьба не дошла, но идея степного лесоразведения крепла в сознании многих и многих земледельцев, истинных хозяев земли русской. Эта идея все настойчивее звучала и в ответах на вопросы Вольного экономического общества: в степных наших уездах ветрам гулять нет почти препон, потому что и в них самых, "кругом и около до Азии уже не осталось задерживающих лесов". Так жить нельзя. Земледелие превратилось в орлянку. Нужны пруды, нужны посадки по оврагам, по балкам, вокруг прудов. 6 В конце ноября участники экспедиции завершили полевые работы и покинули Каменную степь. Но покинули ее не все: в ней оставались заведующий участком Конрад Собеневский и два наблюдателя – Изосим (Зомма) Белоус, откомандированный в экспедицию Киевско-Подольским управлением, и Баренец, прибывший в Каменную степь в конце августа по окончании в Хреновом лесной школы, удостоенный за отличную учебу высшей награды. 116 Им первым предстояло прожить всю зиму в степи, на что не решались даже арендаторы. Трое в белом безмолвии. К тому же лишь двое будут жить по соседству, а третий на метеостанции в полутора километрах от них. Им первым выпало испытать все невзгоды открытой степи, вести каждодневные наблюдения да еще доставлять из Хренового за 30 степных верст весь инвентарь, который к весне должен быть на месте, потому что с весны начнутся все те практические работы, для выполнения которых и снаряжалась Экспедиция. "Наконец-то я отоспался и привел себя в порядок, – сообщал Докучаев другу своему Измаильскому после бесконечных странствий по степям. – Семья вернулась сдачи, и я снова начинаю втягиваться в обычные зимние занятия". Настроение у Докучаева хорошее, .даже прекрасное: "работы южной экспедиции обеспечены", а это самое главное. Сибирцев засел за "Предварительный отчет о деятельности Особой экспедиции". Отредактировав, Докучаев пописал его в канун нового года. Потом садится и пишет "милостивому государю Михаилу Николаевичу Островскому" и неофициальный отчет. Кажется, этот последний нигде и никогда не публиковался. Нет его и в собрании сочинений Докучаева. Вот он, извлеченный вместе с другими бумагами из недр исторического архива, лежит передо мной – несколько страничек, исписанных мелким, почти бисерным, бегущим почерком. Время, разделявшее нас, вдруг исчезло. Мне показалось, Докучаев написал этот документ только вот сейчас, и обращается в нем к нам. Вроде бы даже предположил прочитать его, прежде чем подписать, а сам отлучился ненадолго – отсюда, с набережной, где исторический архив, до его квартиры рукой подать, отсюда 1-я линия Васильевского острова как раз через Неву напротив, а за Невой и дом 18 недалеко. Мне даже показалось, что вижу его высокую Фигуру в меховой большой шапке, с поднятым полуизъеденным бобровым воротником и с пледом на руке. Шагает по улице широко и спокойно, однако поступь ка- 117 кая-то мужицкая, тяжеловатая, даже неуклюжа. Таким видели ученики своего профессора, когда он шагал по утрам в университет. Таким и мне он увиделся. Я читал этот документ и думал: не зря мотался Докучаев по южным степям России. Он, сын России, увидел такие размеры стихийного зла, причиняемого хроническими засухами, бурями, суховеями, непомерным разрастанием оврагов, движущимися песками, усыханием водоемов, понижением грунтовых вод, выпахиванием и истощением почв, что не мог теперь отдыхать спокойно. Ему надо было выговориться, поэтому и сел писать неофициальный отчет. В нем он убеждал министра: "Необходимо привлечь к этой ГИГАНТСКОЙ БОРЬБЕ наше общество, потому что одному правительству едва ли справиться с невзгодами". Для этого "правительству предстоит прежде всего разъяснить самый вопрос – ХАРАКТЕР и РАЗМЕРЫ зла, а ровно и СПОСОБЫ борьбы с ним... Такое разъяснение должно стать достоянием всей грамотной России". Он уже знал, что земство приняло постановление о запруживании балок и обязательном полезащитном лесонасаждении. Как выразился Измаильский, "неурожай раскачал черноземную силу". Раскачать-то раскачал, да на пользу ли?.. В это же самое время, когда постановление принимали, администрация губернии занималась "распространением холеры и спешным сечением бунтарей (бунт на заводе Юза) в массе, не допуская исследования, кто из бунтарей виновен". Так что "не чуждый вопросов культуры" губернатор Шлиппе, взявшийся за распространение лесоводства и садоводства в деревнях, может и в этом деле прибегнуть к тому же методу – "не допуская исследования", особенно в деле обязательной лесной повинности, которую вознамерилось ввести в своих владениях губернское руководство. На такую возможность намекнул Докучаеву и предводитель екатеринославского дворянства Петр Каменский, который сообщал: "У нас теперь имеется около 25 тыс. рублей на запруды и тьма властей, содействующих облесению. Словом, положение вещей такое, что глупостей можно наделать сколько влезет". 118 А ну как вся эта тьма властей начнет так же спешно вразумлять крестьян, которые, движимые нехорошим предчувствием, уже на первых же шагах "враждебно смотрели на "барские" затеи". Чтобы этого не случилось, Докучаев советует министру "выработать и издать новые законоположения о водном и лесном хозяйстве в степях России". Настаивает на расширении Экспедиции – надо на первое время еще два участка: один на водоразделе Днепр-Днестр, а другой где-нибудь в Саратовской, Симбирской или Самарской губернии. Все участки сделать опытными станциями – "и тогда будут они по всей наиболее хлебородной части нашей черноземной полосы" служить "ЖИВЫМ, НАГЛЯДНЫМ И БЕССПОРНЫМ доказательством ВОЗМОЖНОСТИ, ПОЛЕЗНОСТИ И ПРАКТИЧНОСТИ новых мероприятий". Требует расширить задачи экспедиции, "возложив на нее выработку, испытания и учет не только лесного и водного, но и ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО хозяйства южной России, в ИХ ВЗАИМНОМ СОЧЕТАНИИ И ВОЗДЕЙСТВИИ", а для этого просит прикомандировать к экспедиции опытного ученого агронома и пять молодых выпускников средних сельскохозяйственных школ. Безмерно уставший Докучаев добивается расширения работ в степях, чтобы в эти работы обязательно было включено и устройство опытных сельскохозяйственных полей. Как ни странно, экспедиции они не планировались, и Докучаеву долго еще придется добиваться разрешения на их устройство. Однако именно эта странность и ставит все на свои места. Теперь понятно, ради каких целей замышлялась экспедиция: Островский, Ермолов, Писарев, прямо или косвенно отвечавшие за общественные работы по устройству прудов и насаждению лесных полос, хотели дать Аненнкову научные рекомендации, выработанные на опытных участках. Подтверждение этому мы найдем у Ермолова, но позже. Докучаев смотрел на свою задачу гораздо шире. 119 Итак, 4 января 1893 года Докучаев подписывает неофициальный отчет министру, а 10 января высылает Измаильскому экземпляр "Предварительного отчета о деятельности Особой экспедиции". Он был доволен сделанным, и поэтому торопился поделиться радостью своей с человеком, который лучше других понимал его. Однако Измаильский прислал ответ, который заметно остудил Докучаева. "Думаю, что если я увлекаюсь культурными мерами, – писал он, – то в той же мере Вы увлекаетесь мерами облесительными; их значение, по-моему, под большим знаком? Практическое осуществление их в размерах, могущих иметь значение, представляется мне целом почти не выполнимым, если принять во внимание культурное и материальное положение страны. По-моему, главное значение Ваших работ – выяснить значение различных мер, а до их практического осуществления еще очень далеко..." Спохватиться бы ему и не продолжать эту мысль, однако он решил оговорить ее до точки: "Я почти убежден, что Вы, глубокоуважаемый Василий Васильевич, сами лично придаете наибольшее значение первой части Ваших работ, а не практическому их осуществлению; об этом последнем по необходимости Вам приходится писать с несоответствующим их значению подчеркиванием. Это тоже одна из практических работ к осуществлению главной задачи". Если бы так сказал кто-нибудь другой, если бы кто другой заподозрил его в хитрости, то Докучаев просто бы вычеркнул этого человека из числа свих знакомых. Он никогда не брался за дело, в успех и полезность которого не верил. Он никогда не хитрил ни в отношениях к делу, ни в отношениях с людьми, поэтому многие считали его тяжелым человеком, поэтому в жизни у него было так мало друзей. И вот сказал ему такое человек, которого он называл приятелем, любил и будет любить до скончания жизни своей – именно ему он напишет последнее предсмертное письмо. 120 Докучаев был обижен неверием друга и ответил Измаильскому не сразу сослался потом на дела и разъезды. А сославшись и извинившись, написал, будто клятву отчеканил: "Я постараюсь (и если не помешают, то ИСПОЛНЮ), дать то, что обещано мною в ЗАГЛАВИИ отчета; а может быть, и больше... Впрочем, будущее докажет лучше. Откуда взяли Вы, что мы идем по разным дорогам?".. Думается, неверие это было вызвано не только "культурным и материальным положением страны". Перечитаем еще раз первую фразу Измаильского: "Если я увлекаюсь культурными мероприятиями, то в той же мере Вы увлекаетесь мерами облесительными". Дело в том, что как раз в этот период Измаильский пришел к убеждению, что поднять уровень грунтовых вод на пашне ("заболотить", – говорил он) можно "строгим выполнением одного условия: чтобы вся атмосферная вага входили в почву". Но, в отличие от Докучаева, считал возможным добиться этого одними агротехническими приемами. Докучаев ответил ему на это: "Сердечно боюсь, что Вам придется горько разочароваться в Ваших мечтах заболотить Дьячковскую степь при помощи чисто культурных земледельческих приемов". И все же... "Откуда Вы взяли, что мы идем по разным дорогам?" – спрашивал Докучаев. Цель, а значит и дорога у них одна, только агроном Измаильский смотрит на дело уже, надеется лишь агротехническими приемами задержать влагу в почве, уберечь ее от испарения и стока за счет глубокой вспашки поперек склонов, кулисных паров и своевременного уничтожения сорняков. Но и лесополосы сажал вокруг Дьячкова, создавал пруды по лощинам и балкам. Неужто лишь для красоты?.. Уже через год Измаильский признается Докучаеву в своей ошибке: "Грунтовые воды пополняются на счет атмосферной влаги не через всю поверхность почвы, а в исключительных местах; такими питающими пунктами являются прежде всего наши воронки и затем пруды, расположенные в верховьях, и различные заросли в открытых степях". Тем самым признал правоту 121 Докучаева. Но как агроном-практик все еще колебался: "Что при нашей бедности логичнее: тратить на обводнение и облесение жалких и незначительных площадок, или затратить раньше на изучение – в обширном смысле слова – всех условий, окружающих хозяина южных степей?.." Докучаев одобрительно относился к поискам Измаильского, внимательно изучал его земледельческие приемы, потому что хотел применить их в ряду с другими мерами и на участках экспедиции. Как раз в это время Измаильский готовил свой труд "Как высохла наша степь?", который станет широко известен во всем научном мире. В нем он проследит историю оскудения степей и предупредит человечество: в недалеком будущем, при таком хозяйствовании, черноземные земли способны превратиться в пустыню. Однако Измаильский не только пугал, но и отвечал на многие не разрешенные наукой вопросы, касающиеся не только прошлого, но и настоящего. Он первым определил динамику влажности почвы в зависимости от рельефа местности и культурного состояния пашни, что давало возможность человеку хозяйствовать на земле разумно. На основании многолетних полевых опытов Измаильский доказал: почвы тем в большем количестве вбирают в себя дождевую и весеннюю воду, тем меньше ее испаряют, чем структура этих почв ближе к зернистой структуре девственных степей. А раз это так, то часто повторяющиеся неурожаи от засух происходят не от изменения климата, а от нарушения человеком зернистой структуры почвы. Все эти идеи Докучаев знал от него задолго до их опубликования. Знал и радовался тому, что наконец-то "наука проникла в темную область земледелия, в которой до сих пор господствует еще рутина". Поэтому-то в том же ответном письме Докучаев просит Измаильского посетить весной участки экспедиции, "чтобы помочь нам организовать там пока небольшие опытные поля" – на первое время десятин по 20. 122 Измаильский с удовольствием принял предложение, и Докучаев явно подобрел, подробно пишет ему о целях, которых он намерен добиться устройством опытных полей. Делится и самой радостной перспективой: "Будем просить Вас заглянуть сельскохозяйственным оком и на все наши участки целиком. Весьма возможно (Ермолов так желает.), что со временем и все наши участки превратятся в огромные опытные поля". Ермолов, и это уже знали все, только что возглавил Министерство государственных имуществ, которое вот-вот должно преобразоваться в Министерство земледелия и государственных имуществ (произойдет это 21 марта 1894 года). Вы помните, как ждал этого преобразования и этого назначения Энгельгардт. "Кому же и быть министром земледелия, как не Ермолову?" – писал он Докучаеву. Однако же события этого так и не дождался. 21 января 1893 года Александр Николаевич Энгельгардт, представитель передовой русской интеллигенции, выдающийся ученый, сельский хозяин и химик, ссыльный профессор, положивший основание первой в России опытной станции по изучению минеральных удобрений, скончался от паралича сердца на 61-м году жизни. Тяжело пережил эту утрату Докучаев. Умер друг и единомышленник. И с годами эта утрата будет сказываться все заметнее. "У меня всегда больно на душе, когда вспоминаешь, как много сил губится на Руси, – как мало личность дает того, что в ней есть..." – записал в дневнике Владимир Иванович Вернадский, узнав о смерти Энгельгардта. В эти дни Докучаев находился под Варшавой, в Новой Александрии, где реорганизовывал и ставил на ноги сельскохозяйственный институт. У него всегда была куча самых разных дел. Однако сам он считал их взаимосвязанными, без решения одного не мыслил и решения другого. Ну, в самом деле, что полезного и толкового могут свершить на земле выпускники институтов, в которых подготовка специалистов поставлена из рук вон плохо. А тут так повезло. С высочайшего позволения ему разрешили реорганизовать 123 один из институтов, прием в который уже было закрыли, возродить его на основе совершенно новой программы, какую выработает он, Докучаев. Как было отказаться от такого нужного России дела! И Докучаев укатил в Новую Александрию. Думал, только на зиму, чтобы весной – в степь. Однако реорганизация затягивалась, и руководить делами экспедиции Докучаеву приходилось издали. Благо, что в Петербурге был у него хороший помощник. Все хлопоты по экспедиции, а значит и сношения с департаментами, легли на Николая Сибирцева, который накануне отъезд в степь извещал Докучаева: "Сегодня окончательно выяснилось, что увеличение числа участков Экспедиции отложено до будущего года". Директор Лесного департамента Е.С.Писарев подтвердил: "Алексей Сергеевич Ермолов очень желал расширить работы экспедиции и искал для этого денежных средств не только в лесном департаменте, но и в Департаменте земледелия – но, увы, таких средств не оказалось, и поэтому решение означенного вопроса отложено до будущего года". Ах ты, бедная Россия, в двух твоих департаментах не нашлось нескольких тысяч рублей на нужное дело... А еще в письме от 14 апреля Сибирцев сообщал: "Коллекция для Чикаго упаковывается; все более или менее устроено, благодаря главным образом П.В.Отоцкому". Упаковывалась почвенная коллекция Докучаева и его учеников, которая в том же 1893 год поплывет за океан на Всемирную Колумбову выставку, посвященную 400-летию открытия Америки. Вместе с коллекцией отправится и книга Докучаева "Русские степи. Изучение почвы в России, его прошлое и настоящее". Да, это "Наши степи прежде и теперь" в сокращенном переводе с пополнением истории изучения почвы. Экспонировать коллекцию почв, а вместе с тем и предъявить миру новую науку, которой пока что не было ни в какой другой стране, едет молодой ученый В.Р.Вильямс, недавно окончивший петровскую академию. Об этой выстав- 124 ке надо бы рассказать подробнее, но, надеюсь, у меня будет повод сделать это в другом месте. А сейчас вернусь к делам экспедиции. 7 Ну, а что делали, как жили-были три наших зимовщика, оставшихся в степи? Как жил Собеневский, сын дворянина, окончивший Петербургский институт, не избалованный жизнью, но все же привыкший совсем к иным условиям, в том числе и природным – работал до этого в лесничестве под Уфой, а там места – сказка! А Изосим Белоус, приехавший сюда с благодатной Украины, куда был направлен после окончания Хреновской лесной школы – он был одним из лучших учеников первого выпуска. О чем думал, что делал совсем юный Баранец, оказавшийся сразу после шумной школьной жизни одиноким жильцом на метеостанции в безлюдном степном просторе, по которому свободно гуляли яростные метели, завывая в одинокой трубе его одинокой избы? Нет ответов на эти вопросы. Лишь мельком упоминается в архивных бумагах, что зимой Собеневский несколько раз приезжал в Хреновое и снова возвращался в степь с грузами, поступившими для экспедиции. И ни слова про Изосима Белоуса, ничего про Баранца, даже имя его неизвестно. Одно известно, службу свою несли они исправно, в журнале наблюдений не осталось ни одного пропуска. Значит, работали, сознавая, что наблюдений эти сгодятся при определении мер противодействия суровым условиям здешнего климате. Работая, ждали весны. Может быть, никто другой во всей России так не ждал ее. Весна принесет им не только тепло, но и избавление от гнетущего одиночества, когда могло показаться, что ты остался один на всем белом свете. 125 Можно лишь догадываться, как радовались три отшельника весеннему теплу, пробуждению природы, с каким нетерпением вглядывались они вдаль – вот-вот должны появиться на дороге подводы с теми, кто жил в обитаемом мире. Апрель... Ах, этот радостный, пьянящий степными запахами апрель. Степь хоть и пробуждалась, но еще окончательно не пробудилась, все еще нежилась, отогревалась под теплым солнышком, вслушивалась в пересвисты вылезших из нор сурков, в звоны жаворонков. Первые дождики исподволь смывали с нее серый цвет жухлых трав, и занежившаяся степь вздохнула, окончательно пробудилась – и пошли пробиваться ростки цветов и трав. Едва выбившись из пригретой земли, они тут же раскрывали бутоны – в одно утро степь покрылась таким ярко-желтым первоцветьем, что в глазах рябило. 8 На этот раз съезжались в степь порознь. Первым, в двадцатых числах апреля, прибыл из Петербурга Николай Михайлович Сибирцев – на него Докучаев возложил все заботы по организации практических работ. Вскоре из Ново-Александрийского института приехал профессор Дейч. Ему первому предстояло начинать обустройство Каменной степи – надо было приступать к строительству плотин в степных балках. Из Самары прибыл Ковалев, "Онисим – золотая борода", который, "обладая легеньким бахвальством, старался выдавать себя начальством", – так охарактеризовал его в "поэме" Высоцкий. Пора было завозить саженцы из Анадоля и других лесничеств, закладывать древесную школу. Высеянные осенью в питомнике семена липы, дуба, акации, сосны, как и всех других пород, взошли вопреки всем сомнениям, хорошо и дружно, так что материал для посадок будет. 126 Сибирцев с Ковалевым наметили в натуре места для первых защитных и снегосборных посадок: квадрат вокруг наблюдательного колодца – 1 десятина, и полосы в зоне метеостанции – 5 десятин. И Сибирцев, и Дейч, и Ковалев будут приезжать сюда и уезжать на другие участки – они распорядители, им всюду надо успеть, чтобы наметить на плане и в натуре первоочередные объекты работ, дать соответствующие указания. Исполнение всей этой работ возлагалось на Собеневского, заведующего участком и всеми работами в степи. Стройка, распашка, посадка, наем рабочей силы и тягла – все на нем. И все надо успеть, все сделать хорошо. Он успевал и делал. Ни один из чинов Экспедиции ни разу не пожаловался на него Докучаеву. Хотя никто и не хвалил. Так бывает: есть люди, у которых дело вроде бы само собой делается, а они не шумят, не суетятся и никому в глаза не бросаются. Правда, не двух других участках дела обстояли хуже, что-нибудь да срывалось, накапливались недоделки. Поэтому и в переписке чаще упоминались именно эти участки – в Каменной степи все в порядке. Однако Докучаев все больше привязывался душой именно к Каменной степи, где природные условия были куда хуже, чем на других участках, а дела шли лучше. "Пожалуйста, побывайте на участках", – все чаще и все настойчивее напоминает Докучаев Измаильскому, – нужно помочь в организации опытных полей. Однако Измаильский не смог выехать ни в мае, как обещал, ни в июне. Еще в апреле, будучи по делам в Петербурге, он заболел воспалением легких. "Питер на меня подействовал скверно – здоровье потерял, а для души ничего отрадного не получилось", – жаловался Измаильский почти теми же словами, что и Энгельгардт несколькими годами раньше. Болезнь усиливалась при малейших переменах погоды. И он отказывается от предложения: "Все более и более страшусь, что я не в силах буду исполнить поручение Ваше, хотя желание имею очень сильное". 127 В первых числах июля Докучаев, разделавшись с институтскими делами в Новой Александрии, торопится на степные участки – туда собирались приехать директор Лесного департамента Писарев и новый министр Ермолов. Там, на месте, с ними легче будет решить многие вопросы. Однако Писарев, давно уже болевший, известил Докучаева, что уезжает на лечение в Мариенбад, и поэтому нынешним летом на участке не поедет. Но сообщал, что Ермолов ''посетит Вас непременно". И просил: "Было бы крайне важно для нашего общего дела, если бы вы, Василий Васильевич, могли показать наши начинания Ермолову лично". Не знаю, приезжали ли министр на участки – ни в письмах, ни в документах не нашел ни слова об этом. Если и приезжал, то, значит, ничего важного не случилось. Даже вопрос с организацией сельскохозяйственных опытов попрежнему оставался нерешенным. А Докучаев только о них теперь и говорил, и писал. Уже был готов и проект этих опытов, составленный вызванным из Одессы профессором П.Ф.Бараковым. Петр Федорович не первый раз работал с Докучаевым, под его началом он уже участвовал в почвенных исследованиях Нижегородской губернии. И работал не плохо, со знанием дела. А в 1888 году по поручению Вольного экономического общества организовывал сельскохозяйственную опытную станцию в селе Богодухове Орловской губернии. Он же составлял и программу работы этой станции. И все же Измаильский в агрономических лесах разбирался поосновательней. Жаль, что нет его в экспедиции. Пусть хоть почитает, сделав свои замечания. И Докучаев посылает проект на хутор близ Диканьки – Измаильскому. "В проекте Баракова всюду скользит – книжка, – писал Измаильский, возвращая проект, – я стараюсь несколько более развить практическую основу, указавши на теоретические заблуждения, положенные в основу опытов". В организации сельскохозяйственных опытов Докучаев был особенно щепетилен, ему хотелось услышать как можно больше разумных советов, что- 128 бы сделать как можно меньше ошибок. И он решил опубликовать проект Баракова с замечаниями Измаильского "именно с целью подвергнуть его критике" вынес на всенародное обсуждение. Эти опыты, мечтал Докучаев, помогут в дальнейшем приступить к созданию на каждом участке образцового хозяйства, "тесно связанного с новыми, рациональными водными и лесными порядками", так что от ошибок нужно избавиться еще до закладки опытов. Что же предлагал Бараков? Он был убежден, что сельские хозяева сами помогают засухе в ее опустошительных действиях. Помогают как беспощадным истреблением лесов, так и широкой распашкой земель, даже неудобных, – в погоне за обширными посевами, дающими в благоприятные годы сравнительно высокие урожаи хлебов. Оголив черноземную степь и нарушив естественное зернистое строение почвы, человек с плугом открыл простор для разрушительной деятельности атмосферных вод и ветра. Неправильно обрабатываемая почва стала меньше впитывать влаги к уже по одному этому сделалась суше. Бараков в опытах планировал испытать мелкую, среднюю и глубокую вспашку при раннем и позднем, при густом и редком посеве. После пропашных в 12- и 9-ти полных севооборотах предлагал под их покровом высевать травы – люцерну и эспарцет. Намечал внедрить кулисные посевы. Впервые, пожалуй, было замечено, а в "Трудах Энциклопедии" зафиксировано: СТЕРНЯ на полях оказывает довольно сильное влияние на защиту почв от выдувания, в степной зоне она играет ту же роль что и живой травянистый покров... Кто знаком с нынешними системами земледелия, тот уже отметил про себя: все, что намечал Бараков, было испытано и не без долгой и трудной борьбы внедрено в практику. 129 Что "водные и лесные порядки" будут созданы, Докучаев уже не сомневался: в степи работали знающие, увлеченные своим делом гидротехники и лесоводы. А вот знающего агронома все еще не было. "Агронома я до сих пор не нашел еще", – жаловался Измаильскому, снова и снова приглашая его приехать. А тот все отказывался: то болезнь не пускала, то накопившиеся за время болезни дела по управлению имением Кочубея. Как же опротивели они ему, эти дела в княжеском имении, давно бы надо было отыскать другую службу, однако пока не подыскал – надо работать. Вот же чудак-человек, а когда Докучаев предложил ему место в институте, то отказался, побоялся, что не справится. Ему бы какое конкретное дело, чтобы на земле. Будет такое цело! Сибирцев как раз просится из Экспедиции на подготовку мастерской диссертации, – об этом уже давно был уговор, так что надо отпускать, а Измаильского – на его место. Вернувшись в Петербург, Докучаев спешит к министру. И в тот же день и час пишет Измаильскому: "Только сейчас вернулся от А.С.Ермолова и имею сделать Вам, С СОГЛАСИЯ МИНИСТРА, – выделяет эти олова в письме, – следующее предложение: Поступив на службу в Министерство земледелия, Вы будете состоять в экспедиции "старшим помощником начальника экспедиции"... Специальная Ваша задача будет заключаться в организации на участках, прежде, опытных полей, а затем – в постепенном превращении участков в образцовые хозяйства. В экспедицию необходимо вступить примерно в феврале и не позднее марта..." И добавляет: "Лично я очень советую Вам взяться за это дело; СО ВРЕМЕНЕМ Вы же будете, вероятно, и начальником экспедиции". Предложение привело Измаильского в восторг и... замешательство. Да, отвечал он, институт его пугал "неуверенностью в своих силах и своей приспособленности, а тут совершенно иное дело". Дело вполне для него подходящее, в 130 котором мог поручиться за успех. Одна беда – жить или приезжать зимою в Питер ему строго запрещено, пока легкие не окрепнут. Вот вели бы зимою можно было жить на юге, а летом по участкам, тогда другое дело. К тому же ни в феврале, ни в марте приступить к новым своим обязанностям никак не сможет: "Оставить Кочубея, не произведя посева яровых и не окончивши начатую постройку мельницы, я считаю прямо нечестным – это его поставило бы в очень затруднительное положение; могу совершенно освободиться в конце апреля или начале мая". Ах ты, совестливый человек. Сколько раз тебя ставил Кочубей в "очень затруднительное положения"! Сколько раз ты готов был бежать от него куда глаза глядят... Ну да что ж с тобой поделаешь... Докучаев чтил его не только за цело и агрономический ум, но и за вот такую щепетильность, за бескомпромиссную честность. Так что согласился бы подождать и до мая. Однако за письмом из Полтавы пришла телеграмма: "Слег кровь горлом разъезды не вынесу отказываюсь Измаильский". Лежа в постели, Измаильский думал (свои думы он изложил в одном из писем), что это все, конец. Потом, правда, полегчало, однако слабость была страшная. В голову лезли самые мрачные мысли, так что, убеждал себя, взяться за эту ответственную должность он в таком состоянии не имеет права. "Не буду же я сидеть дома, когда работа идет на пунктах; при разбросанности участков и их отдаленности от станций железных дорог, я должен буду проводить в телеге все время от начала весны, даже и раньше, и до поздней осени. Об каких-либо удобствах при этих поездках, понятно, и думать нельзя". И, извинившись перед Докучаевым, отказывается: "При таких условиях взять эту должность рискованно как лично для меня, так и для дела". Другой кандидатуры на эту должность у Докучаева не было, и он продолжает настаивать: "Мне очень досадно расставаться с мыслью, что столь крупное, важное и дорогое дело попадет не в Ваши руки. Вот почему я еще раз 131 прошу Вас подумать о моем предположении и уже тогда окончательно ответить мне". Однако Измаильский отказывается: он не уверен, удастся ли ему вырваться "из объятий смерти". А Докучаеву рекомендует вместо себя на выбор двух полтавских агрономов и, "наконец, в Академии есть человек – Вильямс – не возьмется ли он?" "Что же делать", – ответил Докучаев, смирившись с отказом. И жаль, и досадно, однако ничего не поделаешь. Вильямс... Выпускник Петровской академии, оставшийся в ней преподавать. Недавно сопровождал почвенную коллекцию на Колумбову выставку в Чикаго. Не по просьбе Докучаева. Он поручил бы это почетное дело одному из своих учеников – конечно, Отоцкому, заботливому хранителю коллекции, готовившему не к отправке за океан. Выставка, на которой демонстрировалась Докучаевская почвенная коллекция, была не первая и не последняя. На каждой экспонировал коллекцию если не сам Докучаев, то один из его учеников. Только на Чикагскую отправлялся человек, не имевший к этой коллекции никакого отношения. Видно, ктото подействовал, и Докучаева обошли. Отоцкий, подготовив коллекцию к отправке за океан, поехал в Каменную степь на почвенные исследования, а в Чикаго с коллекцией уехал Вильямс... Рекомендацию Докучаев пропустил мимо ушей, а вот с губернским агрономом Дубровским попросил переговорить. И пожаловался: " У нас так мало умелых, честных и знающих, а главное – любящих свое дело людей!". 9 А работы в степи с каждым годом обретали все больший размах: по степным балкам уже голубели пруды, а вокруг, целя степь на квадраты, уже зелене- 132 ли лесные полосы. Накапливался опыт, а с ним приходило и умение. И уже не по 5-6 десятин посадок прибавляли за весну и осень, а 15-20. Однако все дальше отходил голодный 1891 год, все реже вспоминали засуху. Россия снова была с хлебом. Опять цены на него упали и достигли такого низкого уровня, до какого еще никогда не опускались: пуд ржи продавали за 30-35 копеек, а местами и того ниже, а ячмень и вовсе шел почти задаром – по 17-20 копеек. И на этом уровне цены держались довольно долго, что не позволяло крестьянам оправиться. В декабре 1894 года Измаильский, по-прежнему управлявший имением Кочубея, писал Докучаеву с тревогой: "Наши великие люди поехали в Питер решать вопрос, как сельское хозяйство окончательно добить; теперь оно едва волочит ноги". И тут же объяснил положение: "Имею 300 тыс. пудов продажного хлеба и ожидаю от хозяйства убыток! Вот каково наше положение". Ну, Кочубей не пропадет, он может подождать с продажей – к весне хоть чуть-чуть да подорожает. А крестьянину как быть? Ему, бедолаге, хоть плачь, а вези на базар сейчас и продавай. Усмехнется читатель: мол, не сгущай краски, писатель, не придумывай. Но я ничего не придумываю – это сам министр земледелия засвидетельствовал: "От крестьян приходится слышать ужасающие пожелания дальнейших неурожаев". И не сдержался, добавил с горечью: "Теперь ведь и в хороший год наш крестьянин зачастую впроголодь живет, вынужденный отвозить на базар и продавать за бесценок значительную часть собранного им хлеба, – немцев им кормить". Да уж лучше опять неурожай – хлеб свою бы цену имел. Разговоры о борьбе с засухой все больше раздражали. Все меньше понимали – зачем? Бог захочет, так и не камушке родится хлеб, судили-рядили одни. Другие, люди ученые, пускались в долгие рассуждения: мол, вопрос о влиянии лесов на климат и урожай – вопрос в науке спорный, так что нечего и тратиться на все эти облесительные и обводнительные работы. 133 Крик протеста – две телеграммы, летевшие в Петербург. Одна – министру Ермолову: "В виду крайней сложности и трудности задач экспедиции почтительнейше просил бы ваше превосходительство утвердить смету согласно личным переговорам смета и без того сильно сокращена мною – Докучаев". Другая – директору Лесного департамента Писареву: "Просил телеграммой Алексея Сергеевича и вас убедительно прошу не сокращать сметы опасно – Докучаев". Ермолов, пришедший в ужас от пожеланий дальнейших неурожаев, на телеграмме написал: "Увеличение расходов я признаю ныне принципиально неудобным". И из сметы были полностью вычеркнуты расходы на сельскохозяйственные опыты. Всего же экспедиции выделялось на 1894 год 39445 рублей. Такие суммы на иных опытных станциях составили перерасход сметы, а не саму смету. Будь жив Энгельгардт, не преминул бы утешить: вы, мол, и малыми средствами способны большие дела свершить, какие не под силу иным деятелям с миллионами. Однако почему же увеличивать расходы на работы в степи министр признал "принципиально неудобным"? Ведь они лично переговорили и договорились, что пора приступать и к сельскохозяйственным работам, на которые, условились, будет выделено 6360 рублей. Всего-то! Может, ответ кроется вот в этой записке Писарева, которой он спешил уведомить Докучаева: "Статс-секретарь Михаил Николаевич Островский докладывал нынче государю о нашей экспедиции и обещал представить его величеству отчет о ее деятельности: я полагаю, что наш бывший министр ждет Вас теперь с нетерпением, и было бы хорошо, если бы Вы пожаловали к нему утром между 11 и 12 часами 6-го сего января". В назначенный день Докучаев вручил Островскому доклад по делам экспедиции. Тот, без сомнения, представил отчет государю. 134 Как отнесся государь к деятельности экспедиции, неизвестно. Однако именно после этого доклада Ермолов посчитал "принципиально неудобным" увеличивать расходы по экспедиции. Несколько лет спустя, когда очередной неурожай снова покарает Россию за беспечность, Ермолов печатно пожалуется на то, что опыты по обводнению степей и закреплению оврагов делались все более непопулярными в верхах, кредиты на эти цели год от года обрезывались, а потом и почти совсем прекратились. "Когда я просил отпуска средств на оросительные работы, – писал Ермолов, – министерство финансов мне ответило, что цены на хлеб и без того стоят очень низкие (последствия неурожая 1891 года были к тому времени уже забыты), орошение же может повести только к дальнейшему перепроизводству хлеба в России". Когда же заходила речь о необходимости закрепления оврагов, отвечали, что "и это совершенно лишнее, потому что земля, снесенная в одном месте, откладывается в другом, и, следовательно, страна в общем от этих размывов ничего не теряет". Вряд ли доводы эти сочинялись в министерстве финансов. Уж на финансистов-то Ермолов нашел бы управу. Так рассуждал кто-то выше. Не сам ли государь России? Не потому ли стало "принципиально неудобным" добиваться увеличения расходов на работы в степи? Правда, причина могла крыться и в другом. Именно в это время Ермолов добивается учреждения еще одной экспедиции, и тоже под крылом Лесного департамента. Ермолов же дал ей и название – "Экспедиция по исследованию источников главнейших рек Европейской России" Начальником ее был утвержден генерал-лейтенант Тилло Алексей Андреевич. В отличие от авантюрного по характеру генерала Анненкова, Тилло пользовался давним и устойчивым уважением ученых России. Ныне имя его, много раз упоминаемое в трудах Докучаева, незаслуженно забыто. Не каждый 135 из нас знает сегодня, что термин "Среднерусская возвышенность" ввел в нашу географию он, русский географ, картограф и геодезист, член-корреспонент Петербургской академии наук. Это он из мерил длину главных русских рек и составил карту высот местности так называемую гипсометрическую карту Европейской России. Именно этой картой и была подтверждена правота Докучаева в его взгляде на почву как на вполне самостоятельное естественно-историческое тело, которое кажется продуктом совокупной деятельности грунта, климата, растительных и животных организмов, возраста страны, а отчасти и рельефа местности. Однако, как писал Докучаев, "все эти обобщения и соображения, сделанные нами 10 лет тому назад, хотя и оказываются, по существу, совершенно верными, но они были слишком общи и априорны; детальная проверка их точными фактами и цифрами была просто немыслима до получения нами вышеупомянутой карты А.А.Тилло". Совместив почвенную карту Полтавской губернии с картой высот, Докучаев окончательно убедился: "Эта карта очень наглядно показывает замечательную связь между рельефом местности и характером почв". Ныне эта первая рельефная карта, побывавшая на Всемирной выставке в Париже, хранится в Центральном музее почвоведения в Ленинграде. На той же выставке в Париже были представлены и почвенные карты верховьев Волги и Оки, составленные участниками экспедиции генерала Тилло. Географ занимался изучением почв вовсе не попутно. "Считая, что почвы – очень важный фактор в деле питания рек, Экспедиция отвела широкое место почвенным исследованиям", – подтверждал сам Докучаев. Они чтили друг друга. "Идя рука об руку по общей нам обоим дорогой стезе научной работы, судьба вознаградит нас и плодотворными результатами", – писал Тилло Докучаеву. Экспедиция ученого генерала исследовала все источники, питающие Волгу, Оку, Дон и Днепр. В этой грандиозной работе на огромной территории Рос- 136 сии принимали участие геологи, гидрогеологи, почвоведы, лесоводы. Сообща они делали одно общее дело – разрабатывали "меры защиты источников от дальнейшего иссякая и заиления". И многие из этих мер осуществили на практике. Всюду, где удавалось, создавали при казенных лесничествах древесные питомники для нужд частного лесоразведения: люди, берите саженцы, обсаживайте свои селения, поля, родники, берега рек. Крестьянам отпускали посадочный материал бесплатно, помещикам – по мизерным ценам. Дело лесоразведения Тилло мечтал превратить в общенародное. Как и Докучаев, он понимал: без участия населения огромные просторы России не обустроить. Однако мечтам его не суждено было сбыться. Те "десятки тысяч" освобожденных от крестьян лесовладельцев, кто еще недавно участвовал в оргии всероссийского лесоистребления, кто еще недавно "широкой рукой" вырубал леса вдоль всех рек и речек, – сажать их снова не торопились. Сбыт саженцев из плотников был минимальным. Алексей Андреевич Тилло умер в конце декабря 1899 года в возрасте 60 лет. Захирела и его экспедиция, немало сделавшая в исследовании источников главнейших рек Европейской России. Права, материалы этих исследований не претворились в дела улучшения природы, а залегли навечно в архивах, где они и покоятся поныне, и где я впервые прочитал о полезной для России деятельности экспедиции под начальством генерала-лейтенанта Тилло. Читал я эти материалы с мыслью о тех, кто отдавал жизнь свою на общую пользу. Сколько их было, этих подвижников! И как же неразумно растрачивалась их энергия! Способны были преобразить лик русской земли, а облагораживали лишь малый ее клочок. Да и на том надрывались и, умирая, вздыхали: "Как же трудно в России..." Трудно, даже если идея принадлежала министру. Потому что идеи эти, как и мечты людей талантливых, без отклика гасли в гуще народной массы. 137 Читал я извлеченные из архивных хранилищ материалы и думал: конечно, такая экспедиция, охватывающая своей деятельностью всю Европейскую Россию, вполне могла заслонить экспедицию Докучаевскую действующую в степи на трех небольших участках. Да и занималась она большим, нужным и благороднейшим делом – обережением истоков главнейших рек, питающих вою Европейскую Россию. Не знаю, много ли посадок осталось нам от той поры, многие ли из них и сегодня хранят истоки от заиления. Наверное, немало. Просто, мы сейчас не знаем, когда и кем они были посажаны. Но что истоки живы, не заглохли – в этом немалая заслуга генерала Тилло и его соратников, искавших не славы, а общей пользы. Да, деятельностью своей Докучаевская экспедиция охватывала значительно меньшую территорию, и поэтому была менее эффектна. Однако след на земле, оставленный ею, не только не затерялся, но с годами становился все заметнее. В Каменной степи целы и первые посадки, и первые пруды. К ним, первым, прибавлялись новые, и теперь уже не полосы, а "бастионы" шумят на ветру – оберегают поля от бурь и иссушения. И едут сюда, посмотреть, поучиться со всего мира. 10 Итак, 1894 год. Дел повалило – "бездна, и ни от одного из них покамест нельзя отказаться". Не все, конечно, граждане России были так загружены. Но Докучаеву не хватало не дня, а суток. "Верьте, – просил он прощения за долгое молчание у друга своего, – были занят до красного каления своей собственной лысины!" Отоцкий, ученик его, напишет потом: "Это была не жизнь, а какое-то кипение в течение, по крайней мере, 18 часов в сутки". 138 В тот год в степи продолжалась посадка лесных полос, велось строительство прудов. Дело требовало от Докучаева хлопот, поездок, переписки с ведомствами и чинами. В Петербурге начали издаваться "Труды Экспедиции, снаряженной Лесным департаментом, под руководством профессора Докучаева". Выходило подряд 10 выпусков-книжечек. Все – под его общей редакцией (а это не только смысловая правка и сношения с издаталем, но и споры, и неизбежные уточнения, сверки с различными научными источниками, написание собственного материала. Прочитав "Труды", Измаильский откликнулся с восторгом: "Увлечен и поражен Вашей работой "Особой экспедиции". Я не думал, что так много уже сделано". А кипение все усиливалось. На Всероссийской сельскохозяйственной выставке в Москве Докучаеву дали самостоятельный почвенный отдел, оформление которого потребовало от него уймы времени и расходов (просит друзей и знакомых выслать ему недостающие образцы почв, "конечно, за мой счет"). И, не передохнув и дня, готовится к Нижегородской выставке, на которой тоже будет у него самостоятельный отдел. Докучаев несказанно рад: "Наше почвенное дело идет быстрыми шагами вперед"! Тут же (куй железо, пока горячо) настаивает на переработке и новом издании "Почвенной карты Европейской России" с объяснительным к ней текстом. "Поручено мне", – оповещал друзей Докучаев. При министерстве земледелия, при его Ученом комитете, создается Почвенное бюро, заведование которым... "Поручено мне". "Разве всего этого мало?" – спрашивал Докучаев в письме Измаильскому. Много, но это еще не все. "Приведенный список, – запишет Отоцкий, – не заключает в себе и десятой доли тех планов, начинаний, проектов, которые постоянно роились в голове 139 Докучаева и не осуществились лишь по не зависевшим от него обстоятельствам". На него и взвалили, а он охотно принял руководство им же возрожденным институтом в Новой Александрии. Принял временно, на несколько месяцев, а затянулось на годы. А это частые поездки под Варшаву и обратно – почти двое суток пути. Это множество хлопот, неприятностей, всяческих сношений и схваток с попечителем. Все преодолевал, потому что цель поставил: помимо общего образования, помимо изучения общих основ сельского хозяйства, помимо обстоятельного ознакомления питомцев с важнейшими методами, приемами и орудиями сельскохозяйственного производства, институт должен развить в учащихся "агрономическое МЫШЛЕНИЕ (критику), агрономический ВКУС и агрономический НЮХ", которые и дадут им умение "выйти С ЧЕСТЬЮ И УДАЧЕЮ из целого ряда сельскохозяйственных ИКСОВ", встречающихся земледельцу на каждом шагу. Вот чего он добивался "от хорошо устроенного высшего учебного сельскохозяйственного заведения", каким хотел видеть Ново-Александрийский институт, а потом и все институты России. Однако даже в это напряженное время не пропускал (когда находился в Петербурге) ни одного заседания почвенной комиссии в Вольном экономическом обществе. И не отсиживался, а выступал, яростно полемизировал, обсуждал. Успокаивал тревожившуюся за него жену: до Нового года, а там будет полегче. Однако наступивший Новый год принес лишь короткую передышку. Уже 18 января Докучаев торопится на сессию Сельскохозяйственного совета при Министерстве земледелия: хлопотать об открытии при русских университетах двух новых кафедр – почвоведения и микробиологии. В портфеле у него уже лежали статья и докладная записка по этому вопросу. На сессии, председательствовал на которой сам Ермолов, Докучаев страстно показывал: 140 "ПОЧВА И КЛИМАТ суть основные и важнейшие факторы земледелия, – первые и неизбежные условия урожаев. Следовательно, раз мы желаем урегулировать последние, – желаем ОВЛАДЕТЬ ими, мы, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, должны всесторонне, вполне научным образом, изучить естественные, постоянные причины этих урожаев, именно ПОЧВУ, КЛИМАТ, а отчасти и организмы, особенно низшие. Только тогда, познакомившись со всеми их ДОСТОИНСТВАМИ И НЕДОСТАТКАМИ, мы будем в состоянии разумно и в наибольшей степени воспользоваться первыми, ДОСТОИНСТВАМИ, и успешно бороться со вторыми, естественными НЕДОСТАТКАМИ почвы и климата. Только верно поставив почвенный, климатический и, если можно так выразиться, органический диагноз, мы в силах будем столь же верно определить, какие именно СРЕДСТВА, те или иные удобрения тот или иной способ культуры, употребить в борьбе с нашей хронической болезнью, которая известна в России под именем НЕДОРОДОВ. Только при помощи вышеупомянутых исследований, которые также приведут в ясность и наши минеральные удобрительные туки и разъяснят нам жизнь грунтовых и почвенных вод, мы положим, наконец, главное и прочное основание к устранению того поразительного, можно сказать, ОБИДНОГО для нас факта, что в России, где такая масса роскошнейших земель, урожай наиболее распространенных хлебов – пшеницы, ржи и пр., в два-три раза ниже, чем в Англии, Голландии, Бельгии, Франции и Германии". Перечитай, ученый мой современник, эти страстные доводы великого почвоведе. Они и к тебе обращены, потому что и сегодня, почти век спустя, не устарели и не утратили своего значения. И сегодня у нас нет еще ясности в этих вопросах, вроде бы понятных, но так до конца и не понятых. И сегодня у нас нет этого прочного основания "к устранению того поразительного, можно сказать, ОБИДНОГО для нас факта, что в России..." Не все осознали, не все способны были осознать всю глубину и важность проблемы, настолько она была громадна. Оценили ее лишь великие. Менделе- 141 ев, к которому Докучаев до конца жизни относился с благоговением и неизменно обращался к "дорогому и знаменитому на земле учителю" с душевным трепетом, прислал ему письмо: "С огромным интересом прочел я Ваш ряд статей о ПОЧВОВЕДЕНИИ и БАКТЕРИОЛОГИИ. Это не только ВКЛАД, за который вам скажут спасибо в настоящем и будущем ПРАКТИЧЕСКИЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ И ГОСУДАРСТВЕННИКИ, но и ЧЕСТЬ понимания НАУЧНЫХ ОСНОВ того строя, в котором живет Россия. Ей более, чем кому другому, прилично положить здесь ТВЕРДЫЕ ОБЩИЕ НАЧАЛА: посев научный взойдет здесь на пользу общую... Что эта наука о почвах НОВА, я знаю ОДНО личное доказательство... (прибавим от себя, чрезвычайно характерное для известных руководителей полувековых опытов на знаменитых полях Ловеса близ Лондона, где еще и до сих пор нет ни одного почвенного анализа). Итак, ЗЕМЛЯ – ТРУП В СКАЗАНИЯХ, а у нас она – КОРМИЛИЦА, живая. Научить этому, думаю, очень полезно, и НАЧИНАТЬ в университетах ПОРА. Об успехах вашего ходатайства не смею сомневаться. В бактериях немного сомневаюсь, но в почвах – ни на минуту. От души желаю полнейшего успеха Д.Менделеев". Взволнованный Докучаев готов был тут же отправиться к Менделееву, чтобы поблагодарить за такое "свыше меры доброжелательное отношение к моим трудам". Но как раз в ату минуту он не волен был распоряжаться собою, поэтому послал с нарочным записку: "Я сейчас явился бы лично благодарить Вас, но за мной прислал А.С.Ермолов. Очень прошу Вас позволить мне навестить Вас завтра". 142 И опять, как и с организацией Почвенного комитета, поддержал Докучаева на сессии ученого совета едва ли не один Архипов. Подавляющее большинство идею отвергло как ненужную роскошь. Снова не на его стороне был Костычев, недавно ставший директором Департамента земледелия и государ- ственных имуществ. Ах, как же обессилила, опустошила Докучаева эта сессия, на которой преобладало "пустое краснобайство и те БЛАГОГЛУПОСТИ, которыми давно уже ад вымощен". Страшно уставший, он уезжает в Новую Александрию. Ах, скажет потом один из тех, кто встречался с Докучаем в эти дни, "как много у нас может сделать один человек с инициативою и как слаба работа многих учреждений, не согреваемых вдохновением" Отоцкий напишет подробней: "В его маленьком кабинете, как на какойнибудь крупной телефонной станции, сходились тысячи нитей, тысячи различных вопросов и дел: научных, учебных, административных, хозяйственных, этнографических, политических, личных; от самых крупных, которые отнимали сон, до самых надоедливых, вроде ссор кондукторских жен на участках или приема депутаций от дам по поводу танцевальных вечеров и т.п. И во все это приходилось вникать, все разрешать, потому что не было посредствующих бюрократических инстанций; да и не в натуре Докучаева было уклоняться от разрешения чего-либо". В натуре его было совсем другое. Страшно уставший, он возбужденно восклицал: "А все-таки хорошо жить!" В этом устало-возбужденном состоянии и уезжал Докучаев в Новую Александрию, в институт. Он покинул Петербург 30 января 1895 года. Нет, это не последняя его поездка в Новую Александрию. Но я называю эту дату, потому что именно ее можно считать рубежной в той "большой трагедии, именуемой жизнью Докучаева". 143 До этого рубежа организаторская и научная деятельность Докучаева росла как снежный ком, а энергия его деятельности доходила до степени высшего напряжения, "до красного каления собственной лысин "Однако, – вспоминал Отоцкий, – пока борьба велась на почве научной и общественной, при том по преимуществу в виде открытых турниров, Докучаев не обнаруживал особого утомления. Очень часто даже он, как Микула Селянинович, вставал с земли, повидимому с большими силами. Но в НовоАлександрии характер борьбы изменился". В состоянии предельного напряжения достаточно было какого-нибудь каверзного удара извне, чтобы сила надломились, а снежный ком рассыпался. И удар такой Докучаеву был нанесен в институте, который он спас от закрытия, реорганизовал его, вдохнул в него новую жизнь, открыл новые кафедры, отдал ему своих лучших учеников и сподвижников, в том числе и Сибирцева. Но не поладил с попечителем Варшавского учебного округа Апухтиным, который, по отзывам знавших его, "далеко не всегда отделял свои личные дела и симпатии от дел общественных". А точнее, Апухтин привык считать институт своей вотчиной, в летние месяцы пользовался институтским помещением в качестве дачи. Докучаев, приняв институт, не только воспротивился этой привычке, но и дал резкий отпор. В подобных случаях, вспоминают ученики, когда кто-то путал свои личные дела с общественными, Докучаев взрывался и мог наговорить много резких слов. Апухтин как истинно русский чиновник, да еще "прямой и честный человек", не только не находил ничего предосудительного в своих притязаниях на общественное достояние, но и был уверен: все, что ему подчинено, ему и принадлежит. И как же был оскорблен новым директором таким непочтением, лишением его ему принадлежащего. К тому же непочтение это выказано в те торжественные дни, когда его за ботами, под его, тайного советника Апухтина Александра Львовича, попечительством было завершено строительство первой Варшавской гимназии с церковью, явившейся "величавым памятником над ме- 144 стом временного упокоения московского паря Василия Ивановича Шуйского", свергнутого смутой с престола и увезенного поляками в Варшаву в качестве пленника. Апухтин в гневе, он "рвет и мечет", опутывает Докучаева "сетью канцелярских придирок, проволочек, мелких уколов, кляуз, сплетен" – и исподволь втягивает его в ту борьбу, в которой он совершенно терялся, чувствовал себя беспомощным. Вспомни, читатель, не оказывался ли в подобной ситуации кто-нибудь из твоих знакомых, преданных делу и идее, но замордованных. Вспомнив, ты лучше поймешь состояние Докучаева, вынужденного пожаловаться другу: "Мне ОЧЕНЬ здесь надоело (слишком много дрязг и мелочей) и я принимаю решительные меры, чтобы возможно скорее убраться отсюда". Докучаев покинул институт в конце лета 1895 года. На прощанье сказал: "Никто не тревожит бесплодного дерева, но каждый бросает камни в то, на котором растут золотые яблоки". В него бросили так много, и так сильно ушибли, что встретивший его Отоцкий записал: "Из Ново-Александрии В.В. вернулся уже в очень угнетенном настроении, которое вскоре перешло в полную прострацию. Энергия упала; вера в свои силы тоже... Как бы предугадывая катастрофу, он торопится ликвидировать свои дела и сдает что можно на руки сотрудникам". В сентябре Докучав обращается с краткой запиской в Лесной департамент: доводит до сведения, что "по причине болезни и совету врачей" он некоторое время не сможет заниматься делами экспедиции, а потому просит поручить временное исполнение обязанностей начальника экспедиции своему старшему помощнику. А через девять дней, не дождавшись ответа, Докучаев сам слагает с себя обязанности по экспедиции, о чем ставит в известность Лесной департамент. Вот дословная его записка от 28 сентября 1895 года: "Ввиду болезни, застав- 145 ляющей меня сократить занятия, я временно передаю ведение текущих дел по вверенной мне Экспедиции своему старшему помощнику Н.П.Адамову, о чем имею честь довести до сведения Лесного департамента, взамен сообщения моего от 19-го сего сентября". Все. Этот могучий, деятельный человек, работавший один за целые учреждения, в 49 лет оказался выведенным из строя, свободным от всех дел, которым еще недавно не было числа. Замкнувшись в квартире, в которой еще недавно было так людно и шумно, он прислушивается к себе. «Прострация и подавленность воли сопровождаются мучительным самоанализом и самоказнением”. Друзья настойчиво советуют ему отдохнуть где-нибудь вдали от Петербурга. Он уступает этим настояниям и Анна Егоровна увозит его сначала на лечение за границу, а потом, на лето – в Погулянку, дачный поселок близ города Двинска (Даугавпилса). А ему хочется, и пишет об этом друзьям, "немедленно уехать в благодатную Малороссию", на любимую Полтавщину. Он тосковал о ней всюду. Однажды, в Ново-Александрии, Докучаев мимоходом задел ногой какую-то старую пепельницу-урну, она покатилась, издав протяжный дребезжащий звук. Василий Васильевич, рассказывали видевшие его в эту минуту, вдруг преобразился, просиял. Этот звук напомнил ему Малороссию, раннее утро и крик лелекиаиста. С тех пор, отдыхая, он, как озорной мальчишка, норовил словно бы невзначай задеть урну – хотел услышать лелеку, и когда это удавалось, наслаждался: ему виделись милые сердцу полтавские черноземные степи, лик которых он запечатлел не только на картах, но и в памяти своей. Первое же письмо "на волю" из Погулянки он пишет на Полтавщину, Измаильскому: "Рассказывать подробно о своей болезни я покамест не могу; скажу только, что весь прошедший год я провел как в тумане, все время страдая сильнейшим расстройством нервов и полным упадком сил; апатия к жизни принимала временами безумные размеры..." 146 11 Поправлялся Докучаев "чрезвычайно медленно и скачками". Но, поправляясь, тут же с жадностью входил в прежние свои дела. "Никакие уговоры близких, никакие доводы врачей не могли совладать с этой кипучей и неукротимой натурой", – жаловались друзья. На все уговоры и доводы Докучаев отвечал одно: – Все мое спасение в работе! И принялся за пересмотр почвенной карты Европейской России. Правда, отказался от "сложного и лихорадочно спешного дела", каким было устройство почвенного отдела на Нижегородской выставке. Однако тут же втягивается и в него. И, конечно, в дела экспедиции, о чем извещал Измаильского: "Особая экспедиция, вверенная моему ведению и пережившая за время моей болезни, вместе с ее хозяином, острый кризис, теперь окончательно укрепилась, и ее существование обеспечено на многие и долгие годы...'' Значит, уже побывав и в министерстве, и в Лесном департаменте у нового директора Никитина, недавно сменившего на этом посту Писарева. Значит, удалось решить многие вопросы, что и вселило в него такую уверенность в прочном и обеспеченном будущем экспедиции. Уверенный в этом, он снова предлагает Измаильскому "заведывать опытными полями на всех трех участках". В июле Докучаеву кажется, что он совсем здоров, что пора ему оставить надоевшую Погулянку, которая, к тому же, не так и хороша, как была весной. Его неудержимо тянуло на степной простор. И он радостно оповещает Измаильского: "20 сего месяца выезжаю в 7 часов утра; буду в Миргороде (через Ромоданы) 21-го, в 4 часа дня, и остановлюсь на прежнем постоялом; еду втроем, в том числе, ВЕРОЯТНО, и жена. Отдохнув у Вас денек, отправляемся на участки, а от туда в Нижний, где буду читать лекции, а может быть и сделаю сообщение на техническом съезде "о нормальной постановке в России высшего сельскохозяйственного образования"... 147 Докучаев ехал с женой Анной Егоровной и племянницей Антониной Ивановной Воробьевой, жившей с нами. Измаильский прислал за ними в Миргород лошадей, доставивших желанных гостей к нему на хутор Дьячков близ Диканьки. Тут, на хуторе среди степного простора, друзья были счастливы – они давно не встречались, не беседовали, оба живы и, слава богу, здоровы, переполнены замыслами, впереди их ждали интересные дела, которые им предстояло свершить. Измаильский принял окончательное решение бросить опостылевшую службу у Кочубея, в имении которого все ощутимее замечались "признаки общепомещичьей болезни – оскудение". Однако, к великому сожалению Докучаева, отказался и от работы в экспедиции. Его сменил капиталист из-под Луганска, "у которого денег много и полное желание поместить эти деньги в землю, устроивши хозяйство на американских началах". Этим-то и прельстился агроном Измаильский: при таких деньгах, думал он, можно будет устроить хозяйство на научных началах, не спрашивая на то разрешения в разных там советах и департаментах. Видимо, Измаильский был так увлечен этой идеей и так размечтался, что даже Докучаев, так давно и настойчиво уговаривавший его поступить в экспедицию, согласился: предложение заманчивое уже тем, что "представляется столь интересное и выгодное дело". Правда, на всякий случай посоветовал оговорить с нанимателем некоторые условия: "Иначе Вы будете находиться в его лапах". Однако что там какие-то предостережения, когда человеком овладела мечта! О них обычно вспоминают позже, когда мечта, как лед вымерзшей лужи, хрупнет под ногой и рассыплется, будто ничего и не было, ни лужи, ни ледяной корки. Отдохнув у друга, Докучаев, как и задумал, проехал по всему намеченному маршруту, побывал на участках экспедиции. На выставке в Нижнем Нов- 148 городе получил диплом 1-го разряда "За плодотворную деятельность по изучению русских почв, создавшую новое направление в области почвоведения и школу учеников-последователей". Вскоре после отъезда Докучаева покинул хутор и Измаильский. Уехал в Луганск, где недалеко от города, в селе Александрове, принял под свое управление капиталистическое имение. Здесь он узнает, что труд его "Влажность почвы и грунтовые воды в связи с рельефом местности и культурным состоянием поверхности почв", изданный еще в Полтаве, удостоен Академией наук Макарьевской премии. Радоваться бы ему такой высочайшей оценке, какой удостаивались не многие ученые. Торжествовать бы, что именно ему, как написал сам Докучаев, "в сущности первому, принадлежит честь НАУЧНО заглянуть в ЖИЗНЬ грунтовых вод". Наверно, и радовался, и торжествовал, поблагодарил Василия Васильевича, который конечно же и представлял книгу на соискание этой премии. Однако поблагодарил скупо, сдержанно, потому что все острее понимал: жить ему теперь неоплатным должником русской науки, "так как попал в такие жизненные условия, при которых нет никакой возможности помышлять о своих научных работах". И с горечью сознавал: нравственные качества теперешнего владельца таковы, что не вселяют ... и капли уверенности в возможности работать здесь, сохраняя свое имя незагрязненным". Вот тебе и хозяйство на американских началах: не землей он теперь занимался, а строил то винокуренный завод, то мельницу. Что ни день, то неприятности. Да уж лучше иметь цело с помещиком-самодуром, чем с разбогатевшим биржевиком – "в глубине души своей это мелкие жулики, каковыми они и являются в частной своей жизни, когда она ничем не задрапирована". Как же нужно ему было сейчас участие Докучаева, он несколько раз писал ему, но – никакого ответа. Обращался к знакомым, и наконец-то узнал: Докучаев снова надорвался, вернулся из Нижнего больным, теперь в лечебнице, очень плох... 149 12 На хутор Дьячков под Диканьку вызвался свозить меня Николай Иванович Гриб, один из старейших работников Полтавского опытного поля. В назначенный час я подошел к старинному трехэтажному зданию, в котором и располагалась контора Опытного поля, основанного в 1884 году на краю поля Полтавской битвы не без влияния Докучаева и Измаильского – и очень часто оба упоминали о нем в письмах. Сюда, на Опытное поле, заезжал Докучаев летом 1900 года, когда губернское земство пригласило его прочитать несколько лекций по почвоведению. Это было в дни последнего посещения милой его сердцу Малороссии. Известно даже точное число: "19 июня статистический персонал губернского земства, а также и сторонние слушатели, посещавшие все время лекции В.В.Докучаева, совершили под его руководством экскурсию на Полтавское опытное поле. Экскурсия имела целью наглядное ознакомление слушателей с простейшими способами физического и химического исследования (анализа) почв..." В то время наверняка уже были и вот этот главный корпус, и вон та лаборатория, в которой, должно быть, и демонстрировались "главнейшие приборы, служащие для ... почвенных анализов, а также проделаны некоторые опыты с этими приборами"... Туда, должно быть, принесли для показа экскурсантам и первый отчет Опытного поля, изданный в 1888 году, на котором составитель начертал эпиграф, который и я взял к своей книге: "Слова и иллюзии проходят, факты же остаются”. Знаю, слова эти принадлежат русскому публицистудемократу Д.И.Писареву. Да и сказал он чуть иначе: "Слова и иллюзии гибнут – факты остаются", однако моим мыслям почему-то созвучнее именно переиначенная фраза. Я стоял, смотрел вокруг. Все тут было для меня по-особому свято и дорого. Но я еще не видел мемориальной доски у входа. Вернее, видел ее лишь из- 150 дали и терялся в догадках: Измаильский тут конечно же бывал, но не работал. Докучаев тоже не работал, но... Подошел ближе и замер от неожиданности. "Лично для меня опытное поле, весь его коллектив, дал импульс для всей дальнейшей работы, дал веру в агрономическую работу". Н.И. Вавилов" Я читал и перечитывал эти слова признательности великого генетика, который, вот уж не знал, в 1910 году был здесь на годичной практике и, выходит, начинал тут свою деятельность. Что ж, спасибо тебе, Полтавское опытное поле, уже за одно это. Именно здесь смертельно больной Докучаев допевал свою лебединую песнь – страстно говорил о национальном достоянии, черноземе, который "был, есть и будет кормильцем России", ее надеждой и будущим. А через десять лет тут уверовал в свои силы молодой человек, которому тоже предстояло стать великим... Машина бежала мимо петровских редутов, мимо памятников русским и шведским воинам. Поля бранные, полы житные... Памятники ратаям во владениях оратаев... Сколько их, таких полей по России, известных и безвестных. Пожалуй, нет такого клочка, на котором хотя бы раз не ошиблись в смертельной схватке оратаи, взявшие в руки оружие, не окропили бы пашню кровушкой... Хотелось просто молча смотреть по сторонам, оставаясь наедине со своими мыслями и чувствами. Николай Иванович Гриб, деликатнейший человек и прекрасный собеседник, тоже углубился в свои думы. Так мы доехали до поворота на Диканьку, где у обочины возвышалась триумфальная арка. 151 – Парадный въезд в имение Кочубея, – сказал Николай Иванович. – А по обеим сторонам дороги была каштановая аллея – сейчас тополевая, но решили вроде бы снова обсадить каштанами... Слева у лесочка, перед само Диканькой, показалась церквушка. – Церковь Кочубея, – не оставил мое внимание без ответа Николай Иванович. – Сюда из Васильковки приезжала женщина просить бога, чтобы родился сын. Желание ее исполнилось – 20 марта 1809 года родился Николай Васильевич Гоголь... Не совсем так. Юная Мария Ивановна, уже потерявшая двух младенцев, с надеждой и страхом ждала третьего. Вот и приезжала сына, в эту церковь, чтобы выпросить у Николая-чудотворца заступничества и дарования ей здорового дитя. Правда, в последние недели беременности уехала все же в Сорочинцы к знаменитому на всю Миргородчину доктору Михаилу Яковлевичу Трохимовскому, в доме которого и родился у нее сын, названный Николаем в честь чудотворца. А машина бежала все дальше через поля. За Диканькой Николай Иванович развернул карту и, поводив по ней пальцем, сказал шоферу: – Давай вот по этой дороге, напрямик выскочим. Однако выскочить напрямик не удалось – увязли в непролазной грязи, так что пришлось долго пятиться назад, чтобы с горем пополам развернуться и выбираться на твердую дорогу. Она привела нас на центральную усадьбу колхоза имени Чапаева. – Хутор Дьячков где-то рядом, на землях этого колхоза, – сказал Николай Иванович не совсем уверенно. Не беда, спросить можно. Подошла женщина. – Куца вам надо? – первой полюбопытствовала она с готовностью указать дорогу в любой край. – Да нам бы на хутор Дьячков проехать. 152 Она долго рассказывала нам про большие и малые пороги, какие попадутся нам сразу за деревней, перечислила все повороты налево и направо, растолковала, на каких надо поворачивать, а на какие не обращать внимания, и только потом призналась: – Мне тоже туда надо, так что, если есть место в машине, и дорогу вам укажу. Ну, совсем хорошо, обрадовались мы, враз освобожденные от надобности помнить все нужные и ненужные повороты. Усевшись, женщина тут же полюбопытствовала: – Вижу, не здешние, а без начальства. По какому же делу к нам на хутор? – Раз без начальства, – засмеялся Николай Иванович, – то, значит, без всякого дела, в гости. Чтобы не томить женщину напрасными догадками, я признался. – У вас на хуторе жил когда-то знаменитый ученый. – А-а, это еще при Кочубее... Метельский, кажется. – Измаильский. – Так тут же ничего после него не осталось, – жалеючи нас, сказала женщина, оказавшаяся хуторским библиотекарем. – Нет ни дома, в котором он жил, ни его книг, бумаг. А в Полтаве не спрашивали? Там, в музее, чего только нет. – А у вас в библиотеке неужели нет ни книг его, ни портрета? Женщина отрицательно покачала головой. Вот он, хутор Дьячков... Сколько раз он виделся мне при чтении писем и научных трудов, здесь написанных, не потерявших своего значения и поныне. Совсем не таким виделся. Слева от дороги лежал он – заезженный тракторами и машинами, заросший бурьянами – редчайшее на ухоженной Полтавщине зрелище. Разбросанные там и сям хаты, к которым на нашей машине не проехать. Можно, пожалуй, подобраться до животноводческого комплекса, да что нам на нем делать. Еще не так давно на его месте был старый парк, посаженный, 153 должно быть, Измаильским. Раскорчевали – не пашню же занимать, да и кому он нужен, этот парк, будто тут горожане живут. ... В тот последний приезд Докучаева на Полтавщину его друга Измаильского здесь уже не было – уехал жить и работать под Луганск. Однако как же захотелось ему еще раз побывать тут – и Докучаев повез своих слушателей, земских статистиков в Дьячково, чтобы ознакомить их там с типичными черноземными степями. "29 июня, около 7 часов утра, 25 экскурсантов двинулись из Полтавы. Вскоре начался дождь, сначала маленький, а затем превратившийся чуть не в ливень". Когда кавалькада экипажей прибыла в Дьячков, дождь перестал. Однако экскурсировать в степи по грязи было неудобно, и Докучаев предложил этот день провести так: "Ознакомиться с крайне оригинальным устройством этой экономии", потом послушать его лекцию и побеседовать о некоторых наиболее важных вопросах, которые в прежних беседах были недостаточно выяснены. На том и порешили. "Экскурсанты осмотрели ... элеватор, скотный двор, замечательный по своему общему плану и по оригинальному устройству кормового отделения, паровую мельницу и мастерские экономии". Осматривая, Докучаев словно бы общался с давним своим приятелем, поэтому не преминул с гордостью указать: "Все эти постройки созданы были во время управления Дьячковской экономией известным ученым сельским хозяином, бывшим вице-президентом Полтавского общества сельского хозяйства, А.А.Измаильским, по выработанным им самим планам". После осмотра экономии экскурсанты направились к Дьячковской балке, на берегу которой стояло помещение. Оно “представляло из себя обширную, очень чистую столовую для экономических рабочих, с электрическим освещением". 154 Столовая на время превратилась в аудиторию. Экскурсанты вместе с профессором разместились за длинным столом на таких же длинных скамьях. Докучаев "начал свою беседу с вопроса о почвенных и грунтовых водах", с тех исследований, которые выполнил Измаильский "именно здесь, в хуторе Дьячковском", и которые затем легли в основу "капитального строго научного, имеющего громадное практическое значение труда", отмеченного Академией наук Макарьевской премией... Мне показалось, вот только сейчас я увидел, как покоряюще действует на слушателей Докучаев всем своим обликом: и эта длинная к широкая борода "лопатой", как говорили на Руси, и гигантская фигура, и неизменный черный сюртук, почему-то всегда застегнутый на левый борт, и речь без пафоса, без жестов, без всяких ораторских красот, но спокойная, ясная, сжатая, кристаллически точная, меткая и образная... – Сегодня я буду беседовать с вами... – Помедлил мгновение, приготовляя слушателей, перед которыми вот сейчас он раскроет несметные сокровища. – Затрудняюсь назвать предмет нашей беседы – так он хорош. Я буду беседовать с вами о царе почв, о главном основном богатстве России, стоящем неизмеримо выше богатств Урала, Кавказа, богатств Сибири, – все это ничто в сравнении с ним нет тех цифр, какими можно было бы оценить силу и мощь царя почв, нашего РУССКОГО ЧЕРНОЗЕМА. Он был, есть и будет кормильцем России..." Так он начал одну из шести своих лекций в Полтаве. Но их отзвук мне послышался именно здесь, не хуторе Дьячковском. Мысли и факты, как всегда ясные и точные, сами собою, помимо воли, укладывались в голове в стройном порядке и действовали с неотразимой убедительностью. Обаятельны были и эти Факты и эти гордые мысли, и самый процесс легкого усвоения Фактов и мыслей, и, особенно, та таинственная сила, присущая лишь крупным и сильным людям, которая невольно заставляла слушать и каждому слову придавать какое-то особенное значение и важность... 155 Николай Иванович Гриб тронул меня за руку – перед тем что-то сказал, но сказанное до слуха моего не дошло. Я еще раз огляделся вокруг, выискивая взглядом старые строения. Но, кажется, ничего тут уже не осталось. Нет давно ни элеватора, ни скотного двора, замечательного по своему общему плану, ни паровой мельницы, ни той столовой – все пожгла, порушила война, истлело от времени. Лишь у самой дороги видны старые погреба с возвышающейся над землей кирпичной кладкой ("В них, – сказал Николай Иванович Гриб, – и сейчас можно что угодно хранить"), да одиночные кладовые тех времен. – А ни сада, ни одного дерева не осталось? – спрашиваю женщину с надеждой, что сохранились все же хоть какие-то живые памятники. – Нет. Только, может, вон тот Долгий лес в те годы был посажен? – она указала на лесную полосу, уходящую от хутора вдаль. Да, она была посажена Измаильским. Именно о ней говорил мне Николай Иванович Гриб еще в Полтаве. Вернее, сетовал на то, что единственная сохранившаяся полоса варварски вырубается – население окружающих деревень тянет оттуда кто вековой дуб, кто ясень. Добраться к полосе тоже не было никакой возможности. Однако уехать, не постояв в ней, я не мог – пойдем пешком, хоть и далеко. И вот мы стоим в полосе. Могучие деревья раскинули кроны над нами. Ветерок шелестит лишь в вершинах. Не полоса, а настоящий лес – женщина так и сказала: "Долгий лес". А внизу пеньки, пеньки, пеньки. И хлам порубочных остатков. Как на лесосеке. Полоса явно безнадзорная, не нужна никому. Сохраняется только чудом. Могучие корни гонят в рост молодую поросль, которая и захватывает пустоты, не дает полосе исчезнуть. Человек пилит, рубит ее, а она возрождается и возрождается заново. Но надолго ли сил таких хватит у нее? Не захиреет ли в ближайшие годы этот памятник природы, памятник человеку, внесшему заметный вклад в отечественную науку и оставшийся в ней на веке вечные. 156 В эту полосу Измаильский наверняка приводил Докучаева в ту последнюю их встречу вот на этой земле, которую они мечтали преобразить, сделать ее щедрее и краше. И они сделали ее краше, пусть и на небольших территориях. Но и это немало для одной человеческой жизни – передать потомкам землю лучшей, чем она была. А мы, потомки этих заботливых людей?.. Неужели нам ничего этого не нужно, Не нужна даже память о великих предках, прославивших нашу науку и Отечество? Однако вспомнил Каменную степь, ее лесную красу, ее ухоженные полосы, сбереженные пруды – и сам же опроверг все эти вопросы. Придет, и сюда обязательно придет хозяин, который не только сохранит, но и что-то восстановит, создаст музей, чтобы знали хуторяне, кто тут жил и работал до них. И как жил, как работал. Я же был доволен уже тем, что побывал тут, что есть еще хутор и что жива еще лесная полоса, посаженная в одно время с первыми полосами в Каменной степи. А ведь, помните вы, Измаильский не соглашался с Докучаевым, думал "заболотитъ" Дьячковую степь с помощью одних только агротехнических приемов, с помощью глубокой вспашки. Спорил, но лесную полосу все же посадил. Видно, опытом хотел проверить. Именно опыт и убедил его в правоте Докучаева. И насторожил: увлечение одной какой-нибудь идеей никому добра не приносит. В те же самые голы конца XIX века, когда рождалась русская агрономическая школа и утверждалась наука о почвах, когда передовые умы России искали пути избавления от недородов, над этой проблемой работал и еще один человек, который даже в годы самых жестоких засух получал высокие урожаи. И получал он их на полях, обработанных не глубже пяти сантиметров специальными ножевыми культиваторами собственной конструкции. Его имя – Иван Евгеньевич Овсинский. Это он написал книгу "Новая система земледелия", которая увидела свет в 1899 году, но до этого пять лет блуждала по редакциям и, 157 по выражению самого Овсинского, агрономическими авторитетами была приговорена к смерти. Уже много раз я задавался вопросом: почему же не обратили никакого внимания ни на агрономе, ни на его опыт корифея отечественной науки? Почему не заметил его Василий Васильевич Докучаев, зорко высматривавший все передовое в науке и практике? Почему Александр Алексеевич Измаильский никак не прореагировал на разговоры о новаторе, которые конечно же долетали до его слуха? Ответа на эти вопросы я не ходил. И вот читаю в письме Измаильского Докучаеву: "27-го у нас готовится большое сражение в Обществе. Князь Кудашев напечатал доклад "О способах сбережения почвенной влаги". Нахальная из нахальнейших работ. Бьющая на рекламу для Питера – так думаю я. Иначе не понимаю цели изданий такой мошеннической штуки. Мы готовимся его разделать целым Обществом". Полностью эта работа называется так: "О способах сбережения почвенной влаги при обработке озимого поля". Она была издана в Харькове в 1892 году и принадлежала перу полтавского землевладельца В.А.Кудашева, а излагал он в ней теорию мелкой вспашки. На заседании Полтавского сельскохозяйственного общества, состоявшемся 27 мая 1892 года, Кудашева "разделали" в пух и прах. Конечно, тут немалую роль сыграл авторитет Измаильского, проповедывавшего глубокую вспашку и убедившего всех в ее преимуществах и целесообразности. Он, Измаильский, и задал тон при “разделке” противника. Выступление его "По доводу доклада кн. Кудашева" тут же опубликовал "Журнал Полтавского сельскохозяйственного общества". Ознакомившись с ним, Докучаев пишет Измаильскому: "Все Ваши возражения Кудашеву более чем справедливы; лично я высказался бы еще сильнее". 158 Поддержал Измаильского и Костычев, который считал, что в той местности, где проводил работу Кудешев, грунтовые воды находятся гораздо ближе к поверхности, чем в других местах Полтавского уезда, так что именно это и обеспечивало успех опыта. И, окончательно сокрушая Кудашева, написал: "Князь не усвоил себе даже метода исследования вопроса, о котором берется толковать: он не подозревает, что для того, чтобы сказать "я сберег влагу в почве", недостаточно привести размер урожая". Однако за Кудашева заступилась петербургская газета "Новое время", опубликовав статью Эльпе "Труд кн. Кудашева и его критики" с возражениями Измаильскому и поддержкой теории мелкой вспашки. Измаильский снова обращается к Докучаеву за поддержкой, но Василий Васильевич посчитал спор не только бесполезным, но и пустым. Откликнулся: "Бросьте Вы и Кудашева и Эльпе: право, не стоит заниматься исправлением неисправимых. И НАСТОЯЩЕГО заправского дела не оберешься... Конечно, подобные господа очень неприятны, но все-таки, по-моему, тратить на них времени не стоит"... И все. Больше о полемике ни слова. А она продолжалась, но без всякого участия первых лиц в науке. Да, ошибочное суждение по поводу чужой идеи выносят не только дилетанты или умственные ленивцы, не одни лишь чиновники, жаждущие покоя, или ученые, защищающие свой престиж, свою группу, свою школу. Ошибаются и признанные авторитеты. И преодолеть это авторитетное мнение бывает невозможно уже потому, что авторитет сказал решительно и безоговорочно: "Это чушь!" Ошибка его уже в том, что он не сдержал своего раздражения и не сказал: "Что ж, закладывайте опыты, проверяйте практикой, которая и определит ценность вашей идеи". Вот и Измаильский, раздраженный идеей мелкой вспашки, сходу обругал и эту идею, и ее авторов. И, будучи сторонником глубокой пахоты, убедил в своей правоте Докучаева – мнение одного человека обрело направление. 159 Ну, а что же Овсинский? Он пошел гораздо дальше Кудашева – отверг не только глубокую, но и мелкую вспашку отвальным плугом, предложив и применив на практике приемы безотвальной обработки почвы – принципиально новую систему земледелия. При этом послушайте, что утверждал: "Если бы захотели на погибель земледелия создать систему, затрудняющую извлечение питательных веществ из почвы, то нам не нужно было бы особенно трудиться над этой задачей: довольно было бы привести советы приверженцев глубокой вспашки, которые вопрос о бездействии питательных веществ в почве разрешили самым тщательным образом..." Каково было слышать такое сторонникам глубокой вспашки? Если у Кудашева была "нахальная из нахальнейших работ", то у Овсинского и того хлеще. Однако книга все же была опубликована и в 1899 году Полтавское опытное поле получило задание испытать новую систему земледелия. В это время Измаильского на Полтавщине уже не было, но сельскохозяйственное общество, семь лет назад яростно восставшее против мелкой вспашки, не могло допустить победы "новой системы земледелия" – и все силы были направлены на то, чтобы доказать несостоятельность "теории" Овсинского. Что и было успешно проделано – многолетними опытами идею опровергли. Вот уж поистине: принимая что-нибудь на веру, наука совершает самоубийство, отступая от истины, она убивает идею. Пройдет без малого полвека – и идея эта возродится. Возродится в ищущем уме колхозного опытника Терентия Семеновича Мальцева. И опять пойдет она, странная и непривычная, по тому же кругу: будут замалчивать, опровергать, и дискредитировать. А еще через два десятилетия найдет полное признание на Полтавщине. Именно здесь она обретет самых убежденных и преданных ей сподвижников... Вот они, полтавские поля. Куда ни глянь, а вокруг хутора Дьячкова, и дальше по всей Полтавщине, лежат ухоженные, приготовленные к севу поля. И 160 все они обработаны не отвальными плугами, а плоскорезами, орудиями безотвальной обработки почвы. Не гони, человек, идею, она все равно вернется и восторжествует. 13 Докучаев лежал в лечебнице. А дома умирала от рака печени Анна Егоровна, его любимая Анна, верный друг и соратник. Он находился в бредовом состоянии и трагедия не коснулась его сознания. Она уже скончалась, ее уже похоронили, а он все бредил и ничего не знал. Лишь через две недели пришел в сознание, только через две недели узнал о страшной утрате. Горе повергло его в страшное психическое расстройство: не несколько дней или недель, а несколько месяцев умственное бодрствование не покидало его ни днем, ни ночью. Вышел Докучаев из лечебницы только в августе 1897 года, через шесть месяцев после смерти жены. Мучимый сильным шумом в висках, бессонницей, ослаблением памяти, слуха и зрения, пишет одно прошение об отставке из Университета, а другое – от должности начальника Экспедиции. Просил отставки от дел, которыми жил и без которых жизнь окончательно теряла для него всякий смысл. Не берусь, не могу в полной мере представить, какие чувства испытывал Докучаев, когда на 54-м году жизни писал эти прошения об отставке от активной жизни. Думаю, это было для него крушением, концом жизни, трагедий. "В полном сознании открытого перед ним ужаса: он признался одному из своих учеников: "Боюсь, что мое здоровье потеряно навсегда", а так жить, без дела, без интереса, страшно тяжело, дорогой..." Так тяжело, что у этого гордого, независимого человека, "резко выделявшегося на фоне бледной русской общественности", вдруг вырвалась до слез трогательная просьба: "Вот тут-то я и бу- 161 ду просить Вашей помощи и Вашей дружбы, а может быть и самопожертвования..." – Увы, – скажет позже Отоцкий, – никакого самопожертвования от учеников не потребовалось, но зато оно все, целиком, досталось на долю его племянницы Антонины Ивановны Воробьевой, которая не покидала больного до последнего часа. Ах, как не хочется мне оставлять Василия Васильевича именно сейчас, в момент отставки и тяжелейшего душевного состояния. Однако я не жизнь этого великого человека задумал написать, а деяния созданной им Экспедиции в Каменной степи. А она продолжала действовать. Исполнение должности начальника принял на себя Петр Федорович Бараков, профессор кафедры земледелия Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства, ученик Докучаева и участник чуть ни всех его исследований. Это он разработал план сельскохозяйственных опытов на участках экспедиции. Ему Докучаев и доверил продолжать начатое. Жизнь продолжалась. Новый начальник экспедиции выхлопотал через департамент Земледелия 2 тысячи рублей на первоначальные расходы по организации полевых опытов. Наконец-то! Лиха беда начало. Бараков решил не делить эту и без того малую сумму трем участкам – отдал ее всю в Каменную степь Собеневскому на устройство орошаемого поля... Сейчас, по прошествии столетия, многие в Каменной степи утверждают, что орошаемого поля здесь не было, а существовал лишь небольшой лиманчик – периодически затапливаемый участочек, который густо зарос ныне камышом. Да, лиманчик действительно существовал, но неподалеку от него было и орошаемое поле с системой оросительных канав. Вода по деревянному акведуку самотеком подавалась из водоема к полю, а там уже распределялась по канавам. Акведука не сохранилось, но плотина, от которой он начинался, цела и поныне. Видны, если внимательно присмотреться, и канавы. 162 Неподалеку от этого поля и от плотины есть заросшая густым бурьяном поляна. Именно поляна, со всех сторон обсаженная деревьями. На ней еще не так давно стоял "Докучаевский домик". Я видел его, но лишь на фотографии, которая есть во всех книгах и брошюрах о Каменной степи. Сам домик, сложенный из тонких бревнышек и обмазанный глиной, соломой крытый, давно обветшал и в начале семидесятых годов его развалили. Жаль, конечно, что не сохранили. Жалеют об этом и экскурсанты: о разном спрашивают приезжающие сюда люди, но каждый обязательно про домик вспомнит. Не мог и я хотя бы не постоять на том месте: вот тут, на этой поляне был этот дом, в котором останавливался Докучаев, и который в письме Измаильскому он называл "штаб-квартирой". В те времена тут не росло ни кустика, так что неказистая эта избушка стояла не на поляне, а в открытой степи, в соседстве с двумя или тремя другими. Я мысленно пытался схватить взором всю эту степь, увидеть, где и что делали в ней докучаевцы в первые годы. Далеко отсюда, в нескольких километрах, была метеостанция. Она есть и сейчас, но за разросшимися лесополосами ее не видно. Там же, поблизости, закладывали первый питомник, а чуть в стороне – первые лесные полосы. И первые пруды – водовместилища тоже там. И там же, при метеостанции, как о том свидетельствуют многие документы, были построены первые дома. Итак, все хозяйство там. А штаб-квартира Докучаева тут?.. Не могло такого быть. Однако Фотографию "Докучаевского домика" начали помещать в книгах не сегодня, а давным-давно, в те поры живы еще были свидетели и непосредственные участники экспедиции. Пошел искать свидетелей и я. Вернее, здешних старожилов искал. Нашел, и не одного! Здесь, в Каменной степи, родились, здесь выросли и состарились. Родились в начале века. Многое они мне порассказали, показали, где и что было, что и где происходило. Но эти рассказы и показы больше относились к тому 163 времени, о котором мне еще предстоит рассказать во второй части этой истории. О "Докучаевском домике" ничего достоверного они не знали: был ли он построен в первые же годы, или позже – этого сказать не могли. Но сходились в одном: этот домик стали называть Докучаевским только после войны, в конце сороковых, а то и в пятидесятых годах. Легенда?.. Но зачем она понадобилась, если и сейчас стоит один из ломов, построенных экспедицией рядом с колодцем осенью 1892 года. Мы даже знаем, по отчету инспектировавшего экспедицию Тура, сколько денег выделил Лесной департамент на их возведение: 750 рублей на дом для заведующего и по 550 рублей – для наблюдателей. Этот рубленый из бревен дом был когда-то добротным, просторным. Одна половина в нем предназначалась для проживания, а в другой располагалась лаборатория. Что она была в период деятельности экспедиции, свидетельствуют документы. Была она тут и много позже, подтверждают старожилы. Ну, а если тут жил заведующий, тут располагалась лаборатория, то тут и была "штабквартира" экспедиции. Сейчас лом этот обветшал, заброшен и не привлекает к себе ни малейшего внимания лишь по одной причине. Всем кажется, что экспедиция не могла срубить такой добротный дом. Но ведь на него было выделено 750 рублей! При этом строительный лес отпущен бесплатно. Знаем мы и то, что в тот год крестьянин со своим конем нанимался всего за 40-50 копеек в день, а пеший и вовсе почти задаром. Так что за 750 рублей наемные крестьяне-плотники вполне могли срубить и поставить добротный дом, а не халупу. Однако для легенды более подходила избушка под соломенной крышей и обмазанная глиной. К тому же такая была, стояла среди поляны – то ли вросла в землю, то ли выросла из земли. Только с такой халупы и должно было начинаться обживание степи. Мне тоже так казалось и так хотелось думать – эффект совсем иной. Однако документы упрямо указывали не на халупу, а на доброт- 164 ный рубленый дом пой железной крышей, который и сейчас еще цел, но уже заброшен, нежилой, так что, пока я копаюсь в архивах, его в любой день могут разобрать на дрова. Три избушки на поляне, в том числе и та, которую назовут "Докучаевским домиком", были поставлены летом 1898 года, когда департамент Земледелия отпустил "на постройки и ведение сельскохозяйственных опытов 4255 рублей. Поставлены они для "орошенцев" – для тех, кто будет работать на орошаемом поле и обслуживать оросительную систему. Вот почему домики эти оказались вдали от основной базы Докучаевской экспедиции – вдали от нее, но рядом с опытным орошаемым полем, устройство которого так долго откладывалось и работы на котором начнутся не скоро – годи пройдут. Дело двигалось к закрытию экспедиции. В департаментских заседаниях все громче печалились о напрасной трате денег на степных участках. Подливали масла в огонь и ученые, они говорили о том, что никакого влияния на урожай лесные полосы не оказывают и оказывать не могут, что это все выдумки. Докучаев, конечно, слышал эти разговоры, но ничего поделать уже не мог. И не только потому, что не было сил – не осталось веры в разум тех, кто стоял во главе земледелия и земледельческой науки. Он уже не гневается, а как бы фиксирует факт, что "ближайший хозяин русского земледелия, Ермолов, кажется, совсем отупел, сидя на министерском кресле; сделался отчаянным Формалистом – подозрителен до невозможности". Попытка опереться на общественное мнение, на общественное сознание, тоже не принесла Докучаеву особой надежды. А сил и времени на организацию частных публичных курсов по сельскому хозяйству затратил много. Первую свою лекцию на этих курсах он прочитал 20 декабря 1898 года. Хотел убедить публику, что при всех недостатках уже многое сделано идя борьбы со СТИХИЯМИ, что "путь намечен, остается лишь упорно и систематически продолжать начатое у нас С ТАКИМ ТРУДОМ дело". 165 А вернувшись с курсов домой, этот гордый человек сел писать письмо: "Дорогой друг Александр Алексеевич. Если можно, выручайте поскорее Вашего приятеля. Дело в том, что ... я запустил свои собственные дела и несколько запутался в деньгах, задолжав до 800 р. Из них 500 р. подлежат уплате еще в августе, и я постепенно покрою их, – 300 же рублей мне безусловно необходимы к 12 марта. Если можете занять у кого-либо или, может быть, деньги имеются у Вас, одолжите мне их, иначе я вынужден буду за бесценок продать свои коллекции, которые стоят от 5 до 10 тысяч. Во всяком случае, до получении сего потрудитесь телеграфировать мне немедля: да ИЛИ нет?.." Вверху на письме крупными буквами вывел два стыдливых слова: "Между нами". Измаильский тут же прислал ему 300 рублей, а потом и еще 200. Докучаев успел вернуть ему долг, пусть и частями, но до рубля. А на что же он сам жил, если кроме коллекции у него ничего нажитого не было? Конечно, платные курсы давали ему какие-то средства, однако гораздо больше отбирали. В лекциях своих Докучаев звал общество учиться и думать, звал к серьезной работе: "Не все же – клубы, театры и винт?" Его слушали, и он, казалось, был доволен и наплывом слушателей, и их вниманием. Был очень рад, что привлек к чтению лекций на курсах "ТАКИХ ученых и профессоров, о которые, ВЗЯТЫХ в целом, не может и МЕЧТАТЬ не только ни один из наших сельскохозяйственных институтов, но и любой университетский Факультет". Сюда, в принадлежащий министерству Сельскохозяйственный музей (Соляной городок, вход с Фонтанки) приходил по вечерам весь цвет отечественной науки – лекции читали 22 известных в России профессора. Но ... душевные силы его все больше таяли. "В полном сознании открытого перед ним ужаса", Докучаев старался найти спасение в энергичной работе, с трогательной силой обращался мыслью и сердцем к самым глубоким тайникам 166 человеческой души. Друзья видели, как он стремился противопоставить надвигавшемуся несчастию всю силу, всю полноту своей личности. Однако все было напрасно. Личность его была окончательно сломлена... "Правда, дорогой друг, – писал он Измаильскому, бодрясь, – я потерял ровно полгода – с утра до ночи и с ночи до утра – для этой затеи, но, тем не менее, не жалею. Авось, зерно упадет на добрую ниву". Наверное, упало, а может, и проросло. Однако разговоры о закрытии экспедиции велись все настойчивее. В первых числах февраля 1899 гола (не знаю, почему) Конрад Эдуардович Собеневский сложил с себя обязанности заведующего участком и покинул Каменную степь. Покинул совсем не такой, какой принимал ее семь лет назад. По всей степи уже поднимались, набирали силу лесные полосы. Создатель современного учения о лесе, известный русский лесовод, ботаник и географ Георгий Федорович Морозов, высоко оценивая роль экспедиции и Докучаева "как невольного основателя лесного опытного дела в России" писал: "Большое значение имел В.В. и для степного лесоразведения; частью им самим, частью при его участии предложены некоторые новые способы облесения степи, но, главное, коренным образом изменилась самая постановка дела степного лесоразведения, которое стало более сознательной и ясной". Верно. Однако надо уточнить: в выработке этих новых способов, как и в постановке дела степного лесоразведения, деятельное участие принимал и Собеневский. Пройдет много лет, и он снова вернется сюда, в Каменную степь, к своим уже повзрослевшим насаждениям, немало еще сделает – и снова уйдет в тень, в небытие. Странно, он так много делал, ему, как степному лесоводу, удавалось сделать то, что никогда и никому до него не удавалось, однако известность, слава так ни разу и не обласкали его, так никто и не упомянул его. 167 "ОДНОЗНАЧАЩАЯ С ЗАЩИТОЮ ГОСУДАРСТВА... " 1 Я был счастлив, когда в Центральном Государственном историческом архиве, что на набережной Красного флота в Петербурге, впервые натолкнулся на документы, содержащие некоторые биографические данные Собеневского Конрада Эдуардовича. Человек этот отдал Каменной степи чуть ни всю свою жизнь, уезжал и снова возвращался. Без преувеличения можно сказать: он вбивал первые колышки, он руководил съемкой местности, обозначал на ней расположение будущих лесополос, прудов и водоемов, потом создавал их. Он один из немногих не покидал Каменную степь и зимой: вел наблюдения за толщиной снежного покрова, за снеговыми заграждениями и таянием снега. Лишь изредка отлучался в Хреновое, чтобы доставить оттуда поступающие из Петербурга инструменты и оборудование. Он уехал отсюда накануне закрытия экспедиции, в феврале 1899 года. Уехал не в город и не в лесные края. Отсюда его занесло в степное Оренбуржье, где тоже сажал лесные полосы, а потом несколько лет кочевал с семьей в пульмановском вагоне по всей Ташкентской железной дороге – руководил озеленением станций и посадкой защитных полос. Вернулся он в Каменную степь через 28 лет – на этот раз как сотрудник Всесоюзного института растениеводства – его пригласил Николай Иванович Вавилов, аттестовавший Собеневского крупнейшим степным лесоводом. Вернулся, когда посаженные им лесополосы уже нуждались в рубках ухода. И снова проработал здесь более десяти лет, создал новые лесополосы, заложил и выпестовал уникальнейший в степи дендрарий-арборетум, который и сегодня поражает планировкой и набором древесных и кустарниковых пород всех континентов мира – выпестовал из тех семян и саженцев, которые привозил Николай Иванович Вавилов из своих экспедиций по миру. 168 И вот об этом человеке, соратнике двух великих ученых, нам почти ничего не известно. Известна лишь фамилия, да и то только работникам Каменной степи, но даже им не известна его биография, хотя живы еще те, кто знал Собеневского и пел сложенные о нем шутливо-грустные песенки. Одну из них мне напела Прасковья Федоровна Львова, приехавшая в Каменную степь в 1924 году и так с той воры живущая тут. "Шумит Конрад доспехами – веселый, боевой! Прощается с дубочками плакучею слезой. Склонился пред березонькой, на землю плащ упал, Поильцам и кормильцам обет вернуться дал..." Сочинил эту простенькую, но задушевную песенку в средине двадцатых голов кто-то из тех, кто не однажды видел, как готовился Собеневский к отъезду в Ленинград с отчетами. Увидел и понял его чувства, его душу, накрепко привязанную к любимому делу. И надо же, прошло с той поры без малого семь десятилетий, сколько событий всяких было, а песенка о добром человеке не забылась, воскресла в памяти на старости лет. Вполне возможно, что сочинитель видел, как рано на зорьке Николай Иванович Вавилов стучал Собеневскому в окно, и они вдвоем уходили в степь, к дальним прудам и полосам: посмотреть, поспорить, посоветоваться. А вот о чем – никто не знает. Наверное, не только о деле. Человек, который смело вступал в спор с корифеями отечественного лесоводства Высоцким и Морозовым (о том свидетельствуют документы), и в этих спорах оказывался правым; человек, который на рубеже 40-х и 50-х годов схватился в научном споре с Трофимом Лысенко (который только что на голову разгромил вавиловскую школу генетиков) и принародно показал тому кукиш, – ушел из жизни тихо, незаметно, не оставив нам не только биографии своей, но вроде бы и следа – все забыто, затеряно. Забыто даже лесоводами. 169 Вот почему я был счастлив, когда находил в архивах то один, то другой документ, проливающий свет на биографию этого незаурядного человека. Теперь мне достоверно известно, что в 1890 году Собеневский окончил Петербургский лесной институт и уехал работать под Уфу помощником лесничего. Оттуда, как человека "особо похвального поведения", его и затребовал Писарев в Экспедицию не должность младшего таксатора. Вполне возможно, что кто-то из учеников Докучаева знал Собеневского еще по институту и посоветовал пригласить его. Было ему в то время 25 лет от роду. В Каменной степи мне говорили: где-то должна быть докторская диссертация Собеневского. Мои собеседники не знали в точности, как она называлась и когда была написана, но диссертация где-то должна быть, коли человек получил степень доктора сельскохозяйственных наук. Помог мне в ее розыске декан лесохозяйственного факультета ленинградской Лесотехнической академии Борис Васильевич Бабиков. Правда, поначалу он огорчил меня, сказал, что такой диссертации обнаружить в библиотеке не удалось. Но на другой день обрадовал: "Приезжайте, нашли". И вот передо мной научный труд одного из сподвижников Докучаева по "Особой экспедиции", написанный в 1940 год, но нигде не опубликованный и мало кем за эти годы прочитанный. Я еще не знал, о чем он, но был уверен, найду в нем много интересного и забытого. Раскрываю переплетенную в твердую обложку диссертацию, читаю: "Полосное лесоразведение у нас и за границей". В Каменной степи ее предположительно называли "Историей степного лесоразведения", под этим названием я и искал ее. По сути – верно, история, да еще какая история! Та, которую мы забыли, утеряли, не знаем, и потому, осмелюсь сказать, многое не понимаем не только в истории лесоразведения, но и в истории отечественной литературы. Нет, не специальной литературы, а художественной, в чем и постараюсь убедить вас чуть позже. Итак, читаю... По широкой степи, до горизонта ровной, там и сям разбро- 170 саны поселения. Но на всем этом неоглядном пространстве – ни кустика. Как же просторно человеку, но и как неуютно, когда разгуливался ветер, когда суховеи за считанные дни иссушали всякую растительность в степи и на огородах поселенцев. Кто и когда надумал защитить свою усадьбу от обжигающего дыхания степи – никто не знает. Можно лишь одно предположить – когда испытал все невзгоды степного климата: засухи, суховеи, черные бури. Чтобы как-то защититься от этих напастий, человек обсадил усадьбу свою деревьями: хоть тень будет, хоть крыши не посрывает. Посадил и убедился: а в самом деле, потише стало, и печет не так. Человек всегда искал способы, чтобы наилучшим образом приспособиться к тем условиям, в которых оказался. Искал и находил. Передавал свой опыт другим. Да ведь всегда были и упрямцы, которых не убеждал самый наглядный опыт, одно твердили: "Ай нужно?" Что всегда означало: "Зачем?" Жили, мол, без этого, проживем и дальше, сколько бог дозволит. Упрямцы эти, чтобы не прослыть ленивыми и плохими хозяевами, – каковыми и были во всех поколениях и во все времена, – находили и веские доводы, чтобы не сажать деревья. Говорили: мол, тут, в степи, и бог не смог вырастить ни одного дерева, а уж человеку и совсем непосильно это сделать. Потом, когда человек все же вырастил, стали сомневаться: а долго ли проживут те деревья? Деревья жили, под ними уже выросло не одно поколение детишек. Тогда надумали, что деревья "свет застят" и на них всякий червяк живет-размножается. Сколько их, подобных доводов было! Многие до двадцатого века дожили, в некоторые, по всему видно, и в двадцать первый век перешагнут. А что с ними, упрямцами, поделаешь? Упрямцы воинственны и на слово находчивы, они не один, так другой довод выставят. Однако вернемся к истории, написанной Собеневским. Планомерные работы по созданию защитных насаждений начали военные поселенцы, которые по повелению Аракчеева (о чем каждый школьник знает) были отправлены на 171 жительство в степи юга России, в Мелитопольский и Бердянский уезды. Отправлены не для защиты южных границ, которым в это время уже никто не угрожал, и не для муштры. В поселения эти набирались так называемые сектанты-меннониты, вера которых не разрешала брать в руки оружие. Однако должны же и они исполнить свой долг перед Отечеством. Вот и пришла мысль поручить им мирное дело – посадку леса в степи. Мысль эта пришла Аракчееву при посещении имения Данилевского, деда известного писателя. У него он увидел посадки и защитные полосы в полях, а увидев, убедился, что дело это нужное и очень важное для государства. Работу поселенцев организовывало и контролировала лесное ведомство. Оно же установило и задание: каждый поселенец должен посадить две третьих десятины леса в год, или, если хотите, ответственность поделить на всех, то так – казарма из 120 человек долина посадить 80 десятин. Когда началась эта первая планомерная работа – точно не известно, но судя по "Историческому обозрению 50-летней деятельности Министерства Государственных Имуществ", к 1841 году меннонитами уже было посажено 1425 десятин леса. Небольшое количество леса (около 700 десятин) было разведено калмыками в Астраханской губернии. Тоже по заданию: счет тут был такой – десятина леса на 20 кибиток. В 1841 году министр государственных имуществ граф Киселев, объезжая степную южную полосу России, самолично осмотрел меннонистские плантации. Они ему явно понравились, во всяком случае убедили его в том, что создавать леса в степи можно. Осмотр этот "повел к учреждению" в 1843 году Велико-Анадольской образцовой плантации в Екатеринославской губернии "с устройством при ней школы для лесников, как с целью выработки наиболее целесообразных способов для лесоразведения в степях и выбора соответствующим им древесных и кустарниковых пород, так и для образования из крестьянских мальчиков знающих свое дело лесников, которые могли бы приходить к 172 лесоразведению и древоводству тех крестьян, которыми населялись казенные земли на юге". Выбор места и ведение дела было поручено подпоручику Корпуса Лесничих Виктору Егоровичу Граффу, два года назад окончившему Лесной и Межевой институт, где учился вместе с будущим писателем Н.В.Шелгуновым. Лесной департамент указал Граффу лишь на Александровский (впоследствии Мариупольский) уезд, как наиболее безлесный. Добравшись до места весной 1843 года и осмотрев 30 казенных участков, Графф избрал самый возвышенный, и, как потом признали специалисты, "представляющий наиболее трудностей для облесения не только своим безволием и открытым возвышенным положением, но и своей тяжелою глинистою почвою". Надо было страстно верить в цело, чтобы начать его именно здесь, в сухой степи, где не было ни кола, ни двора, ни зеленого участка, а до ближайшего крестьянского селения несколько верст. Один из современников писал о Граффе: "С пылкою любовью юноши и с зрелым умом пожилого и опытного принялся за образцовое дело. Не говорю о затруднениях, с которыми он боролся, не имея ни опытных помощников, ни сведущих работников, он сам много лет трудился наравне с рабочими, указывая им путь к делу". Здесь он женился, здесь в неустанных трудах провел 23 года своей жизни. Надо сказать, о нем не забывали. Уже на 5 год работы в степи к нему заехал тот же министр Киселев, осмотрел Велико-анадольскую лесную плантацию и приказом объявил "сему усердному и отличному офицеру" "совершенную благодарность" за отличный порядок. Здесь он был произведен в поручики, в штабс-капитаны, в капитаны, в подполковники и в полковники Корпуса Лесничих. Здесь он получил орден Святого Станислава сначала 3, потом 2 ступени, Станислава с Императорской короной. По ходатайству Вольного экономического общества был награжден орденом Святой Анны 2 степени за заслуги по 173 лесоводству. Преодолев все невзгоды, он создал 140 десятин леса, показав наглядно "возможность успешного облесения степей, даже при самых неблагоприятных внешних условиях". Отсюда Графф уехал летом 1866 года – был назначен ординарным профессором Петровской академии. Но уехал "живым мертвецом, вконец расстроив здоровье свое, жены и единственного сына". Он давно нуждался в основательном лечении, но не лечился – не мог оторваться от дела и, по свидетельству современников, "по неимении средств, которых не умел выпрашивать". В Москве он прожил лишь год с небольшим, почти постоянно болея. 25 ноября 1867 гола в возрасте 48 лет Виктор Егорович фон-Графф, запасный лесничий, создатель Велико-Анадольского леса, скончался. Похоронили его "близ Москвы на кладбище села Владыкино, в двух верстах от Петровской Академии". Имя его, как основоположника степного лесоводства, с годами обрело известность во всем мире. Он учился разводить леса в степи у поселенцевменнонитов, у него учиться будет все человечество. "Этот лес надолго останется памятником той смелости, той уверенности и любви, с какой впервые взялись за облесение степи". Словно бы продолжая эту мысль крупнейшего русского лесовода Турского, великий Менделеев добавил: "И я думаю, что работа в этом направлении настолько важна для будущего России, что считаю ее однозначащей с защитою государства". Лишь одной цели, поставленной перед ним, Графф все же не добился – "распространения между крестьянами лесоразведения". Во всяком случае, как свидетельствовали современники, цель эта "была мало успешна", потому что выпускники лесной школы исчезали в массе, как вода в песке, а окружающее население "враждебно относилось к делу лесоразведения, отчасти оттого, что наряжали бесплатно рабочих из ближайших сел на работы, отчасти же от того, что они при успехе 174 культур предвидели обязательную для себя посадку дерев". Ну, а как умели на Руси вводить "обязательную посадку", об этом хорошо рассказал в одном из своих писем "Из деревни" Александр Николаевич Энгельгардт: "Надумали там в городе НАЧАЛЬНИКИ от нечего делать, что следует по деревням вдоль улиц березки сажать... Надумали, расписали сейчас наистрожайший приказ по волостям, волостные – сельским старостам приказ, те – десятским по деревням. Посадили мужики березки – недоумевают, зачем? Случилось в то лето архиерею проезжать – думали, что это для его проезду, чтобы, значит, ему веселее было. Разумеется, за лето все посаженные березки посохли... Приезжает весною чиновник... Где березки? – спрашивает. – Посохли. – Посохли! а вот я... и пошел, и пошел. Нашумел, накричал, приказал опять насадить, не то, говорит, за каждую березку по пяти рублей штрафу возьму. Испугались мужики, второй раз насадили – посохли опять. На третью весну опять требует, – сажай! Ну, и надумались мужики: чем вырывать березку с корнями, прямо срубают мелкий березняк, заостривают комель и втыкают к приезду агента в землю – зелень долго держится... Не полезет же чиновник смотреть, с корнями ли посажено, ну, а если найдется такой, что полезет, скажут: "отгнил корень", – где ему увидать, что березка просто отрублена". "Все такие мероприятия, – подводит итог своим горестным раздумьям Энгельгардт, – никогда ни к чему не приводят, всегда ловко обходятся и только наносят вред народу, затесняют его и, по мнению мужиков, делаются только им в "усмешку". Это уж точно, во все времена умели русские чиновники так поставить дело, что и из доброго выходило худое, умели и добрым делом так измучить всех, что добро оборачивалось злом, которое порождало сопротивление и даже бунты. Так было в России с насаждением картошки и со множеством других нововведений. Не понимая идеи, не разобравшись в сути цела, чиновники начинали действовать не во имя торжества идеи, а во имя собственных действий, чтобы власть показать. 175 2 Ну а что же литература? Как она восприняла и отразила идею степного и защитного лесоразведения, "однозначащего с защитою государства"? Собеневский в своей диссертации говорит об этом так: "В литературу идея защитного лесоразведения проникла значительно позднее его фактического начала". Правда, указывает он, еще в 1837 голу "некто Ломиковский выпустил книжку "Разведение леса в сельце "Трудолюбе", в которой описал результаты своих многолетних работ по лесонасаждению, начатому с 1809 года"... Есть такая книга. Ее автор – помещик Миргородского уезда Василий Яковлевич Ломиковский. "Относительно же лесоводства, – читаем в ней, – труды сии увенчались такими успехами, которые превзошли и собственное ожидание мое, ибо получить пустыню, а через 25 лет пользоваться уже строевыми деревьями, пригодными на жилые помещения и на всякие хозяйственные потребности, есть, конечно, успех, столь же отрадный, сколько удовлетворительный". Но это, конечно, не главное, не то нас сейчас интересует, не древесина. Вот!.. "В уезде нашем довольно известно, что при общих и крайних неурожаях, бывших в 1834, 1835 годах, я имел счастье получать такой изобильный урожай, какой бывает в самые добрые годы". А теперь отложу на время и диссертацию, и эту бесценную книжицу, пришедшую издалека. Почитаем знакомое всем и каждому произведение, написанное лишь лет на 12 позже названной книги. " – Вот, поглядите-ка, начинаются его земли, – сказал Платонов, – совсем другой вид. И в самом деле, через все поле сеяный лес – ровные, как стрелки, дерева; за ними другой, повыше, тоже молодняк; за ними старый лесняк, и все один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, и снова та- 176 ким же образом молодой лес, и опять старый. И три раза проехали, как сквозь ворота стен, сквозь леса. – Это все у него выросло каких-нибудь лет в восемь, в десять, что у другого и в двадцать не вырастет. – Как же это он сделал? – Расспросите у него. Это земледелец такой, у него ничего нет даром. Мало что почву знает, как знает, какое средство для кого нужно, возле какого хлебе какие дерева... Лес у него, кроме того что для леса, нужен затем, чтобы в таком-то месте на столько-то влаги прибавить полям, на столько-то унавозить падающим листом, на столько-то дать тени. Когда вокруг засуха, у него нет засухи; когда вокруг неурожай, у него нет неурожая". Это путешествующий по России герой видит при въезде в поместье. Сопоставьте: не совпадением, а пониманием поражают гоголевские строки. А вот что он же видит при выезде: "Целые пятнадцать верст тянулись по обеим сторонам леса и пахотные земли... в смешении с лугами. Ни одна травка не была здесь даром, все как в божьем мире, все казалось садом. Но умолкли невольно, когда началась земля Хлобуева: пошли скотом объеденные кустарники наместо лесов, тощая, едва подымавшаяся, заглушенная куколем рожь". И еще одна сценка, но уже не из литературы, а из жизни, отстоящей от той почти на 150 лет, из нашей с вами жизни. Для точности укажу и время – осень 1983 года. Место – зауральское село Мальцево, дом знаменитого нашего ученого хлебопашца Терентия Семеновича Мальцева. Сидим с ним, разговариваем. И тут я приметил на табуретке книгу, которая, как мне подумалось, попала сюда случайно, – должно быть, забыл кто-нибудь из учителей. Ну, в самом деле, зачем Мальцеву могло понадобиться "Методическое руководство к учебнику "Русская литература для 8-го класса"? – Расскажу сейчас, вот только приготовлю чай, а то что-то голодно стало, 177 – откликнулся Терентий Семенович на мой вопрос. Выставил на стол чайник, заглянул в него, сходил в сени за водой, вылил в чайник и вытер руки. – Пусть греется, а я расскажу, зачем понадобилась мне эта книга... – Он взял ее с табуретки и положил на колено. – На днях приезжали на экскурсию школьники из соседнего района. Разговорились. Вот я и поделился с ними, что очень нравятся мне слова из хорошо им известного литературного произведения: "Да, хлебопашец у нас всех почтеннее. Дай бог, чтобы все были хлебопашцы!" Ребята в голос: "Кто писатель, какое произведение?" "Гоголь Николай Васильевич, – говорю. – "Мертвые души". Небось, проходили? "Проходили, – отвечают ребята, – Чичикова знаем, Ноздрева, Собакевича". Вижу, учительница смутилась, однако за ребят все же заступилась: "Нет такого вопроса в программе, Терентий Семенович". Может, и нет, только как же, думаю, учитель сельской школы пропускает такие прекрасные слова? Разве только потому, что помещик Костанжогло их произносит? Ну и что с того, что помещик? Это же позиция автора-патриота!.. Вернулся я домой, а успокоиться не могу – ответ учительницы из головы не идет. Взял в школьной библиотеке вот это "Методическое руководство", рекомендованное в помощь учителю Министерством просвещения РСФСР, и совсем расстроился. Действительно, основное внимание образам помещиков и чиновников губернского города, мимоходом – лирические отступления, но ни слова о тех размышлениях, на которые побудили автора все эти помещики и чиновники, образы которых рекомендуется изучать нынешним школьникам. А ведь размышления очень интересные... Мальцев отложил "Методическое руководство "и достал из шкафа томик Гоголя, испещренный пометками: – Почитай-ка вслух... Читаю, что подчеркнуто: 178 " – Да, – сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова, – надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! И, поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что в деревне тоска, – да я бы умер, повесился от тоски, если бы хотя один день провел в городе так, как проводят они в этих глупых своих клубах, трактирах да театрах. Дураки дурачье, ослиное поколенье! Хозяину нельзя, нет времени скучать. В жизни его и на полвершка нет пустоты – все полнота. Одно это разнообразье занятий, и притом каких занятий! – занятий, истинно возвышающих дух. Как бы то ни было, но ведь тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всего, что совершается в творении. Рассмотрите-ка круговой год работ: как еще прежде, чем наступит весна, все уж настороже и ждет ее; подготовка семян, переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка; установленье новых тягол. Весь <год> обсматривается вперед и все рассчитывается вначале. А как взломает лед, да пройдут реки, да просохнет все и пойдет взрываться земля – по огородам и садам работает заступ, по полям соха и бороны: салка, севы и посевы. Понимаете ли, что это? Безделица! грядущий урожай сеют! Блаженство всей земли сеют! Пропитанье миллионов сеют! Наступило лето... А тут покосы, покосы... И вот закипела вдруг жатва; за рожью пошла рожь, а там пшеница, а там и ячмень, и овес. Все кипит; нельзя пропустить минуты; хоть двадцать глаз имей – всем им работа. А как отпразднуется все да пойдет свозиться на гумны, складываться в клади, да зимние запашки, да чинки к зиме амбаров, риг, скотных дворов, и в то же время все бабьи <работы>, да подведешь всему итог и увидишь, что сделано, да ведь это... А зима! Молотьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из риг в амбары. Идешь и на мельницу, идешь и на фабрики, идешь взглянуть и на рабочий двор, идешь и к мужику, как он там на себя копышется. Да для меня, просто, если плотник хорошо владеет топором, я два часа готов прел ним простоять: так веселит меня работа. А если видишь еще, что все это с какой целью творится, как вокруг тебя все множится да множится, принося плод да доход, – 179 да я и рассказать не могу, что тогда в тебе делается. И не потому, что растут деньги, – деньги деньгами, – но потому, что все это дело рук твоих; потому что видишь, как ты всему причина, ты творец всего, и от тебя, как от какогонибудь мага, сыплется изобилье и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслажденье? сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего, сиял он весь, и казалось, как бы лучи исходили из его лица. – Да в целом мире не отыщете вы подобного наслажденья! Здесь, именно здесь подражает богу человек. Бог предоставил себе дело творенья, как высшее всех наслажденье, и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя. И это называют скучным делом!.." Я читал и ловил себя на мысли, что тоже, как и те школьники экскурсанты, размышлений этих не помнил и читал их как бы впервые. Значит, надо будет перечитать. Перечитал – и сложное чувство овладело мной. Нет сомнения, что Гоголь, уроженец Миргородского уезда, приезжая к родным в Васильевку, конечно же, бывал и в поместье Ломиковского, человека в уезде безусловно знаменитого, написавшего о делах своих книжку, о чем, конечно, в семье Гоголей знали – Василий Яковлевич часто навещал Марию Ивановну и даже, кажется, испытывал к ней сердечное влечение. Так что, бывая, Гоголь проезжал, "как сквозь ворота стен, сквозь леса". Своими глазами видел, что вокруг засуха, а тут нет засухи, вокруг недород, а тут "изобильный урожай, какой бывает в самые добрые годы". Выходит, Костанжогло в поэме – это Ломиковский в жизни? Не буквально, конечно, но создавая положительный образ деятельного Костанжогло, автор ничего не выдумывал. Однако литературная критика не только не приняла этой "идеальной картины", но и обвинила автора в фальшивой идеализации жизни, в абстрактном понимании человека. Гоголь, мучительно искавший положительное начало в 180 действительности, в которой барахтались Чичиковы, Ноздревы, Маниловы и им подобные, верил в человека, в его духовные силы. "Мелкого не хочется, – писал он, – великое не выдумывается…" Мелкого и без того было уже много. Белинский и Чернышевский ждали от Гоголя, что во втором томе "Мертвых душ" он нагребет огромную кучу навоза на весь этот помещичий строй. А он, наоборот, взял да и разгреб ее, среди всех этих пакостников, дармоедов, пустых мечтателей, дуроломов изобразил человека деятельного, хозяина рачительного, который делает полезнейшее дело "тихо, без шуму, не сочиняя проектов и трактатов о доставлении благополучия всему человечеству". Понять гнев Белинского и Чернышевского можно, всю свою энергию ума и души отдававших борьбе с ненавистным помещичьим строем. Но и художник Гоголь видел и понимал, что классу этому, к которому и сам принадлежал, еще жить и жить, еще править и править. И конечно же ему, патриоту, хотелось, чтобы правили лучше, разумнее, не растрачивая зря силы природные, силы народные. Понимал и видел, что кроме Ноздревых, Маниловых, Кошкаревых есть и Ломиковские. Так почему бы, если классу этому еще существовать и существовать, не создать образ не разрушающего, а созидающего хозяина. Нельзя же только поедать накопленное и ничего не делать. К тому же классы сменяются, а народ вечен и всегда будет нуждаться в добром примере (Вон когда, почти через полтора века взял ученый хлебопашец книгу и задумался, других заставил задуматься). Но в это же самое время литературные критики продолжали утверждать: "Образ Костанжогло явился крупной неудачей Гоголя. Попытка облечь в художественную Форму реакционную идею не могла закончиться ничем иным, кроме поражения". Где уж тут – вводить в школьную программу. Это только Мальцев считает, что в образе Костанжогло выражены мысли писателяпатриота, а критики совершенно противоположного мнения – в нем выражены "реакционные иллюзии Гоголя". Реальное отображение действительности для 181 них – лишь в низком и пошлом. Не потому ли мы только краем уха слышали, что Россия – пионер степного лесоразведения. Не поэтому ли так плохо знаем историю отечественного полезащитного лесоразведения, в которой множество славных страниц, – и не написанных еще, и написанных, но забытых. Даже Докучаеву, отправлявшемуся с Особой экспедицией в южную степь, многие эти страницы были неизвестны, и свою деятельность по возрождению степи сподвижники его начинали почти с нуля. Им, как и авторам "Деревенского зерцала или общенародной книги", изданном в 1799 году Вольным Экономическим обществом, казалось, что "в степных местах поднесь не разведено еще лесов – причиной того не то, чтобы степная земля не способна была к произращению лесов. Местами видим мы дубравы, видим кустарники на сухих и болотистых местах, но их наперехват стараются истребить, а не сберечь. Итак, недостатку в лесе причиною нерачение". Да уж нерачения во все времена хватало, и старание истребить проявляли немалое, особенно старались во второй половине века те же самые Собакевичи, Ноздревы, Маниловы. Но рядом с ними были и вполне реальные Ломиковские, Энгельгардты, Шатиловы, которые и после отмены крепостного права хозяйствовали разумно и не только не пустились в распродажу своих лесов, но сажали, новые, создавали полезащитные полосы. То были крохотные островки на широком просторе голых степей. Островки эти то появлялись, то исчезали, как мираж. Жизнь человеческая не вечна, угасали и энтузиасты, о которых в незлобивом народе долго еще можно было слышать сочувственные рассуждения: "Думал человек бога перехитрить и две жизни прожить, небо и землю на свой лад переделать, а сам-то и одной не дожил до старости. Вон-то и осталось от трудов его, что обглоданные кустики. Степь до него тут была, и после него степь будет". Со временем исчезали и кустики. Ничто больше не тревожило память человеческую о прошлом. 182 Осознание никчемности этого каторжного труда, который может вот так же превратиться в прах, и побуждало созидающих взывать в отчаянии: "Вразуми же бог..." Просили одного: объединить усилия, чтобы весь мир, весь народ кликнуть на ту работу, которую умные люли давно уже считают "однозначащей с защитою государства". 3 И захотелось мне снова побывать на Полтавщине. Может, цел еще хутор Трудолюб, где когда-то жил Ломиковский – пионер полосного лесоразведения в России. Скорее всего, самого хутора уже нет, – сколько их исчезло с лица земли, – но кто-нибудь подскажет, где он был. Давно нет, наверно, и лесных полос, которые Гоголь увековечил в "Мертвых душах". Я был уверен, что ничего этого нет, потому что нигде в печати не встречал даже упоминания о хуторе и чуло-полосах вокруг него. И ни разу не слышал никаких рассказов, хотя в Миргороде бывал не раз. О луже слышал, и стоял на том месте, где она разливалась. Слышал о других достопримечательностях, а вот о том, что где-то рядом с Миргородом жил Василий Яковлевич Ломиковский, один из славных здешних деятелей, друживший с матерью Н.В.Гоголя и со многими прогрессивными людьми своего времени – об этом узнал лишь недавно. Кстати, я упоминал уже известного в Миргородском уезде лекаря Михаила Яковлевича Трохимовского, к которому перед родами ездила Мария Ивановна. Так вот, Ломиковский был с Трохимовским в большой дружбе. В 1824 году, умирая, старый доктор просил его быть опекуном над малолетними внуками и по-отцовски распорядиться хозяйством. Эту просьбу Ломиковский исполнил с величайшей честью – всячески отбивался, даже судился, но не позволил никаким "мильйонщикам" растащить скромное наследство покойного друга своего. 183 И вот я в знакомом уютном Миргороде с единственной целью – разыскать хотя бы место, где были хутор. – Покажем, – сразу же обрадовали меня. И добавили: – Это рядом, в трех километрах от Миргорода. Едем по знакомой дороге на Лубны. И вот, – долго ли на машине проехать три километра, – вижу у обочины указатель, мимо которого я конечно же проезжал и раньше, но ни разу не обратил на него внимания. На указателе читаю: "Трудолюб". Вот так радость! Не исчез хутор с лица земли, он даже разросся в большое пригородное село, сохранив прежнее свое название, которое всякому может показаться современным. Как же часто ми, мало что зная о нашем прошлом, проходим, проезжаем мимо вот таких ничем вроде бы не примечательных мест, а на самом деле проходим, проезжаем мимо истории. Однако бывает и хуже, бывает, что и здесь живущие знают лишь о своем существовании, но не о том, что тут было когдато и кто тут жил до них. Знают ли в Трудолюбе, что здесь жил пионер полосного лесоразведения в России, которого Гоголь вывел в своей поэме под именем Костанжогло? Едем мимо зеленых дворов, мимо домов. К сельскому музею едем, вернее, к местному Дому культуры, в одной из комнат которого, как мне сказали, недавно открылся музей. Есть в нем, сказали, и что-то Ломиковском. Знают, значит – и от мысли этой во мне шевельнулось доброе чувство. Значит, когда-нибудь заглянут сюда и наши литературоведы, заглянут и поймут, что они были не правы в оценке не только Костанжогло, но и позиции самого Гоголя, перестанут писать, что автор "Мертвых душ" увидел то, чего не было в жизни. "Хранитель" музея, молодой парень, уроженец здешних мест, недавно вернувшийся в колхоз с вузовским дипломом, в смущении распахнул дверь в свое хранилище. 184 – Как раз о Василии Яковлевиче Ломиковском у нас почти ничего и нет, – сказал он, от этого главным образом и смутился. Я же был доволен уже тем, что молодой человек назвал Ломиковского по имени и отчеству. И назвал верно. А раз знает, то что-то есть о нем и в музее. Сказал ему об этом, чем смутил еще больше. – Узнали-то мы о нем совсем недавно. – Сколько лет назад? – Да что вы, лет! Только вот нынешней весной, когда миргородский краевед рассказал о нем в районной нашей газете. Об этой публикации мне уже говорили и в горкоме, даже пообещали, что на обратном пути обязательно дадут мне ее. – Да я вам дам, а то в городе забудут или не найдут, – расщедрился хранитель и вручил мне три номера районной газеты, в которых краевед Л.Розсоха может быть впервые рассказывала о Ломиковском. Кто же он, Василий Яковлевич Ломиковский? Да, миргородский помещик, это мы знаем давно, владелец небольшого "хутора Ломиковских", который в начале XIX века он сам переименовал в "Парк Трудолюб". Переименовал после того, как небогатое свое имение ("пустыню") превратил в образцовое хозяйство, а на склоне холма создал сад и парк небывалой на Миргородщине красоты. Тут росли, цвели и плодоносили не только местные сорта и породы – Ломиковский выписывал семена и саженцы даже из-за кордона. Тут плодоносили виноград, грецкий орех и другие экзоты. Нет, он не пыль в глаза пускал, не бездельем маялся, – искал такие способы хозяйствования на земле, которые бы позволили улучшить жизнь на ней. В письме другу своему Ивану Романовичу Мартосу, вовсе не рисуясь, Ломиковский признавался: "Год от гола стараюсь елико можно облегчать работы крестьян своих, так чтобы повинность сия основывалась на справедливости и чтобы крестьяне мои облегчены были более, нежели крестьяне соседов моих". 185 Перечитайте те главы, в которых Гоголь рассказывает о Костанжогло, и вы опять не обнаружите сходные мысли. Будучи одаренным агрономом и неутомимым тружеником, он решительно ломал традиционные методы хозяйствования, искал и внедрял новые, – никем еще не апробированные, Первым в России ввел "древопольное хозяйство", – занялся посадкой полезащитных лесных полос на межах, не крутосклонах и заболоченных местах. Многолетний опыт привел Ломиковского к выводу: лесные полосы благотворно влияют на урожайность посевов. Этот вывод долго еще будут оспаривать, брать под сомнение многие и многие практики и ученые не только в XIX, но и в XX веке. А может, будут сомневаться и дальше?.. Кажется, Ломиковский предвидел, что будут спорить, поэтому вывод свой уточнял: лесные полосы могут благотворно влиять на урожайность только в условиях культурного земледелия. "Изобильный урожай, – писал он, – бывает на древопольных местах преимущественно тогда, когда все полевые работы производятся благовременно и с надлежащим рачением; напротив того, при нерадивом обращении с землей, она и в добрые годы урожает скудно", так как "сорные травы, ускоряясь всходами, заранее заглушают хлебную зелень". Мысли эти, опередившие науку на многие десятилетия (не всеми осознаны и поныне), Ломиковский изложил в той же книге "Разведение леса в сельце Трудолюбе". Нет, она не осталась в его огромном рукописном архиве. Книга была издана в Петербурге в 1837 году, а автора ее, по утверждению краеведа Л.Розсохи, одно из российских обществ удостоило даже золотой медали. Я искал эту книгу в библиотеках многих сельскохозяйственных институтов, но ни в одной не оказалось. Даже в "Тимирязевке", имеющей богатейший книжный фонд, Ломиковский в каталогах не значился. Не было его книги и в музее. Никто в Трудолюбе не читал ее. Жаль. Показали мне и то место на бугре, где, по воспоминаниям стариков, стояла помещичья усадьба, где был сад, в котором вызревали полукилограммовые 186 яблоки и где красовался парк. Война смела с лица земли все, что тут было. Один лишь старый-престарый осокорь, нависший широкой кроной над крайней хатой, пережил все напасти, да и он, пожалуй, посажен был не Ломиковским, а его потомками. Отсюда, с бугра, видны поля окрест. Направляя своего героя вот сюда, в имение Костанжогло, Гоголь нарисовал пейзаж, поразивший даже Чичикова. Помните?.. Через все поле сеяный лес – ровные, как стрелки, дерева; за ними другой, повыше, тоже молодняк; за ними старый лесняк, и все один выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, и снова таким же образом молодой лес, и опять старый. И три раза проехали, как сквозь ворота стен, сквозь леса. Где они, те леса?.. В полях окрест видны лишь редкие, насквозь просвечивающиеся полоски. Вряд ли они способны сослужить какую службу, разве что обозначают границы полей да в страдную пору спасают обедающих механизаторов от палящего солнца. Однако и эти чахлые полоски казались мне порослью тех старых, давно порубленных деревьев, высеянных рукою Ломиковского чуть ни два столетия назад. Не принят был не только образ Костанжогло, но не подхваченными оказались и идеи, деяния его прототипа, те деяния, в полезности которых для России великий писатель не сомневался. И не случайно именно эти страницы гоголевского творения так часто читает и перечитывает наш великий ученый хлебопашец Терентий Семенович Мальцев. На этих страницах он находит опору своим мыслям. Эти страницы побуждают его на раздумья о земле и человеке, возделывающем ее. И часто повторяет: "Страницы эти написаны великим патриотом земли русской". А критики в литературе, а преподаватели в школах и институтах продолжают винить Гоголя и за этот образ и за эти мысли. Не потому ли забыто и имя Ломиковского, агронома, историка и этнографа, собирателя и составителя первого рукописного сборника украинских народных дум, дошедшего до нас под 187 названием "Повести малороссийские числом 16. Списаны из уст слепца Ивана, лучшего рапсодия, которого застал я в Малороссии в начале XIX века". Некоторые из этих дум и песен стали известны нам только по этому рукописному сборнику. Как составителя словника украинской старины, Ломиковского высоко ценил известный историк Лазаревский, который через несколько десятилетий после его смерти, уже в конце XIX века, разыскал и приобрел часть архива этого незаурядного человека, после чего некоторые материалы на него и были опубликованы. Однако и ему не удалось вызволить из небытия имя Ломиковского, взгляды которого формировались в либерально-демократической среде, к которой принадлежали жившие неподалеку семьи писателя Капниста, МуравьевыхАпостолов, Гоголей-Яновских, Трощинских. Правда, большинство помещичьих семей придерживались совсем иных взглядов. Сколько угодно было в округе и Собакевичей, и Плюшкиных, и Ноздревых. Для них Ломиковский, по свидетельству современников, был объектом постоянных пересудов, говорили о нем не иначе как о человеке, знающемся с нечистой силой – ничем иным ленивые умы не могли объяснить ни высокие урожаи на его полях, когда во всей округе посевы выгорали до черной земли, ни вызревание невиданные плодов в его саду. И не удивительно, что после смерти Ломиковского, не оставившего наследников, хозяйство в Трудолюбе быстро захирело, а местность потеряла весь свой зеленый наряд. Очень скоро все тут стало как и у "соседов своих". Правда, Николай Иванович Гриб, с которым я ездил на хутор Дьячков, говорил, что последние лесополосы, посаженные Ломиковским, дорубили в период коллективизации. Мне же думается, их будто бы свели гораздо раньше, уже к 80-м годам прошлого века. Именно в те годы Докучаев с учениками своими занимался почвенными исследованиями Полтавской губернии, много раз бывал и в Миргородском уезде, однако ни в отчетах почвенной экспедиции, ни в его статьях нет ни малейшего упоминания о лесополосах вокруг 188 Трудолюба. Будь они там, ни он сам, ни ученики его не прошли бы мимо них, потому что идея облесения степей уже высказывалась Докучаевым и он искал практического подтверждения своим взглядам. Вряд ли попадалась ему и книга Ломиковского "Разведение леса в сельце Трудолюбе". Во всяком случае, в трудах его нет на нее ни одной ссылки, хотя именно она очень пригодилась бы ему в доказательствах пользы степного лесоразведения. Должно быть, книга эта и в те годы была уже библиографической редкостью, выпавшей из круга чтения даже специалистов. Не книга выпала – выпала целая страница истории. Пионера полезащитного лесоразведения в России Ломиковского обвиняли в чертовщине, а литературного героя Костанжогло – в идейном грехе его творца, хотя творец не только не приукрасил, но многое отнял от Ломиковского. Ни богатейшей библиотеки нет у Костанжогло, а у Ломиковского она была (после его смерти она перешла к племяннику Владимиру Николаевичу Горчакову в Москву). Нет ни сада, ни "аглицких парков и газонов со всякими затеями", тогда как в Трудолюбе был и сад и парк, а в парке были фонтаны и по аллеям стояли скульптуры на мифологические сюжеты. Вместо этих красот, чуждых российской деревне, Гоголь разместил на бугре приличествующие ей крепкие избы, амбары, исполинские скирды и клади. Разместил, чтобы не смущать российского читателя, лишь то, что имело практическую пользу. Однако все равно не избежал суровых упреков. И поныне твердят, что "образ Костанжогло явился крупной неудачей Гоголя", что действительность не давала ему такого материала, поэтому, мол, тут-то и начиналось насилие над талантом, которое не могло закончиться ничем жим, кроме поражения. Политическая идея критиков взяла верх над практической идеей художника. В пылу споров оказалась забытой и так называемая "древопольная" система земледелия, великую пользу которой первым разглядел Гоголь, первым живописал опыт, по которому, надеялся, затем пойдет вся Россия. Не сбылась надежда. Не пришелся к российскому двору ни Константин 189 Федорович Костанжогло, ни прототип его Василий Яковлевич Ломиковский, который ко времени выхода второго тома "Мертвых душ" уже покоился на высоком бугре за околицей Трудолюба. Через сто лет фашисты обрушат на этот погост сотни бомб и уничтожат его. 4 Собеневский передал участок новому заведующему Георгию Федоровичу Морозову. Ему, как к Собеневскому, было 33 года, 6 лет назад окончил тот же, что и Собеневский тремя годами раньше, Петербургский лесной институт. Работал помощником лесничего в Хреновском лесничестве. Вскоре на заведование сельскохозяйственными опытами приехал вы- пускник Ново-Александрийского института Виктор Таланов. Он не учился у Докучаева, но его учителями были Сибирцев, Глинка, Бараков к Дейч. От них он, конечно же, немало слышал о Каменной степи. Однако Таланову не повезло – экспедиция доживала последние дни своей славной деятельности. В августе 1899 гола она была закрыта, а участок преобразован в Каменно-Степное опытное лесничество, перед которым отныне ставились чисто лесоводственные задачи. Сельскохозяйственные опыты, не начавшись, прекратились. Агроном Таланов уехал из Каменной степи в Ставрополь и организовал там Ставропольское опытное поле. Потом судьба занесет его в Сибирь, где он создаст новый сорт пшеницы Цезиум 111, который по праву будет причислен к числу крупнейших достижений отечественной селекции. Профессор Таланов, соратник Николая Ивановича Вавилова, выпустит несколько трудов по селекции и генетике, будет заведовать в ВИРе отделом сортоиспытания. Морозов проработал в Каменной степи неполных три года – в 1901 году Петербургский лесной институт доверил ему профессорскую кафедру. Однако и за это короткое время он успел создать себе живой памятник, а нам подарил 190 истинное творение ума и рук человеческих. Опираясь на опыт "предместника своего", изучив, какие древесные породы и в каком соседстве лучше растут в степных посадках, Морозов каждую полосу старался делать "возможно более демонстративной". Он создал 24 полосы площадью 44 гектара. Почти всем им суждено стать лучшими в Каменной степи. Ах, как мало мы знаем об этом человеке, основоположнике учения о лесе. И почти ничего не знаем о его жизни в Каменной степи – нет никаких свидетельств. Нет, или не нашел? Только я так подумал, раздался голос моего давнего товарища: – "Я тут перебираю старые журналы на выброс. В одном из них какая-то О.Морозова о Каменной степи рассказывает. Тебе не надо?.." То были мемуары Ольги Морозовой, дочери Георгия Федоровича. Мемуары человека, у которого "в начале жизни была степь и высокое небо над нею". Так, с этих слов, и начала она свои воспоминания. Не привести их здесь, пусть отрывочно, я не в силах. "Мы с братом Костиком знали только степных зверей и птиц и свою маленькую семью. Рассказы о человеческом мире были для нас достоверны почти в той же степени, как сказки про всякие чудеса". "Домик лесничего стоял посреди голой степи, и вокруг него в питомниках, как в детских яслях, выращивались маленькие деревца. По том их высаживали рядами; это были опытные посадки. У деревьев было трудное детство, они закалялись в борьбе с суховеем и росли, чтобы стать стеной против его смертоносных набегов". "Я хорошо по набеги суховея. Дом наш трещал под ударами ветра. На крыше гремели железные листы, в щели ставен то и дело врывался огненный ветер. Мы боялись суховея. Для нас это был серый и лохматый старик. Подобрав полы халата, он гонял по степи перекати-поле, крутил со свистом пыльные смерчи до самого неба и заглядывал в звериные норки. Но зверьки уходили 191 в глубокое подполье. Степь казалась вымершей. Из нас всех одна только Лиславна, строптивая и трезвая девушка, помогавшая по хозяйству, не боялась суховея. Она по три раза в день выбегала к колодцу за водой, и мы смотрели в щелку ставен, как она уточкой бежала домой, расплескивая из ведра мутную жижу, а ветер трепал и задирал ее юбки. Прибежав, она бранилась и отплевывалась от набившегося в рот песка..." "После трех дней бесчинства суховей обычно выматывался, и тогда, взгромоздившись на пыльное облако, он уплывал в сторону заходящего солнца. И вот тут-то начинался праздник, наступал просветленный вечер. Степь оживала; в ней появлялась, шурша и попискивая, мелкая живность: толстые сурки выходили на сторожевые посты, звонкие стрижи прочерчивали остывающее небо. По другую сторону от затухающего заката торжественно, как это бывает только в степи, всплывала огромная малиновая луна". "Мы бегали "на посадки", где с раннего утра в белом пиджаке и с липом кирпичного цвета командовал наш отец целой ротой хуторских баб и практикантов, появлявшихся неизвестно откуда и так же исчезавших к концу дня... Отец объезжал свое хозяйство на тарантасе, возвращался под вечер усталый, и нас после обеда выгоняли в степь, чтобы мы не мешали ему отдохнуть". "Отец бил невелик ростом, очень подвижный и легкий в кости человек. Он говорил быстро, чуть картавя и крутил бородку. Рука у него была тонкая, нервная и маленькая... Его молодое, большелобое лицо сияло воодушевлением, голубые, очень яркие глаза чуть косили в разные стороны". А вот о матери... "Моя мать была тихим человеком. Она любила природу и живопись и сторонилась людей. Она инстинктивно боялась человеческой толпы и терялась в ней". "Помню их обеих (маму и приехавшую из Петербурга "эсдечку" тетю Шуру – И.Ф.) на крылечке нашего дома... Мама задумчиво смотрит вдаль, сидя на перильцах, как птица, готовая вспорхнуть. Зной загнал нас всех под навес 192 крыши. Степь дымится по краям, как раскаленная сковорода, и в струящемся по горизонту воздухе колеблются силуэты... Мама молчит... Она ничего не знает о своей диковинной прелести. Она похожа на романтического юношу с темными кудрями на плечах и постоянно задумчивым выражением лица (тетя Шура считала ее идеалом возвышенной красоты" – И.Ф.). Встрепенувшись, мама показывает на горизонт. – Вот там, – говорит она, – идет караван. Смотрите, какое появилось озеро! И на берегах пышные рощи..." "Вечерами мама переписывала статьи отца, рисовала перышком деревья и чертила диаграммы. Она сидела за письменным столом, накинув на печи клетчатый плед. Наконец-то наступал для нас час свободы. Она принималась за свой дневник. Это были записки очень одинокого и робкого человека, никому никогда не поверявшего своих сомнений, слабостей и неудовлетворенности жизнью". Однажды летом Георгий Федорович Морозов уехал в Петербург и надолго там задержался – вернулся уже зимой. "В Петербурге, – пишет дочь, – доклад отца вызвал большой интерес, его лекция на конкурсе прошла с успехом, он отвоевал кафедру в Лесном институте, и мы должны теперь переехать в Петербург". Там, в Петербурге, "со всей своей горячностью отец бросился в события, разговоры, встречи, он спорил, сражался и побежал. И больше всего радовала его поддержка Докучаева во всех его планах. Тревожил один нерешенный вопрос: кто заменит его и кто продолжит начатую работу в степи. Нельзя было дать погибнуть этому делу". Значит, в Петербурге Морозов встречался с Докучаевым, а может быть, и заходил к нему – ведь Морозов останавливался у отца своего, таможенного чиновника, жившего где-то здесь же, на Васильевском острове. Нет сомнения, больной Василий Васильевич встретил его как продолжа- 193 теля своего дела, начатого им в Каменной степи. Расспрашивал, конечно, и, пусть на короткое время, был счастлив: посаженные в степи лесные полосы растут, набирают силу, уже шумят на ветру листвой, да и новых прибавилось немало – по его, Докучаева, плану. Как же хотелось ему побывать там еще хотя бы раз! Однако мог лишь одно сделать – поддержать этого подвижного молодого человека с голубыми глазами, сиявшими воодушевлением, помочь ему одержать победу на конкурсе в Лесном институте – помогать даровитым людям не грех, считал Докучаев, а долг всякого человека, делающего блага Родине. Ах, Петербург, что и ты так неласково встретил и этого человека... "Отец заболел неизлечимо в самом начале петербургской жизни, – вспоминала дочь Ольга. – Болезнь пришла неожиданно и придавила его тяжелым камнем". "Отец жил словно приговоренный к медленной смерти. Он работал без отдыха, преодолевая все возрастающие физические страдания". Георгий Федорович Морозов, мучимый страданиями, выполнял грандиозную работу, посильную лишь гигантам, – закладывал теоретическую основу новой науки о лесе, которую сам же и зарождал. "Отец не писал, но "рассказывал" свою книгу. Он ходил по кабинету и говорил, а мама с удивительной быстротой писала под этот рассказ, боясь прервать его или замедлить импровизацию..." А по ночам тихо плакал от горя... Так рождался основной его труд "Учение о лесе", ставший "классическим руководством для многих поколений лесоводов не только в одной России, но и во многих странах". Однако создателю коллеги не рукоплескали. Ах, этот мир завистников, дружно объединяющихся против всякого таланта, – в яростной ненависти своей готовы лишить научного звания, ошельмовать, внушить обществу дурное об этом человеке, который конечно же не ангел. Как же противились они признать в нем выдающегося русского лесовода и географа, основоположника 194 науки о лесе, каким считали и будут считать его во всем мире. "Отца ненавидели за новаторство и боялись. В стенах Лесного института началась травля, выматывающая его силы. После бурных заседаний он приходил домой без сил, смотреть на него бывало больно, и подойти к нему мы не решались. Наша мама понимала его, но не умела найти слов для выражения своего сочувствия". Ах, как они, бывало, любила природу и живопись и сторонилась людей. Но теперь-то куда же от них денешься – и на ее лице "застыло выражение скорби". "Но несмотря на то, что имя отца и его учение как при жизни, так и после смерти выходило с победой из всех испытаний клеветы и замалчивания, история его жизни, если рассказать ее целиком, одна из самых печальных историй на свете". Однажды, вернувшись домой без сил, он процитировал жене: "Только тот много переживает, у кого жизнь содержательная, кто руководится идеалом, кто чутко связывает свою жизнь с великой общественной жизнью"... Нет, не завистникам отвечал так Морозов, он свою веру укреплял этими словами, а может, жену и детей убедить пытался: ненавистники сгинут бесследно, ничего не создав, а его труд послужит на пользу человечеству. Однако не будем забегать вперед. В 1901 году Морозов был счастлив – он "отвоевал кафедру" в столичном институте, в котором и сам когда-то учился. Вдвойне был счастлив тем, что его поддержал Докучаев, которого он боготворил и считал своим учителем, хотя и не учился у него. Отвоевал и вернулся в Каменную степь, где его заждались – уехал летом, уже зима в разгаре, а его все нет. "И друг мы заметили черную точку в снежной белизне, – вспоминает дочь. – Потом послышался звон колокольчика... И вот он приехал наконец, наш папа". Приехал за семьей. Каменную степь он покинул ранней весной 1902 года. 195 А в Петербурге в это время медленно и мучительно угасал Докучаев. Надо бы лечь в больницу, уже собрался, но для того, чтобы взяли в нее, нужны деньги, а их у него не было. В феврале 1901 года Антонина Ивановна Воробьева шлет Отоцкому записку с просьбой о помощи: "Дядя собирается завтра ехать в больницу на Удельную станцию, но для того, чтобы туда поступить, надо подать директору лечебницы заявление, подписанное двумя лицами, которые поручились бы за Василия Васильевича в том, что плата за него будет вноситься аккуратно". Отоцкий пишет поручительство и платит за лечение. Да, Докучаев мог поправить свое нищенское положение, продав бесценное сокровище, которым он владел – почвенную коллекцию и библиотеку. Однако к мысли этой, мелькнувшей, было, в письме Измаильскому, он больше никогда не возвращался. Сегодня мы знаем, не всех выставках, как Всероссийских, так и Всемирных, докучаевская почвенная коллекция неизменно получала высшие награды. И всякий раз подвергалась "некоторому расхищению, в коем, как оказывалось позднее, принимали участие преимущественно учреждения (школы, музеи и т.п.)". Я уже упоминал о Всемирной Колумбовой выставке в Чикаго, посвященной 400-летию открытия Америки. Она состоялась летом 1893 года. Россия отправила на нее почвенную коллекцию, собранную Докучаевым и его учениками. Скажите, экая важность – почвенная коллекция, когда рядом демонстрировалась новейшая заводская продукция, выставлялись уникальные изделия русских мастеров. Не торопитесь произносить эти слова. Послушайте, что писал сам Докучаев после Всемирной выставки в Париже, последовавшей за Колумбовой: "Наши коллекции занимали выдающееся место среди экспонатов русского отдела и привлекали наибольшее внимание специалистов''. "Кто бы думал, – выражали свое удивление и восхищение на страницах 196 американских газет посетители Колумбовой выставки, – что в конце девятнадцатого века мог быть открыт новый континент в наших знаниях о природе!" После этих выставок в Чикаго, а затем в Париже, с институтских кафедр Франции, Бельгии и Соединенных Штатов зазвучали русские слова "чернозем", "подзол", "солонцы". Слова, которые Докучаев взял у народа и ввел в науку. И сама новая наука о почве, вопреки прочно сложившейся традиции, получила не греко-римское имя, а русское – почвоведение, в основе которого вовеки будет лежать докучаевский "Русский чернозем". Русскими почвенными исследованиями начинают интересоваться во всем мире, перепечатывают все наиболее существенные труды наших почвоведов. Вот свидетельство самого Докучаева: "В 1900-1901 гг. перепечатано 9 русских статей, не считая многочисленных рефератов". И тут же с гордостью и горечью: "К русским геологам и почвоведам постоянно обращаются их западные собратья с теми или иными вопросами, за теми или иными указаниями, проявляя чрезвычайный интерес к нашим работам". Почему же с горечью? Сейчас скажу. Но сначала несколько фактов. Во время Парижской выставки, состоявшейся в 1900 году, Национальный музей, Институт агрономии и Сорбонна обратились к русским с просьбой дать им "хотя бы небольшую часть русской почвенной коллекции". Администрация русского отдела выставки согласилась отдать небольшую часть коллекции. Кому? Претенденты бросили жребий и по жребию она досталась Сорбонне. Мы знаем, в Париже и сегодня, хотя минуло почти столетие, хранится образец воронежского чернозема – из той коллекции. На западе при кафедрах почвоведения начали создаваться почвенные музеи. За содействием опять же обращались к русским: просили выслать образцы почв, карты, издания. "Таким образом, – писал с горечью Докучаев в сентябре 1901 года, – русские специалисты приглашались к участию в создании чужих музеев в то самое время, когда их собственные коллекции не имели даже приюта, ютясь по 197 затаенным углам университета, заполняя сараи, сгнивая и распыляясь". По "затаенным углам" были сгружены ценности, даже незначительная часть которых, экспонировавшаяся на выставках, превосходила "по богатству и систематичности" коллекции известных почвенных музеев Берлина, Буда- пешта, Вашингтона. "Нигде нет ничего подобного", – так оценивалась иностранными учеными лишь та небольшая часть русской коллекции, которую они видели на выставках и которую удавалось (никто этого не знал) привести в выставочный порядок и упаковать, "благодаря главным образом П.В.Отоцкому". Ему, Отоцкому, самому младшему ученику своему и сподвижнину, консерватору Петербургского университета, основателю и первому редактору журнала "Почвоведение", Докучаев и поручил заботу о коллекции, хранившейся частично в Минералогическом кабинете, а главным образом, в одном из университетских сараев. Покидая по болезни службу в университете, Докучаев обратился с письмом к ректору, в котором писал: "Мне принадлежит коллекция ПОЧВ в количестве примерно 1000 экземпляров, из разных уголков России, а частью также с Дальнего Востока и из тропических стран, коллекция в значительной степени уже совершенно обработанная и собранная, в огромном большинстве случаев, по строго определенному плану, мною лично или моими учениками, в течение последних 20 лет. Насколько мне известно, это – единственное, в своем роде, столь полное собрание почв, и я немного ошибусь, если оценю его примерно в 3-5 тыс. рублей. Кроме того, в моем распоряжении находится около 150 больших фотографий, характерных для разных почвенных областей России, 12 больших портретов главных деятелей по русскому почвоведению и несколько десятков почвенных разрезов, профилей, карт, рисунков и довольно значительная почвенная библиотека, оценить которую я затрудняюсь". Все это богатство Докучаев, уже больной и вконец обнищавший (как же ему нужны были деньги именно сейчас!), просил ректора принять безвозмезд- 198 но и создать в университете почвенный музей, на меблировку которого требовалось всего "сот 7-8". При этом еще и брал на себя обязательство "сам устроить новый почвенный музей". Через четыре года, когда уже и за лечение заплатить было нечем, Докучаев снова ходатайствовал о том же. На этот раз он обращался в физикоматематический факультет университета. Писал: трудами множества русских почвоведов "скопились научные сокровища, имеющие огромную, неизмеримую рублями, ценность". И говорил уже о нескольких тысячах почвенных образцов, собранных со всех концов России и из чужих стран (из Китая, Японии, Индии, Малой Азии, из обеих Америк и др.)", о единственной по полноте коллекции почвенных карт, "из коих едва ли не половина – рукописные уники", о дорогостоящей коллекции "всевозможных приборов как для полевых, так и лабораторных исследований". Больной, умирающий в нищете Докучаев просил, умолял: возьмите эти бесценные сокровища бесплатно и создайте музей – не годится России, в которой рождалось генетическое почвоведение, отставать теперь от чужих стран. Он знал, конечно, что за четыре прошедших года положение несколько улучшилось – "благодаря сочувствию ректора и некоторых членов факультета, приют коллекциям дан в здании бывшего физического кабинета, в коем они теперь и сгружены". Из сараев-то убрали, но весь этот сгруженный в кабинете материал по-прежнему лежал мертвым грузом. Нужен музей, и тогда сокровища эти сыграют огромную роль в дальнейшем развитии почвоведения как науки, в изучении "того слоя земной коры, который является источником и ареной всей органической жизни нашей планеты". Люди, проявите хоть немного интереса и при нынешних "благоприятных обстоятельствах (помещение отведено; часть коллекций оборудована; есть люди, могущие посвятить свой труд устройству музея и пр.) учреждение музея едва ли встретит серьезные затруднения". Однако в университете остались глухи к его жертвенным призывам. 199 И снова голос разума подало Вольное экономическое общество. Весной 1902 года при нем был учрежден Центральный почвенный музей. Весть эта ободрила и успокоила угасающего Докучаева: вот теперь будущее науки, которой посвятил лучшие годы жизни, обеспечено окончательно. Как ее родоначальник, он хорошо понимал, что для развития любой естественной науки важно не только выделение ее в качестве самостоятельной научной дисциплины, но важно и признание этого факта в общем сознании. Именно оно лает необходимые средства для создания незаменимых орудий научного прогресса, каковыми являются лаборатории и музеи. Учреждения эти служит центрами, обеспечивающими непрерывное развитие науки, помогающими закреплению научных традиций и школ. Так было в истории каждой науки: создание лабораторий или специальных музеев, основание особых кафедр в университетах или высших школах явилось важным историческим моментом, надолго определявшим ее дальнейшее развитие. Его усилиями, его настойчивой и энергичной работой была учреждена первая кафедра почвоведения в Ново-Александрийском институте сельского хозяйства. Первая в мире, и не где-нибудь, а у нас в России! А вот теперь создан и первый специальный почвенный музей, в основу которого доложены собранные им коллекции... Устройством музея занялся все тот же Отоцкий, к которому, как извещалось в первом же публичном обращении "к экскурсантам, путешественникам, местным исследователям, к хозяевам, живущим под "властью земли" и другим лицам, можно было обращаться "в музей или на квартиру (Пушкинская, 13)". С той поры музей несколько раз менял свое местопребывание, пока не обосновался в одном из старинных и прекрасных зданий на стрелке Васильевского острова – рядом с университетом. Каждый, кто приезжал в Петербург и бывал на Дворцовом мосту, музей этот видел, но не каждый заходил – экскурсанты обычно минуют его, направляясь в Музей военно-морского флота (они по соседству). Да это и понятно, 200 еще учредители писали в своем извещении: "Почвенная коллекция, конечно, не подкупит глаз ни прелестью цветов, ни блеском красок... Хотя, продолжу мысль учредителей, "кто станет сомневаться в том, что она доставит больше удовольствия и пользы, чем коллекция драгоценных камней". Залы музея не пустуют, идут и идут люди, отдавая дань уважения Докучаеву, его сподвижникам и последователям. И познавая. Да, именно здесь человек, много исходивший по земле и даже пахавший ее, может быть впервые задумывается. Может быть впервые он видит именно почву, а не инертную массу, с которой мы и по сей день обращаемся бездумно и жестоко. Мы и по сей день не осознали, что почва вовсе не инертная масса, а самая населенная сфера нашей зеленой планеты. Да и зеленая она только потому, что есть на ней почва, которая и вскармливает все живое – человека, животных, растения. И не только вскармливает, хотя и за одно это заслуживает святого к ней отношения. Она еще и энергетический аккумулятор суши, и универсальный экран, удерживающий от стока в мировой океан важнейшие элементы питания растений. В ней утилизируются и разрушаются вредные природные соединения и хозяйственные отходы. Лиши планету почвы, убей в почве жизнь неумелой обработкой, минеральными удобрениями и ядохимикатами – и Земля превратится в безжизненную планету. Не убивай же, человек. А ты, экскурсант, не торопись туда, где выставлены драгоценные камни, зайди и сюда, где узнаешь о богатстве, с которым не сравнится ничто. Ты с гордостью узнаешь о том, что наука о почве – русская наука, что русские метолы исследования почв, разработанные Докучаевым, ныне применяются почти во всех странах мира, в том числе и в США. Но сначала ученые этих стран должны были признать, что почвы вовсе не рыхлые продукты выветривания, что геологическое направление в почвоведении, которое они исповедывали, ошибочно. Ученые всего мира должны были признать, что все методики, которыми владела наука Западной Европы, совершенно неправильны. Признание это происходило не без борьбы, не без сопротивления, не без умал- 201 чивания приоритета. Но и в Америке черноземы стали называться черноземами, а подзолы – подзолами. И американские ученые в конце-концов были вынуждены признаться публично: "Влияние новых русских идей было огромно. Уже имелось большое количество данных относительно почв в Западной Европе и в США, но эти данные были разрознены и взаимно не увязаны. И только на основе русских идей после первой мировой войны быстрыми темпами пошло развитие почвоведения во всех странах". Заявление это сделал руководитель почвенных исследований департамента земледелия США Ч.Келлогг в 1938 голу, через полвека после создания русским гением нового учения о почвах. Ты узнаешь и того, кто "без колебаний применил эти чисто русские названия к типам американских почв", кто применил теорию и методы русского почвоведения в США. Это были предшественник Келлогга на посту руководителя почвенных исследований, департамента земледелия К.Марбут. Это он, по мнению одного из американских ученых, "принес в жертву национальную гордость в целях согласования этого вопроса в международном масштабе". О нем, уже после его смерти, писали в Америке вот так возвышенно: "Немногим дано привести в порядок такой хаос, какой представляла собой в США наука о почвах, когда Марбут приступил к их изучению. Сделанное им для почвоведения граничит с тем, что Линней сделал для биологии, Коперник – для астрономии и Декарт – для философии". Но, скажешь, так говорят только о первых, а не о последователях. Да, конечно. И куда честнее было бы переадресовать эти слова в Россию Докучаеву. Только его можно сравнить с Линнеем, Коперником и Декартом. Помешала этому, надо думать, пожертвованная "национальная гордость" – ведь она и поныне продолжает бунтовать против "чисто русских названий" в Америке. Порой бунт этот возводится в ранг политики, однако избегать упоминаний какихто слов в печати можно, но куда труднее вытравить их из языка, из народного сознания, из истории науки. Ты узнаешь, что именно Докучаев установил закономерность распреде- 202 ления почв по земной поверхности планеты. Основываясь только на этих закономерностях, он, уже больной, составил первую почвенную карту мира, в которой дал верный научный прогноз распределения почв в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. Последующие исследования подтвердили верность его прогноза: там, где он указал чернозем, был чернозем, а где суглинки или подзолы, то таковыми и были там почвы... 5 Я вышел из музея и тихо, в который раз, пошел по набережной мимо университета, мимо Меньшикова дворца, свернул на 1-ю линию Васильевского острова, дошел до дома 18. В нем на втором этаже жил Василий Васильевич Докучаев. Не ищите мемориальной доски на доме – ее нет. Поднялся по широкой каменной лестнице на второй этаж. Квартира налево – его квартира. Здесь, в этой квартире, часто собирались все его ученики и сотрудники, ученые и общественные деятели, в их числе были и те, кто сочувствовал Докучаеву и поддерживал в его начинаниях, и те, кого он хотел убедить и привлечь на свою сторону. Чуть ни каждый вечер сюда сходилось до двух десятков человек. За длинным столом в одной из комнат вместе сидели и маститые ученые, и молодые, только еще начинающие мечтать о научном поприще. За этим длинным столом раздавались и умные и остроумные, и деловые, и шутливые, и веселые и подчас скучные речи, сменявшиеся то тостами, то непринужденными застольными беседами. Обстановка эта сближала всех, каждого делала добрее и проще. Здесь часто бывали Бекетов и Иностранцев, Воейков и Советов, Фортунатов и Стебут. Сюда в дни пребывания в Петербурге приходил по вечерам Энгельгардт. Почвоведов тогда еще не существовало, и единственными дамами 203 на этих собраниях были Анна Егоровна Докучаева и Антонина Ивановна Воробьева, племянница Василия Васильевича, всегда жившая у Докучаевых – детей у них не было. Главенствовал над всем этим собранием сам хозяин, высокий, с мощной, несколько грузноватой фигурой, с красивым, хотя и строгим лицом, с красивой окладистой бородой и красивыми синими глазами. С первого взгляда он всем казался не только строгим, но и холодным, грубоватым. Однако друзья знали, что за этой наружностью скрывалась доброжелательная, даже заботливая душа. С активным вниманием и заботливостью относился он к тем из сотрудников и учеников, которых ценил как хороших работников – с плохими был суров, не знался с ними и дружбы не заводил – бесполезные. "Людей надо судить по тому, сколько и как они в жизни сделали", – часто говорил Докучаев. И всячески помогал тем, кого ценил. От благодарностей отмахивался: "Вы слишком много меня благодарите: людей с волей, энергией и знанием цела совсем не так много, как кажется с первого раза, а людей, готовых бескорыстно служить России и видящих немного дальше своего носа, еще меньше..." Отмаливался, возвышая. Как хотелось мне войти в эту квартиру – именно тут формировалась та школа русских почвоведов, которая прославила Россию. Отсюда Докучаев уезжал в степи. Отсюда он съехал в 1897 году сразу после смерти жены – друга его и соратника. Правда, некоторые биографы утверждают, что жил он в этой квартире до 1900 года. Сомневаться в этом у меня не было причин. Но вот, перечитывая письмо Измаильского Докучаеву, я обратил внимание на такую Фразу: "На Вашу телеграмму я немедленно отвечал по старому Вашему адресу, но получил уведомление, что Вы из этого лома выехали..." Письмо писано в 1897 году "сентября 29 дня". 204 Оно-то и свидетельствует о том, что Докучаев переехал на другую квартиру вскоре после смерти жены Анны Егоровны. А она, как мы уже знаем, умерла в феврале 1897 гола. В эти трагичные дни Докучаев находился в лечебнице, был в бредовом состоянии и не знал о смерти любимой Анны. Из лечебницы он вышел только в августе. "К началу осени, – пишут в своей книге биографы Крупенниковы, – Докучаев снова был дома, за тем же большим столом, в кругу друзей и учеников". Почти эта же фраза есть и в воспоминаниях П.В.Отоцкого: "В это время мы уже находим В.В., как прежде, за знакомым большим столом, среди старых учеников, все еще слабого, мнительного, неуверенного в себе, но уже интересующегося некоторыми вопросами науки и жизни". Да, за тем же большим столом, в кругу друзей, но про дом ученик ничего не говорит. А на телеграмму, как мы знаем, пришло уведомление – выехал. Выехал из дома, в котором он прожил с Анной Егоровной почти 20 лет, но вернуться в который не решился. Она ушла из жизни без него, он даже не хоронил ее – и это страшно мучило его. И Докучаев, выйдя из больницы, сразу же переехал на другую квартиру – в дом 25 по улице Церковной (ныне Блохина). Сколько раз я стоял на площадке перед высокой дверью квартиры Докучаева на Васильевском острове, но так и не решился нажать на кнопку. За этой дверью когда-то шли оживленные беседы и споры: говорили о деле, мечтали о будущем, решали множество нерешенных человечеством задач. Здесь, в этой квартире, рождалась новая наука, формировалась школа русских почвоведов, которая пользовалась известностью во всем мире – ученики ее навеки остались в числе основателей новых наук, новых кафедр, новых учебников и журналов. За дверью этой теперь было четыре квартиры, в них жили четыре незнакомых мне семьи. Может, когда-нибудь решусь нажать одну какую-нибудь кнопку. И может, когда-нибудь (ну, хотя бы к 100-летию со дня смерти Докучаева) догадаемся создать здесь музей-квартиру отца той естественно- 205 исторической науки, от которой пошла целая поросль новых наук, ничего общего с почвоведением, каются нам сегодня, вроде бы не имеющих. Таковы геоботаника, геохимия, геоморфология. Многие уже в начале века понимали, что под широкой осенью современного русского почвознания могут найти гостеприимный приют, запастись верой в науку и силами для работы не только агрономы, лесоводы и ботаники, но представители чуть ли не всех естественно-научных дисциплин, изучавших з е м н о е. Рука об руку с почвоведами работают геологи, гидрологи, минералоги, агрохимики, бактериологи, климатологи. Именно в почве, как в зеркале, увидели они свои проблемы. Именно почва, по признанию чистых географов, и есть самый чуткий показатель малейших модификаций рельефа, степени увлажнения и прогревания. Она в первую очередь определяет состав и границы растительного покрова местности, является одной из определяющих причин направления и размаха деятельности человека. Без знания почвы естественники не могут получить полное представление о природе. От них будет закрыто не только целое царство природы, но и многообразные связи мешу этим четвертым царством и известными им царствами растений и животных. Здесь, в этой квартире, говоря словами Отоцкого, проходило "действие большой трагедии, именуемой жизнью Докучаева; трагедии, которая построена по всем правилам классической пиитики: с верхней кульминацией, приходящейся приблизительно на 1894 год". Да, именно 1894 год был для Докучаева рубежным. До этого – подъем могучего духа, способного подчинять своей воле людей и события. После этого – начало "нижней, уже трагической кульминации", которая завершится уже в другом месте "в девятисотые годы и даже с обычным в древности искупительным или избавительным концом''. Я тихо шел обратной дорогой к Неве, мимо бывшего кадетского корпуса. Этой дорогой каждое утро шагал Докучаев: торопился в университет, в Вольное экономическое общество, в департамент, на публичные лекции. Нес людям 206 пользу. Отсюда он уехал, когда не стало лучшего друга – жены, которой он был обязан всем, что было хорошего в его жизни. Как же он любил Анну, если вскоре после ее смерти признался в письме: "Жить на свете без БЛИЗКИХ людей, а лишь в мире идей и, хотя бы, общечеловеческих интересов, для меня чрезвычайно трудно. Для этого требуется слишком много чистоты и самоотвержения…" Это говорил человек, чище и самоотверженнее которого не знал, судя по воспоминаниям, ни один его ученик и сподвижник. Здесь, в квартире на Васильевском острове, он расстался с Анной Егоровной, памяти которой посвятил потом одну из последних своих статей о месте и роли почвоведения в науке и жизни. И не только посвятил, но и написал в предисловии всем нам, как близким людям своим: "Не говоря уке о том, что покойная А.Е.Докучаева (рожденная Синклер) и советом, и делом, неизменно в течение почти 20 лет, нередко с забвением личных интересов, всегда умело и любовно, помогала автору этой статьи во всей его, достаточно разнообразной и далеко не всегда розовой, почвенной деятельности, – ее, несомненно высокоблаготворное, то ободряющее, то смягчающее и всегда ЛЮБЯЩЕЕ (как выражался мой покойный друг А.Н.Энгельгардт) влияние НА НАЧИНАЮЩИХ ПОЧВОВЕДОВ, ныне с честью занимающих почетные посты профессоров многих университетов и других высше-учебных заведений в России, не подлежит никакому сомнению. Если ныне выработалась и действительно существует самостоятельная русская ШКОЛА ПОЧВОВЕДОВ, то этим мы обязаны, в весьма и весьма значительной доле, именно покойной Анне Егоровне. Вот почему нам кажется, что она более, чем кто-либо, заслуживает наименования ПЕРВОЙ русской ЖЕНЩИНЫПОЧВОВЕДА..." Спасибо ей, что она не уставала душой, хоть и жила тут "как на какойнибудь крупной телефонной станции". На набережной Невы я остановился. Вон, слева от 1-ой линии Васильевского острова, университет. Прямо за Невой Исаакиевский собор, а рядом с 207 ним в доме 44 на Морской было министерство земледелия – в нем сейчас знаменитый институт растениеводства. Не знал я лишь одного – где находилось Вольное экономическое общество. Надо бы разыскать. Вольное экономическое общество... На скрижалях истории отечества и мировой науки ему бы быть записанным золотыми буквами. Державная учредительница Общества Екатерина II не стала утруждать ни себя, ни других подробной разработкой, как теперь говорят, тематики исследований. Она лишь сказала: "Не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо основанная торговля, где земледелие в уничтожении, или нерачительно производится". Вот та грандиозная программа, которая оставалась неизменной во все времена, над решением которой полтора века трудились "пчелы, в улей мел приносящие". Работать ученый мог где угодно, какой угодно наукой заниматься, но если пользу земледелию хотел и мог принести – он шел сюда, в Вольное экономическое общество, чтобы поделиться идеей и обсудить ее. Здесь собирался цвет отечественной науки. И какого ученого ни назови, он был членом Общества, хотя принимали в него далеко не всякого. При этом принимаемый в Общество, должен был внести немалый вступительный взнос – до 100 рублей, и потом уплачивать ежегодно по 10 рублей. Сюда сходились те, для кого общая польза была превыше всего, кто не словами, а делом доказал это. А таких было немало – Общество насчитывало до тысячи членов. Прием в него означал признание заслуг перед наукой и Отечеством, а для принимаемого это было событием, вехой в биографии. Общество издавало "Труды", печатались в которых лишь заслуживающие внимания работы. Стремилась попасть в Общество и думающая молодежь « приходили на заседания, диспуты, лекции, и исподволь накапливали материал для собственного вступления с докладом или сообщением. Не мог не прийти сюда и молодой Докучаев, делавший первые шаги в науке. Здесь он получил первые задания, здесь и сформировался как ученый. 208 Больше того, здесь, в Вольном экономическом обществе, а не в университете, как принято считать, и родилась новая наука почвоведение. Понимаю, утверждение спорное. Однако именно к такому утверждению и можно прийти, внимательно читая и перечитывая труды Докучаева: в них вы почти не встретите упоминания университета, где он работал, читал лекции, но почти на каждой странице найдете упоминание Общества. Конечно, и это еще не доказательство, лучше бы иметь подтверждение самого ученого, да где и его возьмешь, если ни в письмах, ни в статьях не сказал он об этом. И вот, счастливая находка. Молодой любознательный человек, студент Московского университета догадался спросить однажды Докучаева: "Как же вы занялись изучением чернозема?" Докучаев ответил: – А вот как. Как-то раз обратился ко мне покойный Ходнев, председатель первого отделения Вольного экономического общества1, и говорит: "Вот вы все занимаетесь поверхностными геологическими образованиями. Что бы вам стоило собрать литературу о черноземе и доказать, как обстоит в настоящее время вопрос об его познании. Сделали бы нам доклад!" Я собрал данные о черноземе, систематизировал их и сделал доклад, который понравился всем. А закончил его указанием на необходимость дальнейшего углубленного изучения чернозема. Меня поддержали. Через год-два я получил предложение отправиться в черноземную область для изучения ее почв. Несколько лет я провел в черноземной области. В результате большая работа – "Русский чернозем". Так ли было на самом деле?.. А давайте полистаем "Труды Вольного экономического общества", в которых фиксировались все выступления, сообщения, доклады ученых в стенах Общества. Беру том "Трудов", в котором освещается деятельность Общества за 1876 Ошибка студента. А.И.Ходнев был секретарем Вольного экономического общества. 1 1 209 год. В нем доклад Александра Васильевича Советова о результатах своей летней поездки по некоторым губерниям центральной черноземной полосы России. Напомню, профессор Советов, первый в России ученый-агроном, получивший степень доктора сельского хозяйстве, заведовал кафедрой в Петербургском университете и в течение почти 30 лет возглавлял Сельскохозяйственное (Первое) отделение Вольного экономического общества. Увлекая молодых ученых и своих учеников великими целями, он втягивал их в работу Общества. Он же предложил молодому Докучаеву, ученику своему, "ознакомить Отделение лессом, распространенным в среде черноземной полосы". Докучаев рассказал о лёссе, а потом посетовал на то, что русский чернозем изучен еще менее, чем лёсс. Это замечание вызвало живое обсуждение. Профессор Ходнев напомнил, что Общество интересовалось черноземом еще 30 лет тому назад, что была даже создана специальная экспедиция, "но эта экспедиция, по особым обстоятельствам, должна была прекратиться. Так вопрос остался нетронутым и по сих пор". На следующем заседании, состоявшемся 25 ноября 1876 года, разговор снова зашел "о черноземе и его практическом и научном значении". С докладом на эту тему выступил зоолог М.Н.Богданов, занимавшийся изучением данного вопроса. После обсуждения доклада и жаркого спора – многие были не согласны с докладчиком – решили избрать специальную "черноземную" комиссию для составления программы исследования чернозема. В нее вошли: докладчик М.Н.Богданов, активный участник обсуждения В.В.Докучаев, А.В.Советов и А.И.Ходнев (позднее комиссию пополнили А.А.Иностранцев, Л.И.Менделеев и А.М.Бутлеров). На следующий год, 10 февраля, Докучаев выступил с программным докладом "Итоги о русском черноземе". И доклад, и программа были одобрены общим собранием Общества, которое 27 февраля постановило приступить летом к исследованиям чернозема и утвердило предложение об ассигновании 210 двух тысяч рублей – почти весь годовой фонд Общества – на поездку Докучаева для изучения русского чернозема. "Так, Вольное экономическое общество, – писал в одной из статей сам Докучаев, – благодаря почину и энергии своего высокочтимого секретаря Ходнева и профессоров Богданова и Советова, организует в 1877-1878 гг. разносторонние исследования всей черноземной полосы России, исполненные автором этой статьи..." Лето 1877, а затем и 1878 года Докучаев колесит по южным степям – больше 10 тысяч километров прошел, проехал он по степным губерниям России, собрал первую коллекцию почв, побывал на Украине, в Бессарабии, в Крыму, на Северном Кавказе, в Поволжье и Заволжье. Останавливаясь на ночлег в глухих степных селениях, общаясь с крестьянами, он понял всю трудность и все величие задачи, выпавшей на его долю – изучить почву, понять законы, управляющие ее развитием, и создать науку, способную управлять этими законами. Зимой в агрономическом кабинете университета (под руководством Советова) и в лаборатории Лесного института (под руководством Костычева) выполнялись анализы многочисленных почвенных "образчиков", собранных Докучаевым. Докучаев в это время готовки почвенную карту черноземной полосы, которая с почвенными образцами будет экспонироваться на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве, состоявшейся в 1882 году. Казалось бы, удивить аграрную Россию коллекцией почв, или хотя бы обратить внимание на нее, было таким же безнадежным делом, как и поразить лаптями да онучами. Однако экспертная комиссия выставки, учитывая интерес посетителей к почвенной карте и к коллекции, присудила Вольному экономическому обществу и Докучаеву лично дипломы 1-го разряда, соответствующие золотым медалям. После закрытия выставки совет Общества постановил продемонстриро- 211 вать коллекцию и карту в большом зале Вольного экономического общества – тем самым признал большую научную ценность собранного Докучаевым материала. Однако главный труд Докучаева был еще впереди. Он совершит еще не одну поездку по степям России, а уже потом, в 1883 году, напишет Отчет Вольному экономическому обществу под названием "Русский чернозем". В нем Докучаев подводил итоги своей многолетней работы, ставшей смыслом его научной жизни, а в действительности закладывал прочный фундамент новой естественно-исторической науки – почвоведения. Труд этот уже при жизни принес ему мировую славу и поставил в один ряд с такими гениями науки, как Дарвин, Менделеев. И все же первую оценку своего труда Докучаев услышал здесь, в Вольном Экономическом обществе: 22 марта 1884 года на общем собрании ему была выражена в особом письме "торжественная и глубокая благодарность". Впоследствии, при переиздании "Русского чернозема" Докучаев посвятит его "Памяти А.И.Ходнева", имени которого, по каким-то странностям судьбы, в большой Советской Энциклопедии не оказалось. Вот так произошло становление ученого, так родилась наука о почве. Родилась здесь, в Вольном экономическом обществе, за несколько лет до ликвидации которого исполняющий должность секретаря Александр Николаевич Егунов завершит годичный отчет такими гордыми словами: "Общество имело право сказать: "Я честно поработало на благо дорогого отечества; я сделало, что могло, – очередь не за мною". Эти слова оно имело право сказать и на последнем своем заседании в 1915 году, когда царское правительство насильственно прекратило деятельность старейшего научного общества в России, богатого и нравственными и капитальными запасами. Оно, правительство, косилось на Общество давно. Еще в 1900 году закрыло комитет помощи голодающим, просуществовавший 9 лет, а вместе с ним 212 и старейший комитет грамотности. Потребовало пересмотреть устав Общества и запретило доступ посторонним лицам не заседания. Все эти правительственные меры привели к захирению Общества, а потом и к фактическому прекращению его деятельности. Оно действительно с честью поработало на благо отечества, во славу русской науки. Эти гордые слова можно было бы выбить на бронзе и водрузить на доме, где находилось Общество. А может, они и выбиты? Мне захотелось постоять у этого дома, побывать в залах, где собирался цвет России. Здесь бывали, если считать только вторую половину XIX и впервые годы XX веков, Д.И.Менделеев и А.М.Бутлеров, А.Н.Бекетов и П.П.Семенов-Тян-Шанский, А.В.Советов, М.М.Ковалевский и Л.Н.Толстой, А.Н.Энгельгардт, В.И.Вернадский и многие другие. Здесь, в библиотеке Вольного экономического общества брал книги В.И.Ленин. Здесь... А где именно находилось Вольное экономическое общество? Этого я не знал. Полагал: любой ленинградский ученый мне укажет. Спросил одного, другого, третьего – в ответ пожимали плечами и не без смущения говорили: "А действительно, где оно было, это старейшее и славнейшее Общество?" Ясное дело, кто-нибудь из них все же вспомнил бы или узнал у сведущего человека, но я не хотел ждать, не хотел никого утруждать: адрес-то укажут и работники архива, с которыми мне общаться еще не один день. Признаться, перед ними, работниками архивов, я вновь испытал забытое было чувство робости, какое испытывал в далекие уже школьные голы перед учителями. И тогда и сейчас мне казалось, эти люди знают все. Спрашиваю у них: "Подскажите, где было Вольное Экономическое общество"? Задумались, начали называть разные адреса, но тут же и опровергали свои предположения. Потом пришли к выводу, что точно может указать только вот такой-то человек (и дали мне его телефон), а если и он не знает, то позвоните вот такому-то. 213 И вдруг одного архивариуса осенило: "Подождите, у нас же есть книге по истории ВЭО, так наверняка указан и адрес" – снял книгу с полки, полистал: – Ну вот, записывайте: угол Забалканского проспекта – сейчас, значит, Московского и Четвертой роты Измайловского полка – ныне Четвертая красноармейская улица, дом тридцать три. Это рядом с Политехническим институтом. Иду по адресу, указанному самим автором "Истории императорского Вольного экономического общества" А.И.Ходневым. Тем самым Ходневым, который и посоветовал Докучаеву заняться изучением почв. Вот и дом 33 – двухэтажный особняк с небольшим огороженным сквериком, в который можно попасть только из особняка. Захожу с 4 Красноармейской улицы. На стене мемориальная доска: здесь, в здании бывшего Вольного экономического общества, в 1905 году выступал Ленин. Обрадовался: вот оно! У входа в особняк читаю: заочный институт культуры. Дверь почти не закрывалась, входили и выходили молодые люди – в институте была зимняя сессия. Вместе с ними вошел и я. Узкий крашеный коридор привел меня к сидевшему за столом пожилому вахтеру. Заочники показывали ему документы и ухолили по коридору налево. По виду вахтер был или отставником, или вышедшим на пенсию педагогом. Пережидая, когда схлынет поток, я подошел к типографскому листку с фотографией и описанием дома. Из него я узнал, что в зале заседаний Вольного экономического общества в 1905 году проходили заседания первого Петербургского Совета рабочих депутатов, здесь же они были и арестованы. Узнал, что большую художественную ценность представляет внутренняя отделка, относящаяся к 1830 году, что на втором этаже есть Помпейский зал – малая аудитория. И – ничего больше. О Вольном экономическом обществе больше ни слова. Пока я читал и перечитывал, поток кончился и вахтер сам подошел ко мне, человеку явно постороннему. Узнав, зачем я тут, он с нескрываемым интересом начал выспрашивать о тех великих людях, которые здесь бывали, работали, выступали. При каждом новом имени он с неподдельным изумлением 214 восклицал: "И Менделеев здесь бывал!" "Даже Лев Толстой!" – Потом с сожалением признался: "А я вот, сколько тут сижу, и ничего этого не знал, не слышал". Оставив свой пост на попечение гардеробщицы, он повел меня по дому. Мы заходили в библиотеку, поднимались по узкой деревянной лесенке с деревянными перильцами в Помпейский зал, заглядывали в большой зал заседаний – там все время шли занятия с будущими работниками культуры. Ознакомив меня со всеми ходами и выходами, вахтер ушел на свое место, а я остался в пустой гостиной. Холлом эту комнату не назовешь, это именно гостиная, пусть и небольшая. Здесь собирались перед началом заседаний члены общества, сюда они выходили в перерывы из зала заседаний, от которого гостиная отделена высокой стеклянной перегородкой. В любом другом месте я бы любовался внутренней отделкой потолков и стен, имеющей действительно большую художественную ценность. Радовался бы, что все ценности в целости и сохранности. Мог бы по завидовать студентам, будущим работникам культуры, которые окружает такая красота. Но я не радовался и не завидовал, а недоумевал: нигде в доме не увидел ни одного портрета тех выдающихся ученых, которыми мы и мир гордится, которые именно из этого дома, вот из этого зала, где сейчас слушают лекции студенты, извещали человечество о новых открытиях, о рождении новых наук. Да как же можно, думал я с горечью, так готовить не просто специалистов, а работников культуры? Готовить в доме бывшего Вольного экономического общества, не обеспокоив их головы и сердца величием и трагедией культурнейших людей своего времени, которые несказанно обогащали страну свою, всю свою жизнь только и надеялись, что "Посев научный взойдет для жатвы народной", а сами умирали в нищете. Это как же надо забыть прошлое, чтобы умудриться вот так изгнать его из дома, в котором, если напрячь воображение и вслушаться, прошлое заговорит с тобой множеством голосом и ты поймешь очень многое, ты устыдишься 215 своего беспамятства и бескультурия. Ты услышишь живое слово из прошлого, пусть и не тебе сказанное, но тоже будущим специалистам: "Ступайте работать в деревню, познакомьтесь с ней, внесите в нее свет, и русский народ, которому вы послужите таким образом, останется вам благодарным, а вы в такой работы найдете большое нравственное самоудовлетворение". Не тебе говорил эти гордые и прекрасные слова Иван Александрович Стебут, но как бы было хорошо, если бы и ты, будущий работник культуры, услышал их. Думаю, так твои наставники не скажут – они, изгнавшие из дома твоего славную историю, изъясняются с тобой каким-то "заочным", казенным, сухим языком – отдельные слова и фразы доносились до меня из зала заседаний Вольного экономического общества. Я уходил отсюда вовсе опечаленным: какие же мы непомнящие. Лишь искренняя любознательность вахтера грела меня. На прощанье он сказал: "Вам надо бы с ректором нашим встретиться". А мне в тот день как раз этого и не хотелось – в тот день я побывал в Вольном экономическом обществе, а в институт культуры, может быть, в другой раз зайду. 6 Физические мучения Докучаева усугублялись нравственными – нищенским материальным положением. "Чем все это кончится, страшно подумать..." В письме Измаильскому, которое окажется последним, он излил всю боль души своей: "За это время я дважды был в больнице, но толку никакого: всему, даже Божиему долготерпению, по-видимому, есть конец. Нельзя прощать и снисходить без конца, судя по человеческому... А между тем, как хорош Божий мир, как тяжело с ним расставаться. Еще раз заочно обнимаю Вас. Прощайте и простите. Если можете, молитесь за меня... Ах, как тяжело... а, ведь, казалось, было когда-то так светло!" 216 Наверное, в эти минуты Докучаеву вспомнилась вся прожитая жизнь, увиделись степи и милая Малороссия. Вспоминая, плакал от обреченности своей: ах, как тяжело расставаться с этим миром. И переживал: давно обещал полтавчанам написать популярный очерк о природе и сельском хозяйстве Полтавской губернии, а выполнить обещание никак не мог. Из-за этого и переживал, чувствовал себя обманщиком. Еще надеялся, что напишет... Ах, как тяжело... Как хотелось плакать, но и плакать не мог – не было слез. Ему еще выпадет год невыносимых мучений. Но его связь с внешним миром оборвалась именно на этом прощальном письме другу – с учениками своими он попрощался раньше. Медленно замирал человек, еще недавно полный мысли, инициативы и деятельности. Замирал энергичный работник, который "умел ХОТЕТЬ и умел достигать своей цели путем личного колоссального труда и путем организации работы других". Замирал при полной потере сознания, в мучительной, тяжелой нравственной обстановке, созданной его больным воображением. В короткие периоды просветления не мог он не вспомнить Каменную степь – там, далеко, растут, лепечут листвой зеленые полосы. Им жить. Да, они будут жить. К ним пролягут экскурсионные тропы, по которым пойдут лесоводы и агрономы, биологи и экологи всех стран мира. И экскурсовод обязательно прочитает им из Леоновского "Русского леса" вот эти строки: "Но однажды взволнованно, с непокрытой головой, вы пройдете по шумящим, почти дворцовым залам в Каменной степи, где малахитовые стены – деревья, а крыша – ослепительные, рожденные ими облака. Сам же он, вдохновленный мастер леса, Василий Докучаев, и его упорные подмастерья видели их лишь в своем воображении". Упорные подмастерья не только сохраняли основные научные тенденции Экспедиции, но и продолжали выполнение намеченного мастером плана создания полезащитных полос и насаждений на склонах и вокруг прудов. 217 Ни у кого ни тогда ни потом и мысли не возникло переделать этот план по-своему. И вовсе не потому, что слепо преклонялись перед начертанным – во все времена преемники первым делом как раз стремились если не отвергнуть, то переиначить все, что намечал предшественник. Никто не отверг, не переиначил потому, что были покорены духом создателя. "В моей жизни, – признавался Морозов, – учение Докучаева сыграло решающую роль и внесло в мою деятельность такую радость, такой свет и дало такое нравственное удовлетворение, что я и не представляю себе свою жизнь без основ Докучаевской школы в воззрениях ее на природу. Природа сомкнулась для меня в единое цело, которое познать можно только стоя на исследование тех фактов, взаимодействие которых и лает этот великий синтез окружающей нас природы". С ощущением этой радости принял от Морозова эстафету и другой славный лесовод Николай Александрович Михайлов. Действуя по тому же общему плану, он значительно дополнил и развил опыты своих предшественников. За семь лет работы в Каменной степи Михайлов создал 74 гектара различных насаждений. Среди них и подлинный шедевр человеческого творения – так называемая сороковая полоса, которая широкой лентой вытянулась с севера на юг на 725 метров. Создатель задумал поставить в ней опыт по "воспитанию дуба среди разных примесей". Каждый, кто хоть раз бывал в Каменной степи, видел эту полосу, стоял в ее "почти дворцовом зале", замирал "взволнованно, с непокрытой головой". Я приходил к ней в разные времена гола. Приходил рано утром, когда только-только растворялись сумерки и просыпалось все живое в природе: порхающее, ползающее, прыгающее, шелестящее, попискивающее и щебечущее. Приходил на закате солнца, когда наступала тишина. И ни разу не подумал о научной ценности этого творения, как не думаешь о цене полотен в картинной галерее. Я отдыхал, затаивался, любовался и вздрагивал, когда под ногой вдруг хрустнет сучок. Несколько раз видел тут зайцев, но ни разу не решился даже 218 улюлюкнуть. В те времена, когда еще не было личных автомашин и люди не замыкались в своих квартирах, не засиживались у телевизоров, сюда, к сороковой полосе, сходились по вечерам каменностепцы послушать соловьев, поиграть тихо на гитаре. Здесь, в могучей дубраве, душой и телом отдыхали. Именно она, сороковая полоса, так часто упоминалась в письмах, в разговорах, в воспоминаниях каменностепцев 20-х и 30-х годов. В те поры сюда приезжал часто Николай Иванович Вавилов и вернулся по его просьбе Собеневский. Сороковая полоса. Она пролегла по степи в 1903 голу. Нетленная траурная гирлянда в степи – в тот год, 26 октября, в Петербурге умер Василий Васильевич Докучаев. Умер после трех лет невыносимых нравственных и физических страданий, медленных и мучительных агоний. Сколько раз он просил, умолял близких "поскорее зарыть его в сырую землю". Друзьям "трудно было смотреть без слез на этот измученный, изменившийся до неузнаваемости полутруп прежнего гиганта мысли и воли", однако помочь ему ничем уже не могли. Василий Васильевич Докучаев умер на 58 году жизни. Хоронили его в среду 29 октября 1903 года. Проститься с покойным пришли виднейшие русские ученые. Гроб стоял в университетской церкви – он утопал в венках от научных обществ, от университета, от друзей и учеников. Отдавали последние почести отцу русского почвоведения, создателю школы русских почвоведов, реорганизатору высшего сельскохозяйственного и лесного образования в России, выдающемуся организатору работ по изучению и преобразованию природы. Похоронили его на Смоленском кладбище, рядом с Анной Егоровной... Как же корил я себя за то, что не знал этого раньше. Когда часто бывал в Ленинграде – не знал, а вот теперь знаю, да доведется ли еще хоть раз пройтись по улицам этого прекрасного города, перед которым я всегда преклонялся как 219 перед хранителем высокой культуры, унаследованной от многих поколений славных предков наших. Но, как говорится, чего очень хочешь, то обязательно сбудется. В сентябре 1994 года лесоводы пригласили меня в качестве гостя на съезд лесничих России, который будет проходить... в Петербурге! И пообещали оплатить все расходы по этой поездке. Еду! Конечно, еду! Вдруг такого случая может и не быть. И вот в обеденный перерыв выбегаю из Таврического дворца, ловлю на улице такси и – скорее на Васильевский остров, на Смоленское кладбище. По набережной Невы, мимо Зимнего дворца, по мосту, мимо Почвенного музея имени В.В.Докучаева, вдоль небольшой речушки Смоленки. Так вот почему кладбище называется Смоленским. Захожу в кладбищенскую контору, представляюсь начальнице, называю год смерти Докучаева, жду, что сейчас она заглянет в какую-нибудь книгу и скажет мне, куда идти, где искать могилу великого русского почвоведа. А она отрицательно покачала головой и сказала, что ни схемы, ни описи не сохранилось ("То ли по несчастному случаю сгорели, то ли кэгэбешники сожгли с умыслом"), так что лично она помочь мне ничем не может. На мой порыв отправиться в свободный поиск она отозвалась с насмешкой: бессмысленно – площадь кладбища такая, что, не зная, и за месяц не сыскать. Но вселила маленький лучик надежды: есть тут старушка, она давным-давно уборщицей работает и многое знает. А если и она не подскажет, то больше и спрашивать некого. И повела меня в какую-то дряхлую сараюшку с покосившимися стенами, провалившимися полами и потолком. Многознающую женщину мы отыскали в затхлом углу среди рваного тряпья, лопат и метел, в окружении кошек, которых она кормила, расставляя мятые алюминиевые мисочки. – Вот, Елена Петровна, помогите человеку, если знаете. Я сказал, чью могилу ищу. Вот только имя и отчество Докучаева, кажется, не называл: что они ей, кладбищенской уборщице. А она, ни на мгновение не задумавшись, чтобы вспомнить, сказала: 220 – Василий Васильевич Докучаев похоронен не здесь, он – на лютеранском кладбище. Все, рухнула последняя моя надежда. НЕ знает и она – не могли похоронить Докучаева на лютеранском кладбище: православный он, сын православного священника и веры своей не менял. – Высказал я эти доводы, а она мне в ответ: – Не знаю, родимый, чей он сын и какой веры, но вы спрашиваете Василия Васильевича Докучаева, а я отвечаю, он не здесь, он на лютеранском кладбище. Там же и жена его, рядышком. – Да, – подхватил я, – похоронили его рядом с женой Анной Егоровной. - И теща его там же поблизости. Вот этого я не знал, но этим фактом собеседница моя окончательно устранила мои сомнения. Да, старушка ничего не путает. Но теперь надо, чтобы она как-то направила меня. - А я как раз туда собиралась, вот и пойдем вместе, там и покажу... Мы прошли с ней вдоль речки до моста, по мосту перешли на другую сторону, и вот оно перед нами – Смоленское лютеранское кладбище. Ворота в массивной кирпичной стене, а чуть правее – бензозаправка. – Теперь бензозаправка, а раньше на этом месте часовенка стояла, – сказала Елена Петровна тоном глубоко оскорбленного человека: грубо вторглись в ее владения, а она беспомощна сопротивляться, она всего лишь уборщица. От ворот идем по аллее, вымощенной булыжником. По обеим сторонам склепы, массивные надгробия из черного мрамора и такие же черные кресты. Многие разрушены, на многих белой краской наляпана фашистская свастика. Значит, и разрушения – дело чьих-то варварских рук. В сумраке старых деревьев мне делается не по себе. Елена Петровна тоже призналась, что приходит сюда не без опаски. – Даже белым днем? – спрашиваю ее. - Тут и днем такое делается, что не приведи Господь. Знакомые, если не- 221 сколько дней не видят меня, волнуются: жива ли? Слава Богу, отвечаю, пока жива еще... Словоохотливая моя спутница рассказывала такие ужасы, такие факты вандализма, что мне не по себе сделалось: куда, в какие джунгли я углубляюсь по своей воле. И выберусь ли обратно? Однако Елена Петровна, заслышав впереди собачий лай, и сама обрадовалась, и меня успокоила: – Это хорошо. Когда собак выгуливают, то можно идти смело – никто не тронет. Значит, повезло нам. Недалеко, за оградой шумит огромный город, а тут, выходит, куда опаснее, чем в глухой тайге, тут разгул кладбищенских мародеров, оскверняющих надгробья, ворующиих с могил мраморные плиты на перепродажу, готовых пристукнуть каждого, кто подвернется им на пути, кто на свою беду увидит их хотя бы издали... – А вон и могилка Докучаева, – указала Елена Петровна на белое надгробие с четырехконечным лютеранским крестом, возвышающимся над крапивными зарослями. Подхожу к металлической ограде, читаю: "Василий Васильевич Докучаев, основатель русского почвоведения" – выбито на белом мраморном надгробии. И на кресте: "Грядет час и ныне есть, егда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышавши, оживут". – А вот и жена его, вон, чуть подальше, теща... Спасибо, и доброго вам здоровья, любезная Елена Петровна. Мне хотелось остаться одному и я, помня слова начальницы ("Если заплатите старушке немного, то она и сведет вас"), достал из кармана деньги и протянул ей. – Нет, нет, – замахала руками Елена Петровна, – я же не специально с вами пошла, а попутно. – Возьмите, – настаивал я. Тогда она, перебрав в моей руке все деньги, вытянула самую маленькую 222 купюру, низко поклонилась мне, поблагодарила и ... никуда не ушла. Я обернул руку носовым платком и принялся вырывать крапиву. – Он ваш родственник? – спросила Елена Петровна, наблюдая за мной с аллеи. - Нет, он славный наш предок, которым может гордиться каждый, кто любит Отечество. – Значит, вы тоже из патриотов? Мне бы и в голову не пришло, какой смысл крылся за этим вопросом, если бы она сама не раскрыла его. – Да это же патриоты и оскверняли все эти могилы. - Не может быть. - И я бы чужим словам не поверила, да своими глазами видела. Ополов могилу, я перешел к соседней. "Анна Егоровна Докучаева, рожденная Синклерь". Вот за это и поглумились над ее могилой, что тут лежит Синклер, – сорвали, сбили крест. Им и невдомек было, что они осквернили могилу "первой русской женщины-почвоведа", что это под ее любящим влиянием выработалась в России "самостоятельная русская школа почвоведов". Да и где им разобраться – лютеранка она или иудейка (мне такой вопрос даже в голову не приходил – почитая Докучаева, я чту и жену его). Осмотрев "рану" (мраморный крест бил прочно скреплен с мраморным основанием толстым металлическим стержнем), я так и не понял, как патриотствующим вандалам удалось сорвать крест. – А они на автокране приехали, стали вот тут, да и давай срывать плиты, кресты, склепы. И за что мстят покойникам – не знаю. – За то, наверное, что при жизни люди эти сделали очень много полезного для России. – Не знаю, – повторила задумчиво Елена Петровна, добрая русская женщина, не понимающая тех русских людей, которые творят такое зло. Признаться, я тоже не понимаю их, и объясняю лишь диким и злобным невежеством. 223 -Ученые-то, – спрашиваю, – приходят поклониться памяти Докучаева? Не видела, не скажу. Однако вы вот пришли, повырывали крапиву – уже видно будет, что кто-то приходил. Вот бы и после ученых след бы остался. А раз нет следа, значит – не бывают... Нет, не права Елена Петровна. Кто-то все же приходит, иначе могилы давно бы затянуло древесной порослью – вон какие деревья над головой. – Верно, кустами бы все могилы обросли, – согласилась она. – Однако не нашим надо спасибо говорить. Это который уже год каждое лето приезжают сюда на месяц детишки с наставником – лютеранским священником. Вот забыла только, из какой страны, скажу потом, если вспомню. Они-то и приводят могилы в порядок. У них там, рассказывают, покойников куда как чтут и за могилками ухаживают. А на нашем кладбище еще же вон какие памятники, историю по ним изучать можно... Подошел мужчина с овчаркой на поводке. И тут же приступил к строгому допросу: кто, зачем? – Да отвяжись ты от человека, – заступилась Елена Петровна. – Это я привела его к Докучаеву. – И добавила: – Ну ладно, теперь пойду, а ты, мил человек, побудь с гостем. – И ушла. Оглянулся я, а ее нет, будто растворилась. Спрашиваю мужчину: правда ли, что автокраном кресты срывали? – Правда, – отвечает. – Пришел я рано утром собаку выгуливать, смотрю – след автомобильный на аллее, кора содрана на деревьях и обломанные кресты валяются на земле. У Докучаева не тронули, но краской облили. Хорошо, не успела засохнуть. Набрал я тряпок – оттер. А вон у жены его крест сбили, и у тещи тоже. Теперь ворье повадилось мрамор таскать – только нас с собаками и остерегаются. Но мы-то тут не все время, так что скоро все могилы обезобразят... А за пределами кладбища шумел город, перед которым я до сей поры преклонялся как перед носителем высокой культуры. Там, на его улицах и площадях людно и шумно. Там сходятся на митинги: называющие себя патрио- 224 тами обвиняют называющих себя демократами в распродаже России, а те в ответ величают их красно-коричневыми. Там академии, университеты, институты, колледжи, лицеи, музеи, где говорят о высоте человеческого духа и, конечно же, не вспоминают о бренном – будто нет его, как нет и загробного мира, – слишком долго нас приучали к этой мысли, и она сделала нас бездушными. Там в прекрасных дворцах заседают съезды, с одного из которых и я отлучился. И оказался словно в далеком от города мире, где по заброшенному кладбищу среди заросших бурьянами могил бродят лишь одичавшие кошки да лают собаки. Прости нас, Василий Васильевич, славный сын России. Прости неблагодарных за то, что мы дожили до такой цивилизации, схожей с варварской: не чтим, не ценим, не помним, не знаем и не желаем знать. Не дано услышать нам, даже живым, "глас Сына Божия", и умрем, так ничего и не услышав, и не оживем. Одним утешаюсь: не все такие. С тем и возвращаюсь: не в город возвращаюсь, а к прерванному повествованию о человеке, о котором вскоре после похорон В.И.Вернадский напишет: "В истории естествознания в России в течение XIX в. немного найдется людей, которые могли бы быть поставлены наряду с ними по влиянию, какое они оказывали на ход научной работы, по глубине и оригинальности их обобщающей мысли. Так или иначе Докучаев явился главой целой школы русских ученых; влияние его стремлений и его идей ясно сказывается и все увеличивается далеко за пределами нашего отечества, и достигнутые им результаты, кажется мне, принадлежат к крупным приобретениям научного движения XIX в. Едва ли они до сих пор правильно оценены во всегда капризной и по существу очень исторически нечуткой научной среде". Ушел из жизни человек, умевший группировать вокруг себя учеников, будить и возбуждать научную мысль, организовывать коллективную работу во имя общих, а не личных целей. И если бы он, умирая, мог охватить и оценить свои деяния, то нашел бы для себя улов удовлетворение: его жизнь не прошла 225 бесследно ни для науки, ни для русского государства и общества. Сороковая полоса. Сороковой номер по общему Докучаевскому плану создания лесных полос в Каменной степи. Никто не решился и никогда не решится нарушить даже его нумерацию. Каждый преемник, движимый нравственным долгом, приходил сюда не только продолжить незавершенное дело, но сделать лучше, чем до него делалось. Словно на соревнование сходились сюда таланты: кто лучше? Многие из них приходили в Каменную степь безвестными, а уезжали из нее знаменитыми. Сподвижники Докучаева возобновили ходатайства перед министром земледелия о необходимости организации на участках Экспедиции опытных хозяйств. Министр был вынужден назначить комиссию "идя обсуждения желательной постановки сельскохозяйственных опытов в опытных лесничествах". На первом же заседании комиссия под председательством профессора И.А.Стебута, при участии департаментских представителей и учеников Докучаева, признала желательным учредить в Каменной степи опытное хозяйство. Однако правительство не поддержало ученых, и члены комиссии снова и снова сходились на разговор все о том же. Тем временем в каких-то других кабинетах зародилось сомнение не только в предлагаемых опытных хозяйствах, но и в существующих опытных лесничествах: зачем они? Сомнение это быстро переросло в убеждение. К в 1908 году Каменно-степное опытное лесничество объявили закрытым. Участок передали Бобровскому уездному земству, которое открыло здесь ВерхнеОзерскую низшую сельскохозяйственную школу (на землях, прилегающих к балке "Верхние озерки"). Весть о закрытии лесничества огорчила ученых. Они снова и снова собираются на заседания, однако, как иронизировал один из участников этих разговоров, "одна комиссия считала себя некомпетентной и предлагала создать другую комиссию из компетентных лиц". Но нарастала и тревога в обществе. Все, что было создано в степи, нахо- 226 дилось не только без ухода, но и без надзора – приходи, руби, выламывай, что надо, что сгодится в крестьянском хозяйстве. А годилось все: и дерево, и камни, что лежали в плотинах. Да и как не взять, если все брошено, – не пропадать же добру. 7 А в это время имя Докучаева обретало все большую известность и популярность в мире. После того, как в Москве прошел первый съезд русских почвоведов, созванный в 1907 году, а следом за ним и второй – в 1908 году, были созваны подряд две международные "агрогеологические конференции" в Будапеште и Стокгольме. Представителям русской почвенной науки, как и их сообщениям, отводилось на этих конференциях "почетное место". Представитель Румынии профессор Мургочи заявил, что русская терминология и русские методы исследования почв целиком приняты румынскими учеными. Делегаты первого международного Конгресса, состоявшегося в апреле 1909 года, единогласно наметили "русские работы прежде других для печатания в мемуарах". Почвоведы, а среди них и Глинка, с гордостью произносили имя своего учителя, говорили о науке "обнимающей весь земной шар" и думали: "А если бы речь шла не о русской, а о европейской науке, – английской, французской, бельгийской, не говоря уже о немецкой, – ей был бы оказан совершенно иной, еще много лучший прием". Однако мысль эта была скорее мимолетной. Их куда больше волновал прием, какой оказывали родимой науке у себя в России. Тут они видели полное несоответствие того, что должно было бы быть, с тем, что есть на самом деле: в Западной Европе имя Докучаева повторяют значительно чаще, чем это делается в русской литературе. И говорят там о ВЕЛИКОМ ДОКУЧАЕВЕ. Наследники его вынуждены были признать, что таковы у нас общие условия, в каких всегда протекала и протекает научная и культурная жизнь страны: 227 то, что есть, иным и быть не может. Они легко себе представляли, какое положение заняла бы такая и притом еще своя, н а ц и о н а л ь н а я наука в Германии, у нас же трудно сказать, что сталось бы с самим Дарвиным и его учением, народись оба они на р у с с к о й п о ч в е. Вспоминали Ломоносова, все силы души положившего на то, чтобы создать в России такие условия, при которых могли бы развиваться и работать собственные Платоны и Невтоны. Однако прошения его украшались краткой резолюцией: "Адьюнкту Ломоносову отказать". И в атом отношении Россия за 200 лет не очень далеко ушла вперед: в большинстве случаев выдающиеся наши ученые дали крупные исследования не благодаря тем условиям, в которых они работали в России, а в о п р е к и и м. А кто скажет, каков число уже начатых интересных исследований, как и у Ломоносова, неожиданно оборвалось, какое число людей с несомненными проблесками таланта, благодаря неизменившимся "ломоносовским условиям", погибло и для науки и для страны: числа эти у ж а с а ю щ и е. Они, представительствующие и председательствующие на международных съездах русские почвоведы, не сомневались, что мы все более быстрым темпом приближаемся к тому времени, когда на Западе почвоведение заявит о себе в полный голос. Но не были уверены, удержим ли мы, русские, в своих руках и в дальнейшем инициативу развития науки о почве. Будут ли и в будущем западноевропейские ученые приезжать учиться к нам, или же, что нам гораздо привычнее, мы будем ездить если не к немцам, то к американцам, японцам, австралийцам? Так гордые и обидные вопросы сменялись один другим, перемешивались и переплетались, рождая сложные чувства гордости и горечи: "Как же трудно в России..." Они не теоретизировали, а основывались на опыте. Как раз в эти годы, когда проходили съезды и конференции, во всем мире с восторгом говорили об американском фермере Кемпбеле, который предложил систему обработки поч- 228 вы, ставшую известной в Америке под названием "сухого возделывания" или "сухого земледелия". Подхватили ее и в России: Кемпбеля величали "гениальным американцем", открывшим новую эру в сельском хозяйстве. Тут уж даже Ермолов не сдержался, вынужден был напомнить забывчивым соотечественникам своим, что "заатлантическая система сухого земледелия не является для нас чем-либо совершенно новым или доселе неизвестным, а – наоборот – главнейшие основания ее были известны в России гораздо ранее пробуждения к ней интереса в Америке и прочно были установлены еще покойным П.А.Костычевым, позднее же получили широкое развитие в трудах наших опытных полей и станций". Верно, Алексей Сергеевич. Разработке этой системы, в основе которой агротехнические меры борьбы с засухой, посвятил всю свою жизнь и талантливейший агроном Измаильский. Именно ату систему хотел применить Докучаев и в сельскохозяйственных опытах в Каменной степи. Ах, как же забывчивы россияне: сначала отмахнутся от дельной идеи, потом ждут, подхватят или не похвалят ее на Западе? Вот и Ермолов признался: "В свое время это обстоятельство было упущено из виду и имя Кемпбеля получило у нас популярность, которая редко кому выпадает на долю". А ведь Измаильский еще был жив, но доживал свои безрадостные лета в полной безвестности. В эти годы, когда проходили съезды и конференции, а популярными становились все же не соотечественники, сам Ермолов набросал вот этот социально-экономический портрет: "Россия долгое время считалась главною поставщицей, житницей Европы, так как она долго занимала первое место в ряду государств, снабжающих европейский хлебный рынок избытком своего производства, и вывоз ея достигал в урожайные годы, как например, в 1910 году, колоссальной цифры 847 миллионов пудов хлеба, на сумму до 746 миллионов рублей, при общей ценности всех вывозимых из России продуктов земледелия в 902 миллиона рублей. 229 Средний вывоз хлеба из России составил за пять лет (1906-1910 гг.) – 588 миллионов пудов. Недавно еще у нас увлекались грандиозными цифрами нашего вывоза, упуская при том из виду, что если Россия имеет возможность вывозить так много, то это не потому, чтобы урожайность ее полей была высока, не потому, чтобы она в действительности производила больше других государств Европы, но только потому, что Россия в сравнении с последними населена болев слабо, что ее собственные потребности чрезвычайно ограничены. В самом деле, если сопоставить цифры населенности России с цифрами населенности других государств Европы, то окажется, что в России на каждые 100 десятин пространства приходится всего 28 душ населения, между тем, как во Франции считается 83, в Германии – 136, в Великобритании – 200, в Бельгии – 287 душ. Таким образом, если Россия производит больше, чем сколько нужно для удовлетворения потребностей ее населения, то это исключительно потому, что ей нужно очень мало, что цифра населения ее относительно ничтожна, и к тому же оно очень малым довольствуется. С другой стороны, Россия более, чем какоелибо другое государство в мире, так сказать, напрягает свою вывозную способность, в ущерб продовольствия своего собственного населения. Так, Россия отправляет за границу пшеницы около 33 процентов чистого сбора, ячменя 41, кукурузы 44, овса 10 процентов. Между тем Америка отправляет за свои пределы только 10 процентов производимой ею пшеницы, ржи 4,5, кукурузы 3, ячменя 5 и овса всего 1 процент. Относительная же производительность русского хозяйства самая низкая. Если мы обратим внимание на то, какое число душ может прокормиться в России продуктами, получаемыми с каждых 100 десятин всего пространства, то узнаем, что это число не превышает 20, между тем как во Франции и Германии каждые 100 десятин в состоянии прокормить 80 душ, в Англии – 90, в Бельгии – 150. Впрочем, если Россия прокармливает по отношению к пространству так мало, то это частью зависит от того, что в России отношение между возделанною землею и невозделанною представляется чрезвычайно неблагоприятным. У нас есть обширные пространства тундр, 230 есть огромные лесные площади, есть еще нераспаханные степи, которые приносят лишь самое небольшое количество продуктов земледелия; между тем, земель действительно утилизируемых в хозяйственном отношении, так или иначе служащих интересам сельскохозяйственного цела, насчитывается не более 38 процентов, гораздо меньше, чем в прочих европейских государствах. Так, в Австрии площадь утилизируемых в сельскохозяйственном отношении земель составляет 60, во Франции и Германии – 66, в Великобритании и Бельгии свыше 75 процентов всего пространства. Но если даже выключить непроизводительные земли в России и отнести цифры населения к земле, действительно утилизируемой, то и тогда окажется, что на счет продуктов, получаемых со 100 десятин утилизируемой в сельскохозяйственном отношении земли, в России могут существовать едва 60 душ, между тем, как во Франции и Германии 100 десятин такой же земли прокармливают 120, в Англии – 150, а в Бельгии – 210 человек. Таким образом, сельскохозяйственная промышленность Бельгии оказывается на 350 процентов производительнее, нежели в России. Конечно, отчасти такая низкая производительность может быть объяснена малою населенностью России; но одного этого объяснения недостаточно, так как если мы обратим внимание на все производство на русской территории, то найдем, что наименее производительными в сельскохозяйственном отношении являются такие губернии, населенность которых отнюдь не представляется наиболее слабою, – например, Смоленская, Тверская и другие. С другой стороны, более производительными губерниями могут считаться южные степные, населенные весьма слабо. Очевидно, что если русское сельскохозяйственное дело дает так мало, то это потому, что общий уровень сельскохозяйственного производства весьма низок. Если обратить внимание на количество хлеба, снимаемого с десятины, на степень урожайности наших полей, то мы увидим, что степень урожайности у нас далеко уступает урожайности полей в западно-европейских странах. Так, в России средний урожай пшеницы на десятине (за годы 19061910) равнялся 43,5 пуда, между тем, в Австрии за те же годы собирали в сред- 231 нем по расчету на десятину 88 пулов, в Германии 134, в Великобритании 154, в Бельгии 161 пуд и т.д. Причины низкого уровня производительности сельскохозяйственного дела в России отчасти обусловливаются, конечно, теми общими условиями экономического строя и жизни сельскохозяйственного цела в России, – именно, малою интенсивностью нашего сельскохозяйственного производства, являющеюся естественным и неизбежным последствием этого строя; но отчасти причины эти следует искать и в особенных, далеко не всегда правильных, условиях организации нашего полевого хозяйства". 8 Итак, прекратила свое существование экспедиция, а теперь закрыто и лесничество. Почему? Ответа я не находил. Одно утверждали все современные авторы: царское правительство поскупилось на дальнейшие расходы и прекратило финансирование. Я верил этому утверждению и не верил: очень уж мизерные суммы уходили на содержание лесничества, не обременительные даже для Лесного департамента с его скудным бюджетом. Однако мне ничего не оставалось, как согласиться с этим утверждением – других доказательств не находилось. Но вот однажды я пришел в министерство лесного хозяйства РСФСР к одному из старейших его сотрудников Дмитрию Минаевичу Гиряеву. Попросил его снабдить меня материалами о современном положении в защитном лесоразведении. Он выложил передо мной стопку различные документов, брошюр и книг, среди которых я обнаружил и выписки из неопубликованной статьи Высоцкого "Моя ошибка", написанной в 1935 году. Напомню, Георгий Николаевич Высоцкий был участником докучаевской экспедиции, заведовал Велико-анадольским участком, а после закрытия экспедиции остался там же лесничим Мариупольского опытного лесничества. Впо- 232 следствии он станет основоположником научного степного лесоведения. Итак, рассказывает сам Высоцкий, признаваясь в своей ошибки. В августе-сентябре 1908 года в Великоанадоле собрался очередной съезд степных лесоводов – обсудить проблемы степного, в первую очередь полезащитного лесоразведения. Многие из участников этого съезда, и не только чиновники Лесного департамента, но и учение, приехали с готовым убеждением: разводить лес в степи невозможно, ему здесь не хватает влаги, а почва не только суха, но и солонцевата, поэтому уже в возрасте 20-30 лет деревья засыхают и умирают. Мнение это основывалось на наблюдении Перед съездом его участники побывали во многих степных лесничествах, том числе и в Каменной степи. Там лесные полосы жили и хорошо прирастали, но все они еще не достигли своего "критического возраста", самым старым было 16 лет. В других же местах зрелище было удручающим – среди степи торчал сухой, вымерший лес. Ну, а то, что увидели делегаты в Великоанадоле, окончательно их разочаровало: массовое усыхание охватило многие искусственные насаждения 70-90-х годов, когда здесь работали продолжатели славного Граффа. И было слышно, как жуки и гусеницы доедали, догрызали зеленеющие из последних сил ростки, как копошились они под корой, которая, отслаиваясь, повисала рваными лохмотьями. Так разумно ли тратить силы и средства на степное лесоразведение, если жизнь насаждений так коротка? На съезде выступил и Высоцкий. Нет, он не опроверг это мнение, он помог утвердиться ему – подвел под него теоретическую основу, выдвинув "теорию критического возраста", которой и объяснял неминуемую гибель степных насаждений в "жередняковой стации". Так что в возрасте 25-30 лет их нужно рубить, надеясь на порослевое возобновление. Или сажать заново. Да, и сажать заново – в полезности лесных полос для сельского хозяйства Высоцкий не сомневался. Здесь я хочу прервать рассказ о съезде и рассказать о Высоцком, не вы- 233 думывая, а читая его "неофициальную", написанную для себя автобиографию. В ней есть и такой вопрос: "Как я стал лесоводом?" И, отвечая на него, писал: "Лесного отделения в Петровской академии в мое время уже не было, все были агрономами, и я тоже агроном''. Агроном, слушавший лекции по лесоводству, которые читал Митрофан Кузьмич Турский. "Особенно понравилась мне его лекция о степном лесоразведении, на которой он превозносил победу человека над степной стихией". И, конечно, восхищался профессор рукотворным чудом, созданным Граффом в Великоанадоле. А Турский говорил на лекции: – Надо быть там на месте, надо видеть собственными глазами Велико-Анадольский лес, чтобы понять все величие дела степного лесоразведения, составляющего нашу гордость. Никакими словами нельзя описать того удовлетворяющего чувства, какое вызывает этот лесной оазис среди необъятной степи на посетителя. Это действительно наша гордость, потому что в Западной Европе ничего подобного вы не встретите... Эта лекция и решила судьбу Высоцкого. Перед окончанием академии он просится на практику в Великоанадоле. Однако туда уже был назначен другой практикант, и Высоцкий едет в соседнее Бердянское лесничество (впоследствии Мелитопольское). Он еще никогда не бывал в степях – "родился среди леса" на хуторе Войтовка, что между "местечком Ямполь и железнодорожной станцией Хутор Михайловский". Поэтому ехал на юг с большим интересом, целыми днями простаивая у окна вагона, жадно вглядываясь. Восторгу не было пределов! "И вот появилась на горизонте полоса темной зелени. Она растет и ширится, к ней я и еду". Первое, что увидел молодой агроном – "море вяза". И сразу задумался над тем, над чем не задумывались лесоводы ни тогда, ни много десятилетий позже, и что упустил из виду и он сам, когда выдвигал "теорию критического возраста": "Почему именно вяза? Что такое вяз, откуда он? Оказывается, из пойм 234 речных, где растет рядом с осокорями и ивами. Каким же образом из влажных речных пойм забрался он на сухую степь с солонцеватым грунтом?" И еще заметил и отметил, что здесь, в сухой степи, "растет он сначала... очень буйно, широко раскидывая свои отхлесистые ветви". Но в том-то и дело, что растет так только сначала". "В этом и вся ценность его, выдвинувшая его (вместе с родственным ему берестом и еще в меньшей степени ильмом) на первым план, давшая ему то все 100%, то 66, то, наконец, 50% высаживаемых на степную почву лесных пород..." Нет, не только заметил и отметил, но и тогда же, еще в ходе практики, пришел к твердому убеждению: все то, "что так меня вначале радостно поразило (масса зелени среди степи), совершенно ненормально, ошибочно". Ошибочен такой тип смешения древесных пород. Однако именно этот тип, названный "нормальным", был санкционирован съездами 1884 и 1887 годов и предписан для повсеместного выполнения циркулярами Лесного департамента. Вскоре Высоцкого, как человека, "увлекающегося природоведением" порекомендовали Докучаеву и тот предложил ему на выбор один из трех организуемых участков экспедиции. Высоцкий "без колебаний" выбрал Великоанадольский, куда и был назначен заведующим и где пробудет более 12 лет. Став руководителем участка, а потом, после закрытия экспедиции, лесничим опытного лесничества, Высоцкий "задался целью выработать возможно более подходящие для степных условий типы искусственных насаждений". Как верный ученик Докучаева, он обращался за советом к природе – что и в каком смешении растет в естественных степных перелесках. Присматриваясь, комбинировал типы посадок, многим из которых суждено стать образцовыми. Но... надолго увлечется теорией критического возраста. Особенности одной породы – вяза, одного типа насаждений он возведет в закон для всех пород, для всех степных насаждений, о чем и доложил участникам съезда. И съезд постановил: закрыть ряд степных лесничеств, в том числе и в 235 Каменной степи. Правда, при этом признал, что "о ликвидации степного лесоразведения не может быть и речи". Такого оборота событий Высоцкий никак не ожидал. Он чувствовал себя виновником и преступником перед Докучаевым, возродившим в России степное лесонасаждение. "Неужели же вся кампания степного лесоразведения нами бесследно проиграна? – думал в отчаянии Высоцкий. – Столько сил, столько средств!'' И утешал себя: "Да, знание, опыт дорого обходятся! Тем более следует эти достояния наши тщательно собрать и хранить в святилище потенциальной мощи нашей все еще молодой культуры, которая когда-то должна будет развернуться во всю ширь принадлежащих нам залогов духовных сил, земельных пространств и времени предстоящего свободного развития". А утешая, верил: степные лесничества в будущем окажутся "ценными местами для заложения на них рассадников культуры, без которых невозможно правильное прогрессивное развитие сельского хозяйства". Верил, что "потомство наше будет благословлять судьбу, заставившую нас захватить под лесные дачи такие площади", которые обязательно станут "памятниками культуры". Однако и чувство вины не покидало. Пройдут годы, все уже забудут и о том съезде в Великоанадоле и о принятых решениях, а Высоцкий будет все еще мучиться. А потом, на 71-м году жизни, получив сообщение об избрании его действительным членом ВАХСНИЛ, он сядет и напишет статью "Моя ошибка''. Жаль, что она и по сей день лежит в архиве, и по сей день не опубликована. Не поэтому ли и по сей день продолжаются те же самые ошибки: и сегодня в лесных полосах продолжают высаживать быстрорастущий, но недолговечный вяз, а из-за этого и сегодня многие и многие считают лесные полосы напрасной тратой сил, средств и земли. Нет, "степь суха и бесплодна только для того, кто, при немощи духа, без усиленных трудов, хочет тотчас пожинать плоды; но кого может устрашить 236 неудача первой попытки, кто на первом году ожидает вознаграждения трудов, тот не увидит успеха и лучше пусть не приступает к насаждению леса в степи". Эти слова, сказанные в 40-х годах 19 века первым составителем истории лесоводства в России поручиком корпуса лесничих Ф.К.Арнольдом, напомнил Высоцкий в одной из своих работ в 1916 году. Забудется съезд, но ученые долго еще будут утверждать, что "первоначальные противоречивые мнения о причинах усыхания леса в степи вскоре сменились обоснованным учением Г.Н.Высоцкого, о невозможности массивного лесоразведения в засушливой степи, главным образом из-за недостатка почвенной влаги". Отдавая вроде бы должное Высоцкому, они возводили его ошибку в обоснованное учение. А он до последнего смертного своего часа не уставал повторять: "В наших южных степях искусственно насаженный лес расти может. Мало того, мы вправе ожидать от него и естественного возобновления для поддержания неограниченного существования". И это уже было доказано на практике. Однако "немощные духом" твердили и твердили свое: невозможно. А статья Высоцкого "Моя ошибка" продолжала лежать и по сей день лежит в архиве. Лежит необнародованной исповедь, которая могла бы научить многих ученых порядочности. Итак, истинная причина закрытия некоторых степных лесничеств, в том числе и в Каменной степи, теперь нам известна. Однако эта находка зародила во мне сомнение: не подобная ли причина послужила и закрытию докучаевской Экспедиции? Я больше не верил биографам, объяснявшим остановку любого начинания тупостью и скупостью департаментских чиновников, которые, к тому же, сами бывали инициаторами добрых починов. Словом, нашел у Высоцкого одно объяснение, должно быть у него и другое: не мог он, участник экспедиции не сказать о причине ее закрытия. В автобиографиях нет, ни в "официальной", ни в "неофициальной". Значит, надо читать все труды его. 237 И вот передо мной "Доклад, читанный в 1915 году в заседаниях лесного отдела Киевского Общества сельского хозяйства и сельскохозяйственной промышленности". Доклад о степном лесоразведении. В нем обнадеживающая меня глава – "Исторические этапы". В ней он рассказывает о той катастрофе в степном лесоразведении, которая разразилась в конце 80-х годов прошлого века. Началось массовое увядание и усыхание насаждений, о чем мы уже знаем. Новые посадки почти повсеместно прекратились. Рушилась вера в возможность создания лесов в степи – природа их не сотворила, а человеческие создания оказались недолговечны. К исследованиям умиравших насаждений были привлечены энтомологи, ботаники, почвоведы, гидрологи. И все они в один голос начали доказывать – лес в степи расти не может, ему не хватает влаги. Кто найдет выход из этого критического положения? Именно в этот момент и предложил свои услуги Докучаев. Чины Лесного департамента ухватились за его предложение и поэтому так быстро снарядили экспедицию в степи. Далее Высоцкий приводит суждение одного из сотрудников Костычева лесовода С.Ф.Храмова, который писал: "От этой экспедиции лесоводы ждали чисто практических указаний, но исследования ее, хотя и очень ценные – НЕ ОПРАВДАЛИ надежд практиков-лесоводов". "Не оправдали" выделил курсивом Высоцкий и тут же прокомментировал с иронией: "Еще бы! Степные лесоводы ждали указаний на отельные причины неудач их дела и на меры борьбы с этими причинами, а ученые стали рассуждать об общей неестественной обстановке степного лесоводства и критиковать его основы и цели!" Уже в ходе изучения степной природы участники экспедиции Докучаева обратили внимание на ненормальность так называемого "нормального" типа степных насаждений, санкционированного двумя съездами степных лесоводов и предписанного для повсеместного выполнения циркулярами Лесного департамента. И не только обратили внимание, но и дерзнули назвать этот тип не- 238 годным шаблоном: нельзя выходить в сухую степь с породами и типами посадок, пригодными лишь для речных долин. А обозвав общепризнанный тип шаблоном, они, молодые ученики Докучаева, никого не спросившись, заложили в степи лесные полосы совершенно новой конструкции, никем не признанной и не утвержденной. Это раздражало и департаментских чинов и ученых: их послали искать ответа на заданные вопросы, а они всю задачку отвергли, и взялись решать совсем другую, ответ на которую будет дан не сегодня и не завтра, а через два-три десятка лет. И кто может предсказать, будет ли он правильным?.. Итак, не получив от Экспедиции "чисто практических указаний" как избавиться от беды сегодня, раздосадованные лесоводы отказались содержать такую Экспедицию – "не оправдала надежд". Только потому не оправдала, что работала на будущее, а пославшим ее нужно было решат сегодняшние беды. Вот теперь все ясно. И все гораздо сложнее элементарной нехватки денег. А для себя я сделал вывод: никогда не доверяй общепризнанным суждениям о прошлом, ищи и найдешь все. 9 В марте 1911 года Постоянная комиссия по сельскохозяйственному опытному делу наконец-то "признала желательным учредить КаменноСтепную опытную станцию имени В.В.Докучаева". Ученый Комитет министерства земледелия в заседании 22 апреля утвердил это решение и назначил особую комиссию – теперь уже для решения вопроса с выездом на место. В Ученом Комитете лежало еще два ходатайства. Одно – от Бобровского земства о выделении в Каменной степи участка земли для уездного опытного поля. Другое – от Бюро прикладной ботаники и селекции, которое тоже просило участок для устройства своего филиального отделения в степи. Так что комиссии поручалось решить и эти вопросы – территориально разместить три 239 вновь создаваемых опытных учреждения. Бюро прикладной ботаники знакомо сегодня не каждому читателю. Созванное при Ученом Комитете министерства земледелия в 1894 году, это научное учреждение впервые в России приступило к ботаническому изучению и описанию культурных растений и сопутствующих им сорняков. Со временем оно переросло в Институт прикладной ботаники, а потом – во всемирно известный Всесоюзный институт растениеводства имени Н.И.Вавилова (ВИР). В мае 1905 года Бюро возглавил Роберт Эдуардович Регель, человек талантливый, энергичный, увлеченный и – незаслуженно забытый потомками. Получив "портфель" руководителя этого научного учреждения, которое размещалось сначала в шкафу одного из кабинетов Петербургского лесного института, а потом на частной квартире, Регель быстро наладил и научную работу и хозяйство. Из учреждения, существовавшего лишь на бумаге, Бюро сделалось признанным центром изучения культурных растений. О нем услышали не только в России, но и в Европе. Услышали и заговорили: во всем мире ботаники того времени изучали лишь дикие растения, а Регель со своими сотрудниками приступил к научному познанию возделываемых человеком культур. Легкий на подъем, он исколесил чуть ни всю Россию – собирал местные сорта ячменей, высеваемые в разных зонах. И на этом поприще у него были уже немалые заслуги. Когда в голодный 1891 год был съеден до последнего зернышка саратовский ячмень, славившийся превосходными пивоваренными качествами, в России забили тревогу, исчез, навсегда утерян ячмень, которым снабжались лучшие пивоваренные заводы почти всей восточной половины Европейской России. На его поиски отправился Регель. Но отправился он не в Поволжье, где были уже обысканы все сусеки, а на южный Урал – в сходные по почвенным и климатическим условиям районы. И там нашел то, что искал. Пройдет несколько лет, и его молодой соратник и продолжатель Николай Иванович Вавилов откроет закон зонального распределения растительных рас и видов. 240 Расширяя научную работу, Регель все больше понимал: для сравнительных посевов хлебов и отбора лучших сортов, наиболее пригодных для возделывания в данной зоне, нужны опорные пункты, на которых бы велись систематические исследования. И чтобы судьба их не зависела от капризов землевладельца – у него уже было несколько опытных делянок в помещичьих усадьбах, и он хорошо знал, что таков барский каприз. Вот и добивался Регель выделения участка в Каменной степи. Тут же после заседания комиссия, под руководством члена Ученого Комитета профессора Н.К.Недокучаева, командируется в Воронежскую губернию. В ее составе: представители министерства, заведующий вновь учрежденной Каменно-Степной опытной станции Р.Г.Зеленский и Регель. В Воронеже к ним присоединился губернский представитель, а уже на месте, в Каменной степи, в комиссию вошел и управляющий низшей сельскохозяйственной школой. Они объехали и обошли всю степь – в мае она была прекрасна, осмотр не утомлял, они отдыхали. Потом три дня провели в заседаниях, которые, судя по отчету, проходили на территории бывшего лесничества. За три дня неспешных обсуждений наметили границы вновь создаваемой докучаевской опытной станции – ей отвели больше тысячи десятин степи со всеми лесными полосами, занимавшими без малого 152 десятины, с усадьбой и метеостанцией. Очертили на карте 100 десятин открытой степи Бобровскому опытному полю и 98 десятин – для организации степного отдаления Бюро. Регель сам выбрал этот участок – на самой высокой точке Каменной степи (108 сажен над уровнем моря), в стороне от лесных полос. Открытый ветру и солнцу взгорок как бы самой природой предназначался для испытания засухоустойчивых культур и для изучения дикорастущей степной растительности. Как и Докучаев, Регель выбирал место с самыми суровыми условиями. Поделив так Каменную степь, комиссия возвратилась в Петербург, где 16 июня 1911 года все ее решения утверждаются. Теперь – за дело. Первой оживает "Докучаевка". Хозяйство хоть и пусто- 241 вало несколько лет, крепко пограблено, порублено и поломано, однако, подправив, жить можно. Роман Генрихович Заленский садится за разработку программы деятельности станции, которая, конечно же, должна продолжить начатое Экспедицией дело. Поэтому наказ Докучаева своим сподвижникам Заленский принимает за основу: "Все наши операции, в конце концов, должны непосредственно служить целям и интересам сельского хозяйства". Участник экспедиции К.Д.Глинка, ставший известным почвоведом, прислал Заленскому свои воспоминания об учителе, которые звучали как укор современникам, и как напутствие: "Несомненно, что если бы мы начали свою работу тогда, когда В.В.Докучаев впервые намечал широкие программы исследований почвенных типов и "цельной природы", теперь мы знали бы много больше. К сожалению, как ни просты и ясны были те идеи, которые отстаивал В.В.Докучаев, он не был достаточно понимаем современниками, и не потому, что он излагал эти идеи в недоступной форме, а потому, что стоял головой выше своих современников и ясно видел то, чего не могли висеть они". Да, много мы потеряли из-за этого непонимания. Однако в сторону укоры, надо действовать, иначе потеряем еще больше. "Будем же надеяться, – напутствовал Глинка, – что теперь, наконец, мы не только поймем идеи учителя, но и осуществим их полностью, будем надеяться, что создание В.В.Докучаева – Каменно-Степная опытная станция – сумеет показать, как следует осуществлять эти идеи во всей их широте". Надежды эти не оправдались. Департамент Земледелия, которому была подчинена "Докучаевка", не баловал ее ни вниманием, ни материальной помощью. С возникновением чисто сельскохозяйственного опытного учреждения лесные полосы, уже тогда признававшиеся специалистами интереснейшими объектами для лесоводственных исследований, выпали из круга забот опытной станции – она не имела в своем штате ни одного лесовода, не получала и денег 242 на уход за посадками. Никакой тревоги не проявлял и Лесной департамент, за которым было оставлено право исследований степных искусственных насаждений. Правда, летом 1912 года лесничему Мариупольского опытного лесничества Николаю Петровичу Кобранову Лесной департамент поручил осмотреть все насаждения в Каменной степи. Фамилия эта впервые появляется в нашем повествовании, и я бы ее не называл, если бы она принадлежала безвестному лесничему-степняку, каким он и был в то время. Но пройдут годы – и мы, уже во второй части книги, встретимся с ним, с профессором Воронежского сельскохозяйственного института, а потом и сотрудником Николая Ивановича Вавилова. Пока же скажу о нем лишь одно: должность лесничего Мариупольского опытного лесничества (бывшего Великоанадольского участка экспедиции) Кобранов принял от Высоцкого, у которого он несколько лет был заместителем. Итак, выполняя поручение, Кобранов осмотрел все лесные полосы в Каменной степи и потом в отчете сообщал: треть посадок находится "в очень печальном состоянии" – уже четыре года в них не было никакого ухода. Особенно удручающий вид имели молодые посадки последних лет – их не было видно "из-за разросшейся сплошным ковром высотою в 1 метр, травянистой растительности". Порадовала лесничего ("Вот походящий объект для лесоводственных исследований!") сороковая полоса, та самая гирлянда, оставленная в степи в год смерти Докучаева. Вся она, семь с лишним десятин, засаженных дубом в смеси с разными породами, была в прекрасном состоянии. Кобранов обратил внимание и на некоторые полосы, засаженные березой. Когда-то, мы помним, все ведущие ученые предостерегали Собеневского, увлекавшегося березой, утверждали: в засушливой степи она не выживет. Так думал и Высоцкий. Собеневский не соглашался с этим мнением и продолжал сажать березу. То же делали и его последователи – Морозов и Михайлов. Росла она превосходно, свидетельствовал теперь Кобранов в своем отчете об увиденном. А так как "в Каменно-Степном лесничестве, единственном из степных, бе- 243 реза в культурах вводилась в весьма большом числе", то, делал вывод лесничий, "в силу этого лесное опытное дело не может пройти мимо искусственных насаждений из березы в Каменной Степи". Однако реакции на отчет Кобранова не последовало. Правда, "в интересах дела" и "в виду сосредоточения всех вопросов степного лесоразведения в Мариупольском лесничестве" Кобранову вменили в обязанность "участие в совете Каменно-степной опытной сельскохозяйственной станции". И ни слова о деньгах и увеличении штатов: для Лесного департамента "Докучаевка" была чужой, а департаменту Земледелия не было цела до лесных полос, созданных Экспедицией Лесного департамента. Да и что о них заботиться, если, – это утверждают и сами степные лесоводы, – жизнь их коротка. Ошибка Высоцкого продолжала считаться учением. Что и, Кобранов, выполняя поручение, изредка приезжал в Каменную степь: участвовал в заседаниях совета опытной станции, осматривал лесные полосы, сокрушался вместе с заведующим, который все понимал, однако ничего не мог предпринять – не было ни средств, ни сил. Единственное, что смог сделать Заленский за три года до первой мировой войны, это навести порядок в пользовании землей на участке – крестьяне окружающих деревень перестали пасти скот где попало, рубить и тащить. Посадил вдоль дорог аллеи и подготовил к изданию первый выпуск "Трудов Каменно-Степной опытной станции", целиком посветив его памяти "основателя и руководителя Особой экспедиции". Спасибо ему и за это – он подвел итог той работы, которая была проделана здесь его предшественниками. В конце издания читатели уведомлялись о том, что следующий выпуск "Трудов" не выйдет в связи с призывом Заленского на действительную военную службу. На станции вновь наступило затишье, которое затянулось на годы. Созданная Докучаевым экологическая система, вторично осталась не только без ухода, но и без присмотра. Некому поправить, если где прорвет плотину, неко- 244 му за посадками присмотреть. Ну, а что же делалось по-соседству, на степном юру, где Регель облюбовал место под опытное поле?.. Как ни странно, тут теплилась жизнь. Уже осенью 1911 года здесь, на этом открытом всем ветрам, безводном; возвышенном над местностью участке зеленели первые опытные посевы хлебов. В 1912 году на краю опытного поля, которое занимало 10 десятин, был построен большой кирпичный дом-лаборатория, а на следующее лето – еще один, для заведующего и сотрудников станции. От порога этих домов начинались делянки с опытными посевами. В отличие от департамента Земледелия, Бюро прикладной ботаники всерьез отнеслось к своему "Степному отделению". Пусть и невелик штат его, – всего четыре человека, – но все уже на месте, у каждого свой круг обязанностей. В помощь им из Петербурга приезжали летом на опыты специалисты Бюро и практиканты. Наведывался и сам Регель – сохранился сделанный им в 1914 году фотоснимок, на котором видны оба каменных дома, сколоченные из досок сарай и конюшня, и опытные делянки в открытой степи. А вокруг – ни кустика. Докучаевские, Морозовские и Михайловские полосы в стороне от этого места. Выполняя заветы Докучаева, Регель "наложил заказ" на участки целинной и залежной степи, – создал степные заповедники, чтобы, писал Докучаев в "Трудах Экспедиции", "сохранить этот оригинальный СТЕПНОЙ МИР потомству НАВСЕГДА; чтобы спасти его для НАУКИ (а частью и ПРАКТИКИ); чтобы не дать безвозвратно погибнуть в борьбе с человеком целому ряду характернейших степных, растительных и животных форм..." На этих заповедных участках не одно поколение ботаников будет изучать степную растительность. Однако грянула война, и на степной станции остались двое – заведующий Литвинов, не призванный по болезни, да младший наблюдатель. Литвинов просидел здесь до 1917 года, потом и он, окончательно обессилевший, бросил хозяйство, бросил все личные вещи, с трудом добрался до Петрограда, где накануне свершилась пролетарская революция. 245 В ноябре Регель собрал ближайших своих помощников на совет. Подвели итоги: за время существования степной станции там испытано несколько десятков тысяч образцов пшениц, ячменей, овсов, проса, подсолнечника и других культур. На основании этих испытаний удалось разобраться в разновидностях многих культур, возделываемых в России. Результатом этого явился подготовленный и опубликованный первый в России "Определитель пшениц", какого не было еще нигде в мире. Однако и это не все: изучены все ячмени, установлена генетическая связь между культурными и дикорастущими овсами, систематизирована культура подсолнечника. Здесь велись работы по устойчивости хлебных злаков против поражения их ржавчиной, изучались причины полегания и вымерзания хлебов. – Невелика степная станция, – подытожил Регель, – однако добыты на ней обширные материалы, которые и легли в основу всей нашей научной деятельности. Говорили, конечно, и о том, что степная станция давно уже стала для них и основным поставщиком хлеба насущного – излишки зерна шли на пропитание сотрудников. Всем было ясно, что станция, оставленная в это неспокойное время на произвол судьбы, без персонала и средств может быть потеряна. Кому-то надо срочно отправиться в Каменную степь. Взоры собравшихся обратились на Александра Ивановича Мальцева. Он несколько раз бывал там, знает дороги, знает людей. Договорились: добраться надо во что бы то ни стало, хоть пешком, а весной приступит к работе в Отделе Николай Иванович Вавилов, он сменит Мальцева, приедет и будет заведовать станцией. С командировочным удостоверением от 27 ноября 1917 гола Мальцев отправился в путь, "чтобы спасти положение". Только через неделю, отморозив в дороге пальцы на ногах, он добрался до Каменной степи, которая очень скоро оказалась в полосе Фронтов гражданской войны. Опытная станции на долгие 246 месяцы сделалась стоянкой разных войсковых частей и их штабов. Такова предыстория, с которой суждено начаться новой странице истории, прочитать которую мне довелось еще с большим трудом.