Трынкин В. Наследие императорского Рима Microsoft Word
advertisement
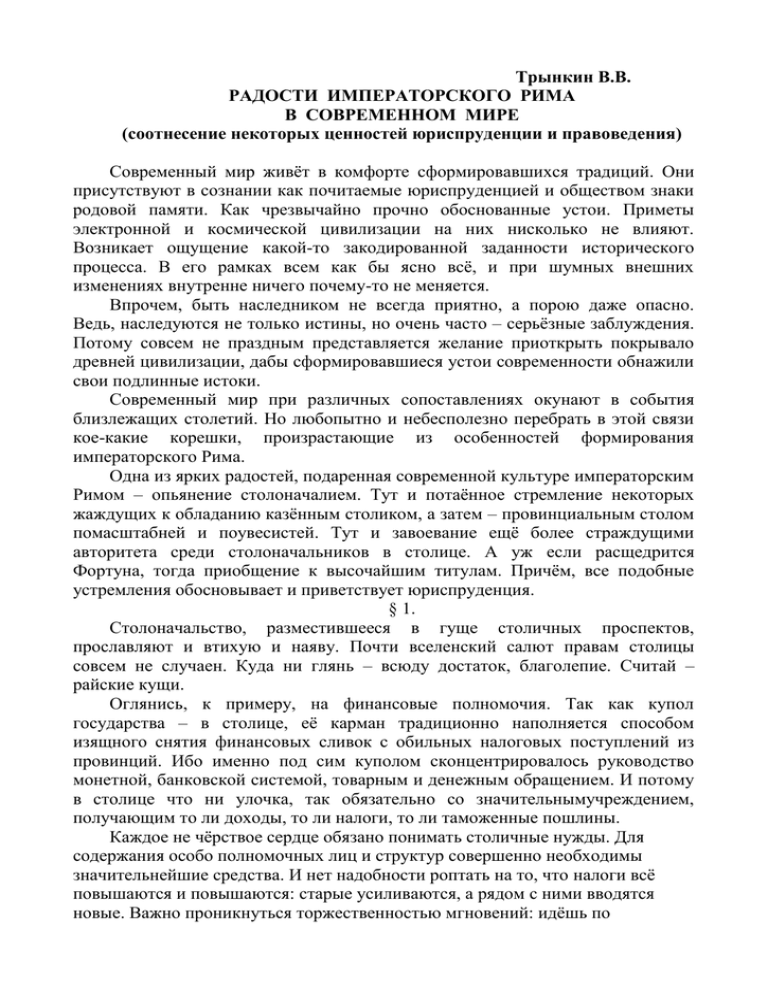
Трынкин В.В. РАДОСТИ ИМПЕРАТОРСКОГО РИМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (соотнесение некоторых ценностей юриспруденции и правоведения) Современный мир живёт в комфорте сформировавшихся традиций. Они присутствуют в сознании как почитаемые юриспруденцией и обществом знаки родовой памяти. Как чрезвычайно прочно обоснованные устои. Приметы электронной и космической цивилизации на них нисколько не влияют. Возникает ощущение какой-то закодированной заданности исторического процесса. В его рамках всем как бы ясно всё, и при шумных внешних изменениях внутренне ничего почему-то не меняется. Впрочем, быть наследником не всегда приятно, а порою даже опасно. Ведь, наследуются не только истины, но очень часто – серьёзные заблуждения. Потому совсем не праздным представляется желание приоткрыть покрывало древней цивилизации, дабы сформировавшиеся устои современности обнажили свои подлинные истоки. Современный мир при различных сопоставлениях окунают в события близлежащих столетий. Но любопытно и небесполезно перебрать в этой связи кое-какие корешки, произрастающие из особенностей формирования императорского Рима. Одна из ярких радостей, подаренная современной культуре императорским Римом – опьянение столоначалием. Тут и потаённое стремление некоторых жаждущих к обладанию казённым столиком, а затем – провинциальным столом помасштабней и поувесистей. Тут и завоевание ещё более страждущими авторитета среди столоначальников в столице. А уж если расщедрится Фортуна, тогда приобщение к высочайшим титулам. Причём, все подобные устремления обосновывает и приветствует юриспруденция. § 1. Столоначальство, разместившееся в гуще столичных проспектов, прославляют и втихую и наяву. Почти вселенский салют правам столицы совсем не случаен. Куда ни глянь – всюду достаток, благолепие. Считай – райские кущи. Оглянись, к примеру, на финансовые полномочия. Так как купол государства – в столице, её карман традиционно наполняется способом изящного снятия финансовых сливок с обильных налоговых поступлений из провинций. Ибо именно под сим куполом сконцентрировалось руководство монетной, банковской системой, товарным и денежным обращением. И потому в столице что ни улочка, так обязательно со значительнымучреждением, получающим то ли доходы, то ли налоги, то ли таможенные пошлины. Каждое не чёрствое сердце обязано понимать столичные нужды. Для содержания особо полномочных лиц и структур совершенно необходимы значительнейшие средства. И нет надобности роптать на то, что налоги всё повышаются и повышаются: старые усиливаются, а рядом с ними вводятся новые. Важно проникнуться торжественностью мгновений: идёшь по столичным улицам и ногой, так сказать, попираешь капиталы, «а уж нос твой так и слышит, что пахнет тысячами» (Гоголь). Громы возмущений ни к чему, если столичные персоны, отдыхая и играя, делают ставки под полмиллиона. Или для небольшого каприза позволят себе ловить рыбу позолочённой сетью. Или любимое копытное прикажут подковать серебряными подковами (Светоний). К провинциальному обеду достаточна колбаса или ещё какая-нибудь дребедень. А у столичного гурмана – утончённейший вкус. Не просто постичь восхищение деликатесом, когда филигранно сочетают: печень рыбы, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго и т.п. Конечно, для этого придётся разослать заказы по всему миру (Светоний). Но зато от прелести на столе прямо райское наслаждение. Кому-то не надоедает стонать о своей бедности. У столичных деловых людей заботы посерьёзней. Гений мотовства, например, два с половиной миллиарда, оставленные в наследство, сумеет растранжирить менее чем за год. И этот восхитительный пример у столичной элиты всегда находит подражателей. Единственным применением деньгам и богатству будет считаться мотовство. Светские дамы, например, «учатся только тому, как тратить деньги, а не сберегать их» (Шеридан). Некоторых столичных чиновников обвиняют в хищении из государственных хранилищ драгоценных подарков и украшений (Светоний). Это обидно и несправедливо. Не прорежай да не чисти время от времени хранилища, даримое добро просто некуда будет складывать. Столичный народ в тонкостях своего положения дока. Перепало откуданибудь пятьдесят тысяч – тотчас получай на сто тысяч кредита и имей в кармане тысяч сто пятьдесят. Главное – уметь занять. У хорошего столичного дельца – всё чужое: квартира, дача, машина, одежда. И совесть чиста, так как кредиторы – тоже не промах. Порой, получают за свои кредиты втрое и «взыскивают, только чтоб форму соблюсти» (Островский). По-правдешному судить никого нет смысла: «Делец и акционер, снабжающий его деньгами, стоят один другого. Оба хотят разбогатеть в один миг» (Бальзак). Простаки полагают, что богат тот, у кого много денег. Столичный народ богатеет от умения их добывать. И пусть какому-то завистнику сии деньги покажутся бешеными. На самом-то деле это очень умные деньги. Некоторые кричат: бешеные деньги не знают бюджета. Всё правильно. А умные столичные деньги прямо-таки обожают государственный бюджет. Столица – чинность, важность, превознесение. «Один швейцар уже смотрит генералиссимусом: вызолоченная булава, графская физиогномия» (Гоголь). Живущие в столице сильные мира сего – народ проверенный, поколениями отшлифованный. Добрая половина друг другу – родня да приятели. Случись кому-то отправиться на курорт – там вновь почти родные лица, закреплённые места отдыха: и по родству, и по чинам, и по званиям. Столица тем и потрясает воображение, что большинство живущих в ней – «раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и т.п.» (Толстой). Быть при благах и оставаться вне их, о чём мечтают завистники, как-то совсем уж странно. Правители обожают свой столичный рай. День ото дня придумывают «всё более великие и многочисленные планы устроения и украшения столицы» (Светоний). Славой исполинских сооружений они стремятся превознестись над другими державами. Залы дворцов потрясают иноземцев своим великолепием: интерьеры расписывают золотом, украшают драгоценными камнями, жемчужными раковинами. По желанию хозяина сверху опадают лепестки нежнейших цветов, из отверстий в стенах распространяются ароматы. Дабы всякий иноземец, оказавшийся в правительственных палатах, почувствовал благоговение перед невиданным великолепием. И все почитали бы могущество центра. § 2. Салют во славу центра гремит также из множества юридических орудий и батарей. Расцвечивает гирляндами аргументов необходимость особых прерогатив центра. Центральные органы, например, нужны ради арбитража при коллизиях между крупными субъектами правоотношений. В субъектах этих окопалась этнократия и она периодически инспирирует сепаратистские движения. От подобных движений – ущерб многим малым народам, угроза государственной целостности. Центр какому-то субъекту государства улучшает законы; нескольких других выводит из межправового тупика; поддерживает единообразие юридических условий на жизненном пространстве страны. Центр конечно же велик тем, что обеспечивает обороноспособность целого. Хотя ясно, что он – не дислоцированная по всем провинциям армия. Но при состоянии обороны правительство руководит и центральными, и провинциальными соответствующими структурами. Все надежды устремляются к центру, как только внутренняя безопасность страны начинает подавать сигналы «SOS!». То ли тревожат пограничные проблемы, то ли в какой-то из провинций заводится воинственный народец, нарушая общий покой населения – замирить и успокоить волнующихся может только центр. В одном случае помогают указы, в другом – отправка крупных чиновников, а кое-когда нелишне послать и вооружённые силы. Наконец, без центра никуда в межгосударственных отношениях: тут – дипломатические, торговые взаимодействия с заграницей, подкрепляемые юридическими гарантиями правительства. Следует из всех этих забот одно: какой бы юридической ниточки ни коснулся человек, она в конце концов обязательно дотянется до центрального клубочка. Потому центру – честь, хвала и юридические салюты без всяких ограничений. К кругу салютующих безусловно должна присоединиться вся провинция. Чтобы силой голосовых связок и лёгких неустанно благодарить. И в память о том, что театры военных действий, где поселян усмиряли войсками консулы, обозначались, в отличие от праздно живущего столичного Рима, как провинции. И в благодарность за то, что на покорённой территории творили полный военный и судебный произвол проконсулы. И в уважение к тому, что многие чужие земли, порабощённые и опустошённые войсками, получили важный статус территорий римского государства. Конечно, с полным усечением собственных прав. Поскольку жители провинций считались подчинённым народом и обязаны были платить Риму многочисленные подати. Так, пожалуй, современный юридический компас получил ориентиры. Стрелка в одну сторону – осиянная столица. Ей всё: вопросы войны и мира, госбезопасность, госпланирование, утверждение бюджета, налогов, управление банками, денежной системой, транспортом, связью, руководство отраслями, законотворчество и т.д., и т.п. Стрелка в другую сторону – местное самоуправление. То есть – не государственное. Провинциальное. Пусть оно оказывается, к примеру, советами, или комитетами, или мэриями. Важно понимать одно – это административно-территориальные, но никак не государственные структуры. И право у них подобающее – муниципальное. Помятуя о салюте из древнего Рима – провинциальное право. Объём его вписывается в традицию: если у центра – всё, у муниципалитетов – остальное. А вот с ответственностью – совсем по-другому: «центральная власть всегда сохраняет за собою право влиять на личный состав органов местного самоуправления» (Коркунов). Варианты разные: то ли прямое назначение, то ли возможность неутверждения, то ли воздействие на выборный процесс, когда результат выборов оказываются несогласным с видами центрального правительства. § 3. Слава Юлия Цезаря, Петра 1, Наполеона будоражит кровь. Зажигает души у множества подражателей. «Настоящий властелин …громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе…и ему же, по смерти, ставят кумиры» - судорожно соотносит события и ценности разгорячённая голова. И делает для себя вполне понятный вывод: стало быть, таким людям всё разрешается (Достоевский). Правоведение (в отличие от юриспруденции) уточняет эту приманку: человечку захотелось максимума полномочий. Захотелось ощутить силу императорского перста. Стать его духовным наперстником. Потому-то и думает человечек: Юлии цезари, петры первые, наполеоны имеют право и позволяют своей совести перешагнуть через высочайшую ценность – человеческую жизнь. И не через одну, а через сотни, тысячи, иногда миллионы. Ибо нет ничего упоительнее власти «над всею дрожащею тварью и над всем муравейником» (Достоевский). Многие полномочно приподнятые над землёй провинциальные персоны бурно переживают в душе подобные идейки. Им еженощно снятся высокие титулы, скорейшее перемещение в столицу и приобщение к опьянительному столичному раю. Рай в голове провинциальной персоны – безоглядное господство новоиспечённого столичного лица над теперь уже попираемыми в душе провинциалами (Гоголь). С поднебесья столичных куполов и шпилей провинция всё же – никчемное захолустье. Но на провинциальном насесте толк идёт прямо противоположный и очень бойкий: у кого выше козырёк полномочий и кто по праву должен быть столичным наперстником. Чаще и яростней схватки за первенство происходят в женском кругу. Так как столичный Эдем пока и, порой, надолго – лишь в вожделенных сновидениях, реальностью становится буйство полномочной особы на том провинциальном шестке, куда её усадили обстоятельства. Гнев из-за несопоставимости столичных и наличных полномочий непрестанно изливается прежде всего на родственников. Даже если особа живёт в захолустье, ходит в юбке и командует сугубо домашним окружением, всем должно быть ясно: её величие сравнимо с наполеоновским. Ведь в высотах провинциальной знати есть соперницы, у которых мужья – генералы, и которые страсть любят считать себя генеральшами (Достоевский). Юриспруденция, например, сей предмет не исследует. И очень зря. Ибо война положений и титулов в женской провинциальной олигархии, подчас, сложнее самой замысловатой юридической заварушки. Права на полномочия завоёвывают и отбивают в самых настоящих, не видимых закону битвах. В этой спрятанной от юридического пригляда сутолоке есть свои заговоры. Есть тайные и явные бунты. Наконец, присущие военным кампаниям осадные положения (Достоевский). Причём, всё очень серьёзно, хлёстко и исключительно по поводу не фиксируемых законом полномочий. Потому – неустанное подобострастие перед столицей и её сиятельными вояжёрами. Пусть сей вояжёр – полупокойник, коего почему-то забыли похоронить. Пусть у него вставные глаза и пробочные ноги. Пусть он более похож на куклу, которая вся на пружинах. – Никто этого не видит, ничуть это провинциальный бомонд не волнует. Главное, что он – сиятельство, ваше вашество, высшее сословие. Как говорится, «князь и в кульке князь, и в лачуге будет как во дворце» (Достоевский). Даже если швейцар при князе, и у него в голове вместо мыслей одни отруби, всё равно – сан, титул, столичный фрукт. А всё почему? Да потому, что ежели перед провинциальной знатью сиятельный вояжёр (или проходимец – часто не разберёшь), так уж ей мерещится его приёмная в светлопрестольной. А перед нею, в струнку – чиновники бог весть какого класса, генералитет. И всё «ожидает, дрожит, ждёт решения, в некотором роде судьбы» (Гоголь). А пуще того мерещится, что свалившийся на голову из столицы «с министрами играет и во дворец ездит». От всего такого страх невиданный: «стоишь как будто на какой-нибудь колокольне или тебя хотят повесить» (Гоголь). Куда ни глянь, в каждом провинциальном наперстничке –подобострастное равнение на столицу. Подогреваемое изнутри синдромом Бобчинского: чтобы и вельможи разные, сенаторы, адмиралы, а если случится, так и государь, знали, что живет в таком-то городе некий, скромно жаждущий полномочий. § 4. Приостановим хвалебные песнопения во славу достоинств столоначалий и центров, их завораживающих прав и привилегий. Присмотримся к древнеримским традициям с другого края. Высочайшие полномочия обретают, порой, претенденты, предугадать появление которых никто не в состоянии. Император Август, например, о своём внучатом племяннике Клавдии пишет откровенно: «он повреждён телом и душой» (Светоний). Август отстраняет его от всех должностей, а наследником оставляет только в третью очередь, среди людей совсем посторонних. Так Клавдий прожил большую часть своей жизни, как вдруг… достиг императорской власти. Естественно, что когда Клавдий сам разбирал и решал дела, вёл себя «иногда безрассудно и опрометчиво, а порой нелепо до безумия» (Светоний). Сие недужное правление продолжалось не месяц, не год, а почти полтора десятка лет. Исключение ли Клавдий? Скорей, правило. О будущем императоре Калигуле проницательно отзывались так: «Гай живёт на погибель себе и всем». Отвела ли такая характеристика претендента от престола? – Ничуть. Клиническая недужность – дело случая. Во много крат характерней недужность управленческая. Ведь, лицо на престоле вынужденно и объективно является дилетантом во множестве дел. При многополюсной некомпетентности лицо сие, меж тем, одним мановением пальца способно влиять на судьбу своей, а иногда и других стран. Царица поверженной провинции, например, иронизирует о всесилии императорского своеволия: «коль сыну моему / Отдаст он завоёванный Египет,/ Благодарить я буду на коленях,/ За то, что он моё мне подарил» (Шекспир). Складывается, следовательно, такая картина: необъятно многообразные полномочия мастеров и творцов целой страны, искусственно нарощенные в огромный конус и поставленные в зависимость от ими же укрепляемой вершины, превращаются как бы во властный термитник, обретший самостоятельность. Любая человеческая живность, попав в ту или иную ячейку термитника, облекается саном, осваивает осанку, научается господствовать над всеми не термитами. А если случай какую-то живность вбрасывает в самую верхнюю ячейку, тогда ей позволяется совершенно всё. Кто отвечает за фантастическую метаморфозу? Конечно же, не живность. Ведь новым мановением случая она может быть выдвинута из термитника, что происходит повсеместно. И тогда она опять ничем не будет отличаться от других живностей. Получается, что могуч почти магической искусственной силой сам сверхполномочный термитник. § 5. О великих полномочиях многие мечтают, к ним стремятся. Жаждут ими завладеть. Затаиваются, выказывая любовь повелителю, чтобы в миг удачи потребовать корону. Удача – не лотерейный билет, а устранение противника. Ибо цена за могучие права предельна. Альтернатив не сулит (Шекспир). Очень часто претендентами на трон становятся собственные сыновья. Особенно те, которые преуспевают в искусстве войны и мира, приобретают любовь народа. Дабы лишить принцев будущей славы, приспешники правителя усердствуют, превращая их в оболтусов. Чтобы легче было ими управлять (Спиноза). Дети любого знатного рода непосредственны: видя войны и повелителей, играют в сражения и императоров. Эти игры иногда стоят им жизни: в безобидной игре ребёнка, например, неистовствующий венценосец склонен предполагать зреющую претензию на дворцовый переворот. И безжалостно расправляется с несмыслёнышем. Так, например, поступил Нерон. Если вступают в схватку за трон два могучих претендента, тогда «у мира две звериных пасти./ И сколько ты им пищи не бросай,/ Одна из них другую загрызёт» (Шекспир). Речь о Помпее и Цезаре. Тиберий, уничтоживший всех родственников до третьего колена, ликовал – один на троне. Бесстыдно унижался перед ним, исполняя все его желания, усыновлённый Калигула. Но именно эта как бы растоптанная личность вначале извела правителя отравой, а затем, придавив подушкой, стиснула ему горло своими руками. Нельзя не фиксировать неотвратимость: под куполом верховных прав как в пекле – война всех против всех; и к букету полномочий движутся по костям предшественников. Правитель любим за присвоение титулов. Но каждое такое присвоение таит в себе угрозу потери. Ибо рост знатности равен появлению нового претендента. Потому вельможи, порой, мгновенно лишаются всех своих правовых достоинств (Светоний). Бывают и более крутые обстоятельства. Опасаясь за свои верховные полномочия, правители предпочитают уничтожать всех, кто превосходит окружающих происхождением, талантом или общественным уважением (Аристотель). Потому любой организующейся оппозиции – немедленная и беспощадная война. Людям она – всенародное бедствие. А держателю сверхполномочий – пусть крайнее, но всего лишь средство для достижения корыстных целей. Ещё одно нерадостное наблюдение: носитель могущественных полномочий может оказаться во вражде «едва ли не со всеми поколениями рода человеческого» (Светоний). Юлий, например, мечтавший с ранних лет о верховном господстве, как только представился удобный случай, развязал гражданскую войну. Август последовал этому жутковатому примеру. Да не раз. И так далее. Занавес памяти приоткрывает и собственные тяжкие деяния распоясавшейся вседозволенности. Император Клавдий на гладиаторских боях любил смотреть в глаза умирающим. Ради этого он всякий раз приказывал добивать даже упавших случайно. Чтобы испытать животную радость от вида смерти. Для императора Виттелия наказывать и казнить кого угодно и за что угодно было подлинным наслаждением. Память поведала о былом. Но это былое совсем не случайно запало в память. Будущее, конечно, по форме должно быть иным. А станет ли оно иным по сути? Ведь вновь и вновь чьи-то мечты устремляются к невиданным полномочиям. § 6. Юридическая догма гласит: отношение к верховному лицу строится на принципе верности. Правовой взгляд, реагируя на дисгармонию сверхполномочности, открывает иные истины. Опытный придворный, например, предостерегает: «Ах, что вредней безумного доверья?» Под перьями голубя может скрываться хищный ворон. Глаза доброй овцы часто таят смертельное намерение (Шекспир). Маячащая в виде тягостного миража измена превращает поле власти в отношения нервозной подозрительности. На правящие действия нахлёстывается сеть дополнительных забот по выявлению, отбраковке, устранению неустойчивых помощников. Дабы не предали в час невзгоды и не заразили остальных тлетворным духом. Насыщенная деловая жизнь правителя, от которого зависят важнейшие решения в стране, уступает место иному способу существования: сбору, классификации и разгадыванию всевозможных слухов. Ибо великим политикам положено «считать достоверным всё вероятное» (Бальзак). А часто – и невероятное. Стоит в окружении правителя кому-то, даже незначительной фигуре, случайно исчезнуть, мысли его тотчас же подсказывают назойливую отгадку: измена! (Шекспир). Юриспруденция, вводя за измену разные виды наказаний, теоретически делает акцент на следствии. Предписана, мол, верность, а за измену следуют санкции. Правоведение обнаруживает иное: измена лишь в формальноюридическом смысле наступает позже. В содержательно-правовом плане она, к сожалению, первичнее верности. Ибо передача сверхполномочий конкретному лицу одномоментно порождает массу завистников, конкурентов, врагов. Возникает неразрывное соотношение: «сверхполномочия – измена». А юридическое наказание – прерогатива победившей стороны. Взобравшийся на возвеличенное кресло тотчас же ощущает данное соотношение своим нутром. Император Август за торжественным столом к пище не прикасался. Терпел. Вдруг, отравят! Обедал либо до, либо после прибытия гостей. И так – четыре десятка лет своего правления. Выдержка! Император Клавдий «решался выйти на пир только под охраной копьеносцев и с солдатами вместо прислужников» (Светоний). Очень уж боялся за свою жизнь. Только не помогло – отравили. Император Тиберий спрятался от всех на недоступном скалистом острове. А один рыбак, зная береговой рельеф и ни о чём не подозревая, добрался до Тиберия, чтобы подарить ему большую рыбу. Тиберий, перепугавшись, что его обнаружили, приказал отхлестать рыбака его же подарком по лицу. Впрочем, и Тиберия ничто не спасло. Его, как помним, задушил Калигула. Не спасся от измены даже Цезарь, при всём его величии и ловкости. Покушения на верховных лиц, таким образом, являются неустранимым фактором сверхполномочного правления, о чём, в общем-то, известно. А коли так, значит с изменой приходится считаться не как с нарушением, а как с нормой, встроенной в институт сверхполномочной власти. § 7. Процедура введения юноши в королевскую рать всегда торжественна. Получая боевое оружие, он клянётся в верности воинскому долгу. В такие минуты сердце юноши пламенеет от переизбытка надежд: «Пусть мой успех врагов твоих низвергнет./ Я совершу свой долг, и все погибнут, / Коль зло на вас замыслят, государь» (Шекспир). Такое кажется вполне естественным, когда будущие воины готовят себя к тяжёлым походам, к доблестной карьере. Верность воинов особо почитается правителями. При этом почёт откровенно раскалывается: воинам – отец родной, а народу – царь с грозой. Отеческая забота повелителя, как понимают повзрослевшие воины, отдаёт каким-то торгашеским душком: «Вперёд, солдаты,/ Верьте все в успех!/ Вслед за победой ждёт награда всех» (Шекспир). Торгашеский душок распространяется на многое. Борясь за доверие войск, будущий император «сам освобождал провинившихся от бесчестия, ответчиков от обвинений, осуждённых от наказаний». Пока ещё не божественный Юлий, например, «был единственной и надёжнейшей опорой для подсудимых, для задолжавших, для промотавшихся юнцов», которым он «прямо и открыто говорил, что спасти их может только гражданская война» (Светоний). Таким образом, торг освобождал от чужих долгов, от уголовного преследования, от чего угодно, лишь бы поднабрать сторонников для захвата власти. Более того, такой компании приходилось даже платить. Залогом становилась будущая казна, которая предназначалась для оплаты походов сторонников и казней противников победившего режима. Успех в период военной смуты целиком зависит от преданности солдат. Понимая это, рвущийся к трону претендент о своей доле материальной добычи не думает вовсе. Он спешит поклясться войскам, что из захваченного «будет считать своим только то, что они ему оставят» (Светоний). Обещанное солдатам в момент крайней опасности, полностью, конечно, не исполняется. Иначе повелителю грозит нищета. Но вот одаривать воинов щедрыми подарками, тем самым покупая их верность, правители стремились всё чаще и чаще. Нормой становилась сделка: чем крепче верность, тем щедрее подарки. Юлий, например, раскошелился на пять тысяч динар каждому солдату, заполучив тем самым императорский трон. Август подхватил пример Юлия. Тиберий вычерпал из казны для солдат восемнадцать миллионов динариев. Калигула расплатился за престол той же суммой (Целлер). Каждая такая сделка заключалась между претендентом на трон и солдатами, а оплачивал её почему-то весь народ из государственной казны. Император, вроде бы, величественная фигура. Но при условии сделки с войсками он всецело зависит от растущего аппетита солдат. Во времена Полибия, положим, воины довольствовались одной нормой оплаты, при Цезаре наёмники принудили оплату им удвоить, а Доминиану потребовалось суммы за услуги солдат даже учетверить (Целлер). И, конечно же, при всех увеличениях поощрительных сумм выкраивались они не из карманов императоров, а из общенародного достояния. Восторженным юнцам, посвящаемым в воины, хочется пасть ниц перед фигурой повелителя. Но у зрелых профессионалов войны совсем другие взгляды. Когда император Гальба, например, вдруг, возгордился от того, «что привык набирать, а не покупать солдат», «он восстановил против себя все войска по всем провинциям» (Светоний). Вскоре заносчивый император с удивлением обнаружил, что его войска присягнули на верность новому претенденту, а сам Гальба со своей гордостью остался один-одинёшенек. Всеми покинутого, его жестоко изрубили на площади всадники конкурента. Ибо для воинов-профессионалов нарушивший условия сделки император – обыкновенный человек в статусе обманщика. С такими без церемоний расправляются. Август похитрее: если уж сделка, так со всеми подробностями. Потому он определяет чины, сроки службы, пособия по отставке. А в соответствии с ними назначает даже жалованье и наградные. Так появляется хорошая гарантия верности, пресекающая самое страшное – мятежи в войсках (Светоний). Чтобы окончательно устранить опасность, Август учреждает специальную казну для содержания войск, выделив её из общей казны. Естественно, за счёт введения новых налогов. То есть, укрепляет вооруженной силой сокровенное самовластье трудами и средствами всей страны. Коли труд и средства чужие, то не к лицу правителя скупость за военные подвиги. И Август поражает сограждан своей щедростью: «более тридцати полководцев получили при нём полные триумфы и ещё больше – триумфальные украшения» (Руссо). За победы, разумеется, в гражданских войнах. А значит средства страны, как и при Юлии – для уничтожения своих влиятельных сограждан. Разовыми подачками профессионалов войны не удержишь. А мятежные беспорядки при сверхполномочности одного лица продолжаются постоянно. Вследствие этого офицеров и солдат приходится периодически наделять имениями. Земли во владениях правителя не бесконечны. Раздавать их удобнее только за фактическую службу. Передумал служить или одряхлел – немедленно верни земли назад. Лишь при подобном обороте земель удаётся владеть дееспособным, профессиональным войском. Боевая служба, замешанная на сделке, принципиально отличается от доблестного служения отечеству. Воинский долг перед страной и людьми эквивалентен долгу мастера/творца из любой отрасли труда. И как труд высокой пробы, он безусловно оплачивается. Естественно, из общей казны. Но оплачивается самой страной и во имя счастья сограждан. В сделках правителей казна всё та же. А служака, оплачиваемый ею, совсем иного сорта – обыкновенный наёмник сверхполномочного верха, руками которого порабощается и грабится народ (Руссо). § 8. Клеопатра возмущалась: какому-то желторотому цезарю позволено решать – того царя сместить, того поставить (Шекспир). Действительно, юный Август не блистал силой, был болезненным. И в первом сражении, будучи выбит из своего лагеря, «едва спасся бегством на другое крыло к Антонию» (Светоний). По мере наращивания войск, Август вначале делил трон с Лепидом и Антонием, но постепенно избавился от того и от другого. Таким образом желторотый Октавий превратился в могущественного императора Августа, который правил не одно десятилетие. Но загадка долговременности его величия далеко не в нём самом: «преданное ему войско удержало за ним высшую власть» (Целлер). Тиберий перед восшествием на трон «долго отказывался от власти, разыгрывая самую бесстыдную комедию», как Ричард Ш у Шекспира. Меж тем, загодя «он уже окружил себя вооружённой силой, залогом и знаком господства» (Светоний). Наличие сверхполномочий, как выясняется, напрямую зависит от могущества преданных войск. Чем отличался король от крупных феодалов в былые времена? – Всегонавсего лишь большей численностью своего войска. Царь, диктатор, как и консул, прежде всего – военные предводители. Титул «император» родился на поле сражения: его как бы присваивали восторженные воины «после первой большой победы» (Целлер). Юлий Цезарь именно в силу победоносности своих войск сам возложил на себя диктатуру сначала на десять лет (хотя полагалось её получать лишь на полгода, максимум – на год), а потом – пожизненно. Правда, существует предел, зафиксированный Спинозой: у каждого лица лишь столько права, сколько мощи. Естественная мощь Юлия ограничивалась его собственным воинским искусством. Во всём остальном она поддерживалась только размером наградных да увеличенным денежным довольствием. А денежная верность оборачивалась мощью мечей его когорт. Мастера войны о подноготной императорской мощи знают отлично: «И Цезарь, и Антоний наш нередко / Чужим мечом победу добывали» (Шекспир). При подобном условии побеждать может даже женщина, вовсе не имеющая военных навыков: «Он полководец мой / И в битве представлял мою особу» (Шекспир). Естественен вывод: любой обычный человек самовозвышается на незримый небоскрёб сверхполномочий лишь благодаря частоколу мечей, образованному по периметру его жизненного пространства. Будь человек сей даже полной немощью, он, опираясь на имеющуюся вооружённую силу, способен совершать любую дерзость. Ибо «сто рыцарей готовы / Фантазии любые старика / В любое время поддержать оружьем» (Шекспир). Однако подлинные полномочия мастерства вырастают из нравственной всеобщности, подчиняясь в своих проявлениях регулятивной мощи права. Настоящие мастера/творцы защиты – нравственные побратимы всех иных представителей общества; никто их них даже во сне не посмеет без нравственно-правовой санкции поднять меч на другого человека, не допустит покушения на безоружных сограждан. Худому правителю данный скрытый правовой запрет – дополнительная головная боль. Даже денежная ловушка в этом случае – малонадёжный помощник. Тогда приходится полагаться на коварство. Итальянец Юлий Цезарь, например, окружил себя телохранителями из далёкой Испании. Фактически – бывшими противниками. И они, придя на землю Италии, в любом римлянине естественно видели врага. Калигула, мечтавший об единой шее у римского народа, чтобы удобней было её придушить, окружил себя телохранителями из Германии. Тоже – бывшими врагами. Впрочем, иногда встречается более худшее, если воин-соотечественник сам впитывает в себя заразу властолюбия. При императоре Марии именно из таких была создана когорта телохранителей, названных весьма броско – гвардией. «Они почли для себя за большую честь быть телохранителями Цезаря, чем защитниками Рима. И они-то, обречённые на слепое повиновение, держали… кинжал занесённым над своими согражданами и были готовы уничтожить всех по первому знаку» (Руссо). Интриги, повязанные с вооружённой силой, влекут за собой её неуклонное наращивание. Ибо лицам, намеревающимся подраться, частенько страшновато: а вдруг у противника чего-то будет больше и убийственней. Римские штабисты вначале танцевали вокруг строя войск в виде легионов. В каждом из них – более четырёх тысяч пеших и до трёх сотен всадников из набранных профессионалов смерти. Штабистам императора Мария такой ватаги головорезов показалось маловато. Дабы услаждать свою жадность и чувствовать себя спокойней, они влили в эту ощетинившуюся мечами толпу ещё полторы тысячи таких же. Военачальники Рима исходно отправляли в военный поход по два легиона. Но помыслы жадности и страх опережают даже быстролётную конницу. Потому «к консульскому войску из двух легионов прибавляется такой же сильнейший контингент союзников», причём, со временем это как бы закрепляется обычаем (Целлер). Страх обязывает воюющие головы к поиску абсолютных гарантий. И к периоду выталкивания на трон Веспасиана, военачальники увеличивают вооружённую лесополосу воинов до тридцати легионов. А ещё через время она превращается в настоящий воюющий лес, где легионов – сто семьдесят пять. Это уже почти миллион молодцов, обученных профессионально убивать и грабить. Пирамида власти, таким образом, укрепляет своё расширяющееся основание за счёт неотвратимо разрастающихся до непомерных размеров вооружённых сил. Так юридически и практически оформилась римская традиция. § 9. Любым торопливо мыслящим, возомнившим, будто народ испытывает неудобства от разных реквизиций в пользу вооружённых сил, следует усвоить главное: «Никакого количества золота недостаточно правительству, которому надобно кормить войско» (Мор). Народ пожелает торговаться, заерепенится – будет война. Захочет народ спокойной жизни, пусть помнит: средства на войско не подлежат отмене или уменьшению. Можно, конечно, любить чистоту конституционного поля. Только, нормальные люди привыкли считать деньги, взвешивать прибыль. С хорошей прибылью, откуда бы она ни возникала, о конституционных тонкостях печалиться нечего. Это прекрасно понимал Юлий Цезарь. И целеустремлённо «разорял города чаще ради добычи, чем в наказание» (Светоний). Он менее всего задумывался о законодательных и нравственных нелепостях. Встречаются на пути храмы богов, полные приношений, значит, всё драгоценное принадлежит предводителю войска. Кое-кто поспешно рассуждает, будто «конфискации имущества иноземных царей и государств», чем занимаются воюющие стороны, относятся к случайным доходам (Целлер). Но ничего нет случайного для тех, кто не скупится тратить средства на мощную армию. Пусть на неё ушла четверть или даже половина финансовых запасов страны. Однако сразу после военной кампании в доход правительства поступает целая казна другого государства. Никаким иным способом, да в самые сжатые сроки, столь мощной прибыли не получить. Рим, например, был завален «награбленным золотом и драгоценностями». И сноровистые лица руководящей касты сконцентрировали в своих руках колоссальные состояния (Светоний). Ушли в прошлое древние войны, наступил феодализм. Но военнофинансовая смекалка (за половину своей казны – чужую целую, а то и две) крепко засела в энергичные головы. И военный захват других государств ничуть не прекращался. Обозначились, казалось бы, совсем непохожие времена. Англия и Новая Англия, считай, родственницы. Но островной король столь же ретиво, как в иные эпохи, угнетал военной силой своих, может быть, более предприимчивых собратьев. Вот уж на трассе истории ХХ век, хотя можно проследовать и дальше. Япония к 30-м годам пообнищала. Для поправки положения рецепт тот же – военная оккупация обширных территорий Восточной и Юго-Восточной Азии и создание там военно-колониальной системы (Инако). Потому правительственно-деловой народ убеждён: самая твёрдая, обширно пополняемая валюта – от военных побед. Заодно уточним форму дележа добычи. Разношерстный провинциальный люд вновь может настаивать, что основную часть трофеев надо бы равномерно распределить среди населения. Но военный доход принадлежит по праву двум рискующим сторонам: верховной особе, отодвинувшей закон ради успешной победы, и боевым когортам, сумевшим добыть своим оружием золото и драгоценности. Впрочем, и данный вид дележа относителен. Если воины прониклись понятием «верховное право», значит, сила его распространяется на всякую завоёванную реальность. А тогда любая добыча целиком принадлежит правителю. И войска, помятуя о верховенстве прав, должны, порой, самоотверженно воевать, не получая жалованья. Причём, сознательным ветеранам войны нечего сетовать на задержки поощрительных выплат (Светоний). Может статься, что какая-то грустная персона, встав на сторону завоёванных, поведает об опустошении огромных территорий, об исчезновении на годы и десятилетия источников существования, об общем упадке жизни, попираемой войной (Руссо). Но при звуках триумфальных фанфар, печатном строевом шаге, звоне орденов и медалей думать о каких-то нелепостях даже как-то обидно. § 10. И всё же почитатели права (не закона) обходят стороной вооружённую нормами и санкциями юриспруденцию, подаренную современному миру порядками императорского Рима. Вместо организованной правительствами, армиями и законами защиты ими выращивается взаимопонимание. Точка его зарождения – две души, подлинно свободные, признающие и оберегающие взаимные полномочия и права. Или иначе: в понятии права «вопрос стоит лишь о форме двустороннего отношения, поскольку он рассматривается исключительно как свободный, и о том, совместим ли в такой форме поступок одного из двух лиц со свободой другого, сообразно со всеобщим законом» (Кант). Таким способом заложен поворотный камень, от которого движутся в принципиально разные стороны юриспруденция и правоведение. Юриспруденция, если взглянуть на неё из стратосферы всеобщего, поднимается по оси истории однообразнейшей спиралью: от жажды удовольствий властвования – приобретение сверхполномочий, от приобретения – их захват, от захвата – алчность, от алчности – охрана, от охраны – распри и схватки. Ради этих виражей власти юриспруденция услужливо вколачивает столбики норм, перекрывает к ним доступ народа шлагбаумами санкций. А итог всё тот же: распри да схватки – меж поколениями состоявшихся сверхполномочных и отчаянно топчущих им пятки претендентов. Без законов тут никак не обойтись. Они, во-первых, нужны самой специфике данного пути. Там, где распри да схватки, где вокруг чужаки да враги, главное – нападать и обороняться. То и другое законы блестяще освоили. И они успешно помогают сильной властной стороне (нынешней или сменяющей её) укоротить слабую. Схватки лишают сил и ресурсов. Нужны мгновенные мобилизационные пополнения. Они – у не участвующего в схватках народа. Второе назначение законов – обязать народы поддерживать тех или иных немногих, сражающихся за полномочия. Так чередующиеся властолюбцы (сильные и слабые, новые и старые, сметливые и не очень) непреклонно обеспечивают себе важнейшее условие – рулить, как яхтами, народами ради собственных прихотей. Но народы – не яхты… Движение от поворотного камня к праву происходит при категорическом отторжении гонки за сверхполномочиями. Тогда исчезает потребность их приобретения, тем более – захвата. Не возникает алчность. Нет надобности в их оберегании. Линия агрессии растворяется как бы сама собой. Без гонки за сверхполномочиями устанавливается совершенно иной строй отношений. Каждый человек обнаруживает себя в масштабе человечества. Когда память собирает в круг друзей и прошлые, и будущие поколения. При этом соблюдается верность внутреннему условию: принципиально чтить естественные права других людей. Да, растить своё мастерство, ориентируясь на идеал творчества. Тем самым обретаются не угнетающие, а естественные, подлинно авторитетные полномочия. Затем плодами своего умения обмениваться с другими мастерами да творцами. Создавать семьи. Воспитывать детей. Вводить их в круг движения естественных полномочий и прав. В не юридическом пространстве так фактически постоянно жили и живут народы. В Китае, например, население старается строить отношения, вообще не затрагивая законов. Людей совершенно не интересует, какие в законах прописаны нормы. У них реально нет надобности для обращения в суд. В Японии – та же картина. Обращение в суд — это… поведение, достойное порицания. Обменные, денежные отношения, даже происшествия, приводящие к серьёзным последствиям, люди стараются уладить по взаимному согласию. Восток ли, Запад ли, Север ли, Юг: всюду присутствует в стороне от законов особый строй бытия – естественно-правовой. Он развивался бы вполне органично, не будь вторжения в него персон, жаждущих сверхполномочий и опирающихся на пирамиды власти, войска и законы. § 11 В естественно-правовом порядке бытия отношения между провинциями и центром вполне могут являть собою поле уравновешенной стабильности. От центра, ведь, ожидается грамотное, справедливое, честное использование приобретённых полномочий на общее благо. В республиканском Риме, к примеру, пропорция между центром и провинцией равнялась 1:1000 (4 тысячи : 4 миллиона). Выйди-ка в чистом поле один против тысячи, он мгновенно сообразит, с какой степенью честности нужно использовать оказанное ему доверие. Но в жизни – резко по-иному. Вооружённая столица – в укреплённом городе; провинция, как правило, предоставлена сама себе (Сен-Симон). Провинциальная знать ждёт высшие титулы и должности, столичный люд их носит, ими пользуется. Золотые прииски финансов находятся, как ни странно, не в провинции, а в столице, в её коммерческом центре (Бальзак). «Стены городов возводятся из обломков домов деревень, - напоминает Руссо.- При виде каждого дворца, возводимого в столице, я словно вижу, как разоряют целый край». Персоны, хлебнувшие столичного нектара райской жизни, убеждённо делят людей на два разряда: имеющих мнение, дар и талант и ничего не имеющих, годных лишь на вспомогательный материал (Достоевский). С римских времён провинциальный люд носит негласное клеймо «варвары», для которых в юридическом плане предназначены «либо цепи, либо смерть» (Сен-Симон). Хотя сами законы о данной коллизии смиренно помалкивают. Задумываться время от времени всё-таки не мешает: что же происходит с правовым глобусом, если важнейшие полномочия концентрируются в отдельных его точках – столицах? Л.Толстой неспешен в оценках. За невыдержанность, помним, осуждал даже Шекспира. Романы свои многократно передумывал и переписывал. Значит, сказанное им сто раз взвешено и отмеряно. Но приговор – как пощёчина наотмашь: столичный город – Вавилон. Может, всё же погорячился? У Юлия Цезаря – императорский сан. А собственные воины распевают: «Нынче Цезарь торжествует, покоривший Галлию, Никомед же торжествует, покоривший Цезаря». Мол, над тобой, императором, есть ещё более высокий – твой любовник (Светоний). Плюс его покушения на честь чужих жён и девиц. Но если душа, ухватившая все полномочия, тащит их в постель растлений и блуда, растлеваются права на пользование этими полномочиями. Даже тогда, когда закон остаётся как бы безучастным. Центр, наследующий полномочия от одного правителя к другому, вроде обеспечивает их сохранность. Но император Калигула, транжиря всё и вся, сохранял единственное – безудержный блуд. Может быть, два именитых лица – некоторое исключение? Но вот ещё императорская фигура – Нерон. С одной стороны, сжигает бедные кварталы столицы вместе с людьми, опираясь на могучие полномочия; с другой стороны, ритуально сохраняет право на невообразимый разврат (Светоний). Первые лица, подающие пример, конечно же, находят многочисленных подражателей. И если последующие эпохи спрятали за шторками этикета поведение коронованных особ, то уж для менее выпуклой знати шторки не очень-то нужны. Порок, полномочно разместившийся во дворце, откровенно переместился в знатные кварталы столицы. Из ХХ века – тот же тревожный сигнал: «Шантаж, грабёж, убийство, произвол…», «Город гибнет, гниёт…» (Брехт). Полномочия, сконцентрированные на одной клумбе-столице огромного сада-страны, словно травят сами себя, давая ядовитые всходы. При чём тут правовая подоплёка – усомнится кое-кто. Провинция, мол, тоже – не беспорочная девица. Как на её верхних этажах, так и на нижних. Да иногда внизу порок поразухабистей. Порок нижних этажей провинции – не от безделья и пресыщения, а от безысходности, клеймом нужды выжженной (Островский). Юным созданиям, например, нищета выматывает душу, а от соблазнителей нет отбоя. И они-то как раз для девичьих судеб становятся полчищем недругов. Захваченные столицей полномочия оставляют для провинции опустошённое поле жизни. И люди теряют человеческий облик: от постоянного и полного бесправия, лишений, нужды, голода. Всякое самовольное проявление личности в человеке, лишённом прав, закон трактует как преступление. И провоцирует людей на большие проступки. Шкала степеней ответственности человека стирается, когда он осознаёт, что его ждёт наказание за любую мелочь. Ему становится всё равно (Достоевский). Понятие о законе для народа перестаёт существовать, так как оно растоптано несправедливостью сверхполномочий центра. Нижний этаж социальной иерархии более не признаёт себя обязанным не только центру, но и законам в целом. Возникает типичное социально-правовое явление: центр предписывает жить по указам и законам, провинция прикидывается глухонемой. О законах вспоминает лишь провинциальная знать, когда с их помощью навязывает свою волю людям. А народ «называет преступление несчастьем», преступников – несчастными людьми (Достоевский). Подытожим. Правовые полномочия при справедливом и равновесном распределёнии способны покрывать всю поверхность правового глобуса. Насильное стягивание их в отдельные точки, именуемые «центрами», разрывает правовую поверхность на диспропорциональные части. Огромные осколки полномочий, присваиваемые точками, деформируют субстанцию права в «центрах» (она разлагается от сконцентрированной несправедливости) и в «провинциях» (в силу дистанцирования бесправного населения от всякой ответственности). Таким образом, игнорируемая или скрываемая юриспруденцией проблема мощно заявляет о себе в правовом плане. § 12. Центр, как непреклонная законодательная реальность, не у всех знатоков вызывает восхищение. Кое-кто полагает, что если полномочия центра будут использоваться ради всего населения, тогда его покровительственная роль приемлема (Цицерон). Встречается, впрочем, иной подход, отклоняющий всякие «если» и обозначающий проблему по существу: любой центр, пусть просвещённый, пусть искушённый, в принципе не способен «охватить все частности жизни великого народа». Он фактически влияет на узкий круг дел, либо пускает всё на самотёк, создавая лишь видимость участия (Токвилль). Полномочия, подчинённые принципу централизации, подпадают под воздействие искусственного центростремительного эффекта: государство, сведённое к столице, далее сужается до круга высшей знати, а затем – до сверхполномочной особы. Но точка ни при каких обстоятельствах не в силах подменить собою дееспособность громадного целого — государство гибнет (Монтескье). Уповающие на величие центра, видимо, любят географию. Где линии на карте со всех концов как бы радужно устремляются к центру. Только вот страна – фантастическая по своей сложности структура отношений. Учесть действие её даже важнейших факторов почти невозможно. И уж совсем романтично желание управлять ею из единого центра. Думающие люди предлагают: надо бы избежать «ловушки центрального правительства». А для этого осуществлять все политико-правовые эксперименты на основе самоуправляющегося целого (Остром). Иногда на глазах людей разворачивается жизненный анекдот: центр начинает бороться за искоренение централизации. Проводя, скажем, какиенибудь демократические или либеральные реформы. Для таких неожиданных ожиданностей действует политико-правовое предостережение: «централизация является превосходным тормозом в любых начинаниях» (Токвилль). Поскольку случается следующее: вместо реальных шагов творческих коллективов во многих направлениях иной центр выстраивает у своего парадного подъезда очередь за разрешениями на право делать эти шаги. А потом создаёт мощную цензорско-коррекционную структуру по приведению всех проектов к единообразию. И в конце концов гасит всеобщую энергию. Исторический стереотип, возвышающий центр и принижающий остальные территории – вещь могучая. К тому же он постоянно на все лады подогревается столичной знатью. Но может ли океан жизни быть сведён к отдельным рифамстолицам? И в состоянии ли рифы-столицы воплощать в себе невообразимую мощь океана людских отношений, олицетворяющих человечество? Возвысившееся по подобных масштабов сознание убеждено: «Республике централизация совсем не нужна» (Герцен). Океану человеческих отношений гораздо естественней и эффективней опираться на ацентрическую, полимасштабную модель социально-правового взаимодействия. Для этого важно обнаружить механизм рассредоточения полномочий, чтобы в делах государства было заинтересовано максимальное число граждан (Токвилль). Тогда место исключительной компетенции центра займёт консолидирующая компетенция гармонично структурированных социальноправовых сил. Дисгармония отношений, стянутых к центру, вполне может быть перенаправлена к достижению социально-правовой гармонии. Океану человеческих отношений нет нужды подстраиваться под отвердевшие стереотипы рифов-столиц. Примечание: подробнее об идеях, затронутых в статье, см. в: Трынкин В. Саркофаги и солнце. Полномочия права. Нижний Новгород. 2005.