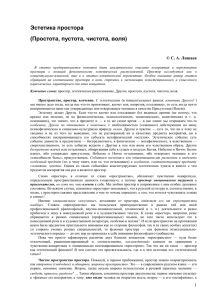Хайдегер М. Искусство и пространствоx
реклама
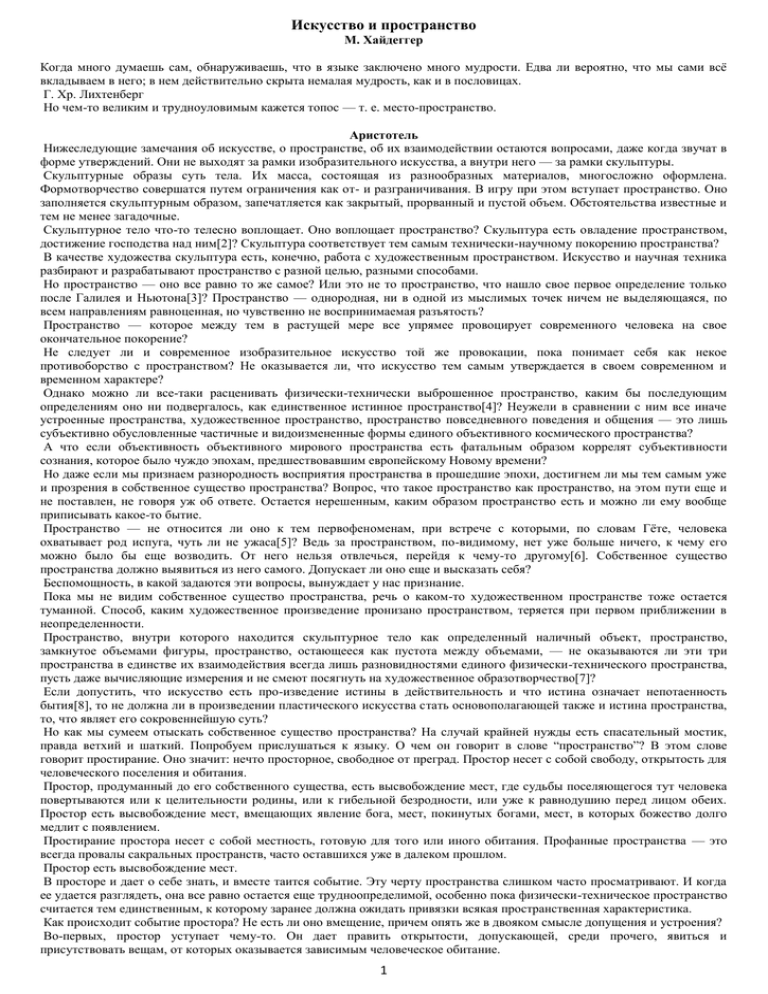
Искусство и пространство М. Хайдеггер Когда много думаешь сам, обнаруживаешь, что в языке заключено много мудрости. Едва ли вероятно, что мы сами всё вкладываем в него; в нем действительно скрыта немалая мудрость, как и в пословицах. Г. Хр. Лихтенберг Но чем-то великим и трудноуловимым кажется топос — т. е. место-пространство. Аристотель Нижеследующие замечания об искусстве, о пространстве, об их взаимодействии остаются вопросами, даже когда звучат в форме утверждений. Они не выходят за рамки изобразительного искусства, а внутри него — за рамки скульптуры. Скульптурные образы суть тела. Их масса, состоящая из разнообразных материалов, многосложно оформлена. Формотворчество совершатся путем ограничения как от- и разграничивания. В игру при этом вступает пространство. Оно заполняется скульптурным образом, запечатляется как закрытый, прорванный и пустой объем. Обстоятельства известные и тем не менее загадочные. Скульптурное тело что-то телесно воплощает. Оно воплощает пространство? Скульптура есть овладение пространством, достижение господства над ним[2]? Скульптура соответствует тем самым технически-научному покорению пространства? В качестве художества скульптура есть, конечно, работа с художественным пространством. Искусство и научная техника разбирают и разрабатывают пространство с разной целью, разными способами. Но пространство — оно все равно то же самое? Или это не то пространство, что нашло свое первое определение только после Галилея и Ньютона[3]? Пространство — однородная, ни в одной из мыслимых точек ничем не выделяющаяся, по всем направлениям равноценная, но чувственно не воспринимаемая разъятость? Пространство — которое между тем в растущей мере все упрямее провоцирует современного человека на свое окончательное покорение? Не следует ли и современное изобразительное искусство той же провокации, пока понимает себя как некое противоборство с пространством? Не оказывается ли, что искусство тем самым утверждается в своем современном и временном характере? Однако можно ли все-таки расценивать физически-технически выброшенное пространство, каким бы последующим определениям оно ни подвергалось, как единственное истинное пространство[4]? Неужели в сравнении с ним все иначе устроенные пространства, художественное пространство, пространство повседневного поведения и общения — это лишь субъективно обусловленные частичные и видоизмененные формы единого объективного космического пространства? А что если объективность объективного мирового пространства есть фатальным образом коррелят субъективности сознания, которое было чуждо эпохам, предшествовавшим европейскому Новому времени? Но даже если мы признаем разнородность восприятия пространства в прошедшие эпохи, достигнем ли мы тем самым уже и прозрения в собственное существо пространства? Вопрос, что такое пространство как пространство, на этом пути еще и не поставлен, не говоря уж об ответе. Остается нерешенным, каким образом пространство есть и можно ли ему вообще приписывать какое-то бытие. Пространство — не относится ли оно к тем первофеноменам, при встрече с которыми, по словам Гёте, человека охватывает род испуга, чуть ли не ужаса[5]? Ведь за пространством, по-видимому, нет уже больше ничего, к чему его можно было бы еще возводить. От него нельзя отвлечься, перейдя к чему-то другому[6]. Собственное существо пространства должно выявиться из него самого. Допускает ли оно еще и высказать себя? Беспомощность, в какой задаются эти вопросы, вынуждает у нас признание. Пока мы не видим собственное существо пространства, речь о каком-то художественном пространстве тоже остается туманной. Способ, каким художественное произведение пронизано пространством, теряется при первом приближении в неопределенности. Пространство, внутри которого находится скульптурное тело как определенный наличный объект, пространство, замкнутое объемами фигуры, пространство, остающееся как пустота между объемами, — не оказываются ли эти три пространства в единстве их взаимодействия всегда лишь разновидностями единого физически-технического пространства, пусть даже вычисляющие измерения и не смеют посягнуть на художественное образотворчество[7]? Если допустить, что искусство есть про-изведение истины в действительность и что истина означает непотаенность бытия[8], то не должна ли в произведении пластического искусства стать основополагающей также и истина пространства, то, что являет его сокровеннейшую суть? Но как мы сумеем отыскать собственное существо пространства? На случай крайней нужды есть спасательный мостик, правда ветхий и шаткий. Попробуем прислушаться к языку. О чем он говорит в слове “пространство”? В этом слове говорит простирание. Оно значит: нечто просторное, свободное от преград. Простор несет с собой свободу, открытость для человеческого поселения и обитания. Простор, продуманный до его собственного существа, есть высвобождение мест, где судьбы поселяющегося тут человека повертываются или к целительности родины, или к гибельной безродности, или уже к равнодушию перед лицом обеих. Простор есть высвобождение мест, вмещающих явление бога, мест, покинутых богами, мест, в которых божество долго медлит с появлением. Простирание простора несет с собой местность, готовую для того или иного обитания. Профанные пространства — это всегда провалы сакральных пространств, часто оставшихся уже в далеком прошлом. Простор есть высвобождение мест. В просторе и дает о себе знать, и вместе таится событие. Эту черту пространства слишком часто просматривают. И когда ее удается разглядеть, она все равно остается еще трудноопределимой, особенно пока физически-техническое пространство считается тем единственным, к которому заранее должна ожидать привязки всякая пространственная характеристика. Как происходит событие простора? Не есть ли оно вмещение, причем опять же в двояком смысле допущения и устроения? Во-первых, простор уступает чему-то. Он дает править открытости, допускающей, среди прочего, явиться и присутствовать вещам, от которых оказывается зависимым человеческое обитание. 1 Во-вторых, простор приготовляет вещам возможность принадлежать каждая своему “для чего” и, исходя из этого, друг другу. В двусложном простирании — допущении и приготовлении — происходит осуществление мест. Характер этого события есть такое осуществление. Но что есть место, если его собственное существо должно определяться по путеводной нити высвобождающего простора? Место открывает всякий раз ту или иную область, собирая вещи для их взаимопринадлежности в ней. В месте играет собирание вещей — в смысле высвобождающего укрывания — в их области. А область? Более старая форма этого слова звучит “волость”. Это то же слово, что латинское valeo, “здравствовать”. Оно именует собственное владение, свободная обширность которого впервые позволяет всякой владеющей им вещи открыться, покоясь в самой себе. Но одновременно им названо и сбережение, собирание вещей в их взаимопринадлежности. Возникает вопрос: разве места — это всего лишь результат и следствие вместительности простора? Или простор получает собственное существо от собирающей действенности мест? Если второе верно, то нам следовало бы отыскивать собственное существо простора в местности как его основании,. следовало бы подумать о местности как взаимной игре мест. Нам следовало бы обратить внимание на то, что — и как — область своей свободной широтой делает эту игру зависимой от взаимопринадлежности вещей. Нам следовало бы научиться понимать, что вещи сами суть места, а не просто принадлежат определенному месту. В таком случае мы были бы вынуждены допустить на длительное время странное положение вещей: Место не располагается в заранее данном пространстве типа физически-технического пространства. Это последнее впервые только и развертывается под влиянием мест определенной области. О взаимодействии искусства и пространства следовало бы думать исходя из понимания места и области. Искусство как скульптура: вовсе не овладение пространством. Скульптура тогда не противоборство с пространством. Скульптура — телесное воплощение мест, которые, открывая каждый раз свою область и храня ее, собирают вокруг себя свободный простор, дающий вещам осуществляться в нем и человеку обитать среди вещей[9]. Если это так, чем будет объем скульптурного образа, телесно воплощающего место? Наверное, объем уже не будет отграничивать друг от друга пространства, где поверхности облекают что-то внутреннее, противопоставляя его внешнему. То, что получило название объема, должно было бы утратить это свое имя, значение которого лишь так же старо, как техническое естествознание Нового времени. Ищущие мест и местообразующие черты скульптурного воплощения должны будут остаться пока безымянными[10]. А что станет с пустотой пространства? Достаточно часто она предстает как просто нехватка. Пустота расценивается тогда как отсутствие заполненности полостей и промежуточных пространств. Но, возможно, как раз пустота сродни собственному существу места и потому она вовсе не отсутствие, а произведение[11]. Снова язык способен дать нам намек. В глаголе “пустить” звучит впускание, в первоначальном смысле сосредоточенного собирания, царящего в месте. Пустой стакан значит: собранный в своей высвобожденности и способный впустить в себя содержимое. Опускать снятые плоды в корзину значит: предоставлять им это место. Пустота не ничто. Она также и не отсутствие. В скульптурном воплощении пустота вступает в игру как ищущевыбрасывающее допускание, создание мест. Вышеизложенные замечания, конечно, не идут так далеко, чтобы указать уже со всей ясностью на собственное существо скульптуры как вида изобразительных искусств. Скульптура: телесно воплощающее произ-ведение мест и, через эти последние, открытие областей возможного человеческого обитания, возможного пребывания окружающих человека, касающихся его вещей. Скульптура: телесное воплощение истины бытия в ее созидающем места про-из-ведении. Уже один внимательный взгляд на собственное существо этого искусства заставляет догадываться, что истина как непотаенность бытия не обязательно привязана к телесному воплощению. Гёте говорит: “Не всегда обязательно, чтобы истинное телесно воплотилось; достаточно уже, если его дух веет окрест и производит согласие, если оно как колокольный звон с важной дружественностью колышется в воздухе”[12]. [1] Одна из поздних статей Хайдеггера, опубликованная вскоре после написания (Heidegger М. Die Kunst und der Raum. Sankt Gallen: Erker, 1969. 26 S.). [2] По К. Фидлеру (1841—1895), искусство в процессе формотворчества достигает господства над хаосом;. у Г. Вельфлина (1865—1945) плоскостность и глубинность — одна из пяти пар оппозитивных категорий, определяющих художественную форму; по М. Дессуару (1867—1947), скульптура как “пространственное искусство” овладевает пространством. Ср. сходные установки у А. Хильдебрандта, Г. Воррингера, А. Ригля, Э. Утица. Употребив один из ключевых терминов “всеобщей науки об искусстве”, Хайдеггер открыто противопоставляет свой подход ее представлениям об искусстве как размещении художественных форм в научно фиксируемом пространстве. [3] Имеется в виду неопределенность пространства (и времени) в античности и средневековье. Уподобляя “восприемницухору” (cwra, “место, страна”) матери (а прообраз отцу), Платон находит почти невозможным “сказать что-либо точнее” об этом “трудном и смутном роде”: по сути дела, он в принципе отрицает определимость пространства ввиду его “крайне сомнительной причастности” к области понятий (Тимей 49а, 51 ab). Аристотель (ср. эпиграф) недоумевает не только относительно того, что представляет собой место-пространство, но и не знает, существует ли оно (Физика IV 1, 209а, 29 — 30). Ср. известное замечание Августина о невозможности выразить, что такое время. Не случайно в античности и в Средние века термин для “пространства” отсутствовал. Неопределенной по своему (тогдашнему) определению оставалась и “материя”. [4] Ср. “Время картины мира”. Пространство как однородная протяженность была впервые “спроектирована” в Новое время человеческим сознанием, отождествившим себя с субъектом. [5] “Перед первофеноменами, когда они неприкрыто являются нашим чувствам, мы ощущаем род испуга, чуть ли не ужаса. Чувственные люди спасаются в недоумение; но быстро является деловитый сводник-рассудок и начинает на свой 2 манер сочетать благороднейшее с пошлейшим” (Гёте. Максимы и рефлексии. № 412). “Человек должен быть способен подниматься к высшему разуму, чтобы соприкоснуться с божеством, открывающимся в первофеноменах, физических и нравственных, за которыми оно стоит и которые от него исходят” (Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. Запись от 13.2.1823). Ср. также “Фауст” II 1, 6212—6216; 6246—6248: Фауст испуган и содрогается, услышав о Матерях, вокруг которых “нет места, ни тем более времени”, “один сквозной беспочвенный простор” (свободный перевод Б. Пастернака). [6] “Пространство — необходимое представление a priori... Никогда невозможно составить представление о том, что нет пространства...” (Кант И. Критика чистого разума. А 24). [7] “Я, правда, могу рассматривать статую Аполона в музее в Олимпии как объект естественнонаучного представления; могу физически рассчитать этот мрамор с точки зрения его веса, могу исследовать мрамор по его химическому составу. Но эта объективирующая мысль и речь не видит Аполлона, каким он показывает себя в своей красоте, являя себя в ней как облик бога” (Heidegger М. Phanomenologie und Theologie. Frankfurt а.М., 1970, S. 42). [8] Ср. “Начало произведения искусства” (Heidegger М. Holzwege. Frankfurt а.М., 1963, S.25): “Что правит в произведении? Картина Ван Гога есть раскрытие того, чем вещь, пара крестьянских ботинок, является в истине. Это сущее выступает в непотаенность своего бытия... В произведении искусства действенно про-из-ведена истина сущего”. [9] Греческий храм “впервые связывает и одновременно собирает вокруг себя цельное единство тех путей и отношений, следуя которым рождение и смерть, беда и благодать, победа и позор достигают сплочения в творческий образ и создают движение человеческого существа в его судьбе” (ibid. S. 30—31). [10] См. выше прим. 3. [11] По Аристотелю, который также разбирает пустоту непосредственно вслед за пространством (“местом”), пустота возможна разве что в смысле причины движения. Причина понимается Хайдеггером как произведение, выведение к явленности (см. “Вопрос о технике”). С истолкованием причины как произведения связано понимание искусства как начала: “Начало произведения искусства, т. е, одновременно творящего и хранящего себя в Истине, а это значит, исторического бытия определенного народа, есть истина. Это так, потому что искусство в своем существе есть начало и ничто иное: отличительный способ, каким истина становится существующей и тем самым сбывается в истории” (ibid. S. 65). [12] Гёте, Максимы и рефлексии, № 466. 3