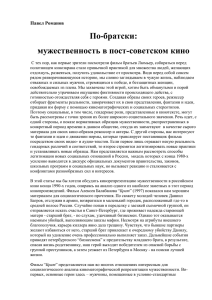Ирина Новикова Исторические и культурные значения мужественности складываются в различных
реклама
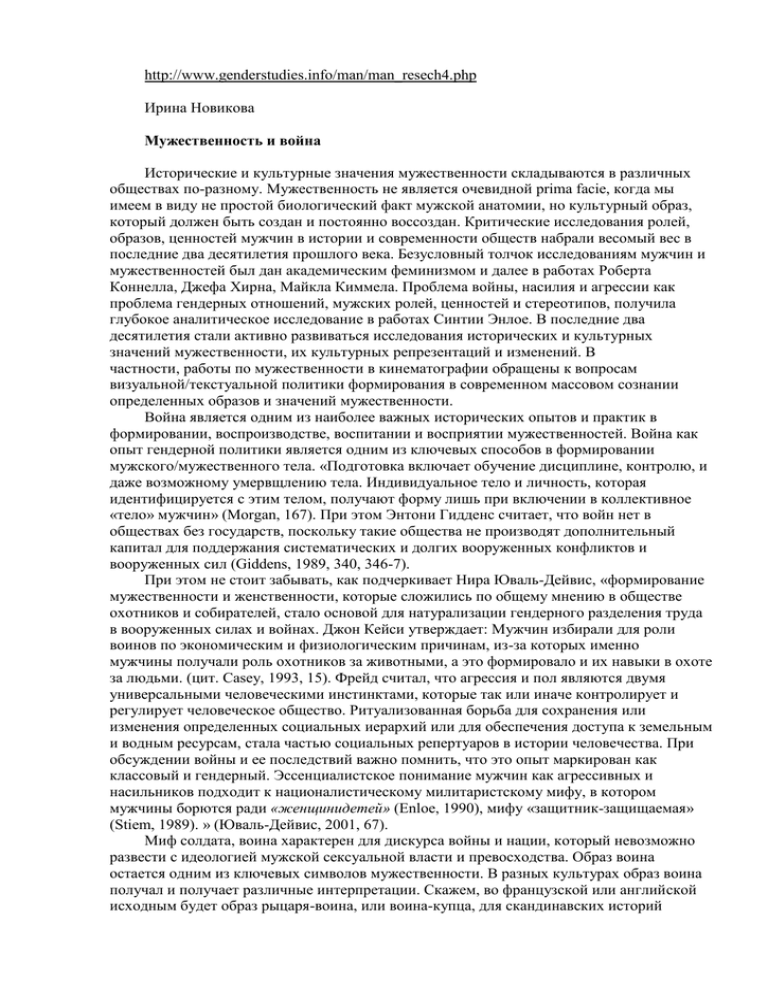
http://www.genderstudies.info/man/man_resech4.php Ирина Новикова Мужественность и война Исторические и культурные значения мужественности складываются в различных обществах по-разному. Мужественность не является очевидной prima facie, когда мы имеем в виду не простой биологический факт мужской анатомии, но культурный образ, который должен быть создан и постоянно воссоздан. Критические исследования ролей, образов, ценностей мужчин в истории и современности обществ набрали весомый вес в последние два десятилетия прошлого века. Безусловный толчок исследованиям мужчин и мужественностей был дан академическим феминизмом и далее в работах Роберта Коннелла, Джефа Хирна, Майкла Киммела. Проблема войны, насилия и агрессии как проблема гендерных отношений, мужских ролей, ценностей и стереотипов, получила глубокое аналитическое исследование в работах Синтии Энлое. В последние два десятилетия стали активно развиваться исследования исторических и культурных значений мужественности, их культурных репрезентаций и изменений. В частности, работы по мужественности в кинематографии обращены к вопросам визуальной/текстуальной политики формирования в современном массовом сознании определенных образов и значений мужественности. Война является одним из наиболее важных исторических опытов и практик в формировании, воспроизводстве, воспитании и восприятии мужественностей. Война как опыт гендерной политики является одним из ключевых способов в формировании мужского/мужественного тела. «Подготовка включает обучение дисциплине, контролю, и даже возможному умервщлению тела. Индивидуальное тело и личность, которая идентифицируется с этим телом, получают форму лишь при включении в коллективное «тело» мужчин» (Morgan, 167). При этом Энтони Гидденс считает, что войн нет в обществах без государств, поскольку такие общества не производят дополнительный капитал для поддержания систематических и долгих вооруженных конфликтов и вооруженных сил (Giddens, 1989, 340, 346-7). При этом не стоит забывать, как подчеркивает Нира Юваль-Дейвис, «формирование мужественности и женственности, которые сложились по общему мнению в обществе охотников и собирателей, стало основой для натурализации гендерного разделения труда в вооруженных силах и войнах. Джон Кейси утверждает: Мужчин избирали для роли воинов по экономическим и физиологическим причинам, из-за которых именно мужчины получали роль охотников за животными, а это формировало и их навыки в охоте за людьми. (цит. Casey, 1993, 15). Фрейд считал, что агрессия и пол являются двумя универсальными человеческими инстинктами, которые так или иначе контролирует и регулирует человеческое общество. Ритуализованная борьба для сохранения или изменения определенных социальных иерархий или для обеспечения доступа к земельным и водным ресурсам, стала частью социальных репертуаров в истории человечества. При обсуждении войны и ее последствий важно помнить, что это опыт маркирован как классовый и гендерный. Эссенциалистское понимание мужчин как агрессивных и насильников подходит к националистическому милитаристскому мифу, в котором мужчины борются ради «женщинидетей» (Enloe, 1990), мифу «защитник-защищаемая» (Stiem, 1989). » (Юваль-Дейвис, 2001, 67). Миф солдата, воина характерен для дискурса войны и нации, который невозможно развести с идеологией мужской сексуальной власти и превосходства. Образ воина остается одним из ключевых символов мужественности. В разных культурах образ воина получал и получает различные интерпретации. Скажем, во французской или английской исходным будет образ рыцаря-воина, или воина-купца, для скандинавских историй доминантных мужественностей исходным будет образ викинга. В русской культурноисторической семиотике, особенно со времен Петра и в контексте специфики развития взаимоотношений армии и общества, наиболее распространен образ солдата-крестьянина. В анализе культурных репрезентаций, будь то военно-исторических или о современных войнах, и в анализе репрезентаций мужественности и войны, следует помнить и о различных исторических типах войн. Обращаясь к опыту войны и мужественности конца и начала тысячелетий, мы имеем в виду имперские и колонизаторские войны, освободительные и гражданские войны и наконец «последние войны по модели войны в Персидском заливе и в Афганистане, которые стали называть постмодернистскими войнами - в Ливане, Сомали, в Югославии они происходят внутри, а не между государствами. Такие войны можно рассматривать как результат постколониализма и конца холодной войны» (Юваль-Дейвис, 2001, 59). Война воспитывает коллективную мужскую идентичность в «боевом братстве» и «мести за братьев», но она формирует и множество связей между доминантными мужественностями, иерархиями гомосоциальной власти (как квазивоенной структуризации иерархии социальных и гендерных отношений) и политикой мужского тела. «Границы», защищаемые на поле битвы, становятся «границами» властных отношений, а следовательно, мужских идентичностей, сформированных внутри этих «границ», воспринимаемых в ситуации «мира» как естественных для всего социального и исторического порядка нации. В этом смысле прошлое нации как история войн ее мужчин ради «женщинидетей» (Нира Юваль-Дейвис) существует в целом наборе различных культурных кодов и гендерной историзации, текстуализации и символизации нации, начиная с военных мемуаров и кончая военной знаковой системой. Не будет неким открытием утверждение, что культура 20 века и то, что Пьер Нора называет «пространствами культуры», с приходом новых технологий приобрела новое визуальное качество, которое в свою очередь стало невероятно значимым в процессах текстуализации и оптикализации (процесс создания оптикального бессознательного, по выражению Вальтера Беньямина) культурной памяти, иконографии и иконологии нации, истории, гендера. Кино более, чем любой другой вид визуального искусства, сочетает «наиболее древние и местные художественные традиции с наиболее современными и глобальными рекламными кампаниями. Это культурная форма, насквозь пронизанная на каждом уровне практиками и парадоксами маркетинга – постмодернистской практики, которая осциллирует между пассивной репродукцией и активным перемоделированием аудиторий» (Colin MacCabe in Jameson, 1995, xiv) С одной стороны. С одной стороны, как пишет Н.И. Хренов, прорыв визуального начала в коммуникацию “свидетельствовал о распаде традиционной “идеологии”, на этот раз имеющей монархическое и государственное происхождение. Более того, “заказ” идеологии и, следовательно, слова в начале века свидетельствовал о распаде сакральной культуры в ее формах, успевших сложиться еще в средние века, о реальности, расширяющейся профанной или светской культуры, превращавшейся в самоценную реальность, не соотносимую ни с религиозными, ни с государственными табу. “( Хренов, 2000) С другой стороны, кино как одна из наиболее важных коммунтикативных форм сакрализации, продолжает выполнять формообразующую функцию в гендерном сознании нации. При этом Анна Смелик подчеркивает: “Нарративная структура традиционного кино разрабатывает мужской характер как активный и властный; он является агентом, вокруг которого развертывается драматическое действие и организуется зрительский взгляд. В этом отношении кино усовершенствовало визуальную машинерию, устраивающую мужское желание, как уже структурированное и канонизированное в традиции западного искусства и эстетики” (Smelik, 1998, 10). Кинофильмы о войне и армии в этом ряду занимают далеко не последнее место. Их можно назвать «идеальными местами для формирования абстрактных мужественностей» (Morgan, 174). Так производство фильмов на военную тему становится полем фетишизации определенного доминантного мужского образа и определенной иерархии мужских образов, необходимых для военизированной историзации национального прошлого в доминантных гендерных дискурсах настоящего. Здесь возникает еще одна не менее интересная тема (к сожалению, остающаяся за пределами данной статьи) - жанровые взаимосвязи между такими казалось бы далекими по тематике фильмамы, как военные фильмы, вестерны и фильмы ужасов. Есть определенное созвучие и между фильмами типа вестерна (или истерна) и фильмами о войне. В обоих жанрах особое внимание придается телу героя, его физическим чертам, компонентам самоконтроля, сдержанности и ограничений. Это «военное» или «военизированное», физически крепкое тренированное мужское тело выступает как икона мужской силы и как объект женского желания (будь то американские фильмы о ковбоях с Грегори Пеком, фильмы с бравым Джоном Уэйном или советские фильмы о летчиках с Марком Бернесом или Евгением Самойловым). Взгляд зрителя/зрительницы таким образом формирует основной аспект жанра фильма, построенного на «военном» столкновении. Концентрация взгляда зрителя/зрительницы на мужское тело и поведение в «военной» ситуации важна в качестве механизма воздействия на коллективное формирование гендерных стереотипов и идеалов. Сама же «военная» ситуация оказывается «натурально» необходимой как «объективная» возможность трансформации характера в «настоящего» мужчину и легитимная зрительная модель «мужского» поведения. Кэрол Клавер подчеркивает о гендерных ролях в фильме ужасов: “Речь идет о том, как гендер определяет “мужские” и “женские” характеристики. Кто-то жалуется и плачет не потому, что это женщина. Это женщина, потому что она жалуется и плачет. Эта фигура не является психопатом-убийцей, потому что он мужчина. Он мужчина, потому что он психопат-убийца” (Cit. Op. Mitchell, 155). В фильме о войне, в отличие от фильма ужасов, легитимация взаимоуничтожения защитой границ или захватом территорий врага не подлежит сомнению. Ужас, таким образом, переводится в ряд ощущений обыденных, натурализованных, узаконенных ситуацией войны. Так или иначе, типы гендерного поведения в значительной степени определяют «женщину» и «мужчину» в обоих жанрах. Фильмы, выбранные для данной статьи, объединяет тема войны, так как именно дискурс войны традиционно рассматривался в качестве основного в формировании доминантных типов мужественности в европейской и российской гендерной культуре и истории. Фильм о войне принадлежит к жанрам, в которых иконография характеров меняется исключительно медленно, что объясняется их исключительной идеологической важностью на уровне коллективной зрительской перцепции и формирования исторического сознания на основе определенного исторического опыта. Миф солдатагероя столь же важен в строительстве нации и государства, как и миф ковбоя или миф крестьянина, или любой другой культурный миф. Различные формы отваги и братства являются неотъемлемой частью типичных героических репрезентаций в военных фильмах «мейнстрим». В этих фильмах подвергаются обработке и стереотипизации сложности опыта, называемого «война», и его межпоколенные психосоциальные последствия и травматизации сознания нации, и при этом выполняется функция табуизации сложных аспектов войны, как часть мистификации этого исторического опыта. «Правда» о войне становится объектом критических военных фильмов достаточно медленно. Например трагедия Хиросимы и Нагасаки стала темой японских фильмов только после прекращения амеркинской оккупации Японии в 1952 году. Но воздействие Вьетнама на амерканское сознание оказалось настолько мощным, что американская аудитория получила такой блистательный фильм как «Водитель такси» Мартина Скорсезе в 1976 году, когда официально закончилась вьетнамская война, и воспитание «героизмом против врага» уже стало оборачиваться другой стороной насилия, садизма, агрессии. Кино, и в значительной степени фильмы о войне, стало частью того, что Пьер Бурдье назвал “историческим трудом по деисторизации” или “историей постоянного (вос)создания объективных и субъективных структур маскулинной доминантности, которое происходит перманентно и так же долго, сколько долго существуют мужчины и женщины, и через которое маскулинный порядок постоянно репродуцировался из века в век. (Bourdieu, 2001, 83). Он подчеркивает, что исследователям истории женщин следует обратиться к изучению “истории агентов и институций, которые постоянно поддерживают саму перманентность, таких как церковь, государство, образовательную систему и т.д. …” (Bourdieu, 2001, 83). К этому списку добавим кино (начиная с двадцатого века) как один из мощных и уже неотъемлемых политических, идеологических и культурных компонентов в современных траекториях перманентности мужского/мужественного порядка. Советская киноиндустрия сыграла далеко не второстепенную роль в формировании советской мифологии нового человека и межпоколенной стабилизации образов мужественности и женственности. Советская кинематография постепенно создала свое пространство, которое можно назвать – по аналогии с историко-литературным континуумом – кинотекстом и киноинтертекстом, пространство, в котором исторический опыт активно преобразовывался в формы исторического сознания. Герой фильма «Чапаев» (братья Васильевы) со словами «я не утонул в реке Урал, а живой пришел к вам» мог шагнуть с экрана на сцену и выступать перед зрителями с призывом победить фашистов. Борис Чирков, исполнитель главной роли в фильме, «Парень с рабочей окраины», спев знаменитейшую песню «Кружится, вертится шар голубой», также становился героем, шагнувшим с экрана на сцену перед зрителями. Исчезновение границы между экраном и реальностью, мифом и его потребителем, было практическим продолжением и приложением эстетического принципа реализма, с не подлежавшим сомнению принципом адекватности визуальной «реальности» реальному опыту и памяти поколений. Советские теоретики кинематографа понимали возможности его воздействия на коллективное сознание/коллективное бессознательное. Эйзенштейн писал о генезисе значения из движения, из чувственного ощущения, из самого присутствия тела на экране. Присутствия не статического, как на фотографии или в живописи, а присутствия динамического, в котором есть нечто от шаманского ритуала и воздействия. Пудовкина интересовала работа человеческого мозга с точки зрения возможностей воздействия кинотехнологий и изменения социального сознания зрителя – и его/ее бессознательного (!). Кинопрактика же стала неотъемлемым культурным компонентом формирования нового советского сознания в сочетании с политическими репрессивными мерами, необходимыми для «историзации» советской формации. Как любой другой метанарратив, советская система мыслилась в категориях прогрессизма, а это означало преодоление как времени так и освоение пространства через границы, установленные прошлым. Октябрьская революция и гражданская война – два основных сюжета в советском мифе «происхождения». Фильм «Октябрь» Сергея Эйзенштейна, как известно, был построен на массовой инсценировке события, являющегося символическим «центром» революции. Юрий Цивьян в блестящем анализе этого фильма обращает особое внимание на символические компоненты, выстраивающие гендерную схему киноповествования, например, «опочивальня» в Зимнем дворце, фарфоровые яйца: «Образ двухсот яиц в спальне царицы, так поразивших Эйзенштейна, должен был, согласно монтажному плану, символизировать двойственный импульс, который, как гласило устное предание эпохи, определял политику последней русской императрицы: религиозный фанатизм и безудержная сексуальность» (Цивьян, 324). Более того, как подчеркивает исследователь, существует «связь генитального мотива с темой революции» и ссылается на Ф.Альбера. Французский ученый «продемонстрировал связь в «Октябре» идеи революции с представлениями об обезглавленном и/или кастрированном правителе. Кадры первоначальной версии, в которых из опрокинутой корзины катятся «яйца Николая 11» или когда участница штурма «ворует яйца в разгромленной спальне», подтверждают и расширяют это наблюдение. Символика «Октября» интертекстуальна» (Цивьян, 343). При всей точности наблюдений и изяществе анализа к нему хочется добавить, что основная смысловая связь «смерть-рождение», проведенная через корреляцию «оскопление – обезглавливание» (Цивьян, 344), продолжена в эпизодах залпа «Авроры» и взятия дворца-«спальни» как коллективных актов мужского «завоевания» и «оплодотворения», которые завершаются кадром будущего омужествления будущей власти - «мальчонка вскакивает на тронное кресло». Эйзеншейновское уравнение «революция=взрыв» - это схема историзации «библейского рождения», в его философии истории переведенная в рассказ о первом мужском «колене». В этом исключительно мужском/мужественном нарративе качественного изменения исторического процесса женская «спальня», женственный устаревший уклад («Александр Федорович в спальне Александры Федоровны») подлежат разрушению. Разрушение становится основой визуальной массовой сакрализации «происхождения» нового символического порядка как мужского/мужественного. Революция вошла в сознание зрителей как эквивалент войны, принципа, заложенного в самом мужском/мужественном «происхождении» в обмен на разрушение и смерть врага, женственно-податливого и лишь претендующего на вониственность (образ женского батальона Зимнего). «Чапаев» братьев Васильевых стал фильмом, в котором «революция=взрыв» продолжалась в визуальной мифологизации гражданской войны как столкновения двух враждебных мужских миров - белогвардейской «машины» (знаменитый эпизод психической атаки) и красноармейских соединений. Чапаев не только проходит весь путь от анархистского бунтаря до командира дивизии. Чапаев, как олицетворение «революциивзрыва», не может быть самодостаточен. Он как человек из низов способен на такую трансформацию лишь в присутствии комиссара, делегированного из «центра». Он разрушает исключительно организованный дисциплинированный ход врага по равнине (характерное пространство для подвига героя) не только благодаря своей «мужской» интуиции, долженствующей быть естественной основой рационального «построения» победы (сцена с картошкой). Война становится не просто дискурсом историзации новой системы, но она возводится в принцип «происхождения» и существования системы. Именно комиссар, при его немногословии, подтянутости, рациональности решений, образовании и самодисциплине, представляет исторически новую и необходимую модель мужского поведения и обеспечивает наличие коллективной внутренней дисциплины и организации (дивизия – общество). Именно в его отсутствие происходит трагическая гибель героя картины. Так выстраиваются не просто нормативные образы советской мужественности – в армии, в бою, в атаке, но визуально наращивается их внутренняя иерархия. Воинственный характер Чапаева как мужика из народа (генеалогия бунтарей Разина и Пугачева) становится символом советской героической мужественности на поле сражения только при условии контроля, дисциплины и знания, и их обеспечивает человек «центра», который, понимая истинные отношения власти, не смущается играть относительно «периферийную» роль при командире дивизии. Продолжение и развитие дискурса войны и мужественности мы находим практически во всех фильмах 30-х годов, в которых – при всей их исключительной известности зрительской аудитории – спектр мужских ролей, практик и ценностей так или иначе выстраивается по восходящей к военному летчику или пограничнику (фильм «Летчики», «Тринадцать», «Горячие денечки»), полярнику (война с суровой природой в фильме «Семеро смелых»), строителю (фильм «Комсомольск»). Во всех этих фильмах «победа» артикулировалась как результат рационального мужского проектирования, воли, преодоления. Именно в этих фильмах стал изменяться и контур ролей для женщин, как правило, связанных с гиперактивностью их героинь на фронте, будь то домашнем или на поле боя, будь то Анка в «Чапаеве» или роли Инны Макаровой в фильмах «Семеро смелых» и «Комсомольск». Великая Отечественная война стала тем сложным историческим опытом, который подвергался длительной табуизации, мистификации и мифологизации в формировании того, что называлось советским историческим сознанием. Тема войны предполагала сценарии визуального воспитания поколений в «истории» и «нации» с одной стороны, и массовую психотерапию «победного конца» на экране в идеологических усилиях преодолеть травматизацию сознания нескольких поколений людей. Это могут быть картины эпического характера, как например «Освобождение» в 1970-е годы. Многосерийный характер этого фильма и обеспечение многомиллионной аудитории (огромные кинотеатры и огромные экраны) превратили фильм в некую паралельную и заново переживаемую историческую «реальность», и режиссеры явно следовали традиции и принципу исторической «документальности», знакомому еще по «Октябрю» Эйзенштейна. Картины, такие как «Торпедоносцы», посвящены локальным и даже «частным» эпизодам войны, в которых центральным становился более индивидуализированный образ и соответствующая форма героизма пилота истребителя или бомбардировщика. Кинофильмы, в которых центральная роль отводилась эпическим сюжетам о войне, как например, «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Освобождение» Юрия Озерова создавали системы образов, которым отводилась не только обобщающая. но и объединяющая мифологическая функция в визуальном «цементировании» советского и русского исторического сознания и формировании соответствующего гендерного порядка. Как правило, вся мощь армейской машины и современных технических средств ставила в особое положение эти постановки, так как подобные фильмы выполняли регулятивные функции мифа. В советской визуальной мифологии войны, однако, реальное отсутствие миллионов отцов становилось сакральным «отсутствием», как скажем, в культовых фильмах шестидесятых годов «Я шагаю по Москве» или «Мне двадцать лет». Эдипу не нужно убивать своего отца, и Гамлет лишен подозрений. Сакральное «отсутствие» в действительности становилось одной из форм патриархализации гендерных отношений, в которой иконизация идеального образа становилась репрессивным идеологическим механизмом, передаваемым, например, в лозунге «быть достойным своих погибших отцов» или «за того парня». Интересен и тот момент, что в формировании мифологии мужественности сакральное отсутствие отца как часть дискурса священной войны своеобразно реконструировало особенности «русской парадигмы идеального властителя», ее поврежденность (Плюханова, 1995, 138). М. Плюханова указывает, например, что в московскую эпоху «в соотношении великих христианских символов проявляется неравновесие. Национальное целое организуется преимущественно символами ограды, защиты» (Плюханова, 1995, 139). В этом русском религиозно-историческом контексте, например, символ «креста Константинова» как символ власти и мужественности «не мог олицетворять собой христианскую власть в ее полноте» (Плюханова, 1995, 139). Праздник Покрова Богородицы как народостроительная мифологема получает главенствующую роль в иерархии русских религиозно-государственных праздников. Здесь находит продолжение мотив дома, защиты. С другой стороны, такая мифологема как пожертвование царским сыном ради христианского царства (Плюханова, 1995, 166), продолжена в поступке Сталина по отношению к сыну Якову, создавшем его личную мифологему «отца» и властителя, приносящего сакральную жертву (оставляю за пределами данной статьи анализ «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна в этом контексте). И все же идеальные образцы значений, подобающих власти, устроению земного мира и преемственности скорее прошли текстуализацию в схеме «мать – сын», в культе Покрова и сказании о подвиге воина Меркурия. Подвиг на поле боя – один из центральных культурных сюжетов в формировании мужественности. Его изображение на экране выступало в качестве идеологической функции советской гендерной идеологии, в которой роль и образ солдата так или иначе «встраивался» в импликации других современных героических ролей и образов мужественности, будь то шахтера или строителя метро (подвиг в овладении пространства под землей), строителя-высотника (подвиг в овладении пространства над землей), коммуниста (подвиг в овладении временем истории, ее прошлого и ее будущего), инженера и строителя кораблей ( подвиг в овладении социальной архитектурой пространства и времени в метафорической связке корабль-семья-государство). Недавно ушел из жизни Павел Чухрай, режиссер-постановщик прекрасных послевоенных фильмов «Баллада о солдате», «Сорок первый», «Чистое небо», очень интересных для анализа иконографии советской/русской мужественности в советской кинематографии. «Баллада о солдате» – фильм исключительный для своей эпохи в том смысле, что война существует в ее фронтовом измерении лишь первые пятнадцать минут, а события на мирной территории, выстроенные в цепь киноповествовательных элементов, становятся знаковыми в дискурсе войны как советском гендерном дискурсе мужественности и женственности. В первой короткой части фильма – на войне - показана сцена погони танка за солдатом. Эта сцена переросла в метафору столкновения юноши с «машиной войны», центральной эмоцией которой стало преодоление им чувства страха. Более того, погоня показана в меняющемся панорамном ракурсе, который, как правило применяется для показа массовых сцен наступления. Пустота поля с одинокой метущейся фигуркой юношеского тела не оставляет зрителю чувств иных, чем чувство сопереживания и страха. Психологический механизм, запустивший реакцию Алеши – предчувствие конца и абсолютно инстинктивное желание жить – был понятен и близок зрителям того времени. Для идеологов же был неприемлема дегероизация поведения советского солдата, Страх, инстинкт самосохранения и самозащиты лежат в основе сопротивления солдата, которому в окопе вовремя подвернулось нужное оружие, и далее, его подвига. Вопрос, поставленный режиссером, был еще глубже и сложнее – он касался всех тех, кто оказался перед лицом передовой военной машины, но только без соответствующего оружия в окопах, и их смерти. Речь шла и о другом страхе – страхе сталинских репрессий, ставшей частью сознания/подсознательного нескольких поколений и необходимости его психологического преодоления в жизни, памяти и поведении каждого. Следующий эпизод – награждение Алеши боевым генералом, выступающим в «отцовской» роли генерала, любящего своих солдат (армия – семья), - переведен режиссером в ряд самостоятельного и индивидуального решения парня с характером. Алеша просит вместо ордена дать ему несколько дней отпуска, чтобы повидать мать и починить крышу дома. Все остальное время Алеша, герой картины, пытается добраться до родной деревни за несколько дней отпуска, с одним желанием – увидеть мать и починить крышу дома. Образ матери начинает и завершает фильм. Ее иконическая фигура в черном открывает визуальный ряд, когда она выходит на полевую дорогу спиной к зрителю. Навстречу ей движется молодая женщина с мужем и ребенком. Лицо матери показано зрителю в момент, когда она смотрит вдаль, за горизонт, и эти кадры сопровождаются голосом рассказчика за экраном. К этому эпизоду мы еще вернемся, поскольку именно этот эпизод и завершает фильм. Итак, основное действие фильма происходит во время путешествия солдата домой. События разворачиваются в пространстве за линией фронта, в камерных сюжетах, «линейно» и последовательно организованных вокруг железной дороги и поездов. Все эти сюжеты выступают отдельными миниатюрами или зарисовками характеров, психологических ситуаций, моральных выборов, весь этот сюжетный «орнамент» приобретает связность, последовательность и стабильность благодаря активному бытию и действию в них Алеши. Чухрай создавал идеал мужественности во времена первой попытки изменить сталинскую систему. Его герой, как простой солдат, он не может влиять на некое глобальное изменение ситуации, но его активное присутствие или даже вмешательство в ситуацию изменяет нечто очень важное во взаимоотношениях людей. Алеша, сыгранный искренним и обаятельным Владимиром Ивашовым, проживает экранное время «ради других», но не на поле боя, а в «домашнем» пространстве, за пределами фронта. Алеша предстает мягким, нежным, вежливым, воспитанным. Мы видим его только в мирных ситуациях, за исключением эпизодов с танком, единственных, в которых он стреляет. Само присутствие Алеши организует те микросоциальные «домашние» пространства, в которые он попадает на своем пути, в отсутствие мужчин и «нормализует» человеческие отношения, будь то возвращение калеки-солдата к жене или символическая сцепка сцен, когда Алеша отбирает мыло у неверной жены (неверность остается в семантическом ряду «грязного» и «неотмывающегося» поведения неверной жены) и передает его больному отцу солдата по символическому праву преемственности и преданности.. Солдаткрестьянин как разработанный культурный символ национальной русской мужественности - такой разворот в репрезентации советского героя-солдата был качественно важным в чухраевской иконизации образа русского солдата как идеальной мужественной основы для формирования иерархии мирных мужских ролей в советской гендерной идеологии. Как мужской характер, Алеша поставлен между двумя основными женскими характерами – девушкой, которую он случайно встретил в вагоне и полюбил, и матерью. По замыслу режиссера, девушка должна была иметь свою трагическую историю, но очевидно, для усиления атмосферы чистой романтической любви и расставания, о невинной спутнице Алеши практически ничего не сообщается. (Остается лишь «непонятным» в запоминающемся кадре ее жуткий страх и крик, когда она видит перед собой солдата один на один в мчащемся вагоне). Девушка сопровождает его практически во всех орнаментальных сюжетах, стоя или рядом с ним или за его плечом, и Жанна Прохоренко создала очень женственный, мягкий, нерешительный и растерянный образ девушки, требующей защиты за мужским плечом. Образ матери вычерчен не менее символически. Путешествие домой – это очистительное возвращение в лоно, к земле, родившей именно такого солдатакрестьянина. Сюжет путешествия героя к матери носит мифостроительную функцию выявления его глубинных, сущностных, онтологических свойств как «русского солдата» во взаимосвязанных дискурсах мужественности и русскости. Его жизнь как модель подвига и подвижничества – это актуализация его мужских функций защитника и сеятеля (сеять доброе и вечное – педагогика мифа), и поэтому его желание починить крышу материнского дома несет двойную символическую коннотацию. Починка крыши как залог будущей победы и освобождения самоочевидна, но глубинный смысл сюжетообразующей цели вырисовывается лишь по завершении фильма, когда фигура матери остается со зрителями в последнем эпизоде и голос за кадром сообщает, что Алеша погиб в далекой стране. Возвращение к корням, в лоно материнского дома переносит семантику войны за освобождение (починку крыши) в семантику «домашнего» пространства там, где прервалась его жизнь. Символическая функция закадрового голоса не менее важна в концепции фильма, чем архетипные фигуры матери (богородичные дом, защита, оберегание) и солдатакрестьянина. Голос за кадром характерен для «бестелесности мужского голоса в кино. Женский голос ограничен сферой тела женщины … Женский голос навряд ли может достичь позиции означивания в языке, значении или власти. И потому его так легко редуцировать к крикам, болтовне или молчанию в доминантном кино» (Kaja Silverman, ct.op. Smelik, 18). Закадровый голос сообщает зрителям в самом начале, что рассказчик был среди тех, кто знал главного героя, таким образом, образуя символическую коллективную идентичность «мы – солдаты» и делегируя метонимическое значение образу Алеши. Война не исчезает – она лишь уходит в закадровое паралелльное «голосовое» существование, и ее закадровая (невидимая и перманентная) реальность транслируется в сообщении о смерти Алеши. На материнском образе замкнулась круговая повествовательная конструкция, становясь “покровом”, охраняющем сущностную генеалогию героя. Голос же рассказчика, сопровождая Алешу на всем пути повествования в линейной последовательности событий, продолжает рассказ об Алеше за пределами видимого горизонта, вне материнского “дома”. Одновременно словам рассказчика, молчаливая фигура матери (ее героиня произносит буквально пару слов в минутной встрече с сыном) в кадре поставлена так, что зритель вместе с ней и за ее спиной (мы как бы все оказываемся в ее материнском измерении) смотрит вдаль. Сын утрачен, но как «реальность» материнского сознания, он возращается в голосе рассказчика. При этом образ дороги, уходящей за горизонт, в сочетании с голосом рассказчика-солдата о далекой стране за горизонтом, становится символом бесконечности и исчезновения линии горизонта. Иными словами, горизонт является тем самым образом "границы", которая в фильме раздвигается вплоть до места гибели Алеши, означенного как «в далекой стране», а следовательно метонимически охватывающего в (визуально-политическом) воображении любую «одомашненную» территорию за горизонтом. Место смерти солдата (одного из многих) как подвижная и множественная точка в запредельном пространстве (за горизонтом – за пределом) становится символической (бес)конечной «территорией» взгляда матери (одной из многих), но доступной лишь в тексте, будь то нарратив рассказчика (одного из многих) или сам фильм, ставший культовым для родителей будущих солдат Афганистана.. Именно таким образом происходит проявление второго значения «крыши дома», а именно геополитического пространства, в котором «границами дома» становятся памятники погибшему солдатуосвободителю, а территория этого нового освоенного пространства становится «мирной почвой» для будущего солдата-«сеятеля» или «даятеля, а не отнимателя жизни» (В. Топоров, 1995, 402). Памятник, о котором упоминает рассказчик, относится к ряд символов, создающих историческую перспективу, и которые можно трактовать как трансформацию древних знаков совершения строительной жертвы («Голова, лежащая в основания здания, города, - гарантия благополучия их во времени» (Плюханова, 1996, 90). Памятник солдату, актуализирующийся по-разному в различных исторических контекстах, сопряжен с семантикой власти, ее «внутренней формы» с указанием на доминантную иконографию мужественности в ее историческом будущем. В «Балладе о солдате» отцовство получает два значения – физическое и символическое. Начальная сцена включает молодого мужчину и его жену с новорожденным, в которой позже зритель узнает девчушку-соседку Алеши. Образ Алеши приобретает доминирующее значение символического «отца», чье отсутствие является центральным связующим компонентом в преемственности нации, актуализированной в символической встрече матери (одной из многих), потерявшей сына и делегирующей эту память матери (одной из многих), родившей сына. Зрители и особенно зрительницы этого фильма нашли в Алеша своего «отца», «брата», «мужа», «сына», тот самый символ мужественности, экранный субститут реально отсутствующих мужчин. В этой символической иерархии культурный сценарий «убийства» отца теряет смысл, так как его реальное присутствие вторично по отношению к власти отсутствия отца-мифа, что является характерной компонентой религиозного сознания. Специфической чертой послевоенного советского парарелигиозного сознания был не только миф Сталина как «отца народов», но и травматическое мужское/отцовское отсутствие, транслированное в миф солдата-героя. Этот сакральный миф нес с собой иерархию мужского отсутствия/присутствия, идеальности/реальности, лишенную такого важной связки в отношении «отец – сын» как прерывание-перманентность, обеспечивающей соответствующие отношения власти и символического порядка в обществе.. Не случайно, что шестидесятник Марлен Хуциев поставил фильм «Мне двадцать лет», в котором одной из центральных сцен становится приход призрака отца, погибшего на войне, к сыну времен хрущевской оттепели. Никита Хрущев возражал против этой сцены, потому что не мог отец поучать сына (даже быть моложе его), поскольку, по мнению Хрущева, герой фильма представлял в своем поколении шестидесятых уже более высокую фазу социального развития общества. С одной стороны, фильм продемонстрировал дерзкий вызов режиссера в создании более сложного образа войны, подвига, солдата и мужественности. С другой стороны, именно этот фильм блистательно продемонстрировал то, что Фредрик Джеймсон называет политическим бессознательным эпохи и ее культурной продукции. Столь отличавшийся от прежнего киноряда героев войны тип мужественности был воплощен актером Ивашовым в солдате Алеше настолько блистательно индивидуально, что и образ, и актер привели к более качественной трансформации и укреплению в советском историческом сознании мифа идеальной советской/русской мужественности. Сам акт прерывания - в данном случае традиции репрезентации гендерной роли и мифа - очевидно необходим именно в нарративе о войне и герое, как компонент «исторического труда» (П.Бурдье) по деисторизации натурализованного маскулинного порядка. Фильм «Вор», созданный Павлом Чухраем в 1997 году, при всем различии жанра и сюжета, строится на явных символических параллелях с «Балладой о солдате». Киноповествование начинается и обрамляется голосом рассказчика о своем детстве. Однако рассказчик не претендует на некую бестелесную обобщенную идентификацию и избегает анонимного «мы», повествуя о драме встречи его матери в плацкартном вагоне с бравым, красивым, сильным «офицером»-вором. Киноповествование ведется как сугубо и исключительно Санькины индивидуальные воспоминания и опыт жизни. Лишь некоторые вкрапления позволяют вывести рассказанную историю за «горизонты» ее единичности. Киноповествование начинается с рождения Саньки в русском поле, на дороге, бесконечной и исчезающей за горизонт. Тело матери, бьющееся в родовых схватках в глине размытой дождем дороги, к концу фильма окажется похороненным после неудачного аборта на краю солдатского кладбища. Ее могила, которую Санька обставит оградкой из металлических частей кровати, станет символическим «пределом» семейного романа Кати с Толяном и его абсолютной власти над ее желаниями. Железная дорога и в этом фильме координирует художественное пространство, но ее бесконечность прерывается пределами кадров, то на вокзале, то на запасных путях, то в купе. Для пространственной организации киноповествования в целом характерна предельность, закрытость мест, некое частное пространство, в котором происходит действие, будь то коммуналка или баня, или снимаемая комната, или купе. Плавность, логическая связность течения событий в «Балладе о солдате» имеет смысловую основу – сюжет возвращения к матери. В «Воре» дискретность и мозаичность событий подвержены сюжетам Толяна, «героя», вершащего воровство, отнимающего, при этом ловко использующего маску «офицера», «отца», «мужа» и язык эпохи («твой батька с врагами бьется», «сыны Сталина», «ты же не пособник врагам» и т.д.) Тема отсутствия отца находит достаточное сложное развитие в образах и сюжете. Образ отца триедин. О биологическом отце мать сказала Саньке, что он умер от ран после войны, что могло быть одной из многих других легенд матерей-одиночек послевоенного времени. Мы же можем предложить в качестве интертекстуальной вариации некоего «Алешу», который играет роль призрака отца. Толян становится приемным «отцом» Саньки. Военная форма – также один из важнейших знаков доминантной мужской роли и мужественности, и для Кати встреча с Толяном значила осуществление ее мечты – семьи, в которой она становится женой боевого офицера, бравого красавца. Форма становится пропуском Толяна везде, куда они приезжают. Доверие офицеру, да еще женатому, не может быть оспорено, и Толян, вор, имеющий свои счеты с системой, умело использует этот образ. Он же становится «отцом» мальчика и объектом его любви- ненависти. Наконец, присутствует и образ Сталина как «отца Толяна», да и многих других «толянов». Призрак отца в солдатской шинели и пилотке является герою фильма в самые переломные моменты его жизни. Он столь же бессловесен, как бессильна мать Саньки что-либо изменить в стремлении Толяна превратить в вора и Саньку. Мифологический Эдипов сюжет, заложенный режиссером в психологическую основу сложных семейных отношений – треугольника мать – «отец» – «сын», не заканчивается сценой, когда «сын» убивает «отца». Хотя именно в акте выстрела заложен субверсивный смысл режиссерского решения сюжета – уничтожение маски вскрывает за ней пустоту. «Отца» можно уничтожить, лишь уничтожив себя, так как он стал уже частью жизни «сына», его норм, действий, отношений и тела (татуировки на теле рассказчика, такие же как на теле его «отца»-вора). Став военным, Санька очевидно хотел стать как его настоящий отец-солдат, но только модель мужественности в нем была заложена Словом и законом Толяна. Армия и тюрьма являются различными формами коллективного контроля и организации, но тем не менее, их различные миры получаются выстроенными по одному принципу – «хоть пять раз описайся, но победи». Именно этот принцип оказывается в основе режиссерской трансформации Эдипова сценария отношений «отец – сын», выстроенных по вертикали – Сталин (символический отец) – Толян (фальшивый отец) – отец (фантом, призрак отца). Фантомное присутствие «теней» Сталина и отца Саньки создает, если можно сказать, царство теней, между противополжностями «отец-герой» и «отец-вор». В царстве теней смерть невозможна. В этой символической вертикали Толян преступает законы системы, используя законы мимикрии доминантной мужской роли этой системы, Бросая свой вызов «отцу всех народов», он выстраивает свое «отцовство» в отношениях с Санькой. Но именно его урок «если взял нож, то бей, а не то убьют тебя», закон войны и выживания на поле боя, а для него и закон выживания в этой чуждой для него жизни, имеет логическое завершение. Во второй части фильма Санька, уже подросток из интерната для детейсирот, чтобы стать «настоящим мужчиной», отомстить за мать и вернуть «призрак» отца, убивает Толяна в спину. Телесность как предел безусловно переведена и в сюжет последней части фильма, когда герой уже в качестве полковника армии вывозит архивы, детей, стариков и женщин с очередной «горячей точки» России. Справедливость опять оказывается на курке пистолета, и закон Толяна переносится уже в зоны конфликтов на размытых границах государства. Здесь смыкаются пути и «горизонты» власти и ее героев – в «горячих точках» тел, потерянных, расстреливаемых, разбегающихся, среди которых на его руках умирает еще один возможный «отец», с единственным знаком идентификации агонизирующего дряхлого мужского тела – татуированным профилем Сталина на левой стороне груди. При этом сцена удивительно напоминает далекий исторический сюжет на известной картине – Иоанн Грозный с умирающим сыном. Инверсивная трансформация убийства «отца» оборачивается бесконечностью ему подобных (смерть в царстве теней невозможна). Таким образом связь «сын – отец», обеспечивающая перманентность символического порядка и отношений власти, актуализирована как взаиморазрушительный фантом через инверсию Эдипова сюжета в мифологеме приношения сына в жертву. Последний кадр фильма – обнаженный торс полковника на верхней полке купе, Он лежит спиной к зрителю, и его голова затенена настолько, чтобы зрители четко увидели лишь татуировку хищного зверя на его спине. Тело получается «обезглавленным» в игре движущихся теней и света. Вертикаль происхождения и пространство норм мужской идентичности оказывается разрушенной в его сознании, оставляя лишь оскал татуировки на мускулистой спине, напоминающий, что закон Толяна не прекращает своего существования. Архетипные образы матери-родины и сына как солдата-крестьянина продолжены в трагическом фильме «Мусульманин» Владимира Хотиненко. Идиллическое пространство русской деревушки в панорамном изображении имеет свои горизонты – звук бича, когда пастух ведет стадо коров, и звук песни о пастушке из «Пиковой дамы», исполняемой нежнейшим голосом Евгении Смольяниновой. В “Балладе о солдате» путешествие Алеши домой построено как движение внутрь «себя», самопознание, в то, что составляет «основу» идеального мужчины. Такая интернализация путешествия в комментариях рассказчика обусловливает его символическое право на практическую безграничность территории его «дома». Идеальное и активно-доброе материнское «начало», чьи эманации находят продолжение в подвигах активной доброты сыновей за горизонтами материнской территории (мать - деревня – Русь – Российская империя – СССР), переведено в открытый трагически-пародийный образный ряд и далее в деконструкцию такого сложного метанарратива как Русская идея. Образ матери в исполнении Нины Усатовой абсолютно противоположен идеальной, красивой, полной достоинства, молчания и печали матери в «Балладе о солдате» и молоденькой очаровательной и доверчивой матери в «Воре». Нина Усатова играет русскую бабу, ту самую, которая «на скаку коня остановит и в горящую избу войдет». Хотя на самом деле она оказывается наиболее незащищенной, слабой и растерянной – одним словом, далеко не символом православной родины-матери. В Русской идее идеальное и идиллическое пространство христианской России существует вне Зла, как территория «очаг – дом – мир – земля» в космогонии русской коллективной идентичности, как метафора материнства, изначально несущая качества невинности, чистоты и доброты. В фильме Хотиненко матрениская территория «дома» предстает не просто застывшей, словно застрявшей вне времени, существующей в «природном» ритме щелканья бича пастуха и в «символическом» ритме патритотической песни православного монаха, голосом и шагами словно отмеряющего «границы» земли под защитой этих ритмов. В фильме реальное пространство русской заброшенной деревушки пронизано запредельным ощущением остановившегося времени, отравлено ложью, воровством, пьянством и бездельем. По-крестьянски успокаивающее «мы в Афганистане сажаем сады» переносится режиссером в сад утопии, а именно в трагический образ русской деревни как сгнившей и спившейся до животного состояния «основы» «корневой» русской мужественности. В этом демифологизированном неподвижном пространстве знаки времени – вертолет, пароход, доллары, машины, словом, объекты движения вокруг этого пространства – окружают современную трагическую «сказку» о матери и двух сыновьях, развивающуюся по трагическому сценарию Авеля и Каина. Старший брат «отслужил» в тюрьме; младший брат «отслужил» в Афганистане. Оба сюжета их жизни, оставшиеся за пределами киноповествования, тесно связаны с ритуалами пере/воспитания мужчины и формированием норм мужественности, центральных для гендерного порядка и образа нации, как арми, или центральных для формирования маргинальных мужских миров и их законов, таких как тюрьма. Тюрьма должна исправлять мужчину; армия служит воспитанию настоящего мужчины и несению истины за горизонты ( в данном случае, в Афганистан, который в качестве цели геополитического «перевоспитания» можно сравнить с исправительным институтом тюрьмы). Оба института несут дисциплинарный опыт коллективной мужественности; оба брата символизируют две реальности, в которых «выковывается» мужественность, аномальная и нормативная – тюрьма и армия. Обе реальности становятся скрытыми «горизонтами» сложной психологической драмы в семье и в доме, под крышей которого повесился отец братьев. Младший сын принимает исламскую веру и возвращается на родину с целью вернуть чистоту своей земле. Его голос в моменты мусульманских молитв прерывает привычный ритм времени, разворачивает его в иную ритмическую логику регулярных намазов; его поведение честного, работящего, непьющего сына раздражает всю деревню; его отказ выпить водку на помин повесившегося отца приводит старшего брата-пьянчугу в бешенство. Отказ младшего сына выпить на могиле отца и то, что он выдернул крюк, на котором отец покончил с собой, из потолка дома, - оба действия в символическом смысле являются отказом от отца, его Слова и его Закона. Отказ мотивируется тем, что Коля принял исламскую веру и с завидной настойчивостью остается правильным мусульманином на «неверной» земле. С другой стороны «правильность» его поведения и слов словно запрограммирована. Он говорит о себе как носителе и проводнике истинной веры в страдательном залоге – «мне сказали». Возвращение домой оказалось дорогой отчуждаемости – даже мать просит его уехать, но он понимает, что и в Афганистане он уже никому не нужен. В сложной истории Коли Иванова, оказавшегося для своих предателем на войне из-за своего отказа стрелять в мирных жителей (хотя он следовал Библии – «не убий»), а для новостей после войны – еще одним освобожденным из плена солдатом-героем, кризис его мужской идентичности проходит по границам мифологизированного образа русского, православного, советского солдата-крестьянина. Эпическая чистота и изначальная благостность русского поля с церковкой на горизонте и «охраняющим» бодрым пением монаха, оказывается «картинкой с выставки» или чем-то вроде «потемкинской деревни», и местная «новая сказка» о затонувшей церквушке ( перифраз города Китежа, ушедшего в озеро от своих недругов) оборачивается свиным рылом, вынырнувшим со дна озера. Озеро как символ очищения является одним из центральных природных-русских образов в фильме, наряду с русским полем и рекой. Как рассказывает мать Коли, на дне озера погребена церковка, и тот, кто дотронется в глубине до ее маковки, будет очищен от грехов. Однако в такой красивой постсоветской сказке желание получить индульгенцию существует вне уже разрушенной традиционной системы разрешений и запретов. Желание Верки («вера») и офицера«судьи» («справедливость») очиститься – согласно закону о трех желаниях – разрушено желанием местного бюрократа («власть») искупаться. «Очищение» власти словно откупоривает бутылку с джином, но вместо него гротескная сцена с появлением свиного рыла со дна озера находит продолжение в коллективном «слюноотделении» жителей деревни при виде долларов, плывущих по реке. Христианский сюжет «манна с небес» встроен в пародически выстроенный проход корабля по реке (пародия на фильм «ВолгаВолга»), когда капитан и команда бросаются в воду за долларами, и корабль врезается в отмель. В этой запредельной реальности Коля осуществляет свой «мусульманский» проект, и в этом смысле он осуществляет себя как очистившийся от былых грехов «мужчина». В его ощущении инаковости, чужести и автономии он реализует свое понимание сакральности жизни, которая стала его «частной системой «высшей» важности» (Luckmann, 1992, 229). Эта «частная» система регулярных молитв, работы и образцовой семьи (если убрать ее мусульманскую знаковость, то она окажется не мене христианской), в которой социальный порядок – это мужской порядок, и в которой он берет на себя «высшую» обязанность по нормализации социального пространства своей семьи. По знаковости своего поведения с матерью, братом и любимой женщиной он мог бы стать воплощением пуританина на «земле обетованной». Он правилен, чист, работящ, принципиален – словом, идеальный «мусульманин». Люкманн указывает: «В отсутствие «официальной» модели индивид может выбрать из набора тем «высшей» важности. Выбор основан на преференциях потребителя, которые детерминированы социальной биографией индивида, и схожие социальные биографии возникнут в результате схожих выборов» (Luckmann, 1992, 229). В данном случае Коля перешел в иную мифологему «наивысшей» важности, в которой его «перекраивают» в мужчину, сакральной обязанностью которого является перенести веру из сферы войны в сферу мира (мира деревни и семьи – частного мира). Война между братьями как конфликт между безверием и верой становится формой столкновения постсоветских типов традиционной (трагическая генеалогия характеров Шукшина) и неотрадиционной мужественностей. Повторю – Коля Иванов мог бы олицетворять в своем патриархальном поведении и морали не только мусульманина, но и старовера, и пуританина. Каждодневная рыбная ловля Николая в противовес утопии о золотой рыбке и трех желаниях, однако, чуда не сотворит. Его «судья», бывший замполит, практически вторит ему в завершающем фильм диалоге и выстраивает – в противовес единому христианскому тексту Библии – свой «автономный» библейский текст. От этого он не становится менее фундаменталистом, требуя от Коли под дулом пистолета перекреститься. Религиозный фундаментализм и Коли, и его «судьи» симптоматичен для времен возникновения новых форм «религиозных» войн. Их участники делают не прежний, общинно-обоснованный выбор религии на основе символической общей территории конфессии, но индивидуальный, информированный, вне традиционных общинных и институциональных связей. Недавний пример – некий американец Джо Уокер среди талибов, осажденных в Кандагаре, Таким образом, индивидуальное религиозное сознание (процесс, не исключительный в религиозной истории) предпочитает частную сферу, сферу семьи, или парачастную – сферу секты, например. Семья становится «полем войны», на которое должен вернуться отец, уже не в качестве фантома, а носителя его индивидуальной «наивысшей» истины. Чтобы вернуть Эдипа, нужно возродить его отца из долгого «отсутствия», который можно обозначить как постсоветский комплекс «желание возвратить отца». Позволю себе отклониться от заданной темы статьи и просто обозначить политическую сложность процесса, который мы привычно обозначаем как равенство полов в семье и делегирование отцу прав и обязанностей в частной сфере. Семья уже стала фронтом неопатриархатной политики «возвращения отца в семью» на постсоветских пространствах, и феминистским активистам и исследователям, консультирующим в сфере семейного законодательства, необходимо принимать во вниманий сложный и скрытый характер неопатриархального религиозного фундаментализма в наших обществах. Фильм Хотиненко в этой перспективе симптоматичен как культурная форма поиска моделей мужественности через кризис доминантной модели мужественности, сформированной в сложном переплетении идеологий нации, религии, государственности, этничности и истории. Фильм «Мусульманин», безусловно, это часть постсоветского российского переосмысления ориентализма. Ориентализм как в истории российской империи, так и во времена Советского Союза, - это отдельная тема, и к сожалению, у меня нет возможности развернуть ее здесь, в рамках поставленной проблематики. Безусловно, что Восток и Закавказье являлись и являются объектами ориенталистского дискурса как компонента Русской идеи, как часть культурной мифологемы российского имперского «европеизма». Российский литературный, культурный и политический ориентализм, заложивший архетипические ориенталистские образы, мотивы и гендерные репрезентации в советском историческом и символическом сознании, лег в основу фильма с узнаваемым названием «Кавказский пленник» (реж. Сергей Бодров, 1996). Чеченская кампания становится войной, на которой встречаются русская мать (учительница, зачитывающая своим ученикам письма сына о «мирной» жизни в Чечне), приехавшая ради своего плененного сына, и чеченский отец, который стремится вызволить своего сына и русского плена путем честного обмена «жизнь за жизнь». В этом фильме, как и в других, действие происходит на так называемой «мирной» территории, на которой понятия «война» и «мир» попросту теряют свои значения, закрепленные в национальном культурном и историческом сознании названием и националистическим смыслом эпопеи Льва Толстого. В «Балладе о солдате» мирная территория становился самодостаточным Bildungs-пространством проявления и развития образа солдата-крестьянина в идеального советского солдата, чья смерть становится символическим, а следовательно беспредельным геополитическим горизонтом расширения материнского «дома». В «Мусульманине» сюжет возвращения «блудного сына» в символический порядок под Именем (кладбищеский памятник) отца и согласно Слову (крюк) отца заканчивается смертью бывшего советского солдата недалеко от материнского дома. В «Кавказском пленнике» символический порядок, созданный по закону и слову отца, получает более сложные повествовательный и художественный контуры. Происходит раздвоение кавказского пленника на два характера - наемника, которому «даже понравилось», и совсем еще молодого призывника, только что попавшего в Чечню. В их истории плена мужское тело становится «полем» и «линией» между жизнью и смертью. Это не противоречит главному закону войны – обмену мужскими телами, будь то тюрьма для чеченцев или яма для русских пленников. Два трагических характера сходятся, чтобы спасти своих детей – русская мать и чеченский отец. В фильме много крупных планов характеров, в их лицах, их глазах, их взглядах. Именно отец, который хочет выкупить сына, идет на конфликт с деревней, чтобы обмен совершить по принципу «жизнь за жизнь». В то же время лово «убить» уже является обиходным в каждодневной жизни деревушки, которая считает, что «русским лучше не верить», и военного коменданта, считающего, что «все чеченцы обманут». Цепная реакция смертей начинается с попытки побега и казни напарника, за ней следует убийство стариком своего сына, ставшего милиционером у русских. В такой «цепной» войне привычным «горизонтом» становится призрак расстрелянного Ларикова, проходщий повседневно мимо главного героя картины и исчезающего (по построению кадра) за его головой/в его голове. Кульминационная сцена картины – последний эпизод, когда отец-чеченец ведет на расстрел русского паренька в «обмен» на смерть своего сына. Его выстрел поверх головы русского солдата – отчаянная и безысходная попытка «обмануть» перманентность закона смерти, сопровождающей все мужские игры с детства, игры в войну. Игры воплощены – словно некий «красивый», из другой жизни ворвавшийся сценарий - в картинных сценках мужской (честной) борьбы, мужских (братских) танцев и даже кормления пленных («по-братски», поскольку выполнили приказ чеченского командира), когда чеченские боевики празднуют проход через минное поле. Попытка отца нарушить законы войны тщетна. Фильм завершается вылетом вертолетов из горловины горного ущелья поверх головы солдата, торопящегося по полю, на бомбежку чеченской деревни. Кадр построен так, что солдат в поле (словно Алеша в «Балладе о солдате») не менее фотогеничен в качестве мишени, чем чеченская деревушка. Сцена пролета российских вертолетов является аллюзией к пролету американских вертолетов на бомбежку вьетнамской деревни в «Апокалипсисе сегодня» Фрэнсиса Копполы. Постановщики российского апокалипсиса не показали музыкальное завешение «полета валькирий», а именно, бомбежку деревушки, но оставили зрителям наслаждаться «экзотической» и «дикой» красотой еще не тронутого ландшафта, оставленного наедине с приближающимися «стрекозами». Зритель оказывается столь же беспомощным, оставаясь в роли «посетителя военного музея» и его «натюрмортов». Более того, завершение атаки уже за пределами киноповествования (слова рассказчика не оставляют нам фантазий «хэппи энда») парадоксально расширяет горизонты «мишени» – до любого ландшафта, и не обязательно чеченского. Здесь хотелось бы добавить в тезисном порядке любопытное рассуждение Фредрика Джеймсона, о медиа-феномене «неоэтничности, симулякре, в котором уже не стоит вопрос о вере, в любом религиозном смысле, но уже это больше вопрос практик. Этничность является чем-то, к чему ты уже пригвожден; неоэтничность является чем-то, что, по своему усмотрению, ты переутверждаешь о себе» (Jameson, 1995, 117). Эти интонации звучат, например, не только в «Мусульманине», в котором Коля меняет не только веру, но и имя, и «этничность». В «Кавказском пленнике» заключительные слова Жилина обращены к тем, кого он любил и кого он уже никогда не увидит, - отца-чеченца и его дочь. Это единственные слова любви, как высказанное желание принадлежности. Привязанности, сказанные им на протяжении всего фильма. Ушел бы он из этой семьи в конце фильма, если бы не сложившаяся ситуация и если бы он мог? Финал «Кавказского пленника» в какой-то мере символизирует и уход со сцены доминантных исторических практик той войны, в которой враги еще смотрели друг другу в лицо и видели глаза Иного/Чужого/Врага (крупные кадры отца, матери, пленных, девушки занимают важную часть в этом фильме), и это могло дать надежду на прерывание перманентности уничтожения\взаимоуничтожения. На смену приходит дистанционная война, в которой совершенство технологий (как невидимый «ракетный зонтик») довело до совершенства воспитание психологической устойчивости летчиков при бомбардировках – они испытывают ощущения от бомбежки всего лишь как от игры. События 11 сентября 2001 года в этом смысле явились безумным продолжением «полета валькирий», активировавшим истерическую риторику государственности, нации, истинной веры, цивилизации в качественно новом сценарии «европеизации» России. В этом сценарии нужна контрактная армия, поскольку утрачен тот исторический смысл, который вкладывался в риторику единства народа и государства через институт армии, как «создающий» истинных мужчин для определенной национальной территории. Контрактная служба, как и неоэтничность, и неорелигиозность, является индивидуальным выбором, и война как узаконенное взаимоумервщление по контракту становится становится компонентом того, что мы называем невинно и утопично глобальным мышлением. Можно сказать, что все эти фильмы, так или иначе связывая тему войны, мужественности и нации вчера и сегодня, деконструируют эту мифологическую триаду на не более чем диагностическом уровне. То, о чем Пьер Бурдье пишет как об истории «постоянного (вос)создания объективных и субъективных структур маскулинной доминантности, которое происходит столь долго. Сколь долго существуют мужчины и женщины, и через которое маскулинный порядок постоянно репродуцировался из века в век», проявляется по-разному. Проявляется это и в том, что движение времени, истории и нации нам почему-то необходимо чувствовать в «кризисах мужественности» как результатах исторических травм (что предполагает объективность такого опыта), но не как последствиях определенных идеологий мужественности, выстроенных на разрушительных культурных презумциях мужской идентичности и биологизации определенных черт «мужественности» для выстраивания гендреных отношений власти. Историческая травма таким образом «транслируется» в историческое сознание, которое требует вос\создания истинной мужественности. В разных исторических и культурных контекстах «вос\создание» или «создание» подключает сам «кризис мужественности» как индикатор его преодоления. При этом мужская субъективность подразумевается как самодостаточная, и исторически, и метафизически самовоспроизводима в преодолении «кризисов» через отторжение прежних иконографий. Скорее всего, множество постсоветских российских фильмов на «мужскую» тему в девяностые годы прошлого столетия явилось симптомом желания преодолеть «кризис мужественности» через визуальное отторжение ее прежних идеалов, но не критически информированное переосмысление гендерных принципов мужественности. Новый политический и соцальный мир требует от «кризисной мужественности» преодоления «отцовских мифов», а принесение в жертву Отца сыновьями, если использовать в качестве одного из заключений психоаналитический дискурс, приводит их к ощущению собственной вины, и они вводят более жесткие законы, чем при жизни своих отцов. У Фолькера Шлендорфа в его фильме «Тролль» герой Авель спасается из преисподней войны, неся мальчонку из концлагеря на плечах. Тем самым режиссер замечательно транслирует женственное-материнское выражение «нести дитя» (to carry a child) в мужское измерение, сопровождаемое словами героя, что каждый мужчина должен нести дитя на себе, чтобы избежать грехов ада (войны). Для Шлендорфа важна не только диагностика расового сознания, как части мужской национальной идентификации, но еще более значительна и важна сама возможность мужского сознания переосмыслить свою дистопию самодостаточности, а следовательно, политику идентичности иначе, за “горизонтами” тех исторических и культурных значений мужественности в которых сформировался его и наш мир. Цитируемая литература: Bourdieu, Pierre. Masculine Domination. Polity, Oxford, 2001 Morgan, David, H.J. Theater of War: Combat, the Military, and Masculinities. In: Brod, Harry, and Kaufman, Michael (eds.) Theorizing Masculinities. SAGE, Thousands, Oaks, London, new Dehli, 1994 Jameson, Fredric. The Geopolitical Aesthetic. Cinema and Space in the World System. Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis,. BFI Publishing, London, 1995 Luckmann, Thomas. Religion and Personal Identity in Modern Society. In: Giddens, Anthony (ed.) Human Societies. A Reader. Cambridge, Oxford: Polity Press, 1992 Mitchell, Lee Clark. Westerns: making the man in fiction and film. Chicago: The University of Chicago Press, 1996 Smelik, Anneke. And The Mirror Cracked. Feminist Cinema and Film Theory. MacMillan press, London, 1998 Хренов, Н.А. Эволюция экранных форм в контексте смены субкультур. В: Экранные искусства и литература. Телевизионный этап. Ред. Вартанов А.С., Липков А.И., Сабашникова Е.С. Москва, Наука, 2000 Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Москва, Издательская группа «Прогресс – Культура», 1995 Юваль-Дейвис, Нира. Гендер и нация. Рига, Элпа, 2001