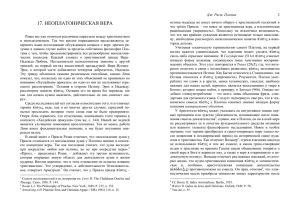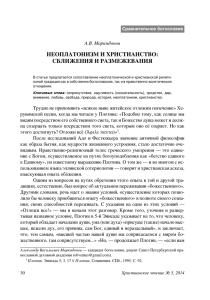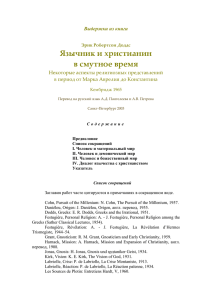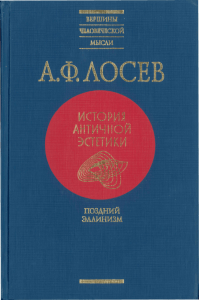Число у Плотина и Августина
реклама

ЧИСЛО У ПЛОТИНА И АВГУСТИНА В. Глебкин Один из примечательных мировоззренческих итогов XX века можно обозначить как предшествующая определенную традиция методологическую характеризовалась инверсию. господством Если методологии, выработанной математикой и естественными науками и распространяемой без особой рефлексии на гуманитарную область, то в нашумевших постмодернистских работах последних десятилетий сделана попытка трактовать естественнонаучное знание как текст, перенося на него разработанный в филологии и близких ей гуманитарных науках инструментарий. Эта инверсия таит в себе массу опасностей, связанных с размыванием ключевого для научного знания понятия истины, и в целом представляет собой вызов воспитанному на традиционных ценностях научному сообществу, но она открывает и некоторые новые, весьма продуктивные возможности развития. Одно из таких открытий необходимость учитывать в процессе познания собственные установки исследователя, связанные с его психологическими, социальными, культурными особенностями. Если раньше исследовательский вектор был направлен вовне, на поиск вечных истин, единых и для европейца, и для китайца, и для аборигена Полинезии, теперь столь же важной оказывается и противоположная когнитивная траектория – выявление того, как социокультурный контекст, в котором существует исследователь, влияет или даже определяет получаемые результаты, воспринимаемые самим исследователем как объективные. Признание факта, что основные ценности, когнитивные процедуры, и даже такие, казалось бы, константы восприятия, как представления о собственном теле, не носят универсального характера, а формируются социокультурной средой, в которой существует человек, становится важным мировоззренческим постулатом для современного исследователя, а поиск каналов, по которым происходит подобное формирование, - одним из приоритетных направлений исследования. В полной мере эти утверждения можно отнести и к числу. С одной стороны, восприятие числовых характеристик является, кажется, столь общим для всех людей, что некоторые философы считают возможным обсуждать вопрос о «числовом чувстве», аналогичном обонянию, осязанию и т.д.1, с другой стороны, в тех культурах, в которых число становится предметом рефлексии 2, концепты числа обладают существенными различиями. Одним из первых об этом весьма категорично и вызывающе некорректно сказал Освальд Шпенглер. «Не существует и не может существовать никакого числа в себе. Есть множество миров чисел, так как есть множество культур. Мы обнаруживаем индийский, арабский, античный, западный тип математического мышления и вместе тип числа, каждый по самой сути своей представляющий нечто самобытное и единственное, каждый являющийся выражением особого мирочувствования, символом некой значимости, точно ограниченной также и в научном отношении, принципом устроения ставшего, в котором отражается глубочайшая сущность одной-единственной, а не какой-нибудь еще души, той самой, которая является средоточием именно этой, а не какой-нибудь иной культуры. Таким образом, существует более чем одна математика. Ибо, вне всякого сомнения, внутренняя структура евклидовой геометрии полностью отличается от картезианской, анализ Архимеда—от анализа Гаусса, не только по языку форм, замыслу и средствам, но прежде всего по существу, в изначальном и недифференцированном смысле числа, научное развитие которого они являют. Это число, а значит, и пограничное переживание, самоочевидным образом получившее в нем наглядность, и уже вся природа, протяженный мир, образ которого возник через это полагание границы и который поддается трактовке всегда только с помощью особого рода математики, - все это говорит не о роде человеческом вообще, а всякий раз о вполне определенном»3. Не обсуждая корректности утверждений об индийском или арабском типе числа, а также конкретные параметры описания античных и нововременных представлений о числе, предложенные Шпенглером, отметим, что факт кардинального различия в представлениях о числе в античности и Новое время признается значительным числом исследователей, во многом отталкивающихся от Это чувство позволяет человеку оценивать численность групп предметов, попадающих в поле его зрения. См.: Dehaene S. Precis of the Number Sense // Mind and Language. V. 16. №1. – Р. 16-36 и другие статьи данного номера. 2 Число становится предметом самостоятельного анализа далеко не во всех культурах. Первобытная и традициональная культуры и, видимо, культуры первой древности не создают концепта числа. 3 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. – М.: Мысль, 1993, с. 208-209. 1 2 идей «Заката Европы»4. Обычно это различие формулируется в виде противопоставления числа как структуры, эйдоса, и числа как величины, теряющей свою фигурную определенность и имя и становящейся анонимным средством измерения, выполняющей служебную функцию. Число уже не равно себе, из субъекта оно превращается в атрибут, характеристику тела. Такая трансформация порождает естественный вопрос – что приводит к ней, какие социальные и культурные процессы лежат в ее основе? Традиционный ответ на этот вопрос звучит следующим образом: за изменением картины мира в целом и представлений о числе в частности лежат социальные и экономические преобразования, происходящие в Европе в позднем средневековье и в эпоху Ренессанса и выразившиеся в бурном развитии городов, росте торговли, развитии мореплавания и т.д. Рост социальной значимости как разнообразных счетных операций, так и людей, осуществляюших эти операции, приводит к повышению статуса числа в качестве средства счета и переходу от чисел-эйдосов к числамизмерительным средствам, числам, характеризующим материальные объекты. Предложенная трактовка вызывает ряд серьезных вопросов. Во-первых, остается непроясненным, как конкретно указанные социальные процедуры проявляются в конкретных текстах, ведут к появлению или трансформации тех или иных познавательных ходов. Связь социальных и культурных процессов никогда не носит однозначного характера, у культуры всегда остается солидный люфт и часто возможность выбора далеко друг от друга отстоящих ответов на социальные сдвиги. Так ответом на обозначенные выше социальные процессы стали культура Возрождения и культура Реформации. С другой стороны, трансляцией культуры и в средние века, и в эпоху Возрождения занималась мизерная по отношению ко всему населению горстка интеллектуалов, для которой Платон и Аристотель были гораздо более значимыми собеседниками и оппонентами, чем купец или феодал, живущий в непосредственной близости. Более того, серьезные изменения по отношению к числу начались задолго до указанных процессов и трактат Герберта об абаке, написанный на рубеже X-XI вв., - зримое проявление происходящих изменений (заметим в скобках, что факт появления такого трактата прекрасно подтверждает высказанную выше См., напр.: Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII – XVIII вв.). М.: Наука, 1987. – С. 184187; Катасонов В.Н. Метафизическая математика XVII в. М.: Наука, 1993. – С. 8-25; Аверинцев С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. - М.: Наука, 1975. – С. 371-397 4 3 социальную версию, за исключением того только, что появился он задолго до описанных социальных изменений, а отношение Герберта, затем папы Сильвестра II, к купцам и предпринимательской деятельности сложно, мягко говоря, назвать позитивным)5. Ни в коем случае не отрицая значимость социальных факторов в указанных культурных трансформациях, следует признать, что они не могут быть ни единственными, ни даже определяющими. Для понимания происходящих в представлениях о числе изменений следует обратиться к глобальным сдвигам в культурной матрице европейской культуры, имевшим место при переходе от античности к новому времени и связанным, в первую очередь, с ролью христианства как культурного фактора. Нельзя сказать, что данный вопрос не исследован. Изменение отношения к бесконечности, повышение «статуса» бесконечности при переходе от античности к новому времени и связь этой трансформации с представлениями о Боге как беспредельном, не выразимом ни в каких зрительных или мыслимых формах существе достаточно подробно обсуждалась, в частности, и отечественными исследователями6. То же можно сказать и об изменении отношения к материи от чистой возможности Аристотеля и абсолютного меона, воплощения зла у Плотина к активной, творческой субстанции, порождающей все многообразие конкретных форм у Бруно или Спинозы. Однако представлений о числе эти исследования коснулись в меньшей степени. Здесь хотелось бы еще заметить следующее. При обсуждении влияния христианской традиции на научную и философскую мысль обычно говорится о глобальных мировоззренческих постулатах, таких, как связь Бога и беспредельности или представление о всемогуществе Бога7. Но наряду с этим влияние христианства на западную культурную традицию проявилось в постановке множества, на первый взгляд, небольших, локальных проблем, См.: Бубнов Н.М. Подлинное сочинение Герберта об абаке, или Система элементарной арифметики классической древности. Киев, 1911. 6 См., напр.: Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. М.: Наука, 1987. - С. 20-138; Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в новое время («фюсис» и «натура»). М.: Наука, 1988. – С.4367 7 Это ведет, в частности, к утверждению о вероятности, гипотетичности человеческого знания, проявившемся в осуждении аристотелизма в 1277 г., что породило интерес поздней схоластики к логическому конструированию, моделированию и весьма сдержанное отношение к исследованию физической реальности. См.: Boler J. Intuitive and abstractive cognition // The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. From the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of scholastism. 1100 – 1600. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982. – P. 460-478. 5 4 которые в сумме оказались не менее значительным, чем глобальные идеи, фактором, повлиявшим на трансформацию научного мировоззрения. Такой проблемой является, например, вопрос о познании ангелами материального мира, активно обсуждавшийся всей схоластикой. У человека исходным материалом для познания является информация, поступающая через органы чувств. Но ангелы лишены тела, поэтому познают материальный мир непосредственно, мгновенно, интуитивно. Продумывание этой возможности приводит затем Дунса Скота к концепции интуитивного познания человеком окружающего физического мира наряду с дискурсивным познанием8. Еще одна проблема подобного рода изменение акциденций в таинстве евхаристии. После превращения хлеба и вина в тело и кровь Христа такие свойства хлеба и вина, как цвет, вкус, запах, консистенция, сохраняются, хотя субстанции уже нет (субстанция исчезла, но хлеб может сохнуть, менять вкус, цвет и объем). Попытки разрешения этой и подобных проблем вели к разрушению аристотелианского представления об изменчивости субстрата и постоянстве акциденций9. Далее мы попытаемся зафиксировать факторы как первого, так и второго рода, связанные с влиянием христианства на трансформацию представлений о числе при переходе от античности к средневековью. В этом смысле Плотин и Августин представляют удачные фигуры для анализа. Кроме того, что система первого - один из самых глубоких философских итогов античности, а второй во многом определил лицо средневековой западной философии, влияние Плотина на Августина и в онтологии, и в теории познания весьма значительно и подчеркивается многими исследователями10. Заметно оно и в представлениях о числе. Тем интереснее проследить изменения в расстановке акцентов, на первый взгляд, не слишком значительные, но ведущие к весьма значительным следствиям. Начнем с Плотина. Его представления о числе изложены, главным образом, в шестом трактате шестой эннеады, хотя отдельные дополнения встречаются и в других эннеадах. Плотин говорит о числах в четырех различных смыслах. См.: Boler, 1982, p. 460-467; Gilson E. Jean Duns Scot. Introduction a ses positions foundamentales. Paris: J.Vrin, 1952 – P. 544-555; Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века: общие принципы и учение о движении. – М.: Наука, 1989. – С. 204-206. 9 См.: Гайденко, Смирнов, 1989. – С. 244. 10 См., напр., фундаментальную и не утратившую своего значения работу: Попов И.В. Личность и учение Блаженного Августина. Ч.2. – Сергиев Посад, 1916. 8 5 1. Числа существуют до эйдосов как структурное оформление сложных эйдосов. Определяя положение числа в рамках триады «единое – ум – жизнь», Плотин замечает, что существование числа не определяется жизнью, т.к. «один» и «два» были до нее, но не определяется также и умом, т.к. еще до ума сущее было как единым, так и множественным (Enn. VI, 6, 8). Затем он обсуждает вопрос о том, «породило ли сущее число благодаря своему разделению или число разделило сущее», а также как соотносятся в порядке порождения пять основных категорий (сущность, движение и покой, тождество и различие) и число (Enn. VI, 6, 9). Плотин решает поставленную проблему в пользу приоритета числа, аргументируя это следующим образом: мы можем говорить о сущем едином как о сущем и о двух сущих как о сущих, значит, идея числа не содержится в понятии сущего, она не вытекает логически из этого понятия. Следовательно, число предшествует сущему. Однако число, по Плотину, не является и элементом сверхсущего первоединства, занимая промежуточное положение между ним и Умом. 2. Числа имеют самостоятельное ипостасийное бытие. Плотин показывает, что число не есть просто совокупность единиц, но некое самостоятельное единство11. Он аргументирует это тем, что никакая из единиц, входящих в состав числа, не обладает преимущественной связью с единым, иначе число не представляло бы собой целостность. Тогда все единицы в числе содержат это единство в равной степени, и оно сущностно предшествует каждой из них, будучи присущим и их совокупности (Enn. VI, 6, 11). 3. Числа существуют как формы материальных объектов. Обсуждая схему, по которой числа проявляются в вещах, Плотин отмечает, что числа здесь аналогичны другим эйдосам: единица присуща одной вещи и два – двум вещам так же, как белое - чему-то белому, прекрасное – прекрасному, справедливое - справедливому (Enn. VI, 6, 14). Как и другие эйдосы, числа причастны материальным объектам акцидентально, но отсюда не вытекает смысловое первенство вещей: акцидентальность чисел в них связана с вторичностью материальных объектов (Enn. VI, 6, 14). То, что число не возникает в результате физического объединения нескольких материальных объектов, а предшествует ему, Плотин аргументирует следующим образом: В качестве оппонента Плотина здесь выступает, скорее всего, Аристотель: «¦ d` #riqm3~ pl|qo~ mon=dwn – число же есть некоторая совокупность единиц» (Met. X, 2, 1053a29-30). 11 6 двойка может быть получена как сложением двух объектов, так и делением объекта на две части, а значит, она не связана с той или иной физической процедурой, она существует до нее. 4. Число может возникнуть как случайное объединение разнородных предметов в сознании считающего субъекта, не имеющее под собой никакой сущностной основы (два случайно проходящих мимо человека). В такой ситуации, пишет Плотин, бессмысленно говорить о проявлении числа как эйдоса, сущностного числа (Ð oÙsièdhj ¢riqmÕj), здесь мы сталкиваемся с операцией счета, фиксирующей чистое количество (pos3n). Здесь следует выделить иное, отличное от эйдетического, качество числа, которое Плотин обозначает специальным видом чисел: монадические, количественные числа (mon¼dik3~ Ð ¢riqmÕj Ð toà posoà или Ð mon¼dik3~ ¢riqmÕj), являющиеся образами (eödwlon) первых12. Приведенную классификацию можно суммировать следующим образом. Число, по Плотину, занимает промежуточное положение между Единым и Умом как принципом смысловой множественности. Существуя как самостоятельная целостность, имея самостоятельное ипостасийное бытие, число задает принцип смыслового оформления других эйдосов, а также материальных объектов (толпа, хор). Кроме этого, число имеет и вторичную для него, счисляющую функцию, позволяющую пересчитывать различные группы предметов. Разделить два указанных статуса можно посредством введения особого типа чисел, называемых монадическими. Еще один важный сюжет, которому Плотин отводит значительное место – обсуждение понятия бесконечного числа. Плотин утверждает, что след бесконечного числа нельзя обнаружить в чувственном мире, т.к. в нем нет бесконечных материальных объектов, а умножая объекты в настоящем, прошлом или будущем, счисляющий все равно кладет для них некий предел. В мире эйдосов также нет бесконечного числа. Да, там есть объекты, которым можно приписать предикат бесконечности, например, линия (эта бесконечность не есть возможность продолжения границ уже заданного отрезка (т.е. потенциальная бесконечность), но сущностное свойство линии как таковой). Однако при этом 12 В основании этого различия лежит, видимо, принятое в Академии различие чисел-эйдосов и математических чисел (maqhmatikÕ~ ¢riqmÒ~) (см. Arist., Met. XIII, 6, 1080a21). 7 сама линия является некоторым единством, целостностью, и поэтому позже числа по смыслу. С точки зрения Плотина, бесконечность присутствует в мире эйдосов, но эта бесконечность позже числа. Бесконечное число представляет собой оксюморон13. Обратимся теперь к представлениям Августина о числе. Они разбросаны у него по значительной массе трактатов14, но в целом складываются во вполне отчетливую картину. Заметим, прежде всего, что Августин воспроизводит многие моменты традиционных для платонизма представлений, отчетливо артикулируемых у Плотина. Так он говорит о том, что совершенное равенство предшествует равенству в телах (De vera religione, 55), что представление о числах нельзя понять из чувственного опыта, они должны предшествовать этому опыту (De libero arbitrio, II, 21-23), он не подвергает сомнению идеальный характер чисел, подчеркивая их нематериальность, непротяженность, бестелесность и т.д. Мы находим у него и вполне пифагорейские рассуждения о том, что тройка – первое совершенное число, полученное объединением единицы и двойки и имеющее начало, середину и конец (De mus. I, 12,22). Но затем начинаются достаточно существенные расхождения. Августин жестко разделяет чувственные и интеллигибельные числа, характеризуя их следующим образом: «…интеллигибельное число (numerus intelligibilis) неограниченно возрастает, но не может неограниченно уменьшаться, ведь оно не может стать меньше монады, напротив, чувственно воспринимаемое (numerus sensibilis) (ведь что же другое есть чувственно-воспринимаемое число, как не телесное, или размер тела) может неограниченно уменьшаться, но не может неограниченно возрастать. И поэтому, пожалуй, по заслугам философы связывают с интеллигибельными вещами изобилие, а с воспринимаемыми чувствами – неполноту. Ведь есть ли что-нибудь скуднее того, что всегда может стать все меньше и меньше? И есть ли что-нибудь более выражающее изобилие, Здесь вызывает возражения трактовка А.Ф. Лосева, на перевод которого я опирался: «число в основе своей умно, но так как умное беспредельно по своему смыслу, то и числа беспредельны» (Плотин. Сочинения. Плотин в русских переводах. Спб.: Алетейя, с. 458). Вообще, вес авторских вставок в квадратных скобках в целом сопоставим с текстом самого Плотина и иногда создается впечатление, что переводчик навязывает автору свою интерпретацию. Иногда это связано с насилием над текстом. Например, в переводе А.Ф. Лосева: «как же [надо понимать], что [линия и число] беспредельны [в умном мире]» (там же, с. 456). В греческом тексте стоит единственное число - Âpeiro~ (Enn. VI, 6, 17). 14 «О свободном решении» (De libero arbitrio»), «О книге Бытия» (De Genesi ad litteram), «О Троице» («De Trinitate»), «О Граде Божьем» («De Civitate Dei»), «Исповедь» («Confessiones»), «Об истинной религии» («De vera religione») и т.д. 13 8 чем расти, насколько хочешь, направляясь, куда хочешь, и возвращаться, когда захочешь, к тому состоянию, которое изберешь, и при этом так любить многое, что потерять способность к бесконечному уменьшению?» (Epistola III, 2). Мы видим, что предложенная дихотомия принципиально отличается от дихотомии идеальных и математических чисел в платоновской Академии и дихотомии сущностных и монадических чисел у Плотина (и в том, и в другом случае под числами подразумеваются натуральные числа). Ближе всего в ней оппозиция числа и величины (#riqm3~ - m1geqo~), отчетливо проведенная, например, в «Началах» Евклида. Однако обратим внимание на явную терминологическую небрежность Августина, которой не допустил бы античный философ: и то и другое у него numerus, причем мысль о зависимости телесных чисел от интеллектуальных у Августина почти не выражена, описание дается вполне симметрично, это два разных типа объектов. Такая терминологическая небрежность говорит о существенном смещении области философских интересов: в ключевых проблемных областях терминологический вопрос для философа становится одним из основных и он предельно внимателен и придирчив к терминологии. Можно даже, наверное, сказать, что основные онтологические проблемы всегда носят отчетливо языковой характер, находят прямое отражение в языке. Именно такими проблемами являются для Августина проблема троичности, свободы воли и т.д. Здесь он терминологически предельно аккуратен. Нечеткость терминологии в вопросе о числе говорит об изменении области онтологического напряжения. Еще одной чертой, не встречающейся у Плотина, является проводимое Августином разделение временных и пространственных чисел. Он так прямо и говорит: locales numeri и temporales numeri (De musica, VI, 57). Эти числа несут в себе принципы гармонии и ритма. Пространственные числа отвечают за пространственную структуру объекта, временные – за его временную эволюцию. Вот как поясняет Августин эту идею на примере танца в трактате «О свободном решении»: «Спроси, что услаждает в танце, число ответит тебе: “я”. Всмотрись в красоту изящного тела: числа содержатся в пространстве. Всмотрись в красоту движения в теле: числа движутся во времени (numeri versantur in tempore)» (De libero arbitrio, II, 42). Нельзя сказать, что связь числа и движения – новость для античной философии. Однако в античной традиции число задавало структуру 9 движения, определяло его закон, выступало как некоторая мера движения15. Сочетание «числа движутся» для античной философской традиции крайне маловероятно даже как метафора16. Для Августина же это, если и метафора, то плавно перетекающая в реальность. Разделение чисел на временные и пространственные и предшествование временных чисел пространственным имеет важное значение в его представлениях о процессе творения. Он часто ссылается на свидетельство писания о том, что «Бог расположил все мерою, числом и весом» (Прем. 11, 20) (De nat. bon. XXI, De Genes. ad litt. VI, 7; De Genes. contr. manich. I, 26 и др.) и в своих толкованиях на «Книгу Бытия» дает его развернутую интерпретацию. Творение Богом мира произошло мгновенно и состояло оно в творении потенций вещей и чисел, по которым вещи будут развиваться. Основной образ, используемый здесь Августином – образ семени, из которого разовьется растение. Числа, заложенные в семени, сначала трансформируются во временные числа, определяющие развитие растения из семени, а затем – в пространственные, определяющие его пространственную структуру. Так мастер, замыслив в уме какую-то вещь, сначала переводит идеальные числа, существующие в нем, во временные, регламентирующие процесс создания вещи, а затем в пространственные. Числа, заложенные в семени, не имеют размеров, говорит Августин, т.к. в противном случае при разламывании семени пополам из его половинок получилось бы по две половины растения. Числа присутствуют в каждом фрагменте семени целиком, определяя не только жизнь данного растения, но и всех других растений, которые когда-нибудь из него получатся. Однако, кроме видимых семян, говорит Августин, в земле есть невидимые зародыши этих семян (semen grani), содержащие в себе закон развития всего живого и именно с ними связаны числа, определяющие развитие мира. В предложенной схеме отчетливо заметны следы стоического учения о сперматических логосах17. Тем не менее, связь логосов с числами и столь Это проявляется, например, в традиционном для платоновско-пифагорейской традиции представлении об астрономии как математической науке (см., напр., Plat. Resp. VII, 527d – 530d). Ср. также определение времени у Аристотеля: «Время есть число движения (¢riqmÒj kin»sewj) по отношению к предыдущему и последующему» (Phys. IV, 11, 220a25-26). Подобные представления о числе как о мере присущи и Августину. Достаточно вспомнить классический пассаж о времени из XI книги «Исповеди» (Conf. XI, 23-27). 16 Даже для стоиков, с их последовательным соматизмом, с их представлением о телесности души и добродетелей, «движущееся число» - некий парадокс. 17 Об основных моментах этого учения см., напр.: Столяров А.А. Стоя и стоицизм. М.: Ками груп, 1995. – С.109-110. 15 10 сложные трансформации чисел - не характерный для стоиков элемент. Мы видим и здесь, что Августин легко соединяет различные аспекты античных учений, соединение которых невозможно в самой античности, и решает за счет этого задачи, стоящие перед ним как христианским мыслителем. Если смотреть на него глазами античной традиции, то он ведет себя по отношению к ней как постмодернист, прекрасно разбираясь в особенностях различных школ, но не испытывая к ним особого пиетета и не примыкая ни к одной из них. Подведем некоторые итоги. Ключевым для христианской онтологии является оппозиция Бога и 1. сотворенного им мира. Перенос на нее центра онтологического напряжения приводит к заметному ослаблению оппозиции между идеальным и материальным миром, характерной для неоплатонизма. И то, и другое получает бытие от Бога, поэтому до некоторой степени уравнено в правах. Конечно, превосходство идеального мира над материальным сохраняется и в средневековье, но оно не носит уже абсолютного, тотального характера. Мы видим это в представлениях Августина об интеллигибельном и постигаемом чувствами числе: первое неизмеримо выше по совершенству, чем второе, но и то, и другое – инструмент в руках Бога, орудие для реализации божественного замысла. Следует отметить также стремление Августина использовать числа для 2. описания динамики развития вселенной. Статуарный космос неоплатонизма заменяется временным вектором с отчетливо заданными началом и концом. «Структуру можно созерцать, но в истории приходится участвовать»18, и созерцательная установка Плотина уступает место проходящему сквозь тексты Августина ощущению напряженности исторического бытия, стремлению уловить ритм космической и человеческой истории. Еще один важный момент – отсутствие у гиппонского философа 3. восприятия бесконечности как несовершенства, которое заметно у Плотина. Способность интеллигибельных чисел к бесконечному увеличению, росту воспринимается Августином как безусловное достоинство. Обладание формой уже не является необходимым условием совершенства сущности, 18 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977. – С.89. 11 потому что самая совершенная сущность – Бог – находится за пределами любых форм. 4. Обратим также внимание на большую абстрактность августиновских представлений о числе, постепенно теряющем у него свой зримый «умными очами» облик. Сложные трансформации временных чисел в пространственные, идеальных во временные ведут к представлению о числе как некотором Протее, сущность которого не воплощается в конкретных формах. В заключение следует отметить, что все эти моменты (разрушение дистанции между миром чисел и миром физических объектов, использование числа при описании темпоральных процессов, большая абстрагированность числа, иной статус бесконечности) мы находим в Новое время в качестве важных характеристик нового представления о числе. В этом смысле эволюцию представлений о числе от раннего средневековья к позднему и затем к Ренессансу можно рассматривать как постепенную актуализацию новых возможностей и новых постановок проблем, предоставляемых христианством, актуализацию, происходящую, разумеется, в сложной борьбе и диалоге с предшествующей античной традицией. 12