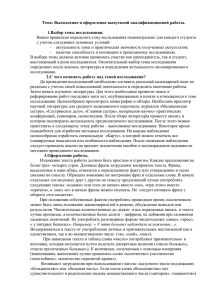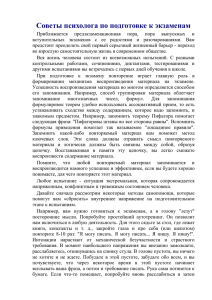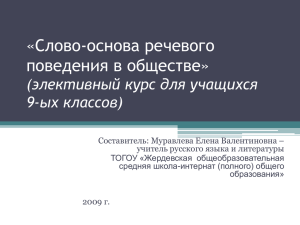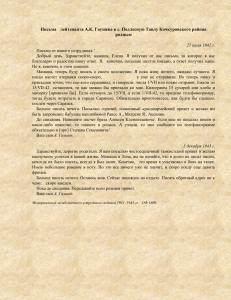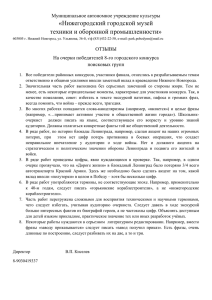Андрей Белый М. Горьний Евг. Замятин Мих. Зощенко В. Каверин Борис Лавренев Ю. Лпбединскни Ник. Никитин Борис Пильняк К. Слонимский Нин. Тихонов А. Толстой КО. Тынянов Конст. Федпн Ольга Форш A. Чапыгин Вяч. Шишков B. Шнловсний КАК МЫ ПИШЕМ CHALIDZE PUBLICATIONS 1983 HOW WE WRITE by ANDREI BIELY, M.GORKY, E. ZAMIATIN et al. Репринт с издания 1930 г. ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ PUBLISHED BY CHALIDZE PUBLICATIONS BENSON, VERMONT, 05731 ......................................................................... 9 М. ГОРЬКИЙ..................................................................................... 24 ЕВГ. ЗАМЯТИН............................................................................. 29 МИХ. ЗОЩЕНКО............................................................................. 48 В. КАВЕРИН..................................................................................... 59 БОРИС ЛАВРЕНЕВ.................................................................... 75 Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ.................................................................... 88 АНДРЕЙ БЕЛЫЙ НИК. НИКИТИН................................................................................. 107 БОР. ПИЛЬНЯК................................................................................. 124 МИХ. СЛОНИМСКИЙ.................................................................... 130 Н. ТИХОНОВ......................................................................................... 134 АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ.........................................................................143 ЮРИЙ ТЫНЯНОВ............................................................................. 158 КОНСТ. ФЕДИН................................................................................. 169 ОЛЬГА ФОРШ..................................................................................... 182 A. ЧАПЫГИН......................... 186 ВЯЧ. ШИШКОВ................................................................................. 190 B. ШКЛОВСКИЙ.................................................................................211 Организация труда.— это, в сущности говоря, лейт­ мотив всего происходящего в нашей стране за последние годы. Совершенно естествен поэтому интерес к изу­ чению трудовых процессов как в области физиче­ ского, так и в области умственного труда. Процессы физического труда поддаются анализу сравнительно легко, потому что они могут быть воспроизведены в лаборатории и в любое время и любое число раз. Гораздо сложнее обстоит дело по отношению к интел­ лектуальному труду и в особенности в области художественного творчества. Основным затруднением является то, что творческие процессы очень трудно воспроизвести произвольно с целью изучения их. Едва ли не единственный источник, откуда можно почерпнуть материал для анализа таких процессов — Это показания самого художника, в частности — писателя. Являющийся результатом самонаблюдения, Этот материал, конечно, не равноценен лабора­ торному— он в большой мере субъективен, но тем не менее для исследователя он представляет значи­ тельный интерес. Такой материал Издательство Писа­ телей в Ленинграде и попыталось собрать в настоящей книге. Издание этого сборника имело, кроме того, в виду и другую цель: дать хотя бы краткие и не вполне систематизированные очерки технологии лите­ ратурного мастерства, как оно понимается наиболее опытными мастерами современной русской литературы. Это задание вытекает из основной уста­ новки в работе Издательства — помогать молодым, начинающим писателям войти в литературу. Сборник «Как мы пишем», разумеется, ни в малой мере не пре­ тендует на то, чтобы стать сводом каких-то твердо установленных литературных рецептов: никакая стан­ дартизация в области художественного творчества, конечно, невозможна. Но та работа, которая зимою 1929 — 30 г. велась в «Кабинете начинающего писа­ теля» ленинградского Дома печати, появление таких изданий, как журнал «Литературная учеба», свидете­ льствуют о бесспорном интересе литературного моло­ дняка именно к технологии писательского мастерства. Настоящий сборник идет навстречу этому интересу: мы полагаем, что в отдельных случаях для начинаю­ щего писателя результат опыта старших товарищей может оказаться небесполезным. Сборник «Как мы пишем» дойдет и до более широ­ кого круга Читателей. Художественная литература уже перестала быть блюдом, доступным только для избранных, читательская масса растет очень быстро, новый читатель хочет узнать не только произведение, но и самого автора, как живую творческую личность. В этом отношении большая часть включенных в сборник статей даст читателю очень любопытный материал. Чтобы до известной степени упорядочить и органи­ зовать этот материал, писателям, приглашенным к участию в сборнике, был разослан род анкеты, включающей в себе следующие вопросы: 1. Подготовительный период. Длительность его. 2. Каким материалом преимущественно пользуетесь (авто­ биографическим, книжным, наблюдениями и записями)? 3. Часто ли прототипом действующих лиц являются для Вас живые люди? 4. Что Вам дает первый импульс к работе (слышанный рассказ, заказ, образ и т. д.)? Данные в этом отношении о каких-нибудь Ваших отдельных работах. 5. Когда работаете: утром, вечером, ночью? Сколько часов в день — максимум? 6. Примерная производительность — в листах в месяц. 7. Наркотики во время работы; в каком количестве? 8. Техника письма: карандаш, перо пли пишущая машина? 6 Делаете ли по время работы рисунки? Сколько раз переписы­ вается рукопись? Много ли вычеркиваете в окончательной редакции? 9. Составляется ли предварительный план и как он меняется? 10. Что оказывается для Вас труднее: начало, конец, середина работы? 11. На каких восприятиях чаще всего строятся образы (зри­ тельных, слуховых, осязательных и т. д.)? 12. Ставите ли себе какие-нибудь музыкальные, ритмические требования? 13. Проверяется ли работа чтением вслух (себе или другим)? 14. Какие ощущения связаны у Вас с окончанием работы? 15. Меняете ли Вы текст при последующих изіаниях? 16. Оказывают ли на Вас какое-нибудь влияние рецензии? В выборе материала для своих статей авторы, конечно, не были ограничены только кругом перечисленных выше вопросов, как это и можно усмотреть из содер­ жания статей. Участвовать в сборнике приглашены были следующие писатели: А. Белый, В. Вересаев, М. Горький, Ев г. Замятин, Мих. Зощенко, Вс. Иванов, B. Каверин, М. Козаков, Б. Л а в р е п е в, Л. Леонов, К). Л и б с д и п с к и й, О. Мандель­ штам, 11 и к. Никитин, II. Огнев, ІО. Олеша, Б. Пастернак, Б. Пильняк, М. Пришвин, C. Семенов, М. Слонимский, И. Тихонов, А. Н. Толстой, К). Тынянов, А. Фадеев, К. Федин, О. Форш, В. Шкловский, С. Серг е е в-Ц е н с к и й, А. Чапыгин, В. Шишков. Часть приглашенных авторов материала для сборника, к сожалению, не доставила. Настоящий сборник ограничивается только областью художественной прозы. В ближайшем будущем Изда­ тельство предполагает выпустить второй сборник «Как мы пишем», совершенно аналогичный первому, но посвященный уже анализу творческого процесса у поэтов. 7 АНДРЕЙ БЕЛЫЙ Как мы пишем — на протяжении тридцати лет Этот вопрос меня волновал не столько как художника слова, сколько как исследователя формы, критика и человека, интересовавшегося проблемой психологии творчества. Трудность ответа — в его краткости; не раз я собирался посвятить отдельное исследо­ вание вопросу, поднятому анкетой сборника. Отдельные заявления художников слова о том, как они пишут, носят почти всегда случайный характер; у большинства критиков — дичайшие представления о процессах творчества; ряд недоумений возникает и у меня; например: в усилии установить точку начала процесса; казалось бы: пет туг вопроса. Вот я не пишу, живу общей жизнью; потом — вот я сел за письменный стол, заказав себе тему; отстрочил, поставил точку; на столе — написанный текст; рабо­ тал столько-то часов, столько-то часов перемары­ вал, потом переписывал; и — вновь вернулся к кругу общечеловеческих обязанностей. Я склонен думать, что я не писатель, потому что я так никогда художественно не работал; процесс за­ пасания для меня ничтожен в сравнении с про­ цессами оформления до запасания и с переработкой после записания, сколько бы часов он пи отпял у меня. Записапие, или скрипение пером, играет столь же служебную роль, как качество пера или форма rj6 у оратора в отношении к смыслу про­ износимого; говоря о том, как я «пишу», приходится хотя бы в двух словах коснуться процессов, свер­ шаемых сложными орудиями производства; синтезом Этих процессов является так-то оформленный текст. Я разумею «художественное» творчество. И я отделяю в себе, как писателе, художника от — критика, мысли­ теля, мемуариста, очеркиста и т. д. Я утверждаю: художник во мне работает не так, как, например, мемуарист. Поясню на примерах. В прошлом году я написал в два месяца 26 печатных листов мемуаров, теперь изданных «ЗИФ»'ом под заглавием «На рубеже двух столетий». Иные хвалят меня за живость письма вопреки небрежности формы. Эти мемуары я «писал» в точном смысле слова, т. е. строчил их и утром и вечером; работа над ними совпадает с временем написания; мысль о художественном оформлении пи разу не подымалась; лишь мысль о правдивости воспоминаний меня вол­ новала. Два года назад я использовал свой личный дневник, переделав его в книгу «Ветер с Кавказа»; процесс работы опять-таки совпадает с временем написания; я переписывал свой дневник, наводя на него легкий литературный лоск и использовав прежние достижения «Белого»;работа, учитываемая почтенным количеством часов, проведенных за скрипением пера, но — пустяковая в сравнении с художественной ; ведь писал публицист; в итоге — очерки, подобные от­ крыткам с видами. Обе книги л пи-са-л; и потому обе — продукт допу­ стимой «халтуры»: надо же и художнику зарабаты­ вать хлеб насущный; пишу это, чтобы было видно, что главные усилия художника вне работы запасания; п они — не учитываемы, не оплачиваемы. Чтобы стало ясно, как я пишу те книги, которые хочу видеть художественно оформленными, я попы­ таюсь в двух словах описать, как я пишу третью часть романа «Москва», работа над которым пять месяцев до такой степени съедает без остатка все время, что три недели искал свободного вечера, чтобы отчитаться перед читателем «Как мы пишем». И «Москву» я «пишу»: процесс записания фраз, 10 слов, ситуаций, характеристик, увиденного извне и подслушанного в себе, невозможен без карандаша; но запись — момент; а выборматывание порой одной непокорной фразы до стука в висках на часовых про­ гулках, подобное построению стихотворной строки,— адекватно ли оно записи? Я бормочу днями и ночами, на прогулках, во время обеда, во время периоди­ ческой бессонницы всю долгую ночь напролет; в итоге — выбормотанный отрывок короче куриного носа, время зависания которого — четверть часа. Но работа над «Москвой» мной начата за ряд лет до пятимесячного ада с постоянным бормотанием и напряжением внимания; именно: это период от октября 1925 года до септября 1929-го; главная ответ­ ственная работа по собиранию сюжетного материала и его увидению в оформлении — мои броды по горам Кавказа (в горах легче художественно мыслить); или же л «писал», лежа в постели, в бессоннице, и нечто (от бессонницы к бессоннице) постепенно откладывалось, как решение. Так я работал художе­ ственно, в то же время «строча» другие книги за письменным столом; те я «писал» в буквальном смысле слова. Вопрос же о художественной работе связан для меня с вопросом, как я жил, пока не писал, т. е. не застрачивал медленно слагаемого в теме, в ритме, в слове, в краске. Так же я писал свои романы «Серебряный голубь» и «Петербург»; эпоха вынашивания обоих романов — 1905-1906 годы; эпоха «написания» «Голубя»— 1909 год; «Петербурга»—1911-1913 годы. В 1905-1906 годах я застаю себя за рядом действий, мне ставших ясными поздней; как-то: особые раз­ говоры с крестьянами Московской и Тульской губер­ ний, темы этих разговоров (политические, моральные, религиозные), особая зоркость к словам, жестам, любо­ пытство, не имеющее видимых целей, посещение ноч­ 11 ных чайных, харчевен Петербурга, разговоры с почта­ льонами, солдатами, кучерами, мелкими чиновниками и т. д. ; встретив меня поразившую черту, я начинаю гоняться за носителем этой черты, чтобы доразглядеть ее; для чего мне нужно доразглядеть то, а не это, — на это я не умел ответить, как не умел ответить, зачем я бреду в чайную, избу, минуя то­ гдашний мне заказ читателями «Весов» говорить о Верлэне и Бодлере; как «писатель», я отстою за тридевять земель от тем моих наблюдений, ибо я пишу 4-ую Симфонию, наиболее «декадентское» из своих произведений. У меня скапливается коллекция сырья, повидимому не имеющая прямого отношения к моему «писательству» в узком смысле слова; я трачу время и силы мимо явно выраженного мне «заказа» редакциями, в которых я работаю. Смысл собирания «доссье» стал мпѳ понятен лишь в 1909 году и еще более понятен в 1913 (эпоха написания «Голубя» и «Петербурга»); но дораскрылся он вполне лишь в 1916 году, когда я пожалел, что поторопился с написанием «Петербурга» и особенно с написанием «Голубя», ибо «Голубь» и «Петербург»— один роман, место действия которого царский Петер­ бург, а время — не 1905 год, а 1914-1915 годы. Задание же — показать разложение темных кулацких масс деревни и бюрократических верхов столицы, т. е. гибель царской России. «Распутина» я унюхал еще в 1905 году, когда жизнь не сажала его на трон и когда умопостигаемое местожительство его была — кулацкая деревня, а не столица, и этим «недоноском» Распутина, Распутиным без натуралистической модели, но Распутиным, мною конструированным, как вывод из собранного мной в 190э-1906 годах доссье — столяр Кудеяров; он — не трафаретный хлыст, а хлыст «суи генерис»; оттого я и не взял хлыстов из быта, а «сочинил» 12 секту; она осуществилась впоследствии; нс в деревне, а в столице: среди придворных кругов; вот почему я и жалею, что поторопился с «Голубем». Так ряд поступков, связанных с усилиями, в 1905, году мне неясными, оказался вписанной в меня тенден­ цией; но когда в 1909 и в 1911 годах л сел «пи­ сать», материал лежал готовым и, так сказать, отсор­ тированным. Но синтез материала переживал я не рефлекцией, а звуком музыкальной темы, программу к которой, т. е. сюжет, я должен найти; что же мне было ясно? Было ясно то впечатление, которое должно было подниматься в душе читателя по прочтении сюжета; и я искал сюжета к переживаемому мной звуку темы, который, в свою очередь, был синтезом материала, запротоколированного памятью. Так бесцельное времяпрепровождение мое (т. е. казавшееся мне бесцельным из 1905 года) оказалось в 1909 году плановой работой. Так же дело обстоит и с 3-ей частью «Москвы», которую я писал в сознании в то именно пятилетие, когда «писал» (в буквальном смысле) не чисто художе­ ственные книги. Так же дело обстояло и с юношескими моими формами, с так называемыми «Симфониями»; они — офор­ мление в 1900-1907 годах некой работы, произ­ веденной в период 1896-1900 годов. В процессе писания я не могу точно разграничить работу начала оформления в сознании от работы начала записывания; так, мой рассказ «Куст» есть жалкий этюдик приема, который я использовал позднее в романной форме; в нем — лаборатория к растиранию, так сказать, красок, мне нужных в будущем, уже функционирует в 1906 году. О герое романа «Москва», Иване Иваныче Коров­ кине, рассказывал я Вячеславу Иванову в 1909 году 13 (когда писал «Голубя»); последний просил меня написать повесть о фигуре, живо волновавшей мое воображение; летом 1924 года, живя в Коктебеле, я не знал, что буду через два месяца писать роман «Москва», думая, что буду писать некий роман под заглавием «Слом». Что я знал точно? Тональность и некую музыкальную мелодию, поднимавшиеся, как туман, над каким-то собранным и систематизиро­ ванным материалом; мне, говоря по-просту, пелось: я ходил заряженный художественно; моему настрое­ нию соответствовал отбор коктебельских камушков, которые я складывал в орнамент оттенков; звук темы искал связаться с краской и со звуком слов; приходили отдельные фразы, которые я записывал; эти фразы позднее легли образчиками приема, которым построен, текст, а коллекции камушков оказались макетиками красочной инсценировки «Москвы». К коллекции психологических и сюжетных зарисовок на тему «старая, рассыпающаяся Москва» (о ней я вспоминал и в «Воспоминаниях о Блоке») присоединились: синтез воспоминаний, пережитый как звук музыкальной мелодии; и он же, собранный в красочных транскрипциях (коллекция моих камуш­ ков, которую одобрил художник Богаевский). Фон фабулы стоял готовым; надо было из фона, так сказать, выветвить фабулу ; и она вынырнула неожи­ данно, ибо камушки, как мозаика, сложили мне дав­ нишний образ 1909 года, профессора Коробкина; это был сюрприз для меня; из темы, звука, как яйца, вылупился цыпленок, Коробкин, абстрактно пере­ житый давно, а теперь получивший плоть: из красок, слов, образов, жестов. Когда я говорю о синтезе мате­ риала, пережитом как звук, из которого рождается образ, я надеюсь, что меня поймут: речь идет не о бессмысленном верещании телеграфного провода, а о внутреннем вслушивании некой звучащей симфонии, 14 подобной симфонии Бетховена; рта ясность звука и определяет выбор программы; я в этом периоде работы уподобляю себя композитору, ищущему текст для превращения музыкальной темы в литературно­ сюжетную. На основании 30-летней писательской практики, на основании не менее 30 написанных книг, и стихо­ творных, и романных, и мемуарных, и критических, и исследовательских, я утверждаю: шесть или семь книг, в которых я сознательно выступаю как художник слова, а не как публицист, написаны так; другие — совсем иначе: к этим б — 7 книгам я отношу: «Дра­ матическую симфонию», «Серебряный голубь», «Петербург», «Крещеный китаец», «Москва», «Котик Лѳтаев»; и совсем иначе писаны другие мои книги, в которых я вижу себя критиком, мемуаристом, очеркистом, теоретиком, исследователем. Книги, по­ добные «Кубку метелей», «Запискам чудака», я считаю скорей лабораторными экспериментами, неудачи с которыми ложились в основу будущих достижений. Публицистику я «строчил» (более живо, менее живо), т. е. писал в обычном смысле слова, а произведения художественные в процессе эмбрионального вынаши­ вания, собирания материала, синтезирования его в звуке, выветвления из него образа, из образа сюжета, — произведения подобного рода писались мной, каждое, в веренице лет. Так что я могу говорить о писании в широком смысле: это — года; и о писании в узком смысле, которое начиналось опять-таки до писания за письменным столом скорее в брожении, в бегании, в лазании по горам, в искании ландшафтов, вызывающих чисто музыкальный звук темы, приводящий мою мысль и даже мускулы в дви­ жение, так что темп мысли в образах удесятерялся, а организм начинал вытопатывать какие-то ритмы, к которым присоединялось бормотанир в отыскании 16 нужной мне связи слов; в этом периоде и проза и стихи одинаково выпевались мною, и лишь в позд­ нейших стадиях вторые метризировались как размеры, а первая осаждалась скорее, как своего рода свободный напевный лад или речитатив; поэтому: свою художе­ ственную прозу я не мыслю без произносимого голоса и всячески стараюсь расстановкой и всеми бренными способами печатного искусства вложить интонацию некоего сказателя, рассказывающего читателям текст. В чтении глазами, которое считаю я варварством, ибо художественное чтение есть внутреннее произно­ шение и прежде всего иптонация, в чтении гла­ зами я — бессмысленсн; но и читатель, летящий глазом по строке, не по дороге мне. Поэтому-то интонация, звук темы, рожденный тен­ денцией собирания материала и рождающий первый образ, зерно внешнего сюжета,—>и есть для меня момент начала оформления в узком смысле; и этот звук предшествует, иногда задолго, работе моей за письменным столом. Синтез в звуковой томе более всего сближаем мною с малоговорящими разглагольствованиями о вдохно­ вении, которого или вовсе нет или которое изжи­ ваемо в десятках разного рода рабочих пафосах, координированных сознанием в целое оформления. В звуке будущая тема сюжета подана издали; она обозрима в моменте; я сразу вижу и ее начало и ее конец; позднее это целое утонет в энного рода работах; тогда из-за деревьев я не увижу леса; в звуке подано мне будущее целое; и я взволнован им, ибо я его переживаю сполна; «вдо­ хновение», по-моему, есть удесятеренность зоркости художественной мысли, силлогизмы которой текут с быстротой музыкальных рулад. В звуке мне подана тема целого; и краски, и образы, и сюжет уже пред­ решены в звуке; в нем переживается не форма, не 16 содержание, а формо-содержание; из него первый содержанием вылупляется основной образ, как зерно: таким зерном, рожденным звуком, были мне: Рас­ путин до Распутина (Кудѳяров), сенатор Аблеухов, профессор Коробкин. Из основного образа вылезает обстипие: быт, ближ­ ние; разглядев первообраз, начинаешь видегь его но в стволе, а в ветвях; эти ветви суть окружающие; сперва они как бы срощены с основным образом, потом отрываются, начиная жить собственной жизнью; так, например, в романе «Москва» Задопятов, увиденный как друг детства Коробкина, не­ ожиданно для меня зажил в собственной квартире, обремененный женой, которую... надо же... доразглядеть и т. д. Постепенно слагается такая-то, а не иная ситуация между стволом (перво-образом) и ветвями (его обстающими); она-то и диктует точку отпра­ вления для фабулы. Мои юношеские «Симфонии» начались за роялью в сложении мелодиек; образы пришли как иллю­ страции к звукам. Из музыки Грига вылупиласі» «Северная симфония»; из «Крейслерьяны» Шумана мне сложился «Крещеный китаец» в том смысле, что «Крейслерьяна» помогала художественному живомыслию; и в этот же период Скрябин его разлагал; я и бормотал на прогулках отрывки из «Крейслерьяны», чтоб видеть красочное и слышать сло­ весное оформление «Китайца». Как-то раз в печати сослался я на заявление Мая­ ковского о том, что и он бормочет и вытопатывает ритмы до слов; какой-то штукарь меня высмеял: я-дѳ свожу идейное содержание к гудению телеграф­ ного столба; но тогда и Девятая симфония Бетхо­ вена для него — верещание проволоки, и Гёте — кретин в своем заявлении, что солнце ему звучит; и Пушкин идиот, уподобляя поэта «эхо»; ну да: он з 17 «эхо» внутренней мелодии, которая, в свою очередь, звуковой синтез огромной работы предшествующих лет по собиранию сюжетного материала; и Блок, и Маяковский, и Боратынский должны быть осмеяны; все подлинные художники слова подле­ жат осмеянию. И первый подвергшийся осмеянию из русских художников слова — великий ученый Ломо­ носов; осмеял его за звуковую бессмыслицу Сума­ роков — и не поэт и не ученый. То, что утверждали Гёте, Ломоносов, Блок, Бора­ тынский, Тютчев, Лермонтов, Маяковский, при всем различии эпох, есть для меня опыт 30 лет писатель­ ской деятельности; и я предпочитаю «верещать» по глупому, не убоявшись безграмотных смешков; ум не только в том, чтобы пыжиться «вумными» сло­ вечками, а ум в такте знать: где нужно мыслить в абстракциях, а где—в звуках и в красках. Ломоносов именно потому, что он предварил открытие закона постоянства материи, умел «бабацать» и «бряцать» звуками слов; и не ограниченным Сумароковым его осмеивать. То, что я утверждаю о примате «звука», — мой выношенный 30-летний опыт. Звук темы «Голубя», материал к которому собирался в 1905-1906 годах и который писался в 1909 году, я услышал летом 1908 года; и он мне связан с опре­ деленной местностью (ставшей селом Целебеевым) и с определенным закатом (появившимся в «Голубе»); услышав «звук», я сказал другу: «Напишу повесть под заглавием «Золотой леопард». А написал «Серебряного голубя». Что разумел я под темой «Леопард»? Нечто хищное, жестокое и злое; разгляд этого злого родил образ хлыста Кудеярова; он — « Л е о п а р д» ; увидена фигура симптоматиче­ ская: с 1908 года мой «столяр», перекочевав в столицу, оказался вершителем судеб царской России 18 Был увиден Распутин «ин с т а т у иасцеиди» : вот тебе и «верещание»; «верещание» имело смысл. То же с «Петербургом». То, что я называю рождением цыпленка (образа) из зерна-яйца (звука), есть результат химического син­ теза, выбрасывающий новое, а приори не пред­ виденное, качество; из а приори свойств яда хлора и яда натрия не додумаешься до свойств соли. Кажется, ясно? Мистики никакой ?ут нет. Явление новых, непредвиденных качественно­ стей и составляет основу так называемого «мыш­ ления образами»; оно — квалитативно, а механическиабстрактное мышление — квантитативно; в нем сумма двух ядов — яд; в действительности — не яд, а соль. И в этой соли—«соль» отличия художественной прозы от прозы только публициста; как публицист, я мыслю квантитативно, как художник, — квалитативно. В чем разница? В том, что образы, рожденные звуком темы, не подчиняются моим априорным намерениям подчинить их таким-то абстрактным приемам; я полагаю: герою быть таким-то, а он опрокидывает мои намерения, заставляя меня гоняться за ним; и сюжет летит ввѳрх-тормашками; и это значит: задается темой автор-публицист, мыслящий квантита­ тивно, а выполняет автор-художник, мыслящий обра­ зами. Первоначальное задание—леса, быстро убирае­ мые, когда внутри них реально отстроено здание; леса говорят лишь о количестве этажей, но не о качестве композиции; я обещаю редактору одно, а приношу другое. Обещает публицист, а качество приносит художник. Так было со мной в 1911 году, когда я обещал редактору «Русской мысли», Струве, 11-й том «голубя», а принес «Петербург». Струве, пришедший в ярость от неожиданной пародии на тогдашнюю государственность, отвергнул роман, а я остался без гроша денег. 19 Иначе обстоит дело с моей публицистикой; в пей л приношу то, что обещаю; обещал, настрочил, исполнил. Таи качественно иная работа; и я, как публицист, качественно иной; пишучи роман, я органически не могу написать ничего абстрактного; пишучи статью, исследование, я для «звуков», «ритмов» и «художественных образов» бездарен, как... пробка. Второе затруднение с качественным мышлением : мои образы растут как овощи в огороде; одни готовы, другие не желают дозреть; сиди у моря и жди погоды иногда месяцами; редактор же рвет и мечет; контракт грозит бодами; если хочешь быть правдивым худож­ ником, себе на-голову нарушь контракт; большинство в сем деликатном пункте отдается халтуре: кто, в самом деле, проверит? Между художником слова и редактором была, есть и будет неувязка, пока не поймут, что все, что я пишу здесь, — истинная правда. А этого пока еще не поймут. Последний вопрос — о писании в узком смысле, или о кухне сложения текста, записанил, «паписапия» по записям, правке и переписке. В сем пункте я хотел разразиться исследовательским томом; и потому-то здесь буду особенно краток. Главное задание в написании — чтобы звук, краска, образ, сюжет, тенденция сюжета проницали друг друга до полной имманентности, чтобы звук и краска вскричали смыслом, чтобы тенденция была звучна и красочна. В процессе писания я открываю ряд лабораторий в одной папке настуканное, набормотанное, как ритмы (на прогулках, за обедом, в постели); тут—нет от­ дыха; 24 'часа я должен быть при «лаборатории»; а вдруг «вскипит» нужное слово; не закрепишь, оно—; улетит; другая лаборатория — растирание красок, об­ разы, этюды с натуры — дерева, носа, стола, обой, 20 жеста; опять-таки тут нет никакого письменного сто­ ла; и вагон, и случайный камень, и сидение в учре­ ждении может во мгновение ока стать «письменным» столом; третья лаборатория — зарисовка образа мы­ слей, движений души действующих лиц; ведешь их дневники; я прочел четыре истории математики, что­ бы понять психологию Коробкина в третьей части романа; сидел над Томсоном, Резерфордом и други­ ми учеными, чтобы лучше узнать стиль открытия профессора; а читатель не встретит ни цитат ни «вумных» рассуждений; все это убрано внутрь жеста, с которым Коробкин разрезает цыпленка. Четвертая папка — поиски «словечек»; пятая — пере­ марки редакций фраз; шестая... довольно!.. Рассказ обо всем, что я над собой проделываю, как иногда ломаю себя, свое здоровье для подгляда, который может и не отразиться в романе, — том, а не статья. Словом: процесс писания в узком смысле есть коор­ динация 10—12 отдельных работ; для каждой нужна своя, особая динамизация сознания, в просторечии именуемая «вдохновением», нужным и в математике. Особенность художественной работы — в своеобразии координации сих «вдохновений», качественно раз­ нородных: звукового, красочного, психологического, публицистического, правочного, расположения отрыв­ ков в их последовательности и т. д. Здесь автор — режиссер-постановщик, макетист, костюмер, бутафор, исполнитель и т. д. Открывая свои лаборатории, я ни на минуту не могу от них отлучиться; менее всего провожу я время за письменным столом; ведь процесс записания и переписывания, занимая десятки часов, — все же малая часть времени по сравнению со всем тем, что мне нужно: мне нужно и переть из Кучина в Москву, чтобы доразглядеть архитектуру такой-то улицы, и лупить к закату; и ограбить сегодняшний лес, ибо 21 выпавший иней мне нужен для такого-то отрывка; >1 если я не зарисую его в нескольких звуковых фразах, я его безвозвратно теряю; дома ждут и письменный стол, и переписка, и нужные справки в словаре Даля, и справки в истории греческой математики Крджори. Я пишу день и ночь; переутомляясь, я в полусне, в полубреду выборматываю лучшие страницы и, прос­ нувшись, вижу, что заспал их. Три недели собираюсь ответить на анкету сборника; нет — ни минутки свободной; не то, так другое. Так работаю я пять месяцев без пятидневки; пульс усилен; температура всегда «37,2», т. е. выше нормы; мигрени, приливы, бессонницы облепили меня, как стая врагов; написано 2/3 текста, а я не знаю, до­ пишу ли: допишу, если не стащат в лечебницу. Так я пишу в узком смысле слова, в период «запи­ сывания», после услышания темы и увидения образов. Но так мною написано лишь 6 — 7 книг из мной написанных 30. Так работать накладисто, ибо я получаю тот же гоно­ рар и за печатный лист «полу-халтуры», и за печат­ ный лист художественной прозы, равный 15 печатным листам мемуарного текста. Вывод: я пишу художественную прозу редко; раз в 6-7 лет, ибо фин-инспектор не станет считаться с моими мотовствами вроде: 1) сожженного здоровья, 2) траты времени на прочтение 4 историй матема­ тики, 3) трех дорого стоивших поездок в горы (для оживления сюжета в себе) и т. д., и вычтет из нищенского гонорара; так я буду лучше «халту­ рить»; писать, как большинство; кто там разберет, кто писал: художник слова или «стрекуп»? Знаю, что мои «халтурные» произведения более понравятся, ибо они приспособлены для чтепия глазами, и языковой проблемы в них пет. А то Белый, художник, дотошно пристает: нет, — ты, читая, внутренне произноси; 22 прочтя, — перечти: еще и еще. Читатель зол, критик зол: «Непонятно пишет писатель Белый». Не понимают, что навык к художественному чтению необходим, как необходима перекоординация слуховых центров от трепака к Девятой симфонии. Непонятно не то, что трудно (трудное сегодня, завтра—легко); не­ понятно то, что в итоге усилий научиться художест­ венно читать остается непонятным. А кто будет различать понятие о необходимой за­ трудненности ради будущей легкости от понятия неудобоваримости по существу ? И потому-то Андрей Белый, будучи еще и публици­ стом, существует главным образом публицистикой, питающей и обувающей его; и раз в 6-7 лет, «настро­ чив» для хлеба, проедает этот хлеб в мотовство ужасных терзаний работы над художественным офор­ млением. И это потому, что он надеется, что в 2000-м году, в будущем социалистическом государстве, его усилия будут исторически оправданы потомками тех, кто его осмеивает как глупо и пусто верещащий телеграфный столб. 23 М. ГОРЬНИЙ 1. Полагаю, что писать начал лет с 12-ти и что толчком к этому послужило «перенасыщение опытом». Сначала записывал пословицы, поговорки, прибаутки, которые формировали мои личные впечатления: «Эх, жить весело, да — бить некого», или нравились мне своей фокусной затейливостью: «Кишка кишке ку­ киш кажет». Я, разумеется, знал, что такое ку­ киш, но слог «кур во втором с конца и буква «ш» в последнем слоге казались мне лишней и поговорку читал так: «Кишка кишке — кишка-же». Затем начал сам сочинять поговорки: «Сел дед, поел дед, вспотел дед, спросил дед: скоро ли обед?» Записывал непо­ нятные мне фразы из книг: «Собственно говоря — никто не изобрел пороха». Я долго не мог понять, что значит «собственно говоря», а слово «никто» было воспринято мною так: некто, кто-то. Эт0 недоразумение настолько крепко въелось в мою память, что в 1904 г. в пьесе «Дачники» один из ее героев на вопрос: «Никто не был?» отвечает: «Никто не может быть или не быть». Сочинял стихи и, помню, в одном стихотворении над словами: «Карета едет»— долго думал: кто едет — карета или лошадь? Читал — много, особенно много — переводов иностранной ли­ тературы. Любил читать библию, а также «Искру» — сатирический еженедельник Курочкиных, который издавался откупщиком Кокоревым. Печататься начал с 1892 г., но до 1895 года не верил, что литература — мое дело. Маленькие рассказы для газет не казались мне серьезным делом, и это было ошибочно, — учиться писать следует именно на маленьких рассказах, они приучают автора экономить слова, писать более густо. 24 2. Пользовался, преимущественно, материалом авто­ биографическим, но — ставил себя в позицию свиде­ теля событий, избегая выдвигаться, как сила дей­ ствующая, дабы не мешать самому себе, рассказчику о жизни. Это не значит, что я боялся внести в изображаемую действительность нечто «от себя»,—ту «выдумку», о которой говорил И. С. Тургенев и без которой — нет искусства. Но когда автор, изображая, любуется самим собою, — своим умом, знаниями, меткостью слова, зоркостью глаза — он почти не­ избежно портит, искажает то, что именуется «художе­ ственной правдой». Портит он свой материал и тогда, когда, насилуя социальную природу своих героев, заставляет их говорить чужими словами и совершать поступки, органически невозможные для них. Каждый изображаемый человек подобеп руде — он форми­ руется и деформируется при определенной идеологи­ ческой температуре. «Холодной обработкой» с чело­ веком ничего не сделаешь, только испортишь его, поэтому писатель должен немножко любить свой материал — живого человека, или хотя бы любоваться им как материалом. 3. Почти всегда. Но само собою разумеется, что характер героя делается из многих отдельных черточек, взятых от различных людей его социальной группы, его ряда. Необходимо очень хорошо присмотреться к сотне-другой попов, лавочников, рабочих для того, чтоб приблизительно верно написать портрет одного рабочего, попа, лавочника. 4. Конечно, впечатление, полученное непосредственно и действующее положительно или отрицательно на опыт, уже спрессованный в мироощущение, миропо­ нимание, сиречь — на идеологию. Случаев, когда я пользовался другим материалом, два: повести «Испо­ ведь» и «Лето». «Исповедь» написана по рассказу одного нижегородского сектанта и по статье о нем 26 Кудринского — «Богдана -Степанца» преподавателя Нижегородской семинарии. «Лето» — по запискам одиночки - пропагандиста эс-эра, работавшего, ви­ димо, в Рязанской деревне и умершего в 1910 или 9 гг. в больнице г. Мценска. 5. Работаю утром с 9 до часа, вечером с 8 до 12. Успешнее —утром. 6. Не знаю. Никогда не подсчитывал. Бывали случаи, когда писал круглые сутки и больше, не вставая из-за стола. Так написаны: «Изергиль», «26 и одна». А «Рождение человека» в три часа. Даже, кажется, меньше. 7. Курю. Много. Теперь — почти непрерывно во время работы. о. Перо. Пишущая машинка, мне кажется, должна вредно влиять на ритм фразы. Рукописи правлю два, три раза. В окончательной редакции выбрасываю целые страницы, сцены. 9. Плана никогда не делаю, план создается сам собою в процессе работы, его вырабатывают сами герои. Нахожу, что действующим лицам нельзя подсказывать, как они должны вести себя. У каждого из них есть своя биологическая воля. С этими качествами автор берет их из действительности, как свой материал, по как «полуфабрикат». Далее он «разрабатывает» их, шлифует силою своего личного опыта, своих знаний, договаривая за них несказанные ими слова, довершая поступки, которых они не совершили, но должні^ были совершить по силе своих «природиых» и «благо<приобретенных» качеств. Здесь — место «выдумке» — художественному творчеству. Оно будет более или менее совершенно тогда, когда автор договорит и доделает своих героев в строгом соответствии с их * Если не ошибаюсь — статья была напечатана в журнале «Жизнь». 28 основными свойствами. У Достоевского почти все герои его, а особенно Иван и Дмитрий Карамазовы, князь Мышкин, Ставрогин, Грушенька — договорены до конца, это — типы. Но Раскольникову он свернул голову — неосновательно, недостаточно оправданно, подчинившие!; христианской, бесчеловечной идее спа­ сительности страдания. Совершенно законченными типами я, разумеется, считаю Гамлета, Фауста, ДонКихота, Робинзона Крузо, Вертера, М-ме Бовари, Манон Леско. Это, для меня, уже монументальное творчество, как, наверное, для всех, мало-мальски чувствующих совершенную гармонию, изображенную хотя-бы иногда и в отрицательном образе. При­ меры: типы Гоголя в «Мертвых душах» и «Реви­ зоре», Иудушка-Головлев Салтыкова -Щедрина, Домбиотец и другие характеры Диккенса, «Квазимодо» Гюго и т. д. Повторяю: мастер должен не только хорошо знать, но и любить свой материал, вернее — любоваться им. Мармеладов, Карамазов-отец и многие другие, подобные им герои Достоевского — отвратительны, но совершенно ясно, что они сделаны Достоевским с величайшей любовью, хотя в действи­ тельности он, мне кажется, не любил людей. 10. Труднее всего — начало, именно первая фраза. Она, как в музыке, дает тон всему произведению, и обыкновенно ее ищешь весьма долго. Здесь и ответ на 12-й вопрос. 11. Разумеется — на всех восприятиях. 13. Редко читаю вслух свои вещи, но люблю читать чужие. Хорошие. 14. Кончая работу, прочитываю всю ее с трудом и, почти всегда, с тяжелым сознанием неудачи. 15. Пробовал сократить текст в 1923 г. при первом издании собрания сочинений. Работу эту не закон­ чил, возникло желание упичтожнть половину напи­ санного. 27 1G. Рецензии никогда и никак не илияли. Совре­ менные особенно не способны влиять, ибо видишь, что рецензенты читают книги невнимательно, неумело и, часто, не понимают прочитанного. Это, конечно, относится не только к моим книгам, а является общим мороком рецензентов. От него весьма сильно страдают молодые, «начинающие» писатели. Следует упомянуть о небрежном отношении редакторов к рецензиям ; редакторы, очевидно, тоже невнимательно читают их. Если вообще читают. га ЕВГ. ЗАМЯТИН В спальных вагонах в каждом купу есть такая малень­ кая рукоятка, обделанная костью: если повернуть ее вправо — полный свет, если влево — темно, если поставить насередину — зажигается синяя лампа, все видно, но этот синий свет не мешает заснуть, не будит. Когда я сплю и вижу сон —рукоятка сознания повернута влево; когда я пишу — рукоятка поставлена посередине, сознание горит синей лампой. Я вижу сон на бумаге, фантазия работает так же, как во сне, опа движется тем же путем ассоциаций, но этим сном осторожно (синий свет) руководит сознание. Как и во сне — стоит только подумать, что это сон, стоит только полностью включить сознание — и сон исчез. Нет ничего хуже бессонницы, когда выключатель испорчен и, сколько бы вы его ни вертели, — полного сознания вам не удается потушить, белый, трезвый свет все время назойливо лезет в глаза. Такая лите­ ратурная бессонница приключилась со мною лет десять назад. В Студии Дома искусств я начал читать курс «техники художественной прозы», мне пришлось впервые заглянуть к самому себе за кулисы — и не­ сколько месяцев после этого я не мог писать. Все как-будто в порядке, постлана простыня чистой, белой бумаги, уже наплывает сон—и вдруг толчок, я про­ снулся, все исчезло, потому что я начал следить (сознанием) за механикой сна, за ритмом, ассонансами, образами —я увидел канаты, блоки, люки закулис. Эта бессонница кончилась только тогда, когда на время работы я научился забывать, что я знаю, как я пишу. Я не могу заснуть, когда я слышу, что рядом громко разговаривают, мне нужно, чтобы в моей комнате дверь была плотно закрыта, чтобы я был один. И это же нам необходимо, чтобы заснуть в рассказ, повесть, 28 пьесу. Этажем ниже подо мною живет девочка — я ни­ когда но видел ее и все-таки я давно ее вижу и Знаю (жиденькая белесая косичка, веснушки, мышьи * глаза) По утрам, когда я сажусь за письменный стол, она садится за рояль и играет — вот уже полтора года — один и тот же этюд. Если есть, как уверяют теософы, «астральное клише», то там уже давно отпечаталась моя жестокая расправа с этой девчонкой: я ее убивал уже много раз. Самое трудное — начать, отчалить от реального бе­ рега в сон. Сон еще воздушен, непрочен, неясен, его никак не поймать, мешает все — не только эта веснущатая девчонка внизу, но и мое собственное дыхание, ощущение карандаша в руке, криво напи­ санная строчка. Тут-то и начинается папироса за папиросой, пока дневной мир не завесится синей дымкой (рукоятка выключателя — посередине). Потом, страница за страницей, сон становится все крепче, мотор фантазии развивает все большее число обо­ ротов, пульс учащается, уши горят. И, наконец, на какой-то день работы приходит настоящее, когда нача­ тый сон уже становится неотвязным, когда ходишь заги­ пнотизированный им, когда думаешь о нем на улице, на заседании, в ванне, в концерте, в постели. Тогда уже знаешь, что пошло, что вещь выйдет — тогда работать весело, хорошо, пьяно. Утром торопишься скорее допить крепчайший чай, и первой строчкой затя­ гиваешься с таким же аппетитом, как первой папиросой. Этого аппетита хватает уже не на три обычных, а на пять-шесть часов, до позднего петербургского обеда. Но, как бы хорошо ни работалось, как бы ни раз­ вертелись в голове колеса, к вечеру я все равно выключаю ток и останавливаю машину, иначе — знаю по опыту: не заснуть до утра, и значит — потерян завтрашний день. 30 Химики знают, что такое «насыщенный раствор». В стакане налита как-будто бесцветная, ежедневная, простая вода, но стоит туда бросить только еще одну крупинку соли и раствор оживает — ромбы, иглы, тетраэдры — и через несколько секунд вместо бес­ цветной воды уже хрустальные грани кристаллов. Должно быть, иногда бываешь в состоянии насы­ щенного раствора — и тогда случайного зрительного впечатления, обрывка вагонной фразы, двухстрочной заметки в газете довольно, чтобы кристаллизовать несколько печатных листов. Из бесцветного, ежедневного Петербурга (это был еще Петербург) я поехал как-то в Тамбовскую губернию, в густую, черноземную Лебедянь, на ту самую, заросшую просвирником улицу, где я когдато бегал гимназистом. Неделю спустя я уже возвра­ щался — через Москву, по Павелецкой дороге. На какой-то маленькой станции, недалеко от Москвы, я проснулся, поднял штору. Перед самым окном — как вставленная в рамку—медленно проплыла физиономия станционного жандарма: низко нахлобученный лоб, медвежьи глазки, страшные четыреугольные челюсти. Я успел прочитать название станции: Барыбино. Так родился Анфим Барыба и повесть «Уездное». В Лебедяни, помню, мне сделал визит некий местный собрат по перу— почтовый чиновник. Он заявил, что дома у него лежит 8 фунтов стихов, а пока он прочел мне на пробу одно. Это стихотворение начинается так: Гулять люблю я лунною порой При цвете запахов герани И в то же время одной рукой Играть с красавицей младой, Прибывшей к нам из города Сызрани. Пять строк эти не дивали мне покоя до тех пор» пока из них не вышла повесть «Алатырь» — с цент­ ральной фигурой поэта Кости Едыткина. 31 В 1915 году я был на севере — в Кеми, в Соловках, в Сороке. Я вернулся в Петербург как-будто уже готовый, полный до краев, сейчас же начал писать — и ничего не вышло: последней крупинки соли, нужной для начала кристаллизации, еще не было, рта кру­ пинка попала в раствор только года через два: в вагоне я услышал разговор о медвежьей охоте, о том, что единственное средство спастись от медведя — притво­ риться мертвым. Отсюда — конец повести «Север», а затем, развертываясь от конца к началу, и вся повесть (этот путь — обратного развертывания сю­ жета — у меня чаще всего). Ночное дежурство зимой, на дворе, 1919-й год. Мой товарищ по дежурству — озябший, изголодав­ шийся профессор—жаловался на бездровьѳ: «Хоть впору красть дрова! Да все горе в том, что не могу: сдохну, а не украду». На другой день я сел писать рассказ «Пещера». Очень ясно помню, как возник рассказ «Русь». Это — один пз примеров «искусственного оплодотворения», когда сперматозоид дан творчеством другого худож­ ника (чаще мы—андрогины). Таким художником был Б. М. Кустодиев. Издательство «Аквилон» прислало мне серию его «Русских типов»—с просьбой напи­ сать о них статью. Статью мне писать не хотелось: только что была кончена статья о Юрии Анненкове (для его книги аПортреты»). Я разложил на столо кустодиевские рисунки: монахиня, красавица в окне, купчина в сапогах-бутылках, «молодец» из лавки... Смотрел на них час, два — вдруг они ожили, и вместо статьи написался рассказ, действующими лицами в нем были люди, сошедшие с этих кустодиевских картин. Все это — случаи «насыщенного раствора», когда вся предварительная работа проходит в подсознании и рассказ, повесть начинаются почти непроизвольно, как сон. Другой путь возникновения вещи — анало­ 32 гичен произвольному усыплению, когда я сам для себя становлюсь гипнотизером. Этот путь труднее и медленней. Сначала является отвлеченный тезис, идея вещи, она долго живет в сознании, в верхних этажах — и никак не хочет спу­ ститься вниз, обрасти мясом и кожей. Беременность длится, ей не видно конца (несчастные слонихи ходят тяжелыми, кажется, два года!). Приходится держать строгую диэту — читать только книги, не выходящие из круга определенных идей или определенной эпохи. Помню, что для «Блохи» этот период продолжался месяца четыре, не меньше. Диэта была такая: русские народные комедии и сказки, пьесы Гоцци и коечто из Гольдони, балаганные афиши, старые русские лубки, книги Ровипского. Самая работа над пьесой, от первой строки до последней, заняла всего пять недель. Чтобы войти в эпоху Атиллы (для пьесы «Атилла»), потребовалось уже около двух лет, пришлось про­ читать десятки русских, французских, английских томов, дать три текстовых варианта. Совершено не­ зависимо от того, что пьеса до сцены так и не дошла — все это оказалось только подготовительной работой к роману. • Нарезаны четвертушки бумаги, очинен химический карандаш, приготовлены папиросы, я сажусь за стол. Я знаю только развязку, или только одну какую-то сцену, или только одно из действующих лиц, а мне нужно их пять, десять. И вот на первом листке обычно происходит инкарнация, воплощение нужных мне людей, делаются эскизы к их портретам, пока мне не станет ясно, как каждый из них ходит, улыбается, ест, говорит. Как только они для меня оживут — они уже сами начнут действовать без­ з 33 ошибочно, вернее—начнут ошибаться, но так, как может и должен ошибаться каждый из них. Я пробую перевоспитать их, я пробую построить их жизнь по плану, но если люди живые — они непременно опро­ кинут выдуманные для них планы. И часто до самой последней страницы я не знаю, чем у меня (у них, у моих людей) все кончится. Бывает, что я не знаю развязки даже тогда, когда я ее знаю — когда с развязки начинается вся работа. Так было, например, с повестью «Островитяне». Зна­ комый англичанин рассказал мне, что в Лондоне есть люди, живущие очень странной профессией: ловлей любовников в парках. Сцена такой ловли увиделась мне, как очень подходящая развязка, к ней приросла вся сложная фабула повести, а потом — к моему удивлению — оказалось, что повесть кончается совер­ шенно иначе, чем это было по плану. Герой повести— Кембл — отказался быть негодяем, каким я хотел его сделать. Стоит отметить, что первый вариант развязки, выпавший из текста повести, позже стал жить само­ стоятельно— в виде рассказа «Ловец человеков». Для тех, кто придет ко мне за кулисы не только ради любопытства, — я даю в «Приложении» первые наброски «Островитян»: эскизы к портретам дей­ ствующих лиц, отдельные заметки, план повести и промежуточный вариант развязки. Над дверью за кулисы обычно вывешивается надпись: «Посторонним вход воспрещается». В «Приложении» — эта надпись снята: желающие могут войти. • На дверях редакции была надпись: «Прием от 2 до 4»> Я опоздал — было половина пятого — и потому вошел уже растерянным, а дальше пошло еще хуже. За столом сидел Иванов-Разумник и с пим какой-то черный, белозубый, лохматый цыган. Как только я 34 назвал себя, цыган вскочил: «A-а, так это вы и есть? Покорно вас благодарю! Тѳтушку-то мою вы как измордовали» ! — «Какую тетушку? Где?» — «Чеботариху, в «Уездном» — вот где!» Цыган оказался Пришвиным, мы с Пришвиным ока­ зались земляками, а Чеботарила — оказалась пришвинской теткой... Эту пришвинскую тетку я не один раз видел в дет­ стве, она прочно засела во мне и, может быть, чтобы избавиться от нее — мне пришлось выбросить ее из себя в повесть. Жизни ее — я не знал, все ее при­ ключения мною выдуманы, но у нее в самом деле был кожевенный завод, и внешность ее в «Уездном» дана портретно. Ее настоящее имя в повести я оставил почти без изменения: сколько я ни пробовал, я не мог назвать ее иначе — так же, как Пришвина не могу назвать иначе, чем Михал Михалыч. Кстати сказать — это правило: фамилии, имена прирастают к действующим лицам так же крепко, как к живым людям. И это понятно: если имя почувствовано, выбрано верно — в нем непременно есть звуковая характеристика действующего лица. Случай с пришвинской теткой — едва ли не единствен­ ный: обычно я пишу без натурщиков и натурщиц. Если изредка люди из внешнего мира и попадают в мой мир, то они меняются настолько, что лишь я один знаю, чья на них лежит тень. Но уж раз сегодня открыт вход за кулисы, несколько таких теней я покажу — тем более, что все они наперечет. Помню, когда-то я читал повесть «Алатырь» А. М. Ремизову, Ремизов слушал, рисовал на бумажке чертей. Я до сих пор не знаю: увидел ли он, что алатырский спец по чертоведению отец Петр, автор труда «О житии и пропитании диаволов», — в родстве с писателем Ремизовым. 85 Вечный студент Сеня, погибший на баррикадах в рассказе «Непутевый», — жив до сих пор: это — бывший мой товарищ по студенческих годам Я. П. Г-в. Ни его внешности ни действительных событий его жизни в рассказе нет — и тем не менее именно от этого человека взята основная тональность рас­ * сказа Позже он стал основателем секты кіпігопоклонников. В первые, голодные годы революции он часто заходил ко мне, с ним был всегда полный «куфтырь» книг— они покупались на последнее, на деньги от проданных татарину штанов. И до неузнаваемости загримиро­ ванный он еще раз вышел на сцепу в роли «Мамая 1917 года»—в рассказе «Мамай». Опять — к давним гимназическим годам: канун Пасхи, весенний день, я вхожу во двор дома, где живет полковник Книпер. От изумления я столбенею: по­ среди двора на козлах — корыто, возле корыта с за­ сученными рукавами — сам полковник, возле пего суетится денщик. Оказалось: в корыте сбивается пятьдесят белков, полковник Книпер готовит для пасхального стола баум-кухѳн. Это пролежало во мне пятнадцать лет — и только через пятнадцать лет из этого, как из зерна, вырос генерал-гастроном Азанчеѳв в «На куличках». С этой повестью вышла странная вещь. После ее напечатания раза два-три мне случилось встречать бывших дальневосточных офицеров, которые уверяли меня, что знают живых людей, изображенных в по­ вести, и что настоящие их фамилии — такие-то и такие-то, и что действие происходит там-то и там-то. А между тем дальше Урала на наш Восток я не ездил, все эти «живые люди» (кроме */іо Азанчеева) жили только в моей фантазии, и из всей повести только одна глава о «клубе ланцепупов» построена на слы­ шанном мною от кого-то рассказе. «Ав каком полку 86 вы служили?»—Я: «Ни в каком. Вообще — не слу­ жил».—«Ладно! Втирайте очки!» «Втирать очки» — строить даже незнакомый по соб­ ственному опыіу быт и живых людей в нем — оказы­ вается, можно. Фауна и флора письменного стола — гораздо богаче, чем думают, она еще мало изучена. • Так или иначе нужные мне люди, наконец, пришли, они есть, но они еще голы, их нужно одеть сло­ вами. В слове — и цвет и звук: живопись и музыка дальше идут рядом. На первой же странице текста приходится определить основу всей музыкальной ткани, услышать ритм всей вещи. Услышать это сразу — редко удается, почти всегда приходится переписывать первую страницу по нескольку раз (в повести «На куличках», на­ пример, было четыре разных начала, в «Остро­ витянах»— два, в «Алатыре» — шесть). Это понятно: при решении ритмической задачи — прозаик в поло­ жении гораздо более трудном, чем поэт. Ритмика стиха давно изучена, для нее есть и свод законов и уложение о наказаниях, а за ритмические пре­ ступления в прозе до сих пор не судят никого. В анализе прозаического ритма даже Андрей Белый — тончайший исследователь музыки слова — сделал ошибку: к прозе он приложил стиховую стопу (отсюда его болезнь — хронический анапестит). Для меня совершенно ясно, что отношение между ритмикой стиха и прозы такое же, как отношение между арифметикой и интегральным исчислением. В арифметике мы суммируем отдельные слагаемые, в интегральном исчислении — мы складываем уже суммы, ряды; прозаическая стопа измеряется уже не расстоянием между ударяемыми слогами, но рас­ 37 стоянием между ударяемыми (логически) словами. И так же, как в интегральном исчислении — в прозе мы имеем дело уже не с постоянными величинами (как в стихе, арифметике), но с переменными: метр в прозе—всегда переменная величина, в нем все время — то замедления то ускорения. Они, конечно, не случайны: они определяются эмоциональными, смысловыми замедлениями и ускорениями в тексте. Вот для иллюстрации две фразы: «и еще глубже, лютее тишь»—замедление; «вдруг вывернулся авто­ мобиль»— ускорение, внезапность (ряд неударяемых и потому быстро произносимых слогов). Когда эти фразы вписывались в повесть, — математика была, конечно, только синей лампой, ритм был выбран подсознанием, но выбран он был правильно. Стоило только поставить «тишина» вместо «тишь» в первой фразе—и замедление уже было бы испорчено; можно было бы написать «вдруг появился авто» вместо второй фразы — и уже не было бы такой внезапности. На гласных разрешается еще одна задача динамиче­ ского, как и ритм, порядка: «дыхание» фразы — если взять термин Белого. Вдох—в подъеме гласных: у-о-е-а-ы-и] выдох — в их падении от и до закрытого, глухого у. По настоящему дыхание это я услышал сравнительно недавно, но с тех пор как услышал — мне уже мучительно читать фразу, внутренне выра­ жающую подъем и построенную на падении гласных, или фразу, вытянутую по горизонтали повторяю­ щихся а, когда но смыслу она должна идти камнем ко дну. Вот два примера правильного, по-моему, дыхания из рассказа «Наводнение». «Было тихо, только тикали часы на стенке, и в Софье, и всюду»—дыхание падает, потом останавливается совсем (и-и-е-о-у). «Софья чувствовала, как из нес текут теплые слезы, теплая кровь... она лежала теплая, блаженная, 38 влажная как земля...»—движению гласных от глу­ хого у до широкого раскрытого а соответствует внутреннее раскрытие, освобождение человека. Согласные — статика, земля, вещество. Если, напри­ мер, я не только вижу, но и слышу пейзане — он инструментуется на согласных. «Туман, душный как вата, и закутанные странно звучат шаги — будто кто-то неотступно идет сзади»... — фраза (из «Островитян») окрашена темными, глухими д и т. «Осенний ветер бесился, свистел, сек, с моря насе­ дала огромная серая птица»—ветер в накоплении с с заключительным ц. «.. .Теплые слезы, теплая кровь... она лежала теплая, блаженная, влажная как земля»...— («Наводнение») в каждом слове л — влага. На согласных я строю и внешнюю звуковую харак теристику действующих лиц. Это очень последова­ тельно проведено, например, в «Островитянах»: там каждому человеку соответствует свой лейтмотив, не­ изменно сопровождающий его появление. Кембл — начинал с самого его имени — в тупых, упрямых бу л, р («Громадные, квадратные башмаки, шагающие как грузовой трактор»... «Верхняя губа Кембла оби­ женно, по-ребячьи, нависала»...); Викарий Дьюли — в злых з и с («Всякий раз мистер Дьюли с ослепи­ тельной золотой улыбкой — у него было восемь коронок на зубах ...»); Лэди Кембл — в извивающихся, ползучих Чу Шу в («Губы, тончайшие и необычайно­ длинные как черви — извивались, шевелили вниз и вверх хвостиками...»). • А живопись — забыта? Нет: слышать и видеть во время работы приходится одновременно. И если есть Звуковые лейтмотивы — должны быть и лейтмотивы зрительные. В тех же «Островитянах» : основной зрительный образ Кембла — трактор; лрди Кембл — 88 черви (губы); Миссис Дьюли — пенснэ; у адвоката О’Келли —двойник мопс. В «Севере» все время живут рядом Кортома — и самодовольный, сияющий самовар, Кортомиха— и снятая с руки, брошенная перчатка. В «Наводнении»: Софья — и птица, Ганька и кошка. Каждый такой зрительный лейтмотив — тоже, что фокус лучей в оптике: здесь в одной точке должны пересекаться образы, связанные с данным человеком. Отдельными, случайными образами я пользуюсь редко: они — только искры, они живут одну секунду — и тухнут, забываются. Случайный образ — от неуменья сосредоточиться, по-настоящему увидеть, поверить. Если я верю в образ твердо — он неминуемо родит целую систему производных образов, он прорастает корнями через абзацы, страницы. В небольшом рассказе образ может стать интегральным — распро­ страниться на всю вещь от начала до конца. Шести­ этажный огнеглазый дом на темной, пустынной, отражающей э'о выстрелов улице 1919 года — мне однажды увиделся как корабль в океане. Я поверил в это совершенно — и интегральный образ корабля определил собою всю систему образов в рассказе «Мамай». То же самое — в рассказе «Пещера». И более сложный случай — в «Наводнении»: здесь интегральный образ наводнения я попытался провести через рассказ в двух планах, реальное петербургское наводнение отражено в наводнении душевном — и в их общее русло вли­ ваются все основные образы рассказа. «Ни одной второстепенной детали, ни одной лишней черты: только суть, экстракт, синтез, открывающийся глазу в сотую долю секунды, когда собраны в фокус, спрессованы, заострены все чувства. Сегодняшний читатель и зритель сумеет договорить картину, дори­ совать слова — и им самим договоренное, дорисо­ ванное — будет врезано в него неизмеримо прочнее, 40 врастет в него органически. Здесь — путь к совмест­ ному творчеству художника и читателя или зрителя». Это я писал несколько лет назад о Юрии Анненкове, о его рисунках. Эт0 я писал не об Анненкове, а о нас, о себе, о том, каким, по-моему, должен быть сло­ весный рисунок. • Однажды был случай, когда я остро ощущал, что у меня потеряна одна рука — что третьей руки мне не хватает. Это было в Англии, когда я в первый раз поехал на автомобиле за шоффера: в одпо и то же время нужно было и править рулем, и переводить рычаг скоростей, и работать акселератором, и давать гудки. Нечто вроде утого я испытывал в давние годы, когда начинал писать: казалось совершенно немыс­ лимым одновременно управлять и движением сюжета, и чувствами людей, и их диалогами, и инструмен­ товкой, и образами, и ритмом. Потом я убедился, что для управления автомобилем — двух рук совер­ шенно достаточно. Это пришло тогда, когда большая часть всех сложных движений стала выполняться подсознательно, рефлекторно. Такое шофферское ощущение раньше или позже приходит и за пись­ менным столом. Взятый мною сейчас автомобильно - шофферский образ — конечно, неверен, неточен. Эт0 можно позво­ лить себе только за кулисами: на сцене, в повести, в романе — такой образ я наверное бы вычеркнул. Образ этот неверен потому, что хороший шоффер безошибочно проведет свой автомобиль даже в Лон­ доне— от Стрэнда до Юстон-род. А я, доехавши на бумаге до Юстон, опять вернусь на Стрэнд и поеду тем же путем обратно — и может быть только в третий раз доставлю моих пассажиров до места. Как-будто уже дописанная до конца вещь — іля меня еще не 41 кончена: я непременно начинаю переписывать ее сначала, с первой строки, а если я все-таки недо­ волен ею — то еще и еще раз (небольшой рассказ «Землемер»—помню, был переписан раз пять). Эт0 одинаково относится к роману, рассказу, повести, пьесе. И даже к статье: статья для меня — то же, что * рассказ Кажется, легче всего мне писать пьесу: Здесь от жадности не разбегаются глаза, языковые возможности ограничены одним только диалогом. Медленный процессе переписыванья очень полезен: есть время присмотреться ко всем мелочам, изменить их — пока еще вещь не застыла, не отвердела, и все лишнее — выкинуть вон. Это «лишнее» само по себе может быть и хорошо, но когда оно не необходимо, когда вещь может жить без него — оно вычеркивается беспощадно. Если бы в машине мы оставили ненуж­ ный рычаг только потому, что он блестит — разве это не было бы абсурдом? В человеческом организме нет ничего лишнего, кроме аппендикса: при первом же удобном случае врачи его вырезают. Чаще всего такие аппендиксы — это описания, пейзажи, когда они не служат рычагом, передающим психические движения действующих лиц. Операция удаления их болезненна, как и всякая другая — и все же она необходима. Рукописи мои могут обмаруть: поправок, подклеек, перечеркиваний там очень немного, все идет какбудто легко. Но это только как-будто: все налегкости — за кулисами, каждую фразу я сначала при­ мерю десять раз в голове и . уже потом отрежу и положу на бумагу. Незаконченных фраз, сцен, поло­ жений — позади я никогда не оставляю. Написанное может завтра мне не понравиться, я начну его за­ ново, но сегодня оно должно казаться мне закон­ ченным: иначе двинуться дальше я не могу. Крупных, коренных переделок в написанной вещи у меня почти никогда не бывает. Я уже поверил 42 в своих людей, я их вижу, они живут, и то, что о них написано, — это уже их прошлое: прошлого не изменишь, оно — было. Из прошлого иногда удается кое-что позабыть: вычеркнуть; в воспоминаниях о прошлом можно кое-что приукрасить — и только. Поправки в готовой рукописи — такие воспоминания о прошлом. Эти поправки сводятся обычно к пере­ менам в эпитетах, образах, в расстановке слов, в музыке. Каждое переиздание — новая правка, воз­ раст вещи от переделок ее не спасает. Когда прошлым летом я подготовлял материал для «Собрания сочи­ нений»— все вещи были заново пройдены паждаком и пемзой. Больше всего изменений было сделано в «Блохе», в «На куличках» и в «Алатыре» (в «Ала­ тыре», например, все поля были изукрашены знаками перестановки слов). Кстати—это было случаем оглянуться па весь прой­ денный лет за пятнадцать путь, сравнить — как я писал и как я пишу теперь. Все сложности, через которые я шел, оказывается, были для того, чтобы придти к простоте («Ела», «Наводнение»). Простота формы—законна для нашей эпохи, но право на эту простоту нужно заработать. Иная простота — хуже воровства, в ней есть неуважение к читателю: «чего тратить время, мудрить—.слопают и так». Я трачу времени много, вероятно — гораздо больше, чем это нужно для читателя. Но это нужно — для критика, самого требовательного и придирчивого критика, какого я знаю: для меня самого. Обмануть этого критика мне никогда не удается, и пока он не скажет, что сделано все, что можно — поставить точку нельзя. Если я считаюсь еще с чьим-нибудь мнением, то только с мнением моих товарищей, о которых я знаю, что они знают, как делается роман, рассказ, пьеса: они сами делали это — и делали хорошо. Другой 43 критики — для меня нет, и как она может быть — мне непонятно. Вообразите, что на завод, на судо­ строительную верфь, приходит этакий бойкий молодой человек, в жизни своей не сделавший ни одного судо­ вого чертежа, и начинает учить инженера и рабочих, как строить корабль: молодого человека немедля прогонят в три шеи. По своему мягкосердечию мы этого не делаем, хотя такие молодые человеки иной раз мешают работать не меньше, чем летом — мухи. • ПРИЛОЖЕНИЕ Островитяне М-р Стюард. Рыжие волосы и костюм. Совершенно при­ личное лицо, гладко-заутюженный (как брюки) нос. Но что-то. .. Рот? Нет, рот маленький, даже слишком. И оттого какое-то очень скромное выражение. Уши, вот что! Острые, кошачьи уши, вот-вот шевельнутся. А когда прищурит янтарные глаза, то ясно — у м-ра Стюарда — чужой рот, он носит свой рот... • Гопкинс — безобразно-прелестный. Вдовый. Остряк. Жуир\ Пастор Чез и. Бабье лицо, глаза невольно ищут у него бюста, а Все по расписанию»-. II а сто р ш аЧ ези. Корректность (чайнаяложка). Надменна. Удивительная кожа. Возраст — сентябрьский. С кошкой — на «вы» • ■ ■. М-р Кембл. Британское, ничего не выражающее лицо. Под­ бородок — слишком тяжелый, четыреугольный, упрямство не­ вероятное. Железные руки. М-с Кембл (мать). Глаз не видно: всегда опущены. II только губы: тонкие, как черви, свиваются, змеятся. Страшно слов, которые выйдут отсюда. • В повести м-ра Стюарда нет: из м-ра Стюарда вместе с пастором Чези образовалось одно лицо — викарий Дьюли. Пасторша Чези — конечно, миссис Дьюли в повести. • ** Гопкинс - в повести переменил свое имя на О'Келли. • • • Пенснр. 44 Шотландцы - в юбочках, круглые головы. Футбол... Ослепительно-чистые пороги. «Журнал Прихода Сэнт...» Петрушка: Royal Punch and Judy. Армия Спасения, с барабанами — поют. Мисс: «О, I ат innocent!» Звон колоколов — как шарманка. Мальчишки — босые, в белых воротничках. Надувной чемодан. • I. Воскресенье — благочестие, гимны, тоска. Вечером — у па­ стора Чези: «пойдемте почезить...» М-с Чези в пенснэ. «Чезенье» о мисс Диди: ее костюмы, вырезы... Кембл по­ могает пасторше приготовить supper (прислуга в воскресенье отпущена). Касания, начало... II. Контора Гопкинса и его машинистки. Кембл на службе у Гопкинса. Гопкинс зовет его в театр: «Покажу вам очаро­ вательную девочку». В театре — две пары: Кембл и пасторша, Гопкинс и Диди. Диди громко смеется, пасторша-делает еіі замечание. Диди начинает атаку на Кембла. Парк, олеандры, месяц, шопот в кустах — Диди сама увлекается своей игрой. III. Кембл: ревность к Гопкинсу. Делает Диди предложение. Но... надо подождать, пока не заработает «на мебель» — года два. Очарование кончено, Диди — глотая смех: «Хорошо, я согласна». IV. Бокс. Кембл, Диди и Гопкинс. Раздражающая, лихора­ дочная атмосфера азарта, голые, напряженные мужские тела. Диди — прижимаясь к Кемблу: «Если вы меня в самом деле...» Кембл выходит и побивает Сррджента. Скандал, разрыв с, матерью и пасторшей. V. Опять — воскресенье, утро, спальня Гопкинса. Армия Спа­ сения проходит и будит его. Прогулка с Диди на «seaside». Старая церковь и замок. Гопкинс об Англии: жесток и остро­ умен. Диди забывает о его безобразии. Но когда он вдруг хочет поцеловать ее... VI. М-с Чези и м-с Кембл, мать: как спасти бедного Кембла от «этой ужасной девушки»? Действуют через хозяйку бординга, где живет Диди. Кембл, как вол, работает «на мебель» (NB. Не «вол», нужно другое). VII. Гопкинс по неизвестным причинам в великолепном на­ строении. Он сдает все дела Кемблу: уезжает на два дня в С. Кембл один, за столом Гопкинса, мечт; ет. В ящике стола находит маленький, прозрачный чулок — тотчас сконфуженно задвигает ящик. И вдруг: духи Диди! П< езд в С.— только 45 через два часа. Колеблется: взять такси или нет — такси 3 фунта. Берет. Гостиница в С. «Где номер м-ра Гопкинса?» Кембла ведут. Коридорный мальчишка у замочной скважины. Когда он уходит, Кембл — сам... Он видит... VIII. Долго, медленно, аккуратно, несколько дней думает: что сделать с Гопкинсом? Однажды приходит в контору и, не говоря ни слова, снимает пиджак, засучивает рукава. «Что вы? С ума сошли?» Ответ Кембла — логический, Гопкинс умирает со смеху. Кембл нещадно его избивает. Пишет письмо Диди, что его мать, м-с Кембл, была права. IX. У матери: она отказывается принять его. Кембл — один в Джесмонде. Работы нет, тратит «мебельные»: теперь все равно. К нему приходит Диди: она сжалилась. Но она не­ навистна, все женщины ненавистны. Счастлив, когда слышит, как она всхлипывает за дверью. X. В Лондоне, ищет работы. Ночевки в «тюбах». Весна, в парке — голодный, злой. Влюбленные пары — он готов за­ душить их. Крадется за одной — кидается как раз, когда они... Перепуганный кавалер умоляет его не звать полиции, предлагает фунт. Кембла сразу осеняет: «Фунт? Нет, dear Sir, три фунта...» XI. Кембл, наконец, нашел себе дело: охота за влюбленными. По сумеркам в парке — джентльмэн в медно-рыжем костюме, с тросточкой... Лет через пять вернулся в Джесмонд, купил дом в приходе м-ра Чези. Теперь Кембл —почтенный, богатый человек, прошлое забыто. Изредка он уезжает в Лондон. И тогда снова в парках видят джентльмэна в медно-рыжем костюме, прогуливающегося с небрежным как-будто видом. • Вариант развязки Кембл в тюрьме ... Так прошло еще два дня. За два дня Кембл умер и Ёодился снова — и лучше бы ему было не родиться. [а второй день к вечеру Кембла позвали вниз... «Вероятно мать», — подумал он. И не было ни малейшей радости. «А вдруг... а вдруг —Диди?» Это было уже совершенно не­ вероятно, сердце сжалось, как перед смертью, и с этой не­ вероятной надеждой Кембл спустился по лестнице. Когда Кембл вошел в комнату с клеенчатым диваном, на­ встречу ему поднялась забинтованная голова Гопкинса. 46 В один молнийный миг Кембл вспомнил и понял, чти говорил полицейский, когда пел его по Гай-Стрит. И понял, что Диди — нет, и значит — нет мира для него и что он все-таки будет жить. — Ну, старик, вам повезло,—говорил Гопкинс, — вы меня ухлопали не совсем. Но вам, чудаку, пора бы уже знать, что женщины — это только высший сорт шампанского. Нам, мужчинам, не пристало ссориться из-за какой-то лишней бутьпки. И опять, как всегда, нельзя было разобрать, шутит он или говорит серьезно. — Слушайте, Кембл: я сказал, что это я вас спровоцировал на выстрел, и потому, думаю, вам много посидеть не при­ дется. Но во всяком случае — потом вам надо убраться из Джесмонда, а может быть — даже из Англии. Тут не прощают... Гопкинс был серьезно-серьезен. Кембл долго молчал, уди­ вленно глядел на него. Потом неожиданно спросил: — Скажите, Гопкинс, вы верите в бога? Почему вы все это... — В бога? В и X бога? Но это же — бог расписаний, это — Чези с шестью нулями, — засмеялся Гопкинс. Он стал прежним, таким знакомым Кемблу... 47 МИХ. ЗОЩЕНКО Это но специальная статья — о том, как я работаю. Это стенограмма моей беседы на эту тему с начинаю­ щими писателями рабкорами. Вернее — часть стено­ граммы, — исправленная и несколько дополненная мною для настоящего сборника. Другими словами — это изложение устной моей речи. Но так как я говорю не слишком хорошо, то полу­ чилось несколько запутанно, и не совсем, что ли, отчетливо. А ведь в статье говорится о том, как надо работать. Так работать как сработана э>а статья, пожалуй, не надо. Но для устной беседы — такое построение статьи было позволительно. • Рассказать о том, как я работаю, довольно трудно — весь творческий процесс складывается чрезвычайно быстро и почти всегда подсознательно. Но я постараюсь, — как это делают в кипо — заме­ дленной съемкой показать вам, в чем состоит сущность моей работы. Прежде всего я должен сказать, что всю свою лите­ ратурную работу я делю на две категории, на две системы. To-есть у меня есть два способа работы. Один способ — когда имеется вдохновение, когда я пишу творческим напряжением. Тогда работа идет легко, быстро и без помарок. При чем весь план, вся композиция вещи складываются сами по себе. Второй способ—когда нет вдохновения. В этом случае я пишу техническим навыком. При этом способе работы я сам проделываю то, что обычно проделы­ вается подсознательно: сам прорабатываю план сюжета, сам соразмеряю части и слово, за слово, 48 делаю рассказ. И все годы моей литературной работы свелись к тому, чтобы научиться такой технике, при которой качество продукции было бы все время приблизительно одинаково. Никому из писателей не удавалось всю литературную работу провести с помощью одного только творче­ ского подъема. Таких писателей я не встречал. To-есть литература, конечно, знает таких писателей. Это по большей части состоятельные люди, помещики или люди, имеющие другую профессию. Они могли работать только тогда, когда хотели. При чем годами пе работали, ожидая, когда их «посетит вдохновение». Кстати о вдохновении — что такое вдохновение и как его получить — я буду говорить несколько позже. Так вот такие писатели писали в полной своей силе, и качество продукции у них было, конечно, чрез­ вычайно высоко. Но количество произведений у таких писателей было всегда почти незначительно. Скажем, такой исключительный писатель, как Меримс, за всю свою семидесятилетнюю жизнь написал что-то около двух десятков рассказов, да один роман. Он почти не знал неудач. Все вещи его, особенно по тому времени, были сделаны с исключительным блеском. Но если б этот Меримс работал как про­ фессионал, как поденщик, — вряд ли бы он имел такую высокую квалификацию. Пожалуй такую квали­ фикацию он бы имел, но наравне с блестящими вещами у него были бы и посредственные. Но нам, писателям, которым приходится писать все время, без перерыва, без большого отдыха, нам не­ обходимо научиться писать и без вдохновения. Нам необходимо научиться той технике, с которой можно работать в любое время и во всяком состоянии. Человек устроен так, что неспособен находиться долгое время в одинаковом напряжении. Часто бывают провалы — физические и всякие другие, которые 4 49 необходимо чем-то заменить, чтобы на долгое время не выйти из строя. Отсутствие творческой энергии, отсутствие вдохно­ вения, оказывается, можно заменить. Можно работать и хорошо писать, не имея вдохновения, не испытывая никакого творческого напряжения. Есть какие-то рецепты, какие-то законы, знание которых вполне заменит творческое вдохновение. Талант и вдохновение — это превосходная вещь, но, оказывается, можно некоторое время работать и без них. Одним нутром, как у нас иной раз работают, работать нельзя и главное нельзя на этом базиро­ ваться, ибо тогда при малейшей болезни, при малейшем препятствии и при других многих жизненных обстоя­ тельствах писатель принужден сложить оружие. Каков же этот рецепт и как его отыскать? Для этого следует присмотреться к собственному вдохновению, когда оно бывает. Присматриваясь к тому, как я работаю подсознательно, я прихожу к выводам, что самое главное в этой работе — три основных положения. Первое — правильное построение рассказа, правильная пропорция материала в каждой его части. Это дело наиболее легкое. ЭТОМУ просто научиться, делая всякий раз подробный план рассказа. Второе — точность изложения и наиболее сильные слова и образы, которые при вдохновении возникают сами собой. Без вдохновения — необходимо пользо­ ваться записной книжкой. И наконец, третье, то, чему научиться наиболее трудпо — это, так сказать, плавное течение рассказа, одно дыхание, если так можно назвать это отсутствие швов, которые обычно получаются при удающейся не сразу работе. Читатель может и не заметить этих швов, но зато он заметит отсутствие плавности, не­ монотонность вещи, и тогда интерес к ней, если и не 50 пропадает, то уменьшается. Становится трудно читать. Внимание ослабевает. Легко оторваться. Избежать этого, не имел вдохновения, конечно, чрез­ вычайно трудно. Тут требуется упорное мастерство, навык и правильный глаз, который видит шерохо­ ватости. Э™ шероховатости и швы стираются или заполняются словами. Повторяю: научиться этому можно упорным трудом. При чем все неудачи чрезвычайно полезны и поучи­ тельны. Огромную роль в такой работе играет записная книжка. Я думаю, что каждый писатель ведет записную книжку. В частности для меня она чрезвычайно важна. Почти каждый день, вечером, я заношу в свою записную книжку несколько слов^ одну две фразы, иногда образ, какую-нибудь встречу, при чем все очень кратко, одним словом, одной фразой. Это вошло уже в привычку, и я все это проделываю почти каждый день. Весь улов за день я заношу в записную книжку, часто мне это, может, и не пригодится в дальнейшей моей работе, но иногда, в особенности когда работаю без вдохновения, я из записной книжки беру слова и фразы и вставляю их в повесть или рассказ. Должен сказать, что лично л работаю большей частью и главным образом имея вдохновение, то-есть то творческое напряжение, которое позволяет работать легко, быстро и успешно. При такой работе на рассказ тратится столько времени, сколько требуется чтобы его записать. Однако иной раз приходится работать и без вдохно­ вения. И все 10 лет моей литературной работы свелись именно к тому, чтобы научиться той высокой технике, при которой качество продукции все время держится приблизительно на одинаковом уровне. Эт° позволяет мне не зависеть от вдохновения и не ждать его. 61 Некоторого успеха и этом деле я достиг, ибо коекакие мои рассказы, написанные в самом большом творческом упадке, считаются чуть ли не наиболее удачными. 3TÜ Для писателя чрезвычайно важно. Например, мой маленький пустяковый рассказ «Баня», очень известный и до последней степени затрепанный Эстрадой, был написан без вдохновения. Этот рас­ сказ был написан искусственным путем, т. е. я сам подбирал кропотливо фразу за фразой и вытаскивал из записной книжки слова, при чем техника была настолько высока, что читатель не заметил в этом рассказе искусственных швов. Этот пример я привел к тому, чтобы показать, что техника и уменье иной раз но уступают самому высокому творческому подъему. Вот этой технике, основанной на опытах, на не­ удачах, на тщательном анализе своей творческой работы, и должен учиться каждый писатель. Писать же как поет птица, одним творческим вдохновением, хоть и легко, но вредно. Писать только одним «нутром», без знания техники и, так сказать, от «господа бога»—совершеннейшие пустяки. Такие писатели обычно не долго могут протянуть. Вот отчего мы знаем такое большое количество «неудачников» — людей, бросивших литературу после первых бле­ стящих опытов. Путь точной техники, точного знания и уменья «обыграть» сюжет труден и дается годами упорной тяжелой работы. При чем знание техники не мешает творческому подъему. Напротив, такое знание только помогает и улучшает вещь. Теперь я хочу сказать о вдохновении. Вдохновение есть то счастливое сочетание физиче­ ского здоровья, бодрости, нервной свежести и уве­ ренности в себе, которое позволяет всю силу своей 52 личиос’іи бросить в одно место, — в данном случае — в литературу. Это есть мощь, потенция. Это есть правильная работа всего организма. Вернее, не правильная, пожалуй даже совсем неправильная. Вдохновение эго несовсем нормальный акт. Это скорее пере­ грузка. Эг0 высокая работа организма за счет других, более низких органических функций. Это, если говорить модным языком, — сублимация. Человек, который живет распутно, — не имеет вдох­ новения. Он имеет вдохновение, но имеет его тем меньше, чем больше распутничает. Да и не только распутство, но и счастливая жизнь, удачи, красота, любовь к женщине — все это весьма плохие обстоятельства для вдохновения. Правда—клас­ сический пример—влюбленные пишут стихи. Но они всякий раз перестают писать, если их любовь увенчана. Если, скажем, человека бросила женщина и этим он несчастен, — есть все шансы, что оп, помотавшись по свету, напишет какую-нибудь вдохновенную поэму или какой-нибудь цыганский романс. И, может быть, поэтому почти у всех наших круп­ нейших писателей, поэтов и больших артистов была плохая личная жизнь, почти все они были «неудач­ ники» в личной судьбе. Конечно, я не хочу этим сказать, что человек должен стремиться к неудачам, чтоб получить вдохновение. Нет, просто человек должен переключать на лите­ ратуру весь творческий подъем организма, рас­ считанный на другое. И, переключаясь таким образом, человек естественно меньше оставляет энергии для других іючтенных занятий. Злоупотребляя же этим, то-есть отдавая слишком много творчеству, — человек естественно чувствует некоторую неудовлетворен­ ность, но тут, как и во всем, надлежит найти какую-то среднюю линию. 53 Я хочу остановиться еще на вдохновении, ибо уто есть чрезвычайно важное и, в сущности говоря, единственное обстоятельство для писателя, для всей его работы. Техника помогает, техникой можно вре­ менно заполнить недостаток вдохновения или даже нолноѳ его отсутствие. Можно наконец не снижать своей квалификации, владея техникой. Но, не имея никогда и никакого вдохновения, писатель, конечно, не сможет достичь крупных успехов. Но тут я должен сказать самое, по-моему, важное. Вдохновение не есть что-то необычайное, которое надо ожидать неизвестно откуда. Я повторяю: вдох­ новение есть физическое состояние, совершенно подвластное воле человека. Можно потерять вдохно­ вение, с излишком пользуясь «благами жизни». Но можно его и приобрести. Можно его заранее «зака­ зать», скажем, за месяц вперед. Разговор о том, что Пушкин распутничал и вместе с тем имел огромное вдохновение — не основателен. Пушкин не работал во время своих разгулов. Он работал, главным образом, когда судьба его кидала в провинцию. И там всю силу своей личности, всю силу, которую он тратил на всякие утехи, он отдавал литературе. Правда, другой пример — Гоголь. Гоголь потерял вдохновение, а вместе с тем жил больше чем скромно. Но тут дело объясняется просто. Вдохновение можно потерять и гораздо легче, чем от чего-либо другого, — от переутомления. Гоголь работал так сказать «за­ поем», не давая никакого отдыха своей голове. И вначале эффект такой работы был просто изуми­ телен. • В сущности говоря, за 6 — 7 лет Гоголь написал почти все, что мы знаем. Вот тут скорее бы помогла некоторая доля что ли распутства, чем искусственное и насильное раздра­ 64 жение своей творческой энергии. За этим следуют болезни и полная потеря вдохновения. Когда же пропадает вдохновение, писатель обычно обращается к философии, к богоискательству, к раз­ решению разных проблем, — для всего этого тре­ буется лишь ясность головы, но необязательна полная и гармоничная работа всего нашего орга­ низма. И пожалуй самое важное для писателя — это сохра­ нить ту свежесть нервной энергии, то физическое Здоровье и равновесие, при которых только и бывает это превосходное и необходимейшее состояние для писателя — вдохновение. Вот к этому состоянию, несмотря на неблагоприятные условия, я и стремлюсь и этого добиваюсь. Тех­ ника же помогает мне не выходить из строя в те моменты, когда я истратил свое вдохновение на свою жизнь. На этом был закончен мой доклад. Из целого ряда заданных мне потом вопросов при­ веду здесь наиболее любопытные — вместе с отве­ тами на эти вопросы. Вопрос: Какова техника дела записной книжки? Вы пишете на одной стороне и потом вы вырезываете? Ответ: Я вижу, что вы меня не поняли. Вы думаете, что я из записной книжки беру слова, фразы и вклеиваю их в рассказ? Это не так. В моей записной книжке три отдела. В одном отделе слова. Я за­ писываю те слова, которые мне показались интерес­ ными. Может быть, это новые слова, может быть, — они интересны по своей необычайности, может быть, это жаргонные слова, или слова, которые упо­ требляют рабочие в разговоре. Вот такие слова я записываю. Но это не значит, что я из них клею рассказ. Эт0 Значит, что когда я пишу рассказ и когда у меня не хватает своей силы, — тогда я при­ 65 бегаю к записной книжке. И тут же на черновике своей рукописи я записываю те слова, которые могу вставить или для блеска или чтобы усилить прав­ дивость той жизни, о которой я хочу рассказать. В другом отделе — фразы, поговорки, пословицы, в третьем — сюжеты для моих будущих рассказов. Всем этим я пользуюсь, когда у меня не хватает собственного вдохновения. Вопрос: Сильно ли вы переделываете свои рассказы? Ответ: Я говорил вам: работа складывается двояко, те рассказы, которые я пишу с вдохновением, я отделываю мало. Туг вся работа делается подсозна­ тельно, — я одним жестом записываю рассказ и он достаточно точен и правилен, так что мне не при­ ходится его переделывать. Но в тех рассказах, которые я пишу искусственным путем, техническим навыком, — там я затрачиваю большую работу. Иногда маленький рассказ работается 4 — 5 дней. Рассказ жо, написанный с вдохновением, обычно пишется 15—20 минут. Вопрос: Как вы написали свою новую повесть «Сирень цветет». По вдохновению? Ответ: Э'го большая повесть, больше двух печатных листов. Я не могу сказать, чтобы она вся целиком была написана по вдохновению. В основном она написана в большом творческом подъеме. Но какието ее части написаны техникой. Вопрос: При выборе сюжета вы используете газеты? Ответ: Очень часто. 30 — 40°/о сюжетов маленьких рассказов брались из газет, если не целиком, то оттал­ киваясь от какой-нибудь детали газетного сюжета. Вопрос: — Скажите, сколько лет потребовалось Вам на приобретение техники, чтобы писать без вдохно­ вения? Ответ: — Первые два-три года я работал, не владея никакой техникой, я старался писать в те моменты, 56 когда мне хотелось писать, когда у меня была просто потребность нисаіь. В такие моменты я писал без ошибок, не имея техники. В дальнейшем, в связи с такой работой, я кое-чему научился. Потом я чаще и чаще пробовал писать, когда мне и не хотелось^ при чем эта работа была наиболее для меня поучи­ тельной. Вопрос: Вы сказали, что вы стараетесь писать так, чтобы примерпо на одной высоте держать ваши рассказы. Как это понять? Ответ: Бывает так, что писатель написал прекрасную повесть, но на ряду с этим у него есть совершенно отвратительный, неинтересный, бессодержательный рассказ. Это значит, что человек написал хорошую повесть, когда у него было вдохновение. А рассказ он написал, когда вдохновения не было, и вот без знания и техники у него и получилась посред­ ственная вещь. А техника помогла бы и тут достиг­ нуть приличного результата. Техникой лично я ста­ раюсь достичь такого качества товара, какой выходит из-под пера при самом большом вдохновении. Но конечно эго трудно. И для этого требуется большая работа. Вопрос: Как обстоит дело у вас с черновиками, в которых имеются ваши рассказы, сохраняете ли вы их или возвращаетесь к ним, если имеется прибли­ зительно одинаковый сюжет? Ответ: Обычно бывает так: я написал рассказ в чер­ новике. Во время переписки я исправляю, заменяю, отделываю, но чтобы я снова возвращался к черно­ викам— этого мне, конечно, не приходилось. Вопрос: Какая главная задача лежит на писателе в наше время, особенно партийце? Ответ: Я не берусь говорить об обязанностях, которые несет партиец. Но вообще перед писа­ телем наших дней, но моему мнению, стоит такая 57 задача: необходимо научиться писать так, чтобы возможно большее количество людей понимало его произведения. Необходимо массу заинтересовать ли­ тературой. А для этого нужно писать ясно, кратко и со всей возможной простотой. Вот на мой взгляд основная задача, которая стоит перед современным писателем. Б8 В. КАВЕРИН Никто из нас не знает заранее, какие слова, движения, признаки вещей и людей придется впоследствии проверять на очных ставках между действительностью и представлением. Чутье материала — любой следователь владеет им не хуже нас — ведет писателя по пути отбора своих наблюдений. Но каким хладнокровием, какой расчетли­ востью нужно обладать для того, чтобы наблюдать за собою в то время, как наблюдаешь ты за другими! Каким ясным пониманием собственной работы — для того, чтобы написать о том, как пишется книга! Кажется, нужно затратить на это не меньше усилий, чем для того, чтобы написать и самую книгу. Я этого не сделал. Беспорядочные замечания, в кото­ рых литературные мнения перемешаны с попытками рассказать о технике своей работы, — вот содержание этой беглой статьи. 1 Трудно сказать, откуда возникает первое представление о самом замысле произведения. Замысел становится ощутимым лишь тогда, когда, под влиянием реального материала, он начинает видоизменяться. Возможно, что именно эта сторона литературного дела — столкно­ вение заранее намеченного плана с вещественным осуществлением его—представляет некоторый интерес для читателей. Автору она кажется скучной. Как же видоизменяется план? Я расскажу в этой главе историю (по возможности краткую) плана книги «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове». Варианты плана были, по случайности, записаны в последовательном порядке, один за другим — это 59 помогло мне восстановить в памяти давно забытую работу. Но прежде два слова об исходных точках: Мои студенческие воспоминания (Ленинградский университет и Институт живых восточных языков) легли в основание романа. В течение нескольких лет материал этот (я не использовал в «Скандалисте» и десятой доли его) казался мпе слишком хорошо знакомым, чтобы можно было писать о нем. Университет 1920—22 гг. был Университетом взбунто­ вавшихся профессоров и мрачных скандалистов, брсттеров науки. Загадочные люди бродили в ту пору вокруг него, и каждый, кто посещал вечерние лекции (которые филологи называли «Вечерами на Васильев­ ском острове»), не может не согласиться с тем, что любая из них была богатым материалом для беллет­ риста. Но я не был тогда беллетристом. Мне было 20 лет, на лекции — дань увлечению немецкими романти­ ками— я ходил в огромном плаще, и если бы ктонибудь сказал мне в ту пору, что посещения эти послужат когда-нибудь материалом для книги — это искренно позабавило бы меня. Но через пять лет, когда проблема интеллигенции и революции и от меня потребовала разрешения, я вспомнил о «вечерах на Васильевском острове», и мне во многом помогли тогда мои студенческие воспоминания. Тесная связь между Университетом 1920—22 гг. и последующими этапами отношения интеллигенции к революции представились мне очевидной, и полуза­ бытый материал вдруг получил новое и живое зна­ чение. Такова в двух словах история замысла романа. Я не собирался писать о ней, предполагая начать сразу с описания планов. 60 Но планы не падают с неба. Кстати заметить, что нижеследующие мои коммен­ тарии к «Скандалисту», быть может, послужат чем-то вроде ответа на некоторые статьи и рецензии, авторы которых сочли мою книгу памфлетом на литературный и ученый мир Ленинграда. Я подумывал, было, и о пастоящем ответе, но все как-то нет ни времени ни охоты. По первоначальному замыслу роман «Скандалист» состоял из 1. Истории рвача - карьериста, делающего карьеру на женщинах. 2. Истории сумасшедшего старика - канцеляриста, объявившего себя президентом Васильевского острова. 3. Истории профессора, которому надоела жена, и 4. Истории студента, влюбленного в акробатку. Эти четыре фабулы не должны были находиться между собой в тесной связи. Роман был задуман в духе традиционных «Вечеров», столь обычных для прозы ЗО-годов, которой я тогда занимался. Связь была лишь в одном: герой второй истории был второстепенным героем первой, герой третьей второ­ степенным героем второй, герой четвертой — второ­ степенным героем третьей. Вскоре кольцевое построепис показалось мне наивным, и я отказался от него. Тогда возиикла необходимость поставить всех четырех героев в какие-то более близкие отношения. Так появился второй вариант плана. Он распадался на две основные истории. 1. Студент и карьерист любят одну женщину (акро­ батку). Карьерист (которому так везет, что он начинает вести себя неосторожно) зарвался, ему грозит гибель. Студент жертвует собою из любви к женщине, которая любит его соперника. Студент 61 гибнег. Через две недели после его смерти карьерист бросает акробатку. 2. У старика-канцеляриста (того самого, что в пер­ вом варианте объявлял себя президентом Василь­ евского острова) есть браг, профессор Ложкин. Между братьями долголетняя вражда, не личная, но двух систем существования. Система Ложкина терпит крах. Его ничего непонимающая жена по ошибочным данным убеждается, что причина его смятения носит личный характер. Ложкин покидает семью. Бунт его не удастся. Система старшего брата-неудачника побеждает. Эти две истории были связаны во втором варианте фигурами мужа акробатки — японца Сато и его друга профессора - япониста Драгоманова. Ни тот ни другой не играли существенной роли в движении романа и выглядели бы (остановись я на этом варианте) носителями искусствеиной, механиче­ ский связи. Обдумывая это обстоятельство, я написал третий вариант плана. Он представлял собою последова­ тельную запись отдельных глав, некоторые из которых снабжены указаниями на наиболее существенные места. 1. Система Ложкина. Жена — судьба. Ночь и сознание ошибки. Званый вечер. Профессора, сплетни, рас­ терянность. 2. Драгоманов и его ученик. Разговор на Неве. Университетское общежитие. Встреча с Ложкиным. Издевательство. Ночь. Нева. Студент возвращается. Любовь (акробатка). 3. Учреждение. О безвоздушном пространстве канце­ лярий. Начало карьеры рвача. Он — стеснительный, розовый, кудрявый. 4. Цирк. История ремесла — покамест Сато летит из трапеции в сетку. Сияющая женщина под куполом. Встреча с рвачеы (видит ее впервые плачущей). 62 5. Ложкин ночью в Университете. Коридор. Лекция перед пустой аудиторией. 6. Канцелярист (Халдей Халдеевич) случайно посе­ ляется рядом со студентом. У студента завешанные окна, тоска, любовь, письма, не отправленные по назначению. 7. Странности Драгоманова. Душит крыс ночью. Опиум. Китайцы. Лекция без штанов. Его выгоняют. Он поселяется в том же доме, где живет студент и Халдей. 8. Продолженье карьеры рвача (Кекчеев). Халдей смеется над ним. Суеверная забота о стене, у ко­ торой стоит конторка. 9. Ложкин начинает новую жизнь. Пиджак на берегу Невы. Записка жене. 10. Утро Кекчеѳва в одной постели с акробаткой. Любовь, дела. 11. Халдей заболевает. В страхе, что умрет с тайной (в стене, у которой стоит кон горка, замурованы ценности, принадлежавшие бывшему владельцу дома), посылает за братом. Ему сообщают, что брат по­ кончил с собой. Бред. Ночью вскакивает, одевается, идет в учреждение, проверить, все ли на месте. Карьерист, случайно находившийся там, замечает его. 12. Студент идет к акробатке. Полуголый Кекчеев открывает ему. Блуждания с письмами в руках из трамвая в трамвай — все кажется, что едет по делу. Движение кончается. Письма падают в Неву. 13. Ложкин, забывший в пиджаке заметки по истории древне-русских повестей, после мучительных коле­ баний идет в милицию и просит вернуть пиджак. Ему не дают. «Как покойник, вы на него уже не имеете права». 14. Золотая монета падает из рук Кекчеева. Кутеж. Продолжение карьеры. 63 15. Сато дает клятву Драгоманову, что убьет Кекчеева, отнявшего у него жену. Студент случайно подслушивает, бежит к ней. Та умоляет спасти. 16. Халдей замечает исцарапанную стену. Ужас, подавленный канцелярским абсолютом. Тайком ото­ двигает конторку. Бешенство. Бунт. 17. Сато и студент, не зная друг о друге, следят за Кекчеевым. Кекчеев входит к акробатке. Студент проникает вслед за ним и несколько минут спустя выходит из подъезда в его пальто и шляпе. Принимая его за Кекчеева, Сато идет за ним... Студент не оборачивается, старается не показать лица. Прости­ тутка окликает ого, он роняет что-то, ему кричат, чтобы он обернулся, — не отвечая, он все идет вперед. Убийство. Сато бежит. 18. Ложкин после похорон жены возвращается к своей системе. Весь смысл его жизни теперь в заботах о брате, сошедшем с ума и объявившем себя президентом района. 19. Вечер в портовой пивной. Сорвавшийся карьерист рассказывает свою историю. Первые главы этого варианта (который казался мне окончательным) были уже написаны, когда я разоча­ ровался в цирковом материале. С самого начала работы он как-то тяготил меня. И не в том было дело, что неоднократно использо­ ванный в кино, в театре, в литературе, он требовал такого знания быта цирковых артистов, которым я далеко не располагал. И не в том, что некоторые талант­ ливые писатели, одновременно со мною взявшиеся за этот материал, потерпели несомненную неудачу. Но самый смысл книги, основные идеи, составлявшие сущность характеров и положений, не задевали этого материала. Он оставался в стороне, выскальзывал из рук. Ничем не помогая осуществлению замысла, он лишь усложнял работу... 64 Так погиб мой японец, и от всех цирковых планов осталось лишь краткое рассуждение Драгоманова о «республике циркачей, на манер платоновского госу­ дарства ученых». Я долго не знал, как заменить его. Случайное сход­ ство вдруг решило этот вопрос, и на месте японца Сато появился Некрылов, «писатель, филолог, сканда­ лист». Сходство было случайным, но появление в романе, взамен циркового, литературпо-бытового материала, было, разумеется, далеко неслучайным. Книга об ученых филологах естественным образом должна была захватить тесно связанный с этим кру­ гом литературно-бытовой материал. В эту сторону толкало меня и развитие самого замысла романа... Но вернемся к истории плана. Подмена героев, направив мое внимание на «литера­ турный быт» (который, как это выяснилось очень скоро, был гораздо труднее, чем цирковой), почти не коснулась фабулы романа. Между тем при первых попытках осуществления ее я наткнулся на мотивы, не заслуживающие ни вре­ мени ни сил. Это были: линия студента с ее традиционной исто­ рией самопожертвования во имя неразделенной любви и линия старика-канцеляриста, возобновляющая тему борьбы за покинутый клад. С той минуты, когда я впервые оценил таким образом столь существенные мотивы плана, началась самая важная часть работы, окончившаяся лишь тогда, когда я подписал последнюю корректуру — началась борьба с традиционным сюжетом. Не буду, разумеется, приводить здесь всех эпизодов Этой борьбы. Появление Некрылова, снизившее всю вещь, заключившее ее в границы реальных отношений, было самым важным из них. б 65 Признаки других внимательный читатель найдет на многих страницах романа. Он поймет, почему я без сожаления расстался с исто­ рией покинутого клада. Почему была перестроена неудачная попытка Ложкина начать новую жизнь. Почему вместо романтической гибели студента была написана глава о том, как Некрылов бьет Кекчеева по лицу и даже не столько из-за женщины, сколько за то, что он вернул ему рукопись новой книги... Почему в этой книге (работая над которой я учился азбуке реалистического повествования) с каждой страницей падает значение фабулы, и главной фабу­ лой становится время, которое тасует людей как хочет, не считаясь с намерениями романиста... Нет нужды рассказывать здесь о четвертом варианте плана, не так уже существенно отличавшемся от пятого, который я писал одновременно с последними страницами книги. План (иногда не без боя) продолжал сдавать своп позиции под напором нового материала. Авантюрный роман, построенный на последовательно разверты­ вающейся фабуле, с каждой новой главой превра­ щался в историю характеров, в комедию нравов. В этой новой книге, получившейся вопреки моим предположениям, фабула не играла почти никакой роли. Притворившись хронологической капвой, тень ее еще раз мелькнула в пятом варианте, перестрои­ вшем главы, предложившем мне замкнуть роман (начатый главою о бессоннице) несколькими страни­ цами об уснувших, наконец, героях. Кольцевое построение без всякого расчета на то, что его заметит читатель, — это было единственным остатком моих первоначальных предположений. Но было бы неосторожно утверждать, что отказ от фабулы был продиктован только вторжением в роман непредвиденного материала. Целый ряд других причин 86 способствовал превращениям плана и прежде всего работа над стилем. Но еще более неосторожно было бы утверждать, что в результате всех превращений л оказался в плену у материала, который вошел в роман, не спрашивая моего разрешения. Л знал, разумеется, что простое отталкивание от тра­ диционно фабульной схемы еще не решает вопроса о конструкции романа, что в основу ее, взамен отверг­ нутого построения, должен быть положен другой и не менее основательный принцип. Два пути представились мне, когда я задумался над этим вопросом. Первый (в руках Джона Дос Пассоса достигший высоты и значения новой прозаической системы) был прямым и бесповоротным отказом от фабульной связи героев и событий между собой. Второй (им шел когда-то Флобер) был основан на так-называемом принципе несвершающегося дей­ ствия (термин Шкловского), при котором в книге происходит не то, что долисно было бы происходить, согласно всем предположениям читателей и героев. Весь ход моей работы шел по этому второму пути. В самом деле — уже второй вариант плана превратил действия моих героев в намерения, намерения—в за­ мыслы и желания. Третий и четвертый решили борьбу между романти­ ческим планом и реальным материалом книги в пользу материала. Итак, второй путь был уже выбран мною когда, оценивая написанные главы, я еще колебался между первым и вторым... Теперь я остановился бы на нервом. 2 Говоря о «превращениях плана», я не упомянул о том, что запись будущего содержания некоторых глав часто 87 не ограничивается сухим перечнем действий и разго­ воров персонажей. Часто тут же пишется первона­ чальная наметка того, что происходит, и набросок того, о чем говорят. Именно.из этих полуслучайных «примечаний к плану» берет свое начало стиль. Мне было бы очень трудно объяснить, как это происходит. Вероятно, если бы я судил о чужом способе, я бы попытался объяснить это так: стремле­ ние передать живую речь известным образом орга­ низует работу над стилем. Речевая интонация (живая речь) заменяется в прозе целым рядом характерных особенностей стиля, опре­ деляющих и стилевую позицию автора и индиви­ дуальную речь персонажей. В дальнейшем своем развитии особенности эти вызывают представление о жесте, подчас даже о внешности героя. Жест, развиваясь, становится чертою характера, обусловленного общим замыслом произведения, и, стиль, вышедший из авторских размышлений по по­ воду плапа, становится хозяином книги. Навряд-ли кого-либо удовлетворит это объяснение; читателям оно покажется непонятным, а теоретикам литературы — наивным. Между тем и фактически дело происходит именно так. Полуслучайно записанные фразы оказываются, едва только приступаешь к работе, как бы камертоном, к которому все время прислушиваешься, нровѳряя верность всего стилевого строя. Являясь кульминационным пунктом главы (а подчас превращаясь в придаточные предложения, нс имею­ щие— так кажется читателю — никакого значения), эти фразы каким-то образом влияют и на начало того отреза прозы, для которого они являются неписанным законом — и на его конец. 68 Д.1 я того, чтобы показать, как важен для работы над прозой этот стилевой камертон, я приведу один пример, который еще раз покажет, кстати, тесную зависимость между созданием фабулы и обработкой стиля. Я работаю сейчас над повестью «Дон-Кихот и Со­ веты» (условное название). Когда были написаны первые два листа, первоначаль­ ный план рухнул. Мне ясен был конец — без сомнения потому, что самый смысл повести тесно связывал его с началом. Но середина проваливалась, была неясна. Мне вдруг представились разные пути дальнейшего поведения моего героя, в то время как он должен был итти лишь но одному, разумеется по тому са­ мому, который с неизбежностью вытекал из свойств ого характера и системы его идей. Я был очень огорчен. Вещь не удавалась. Есть разные способы преодоления таких неудач. Один из них — я часто пользовался им и раньше — переписать (или внимательно прочесть) уже набро­ санные главы. Здесь двойной расчет. Во-первых — это дает возможность снова разбежаться, как бы для того, чтобы взять барьер с размаху. Во-вторых—текст подвергается обработке со стилистической стороны. Итак — я переписал первые главы. И точно — теперь мне ясно стало, как должен вести себя в дальнейшем мой герой. Разумеется, это нс было пресловутым «перевоплоще­ нием», это не значит, что я влез в шкуру героя и вдруг почувствовал, что он должен вести себя именно так, а не иначе. Но взвесив свойства его характера, еще раз оценив смысл его воззрений, я сделал из них простой и логи­ ческий вывод и вывод этот оказался искомым путем. Больше герою уже некуда было податься. Он был 68 зажат — закон экономии стилистических и конструк­ тивных средств уже владел его дальнейшей судьбою. Казалось, эта удача решила мои затруднения. Между тем, они только еще начинались. Правда теперь я отчетливо представлял себе, что должен делать в дальнейшем мой персонаж, но пере­ писывая, в заботах о его судьбе, первые главы, я потерял, забыл свой стилевой камертон, с помощью которого мне удавалось до сих пор как бы иструментовать мои словесные запасы. Так все время, покамест я писал первые главы, из го­ ловы у меня но выходили такие строчки Хлебникова: Как часто после мы жалеем О том, что раньше бросим. Конечно, было бы неблагодарной задачей убедить коголибо в том, что эти строчки оказали действительное влияние на то, что я писал. Ни по мысли своей ни по гениальной простоте они, к сожалению, не имеют отношения к тому, что изложено в первых двух листах моей повести «ДонКихот и Советы». Но тем не менее, когда л привык к ним, когда они перестали нравиться мне так, как нравились раньше (чему содействовала полумеханическая работа пере­ писывания первых глав), я как бы позабыл и те ноты, на которых строилась нехитрая мелодия моего рассказа. Разумеется, тут уж бесполезно было переписывать во второй раз, хотя бы и преследуя при этом другие цели. Нужно было вовсе бросить повесть на двух или трех­ недельный срок и лишь тогда, перейдя на какие-то соседние принципы отбора и инструментовки слов, продолжать работу. Я поступил именно так, притворившись перед самим собой, что пишу вовсе н не эту вещь, а совершенно 70 иную. Только тогда мне удалось заново и со стороны оценить свою неудачу и найти средства к преодоле­ нию ее и к дальнейшей работе. Я не решился бы обобщить этот пример, если бы некоторые литературные явления последних лет нс подали бы к этому основательного повода. В самом деле: на наших глазах целый ряд писателей (едва ли не составлявший в 1921—25 году литера­ турную школу) стал писать по-другому. Мало сказать по-другому: поставив рядом то, что они пишут теперь, с произведениями, занимавшими умы пять-шесть лет назад, — просто нельзя поверить, что одна и та же рука может писать столь неодина­ ковым стилем. Но ведь не нанимают же они кого-нибудь писать вместо себя? Чем же объяснить, что талантливые беллетристы, считавшие еще так недавно шедевром выразитель­ ности такие фразы как «потом ржаным и душным преет пожня, пухнет отвальный колос и бую послушен мечет, высевая по нашему суглинку и плитняку, по каменной нашей земле ветреные зерна», мучительно ищут теперь другие стилистические средства, спра­ ведливо считая пустой риторикой все эти ржаные эпитеты и всамделишные деревенские слова, взятые на-прокат из словаря Даля? Мне возразят, что объяс­ нить это очень просто. Что мой вопрос равен вопросу о сложности и простоте. Что в связи с лозунгом «пиши так, чтобы быть доступным миллионам» — каждый писатель должен упростить свой стиль, если стиль его нуждается в этом... Два слова о сложности и простоте. Я не стану уверять читателей, что проза Пушкина, которую читают сейчас восьмилетние дети, была в свое время трудна для взрослых и образованных читателей 30-годов. 71 Это так, но терять многомиллионную аудиторию только на том основании, что, быть может, твоя вещь будет когда-нибудь так лена, как ясна теперь пушкинская проза, было бы по меньшей мере неосторожным. Если терять эту аудиторию—так в расчете на разре­ шение других задач — скажем так, как теряет ее в своей замечательной прозе Борис Пастернак. Несколько лет тому назад журнал «Огонек» напечатал роман (под названием, кажется, «Большие пожары»), принадлежавший перу 25 известнейших наших писа­ телей— и только двое-трое из их числа сохранили в своих главах некоторое подобие индивидуального стиля. Все остальные написали так, что стоило только закрыть рукою подпись, чтобы хорошо знакомый с современной литературой читатель не мог отга­ дать— кому принадлежит загаданный отрывок, Лео­ ниду Леонову или Алексею Толстому. Вот где лежит центр вопроса о сложности и про­ стоте— в отношении к слову. Обновление стиля, создание «прозы, доступной мил­ лионам», изобретение новых принципов стиля, кото­ рые позволили бы писателю завоевать новую ауди­ торию, не роняя своего искусства — все это может быть достигнуто лишь в том случае, если честность по отношению к этому слову станет законом нашего ремесла. Я готов предложить брать присягу с каждого, кто берется за перо — присягу в том, что он будет (как писалось когда-то в статутах средневековых цехов) честно и добросовестно заниматься своим делом, согласно уставу цеха и в целях усовершенствования ремесла. Тогда вопрос о сложности станет вопросом о праве на сложность, а вопрос о простоте — сложной задачей развития русской прозы. 72 Тогда станет ясно, какая сложность нужна, а какая ненужна. Какая простота—искусство, а какая—детски беспо­ мощные упражнения на заданные темы... Итак, вот почему исчезает риторическая проза 1920—25 гг. Потерян — и разумеется не случайно — стилевой строй, забыты какие-то фразы, может быть даже отдельные слова, на которых основывался хитро­ умный стиль риторической прозы. И произведения, еще так недавно казавшиеся шеде­ врами, лишаются права не только на уважение — на признание. Это были не простые фразы. Это были фразы, продиктованные временем — вре­ менем, которое говорит теперь но другому, которому нельзя сказать «остановись, ты прекрасно», потому что оно уже прошло, не обратив внимания на эти слова. Примечание Я ничего не писал о таких вещах, как подбор отдель­ ных слов и целых выражений, запись характерных особенностей чужой речи и т. д. и т. д. Записные книжки писателей издавались неоднократно — отсы­ лаю читателей к любой из них. Отмечу только, что тенденция к стилистическому пуризму, которым грешат некоторые наши писатели (впрочем, сами себе в этом не признаваясь), в значительной мере подрывает целесообразность этой работы, основанной на сугубом внимании к явлениям, весьма далеким от «великой русской литературы». В самом деле, если «Толковый словарь» Даля, нача­ тый им в 20 годах прошлого столетия, является законом литературного вкуса для всех времен, — стоит ли трудиться над изучением современного 73 русского языка, осмелившегося «нарушить» эти законы? Часто ссылаются при этом на Бодуэна де-Куртенэ, совершенно забывая (или не зная) о том, какой бой с пуристами в свое время выдержал Бодуэн за свои примечания к Далю. Да и сам Даль, как известно, был ярым противником книжной, грамматичѳски-выдержанной речи, спра­ ведливо считая ее серьезным препятствием в деле развития русской литературы. Он так и писал: «С грамматикой я искони был в каком-то разладе, но умея применять ее к нашему языку и чуждаясь ее не столько по рассудку, сколько по какому-то темному чувству». Это-то атемное чувство» и потеряно некоторыми из талантливых наших писателей, утверждающими «А все-таки Даль!» и гордящимися своим консерва­ тизмом, наносящим жестокий вред и начинающему литератору и их собственному дарованию. 74 БОРИС ЛАВРЕНЕВ Чтобы рассказать, как я работаю, я возьму только одну область, которая больше всего занимала меня последние годы — театр. Как я пришел к театру? Мой писательский путь был довольно обычен: я начал со стихов, писал стихи с 1912 по 1916 г. После этого я перешел на прозу, с 1917 по 1925 г. я работал над прозой, над беллетристикой, и только в 1925 г. мною была написана первая пьеса «Мятеж», поставленная в Большом драматическом театре. Было две причины, приведшие меня на путь драма­ тургии. Одна из ник кроется еще в далеком прошлом: что я почти вырос при театре, во всяком случае в детстве и в юности я ежедневно бывал в театре и был связан с ним не только как рядовой зритель, но как человек, близкий к театру. Когда я впервые взялся за работу над драматургическими вещами, меня привлекло еще и то обстоятельство, что, по существу, театр есть особого вида действенная беллетристика. Каждый из пас, когда пишет свои прозаические вещи, когда задумывает тех или иных героев, представляет их себе живыми людьми, и каждого из них он облекает телом. Он чувствует, что этот человек должен иметь вот такую-то внеш­ ность, такой-то голос и такие-то жесты. По когда все это отливается в книжку и переходит к читателю, то у меня всегда остается чувство досады, что вот Эти созданные мною живые люди остались в строчках книги не полностью осуществленными, не полностью ожившими. Театр дает радостную возможность видеть своих персонажей по настоящему живыми, разговари­ вающими, имеющими человеческие привычки и сла­ бости. Меня лично это очень привлекает, удовле75 творяѳт, дает возможность до конца провести своих персонажей в реальную жизнь. Теперь несколько слов о тех принципиальных поло­ жениях, которые мною кладутся в основу всей моей драматургической работы. Я много работал над историей театра, я много возился со всякими книжками по истории драма­ тургии, по теории драматургии и пришел к том) убеждению, что в наше время существуют некоторые бесспорные принципиальные положения, которые я и кладу в основу всей моей работы над драмой. Прежде всего я считаю, что театр, на некоторое довольно продолжительное, время, обречен быть театром реалистическим; это отнюдь не так плохо. Но это положение не исключает возможности того, что наш театр со временем отойдет от реализма, ибо уже сейчас проделывается громадная работа в области развития вкусов зрителя. Сейчас у нас растут способности глубокого восприятия искусства и зрителем и читателем. Естественно, что через некоторое время, когда этот процесс окончательно выявится, театру придется переходить на какие-то новые, иные пути. Я работал в театрах не только большого масштаба, профессиональных театрах, я работал и в клубных театрах и прекрасно знаю, какая громадная эволюция зрителя произошла за это время, потому что зритель, который сегодня проходиі через клубы, совсем не тот, который был з 1921, в 1923 и даже в 1925 гг. Если теперь поставить пьесу, которая в 1921 г. клубным зрителем воспри­ нималась как какое-то откровение, то сейчас эта пьеса будет приниматься уже как примитивная форма, которая зрителя не удовлетворяет. Я повторяю, что, очевидно, пути нашего театра и пути пашей драма­ тургии в будущем отойдут от той реалистической линии, которая являлась до сих пор главенствующей. 76 У нас есть, правда, два-три театра, которые и теперь непримиримы с реалистической установкой, например: Камерный театр и театр Мейерхольда в Москве. Но, сколько бы меня ни убеждали в обратном, я продолжаю считать, что на некоторое время наш театр должен быть реалистическим. Отсюда — и не­ которые дальнейшие посылки: он должен быть еще и театром не слишком углубляющимся в психологизм, причина — ясна: драматургическая работа ведется нами не для нескольких сотен избранных зрителей, д для рядового массового зрителя, который не дошел ещо может быть до того, чтобы воспринимаі ь в театре эти философские бездны и психологические глубины, и потому ' излишпий психологизм, копание во внутренних переживаниях, являются в наше время качеством отрицательным. Что касается положительных качеств, которыми должна обладать современная пьеса, то к таковым я отношу прежде всего большую сюжетность пьесы, затем насыщенность и нарастание действия, и, на­ конец,— доходчивый язык пьесы. На последнем вопросе — на языке — я хочу остановиться несколько подробнее. Мне лично много раз бросались упреки критикой, что у меня в пьесах язык упрощенный и сниженный. Я это ставлю не в вину себе, а в за­ слугу. Не нужно забывать, что когда мы пишем для театра и для читателя, то в конечном результате работаем мы не на федерацию советских писателей, не на людей, искушенных в литературной форме и знающих, что такое приемы владения литературным словом. Нет, мы имеем дело с рядовой массой, каждый день меняющейся, состоящей из сотен тысяч людей, из которых девяносто процентов никогда не сопри­ касалось в своей жизни вот с этим законом кон­ струирования литературного слова. Они хотят от 77 пьесы живого, остро доходящего до них смысла, влекущего и волнующего их и, прежде всего, легко понятного. Если же писать пьесу изысканным, утон­ ченным языком, можно гарантировать заранее, что 80и 0 зрителей пьесу не воспримут. Они не могут относиться к театральному зрелищу как теоретики литературы. Они простые зрители. И очень тонкие остроты, изощренная игра слов рядовым зрителем не будут восприняты. Я считаю, что язык пьесы до сегодняшнего дня должен быть не выше среднего, чистого, литератур­ ного языка. Он должен был быть языком простым и не выходящим за пределы понимания рядового слушателя. Пьеса Бабеля «Закат», которая почти безупречна как литературное произведение, — очень плоха как театральная работа — именно этим гурманством формы. Э'то самовредительство драматурга. Попытаюсь рассказать о технике своей работы. Для того, чтобы сделать это, я возьму пьесу «Разлом», не потому, что она лучше других пьес, но просто потому, что она достаточно известна. Прежде всего — как зародилась самая мысль об этой пьесе? Дело было так: в апреле или в марте месяце 1927 года, когда впервые заговорили о том, что необходимо к 10-ой годовщине Октябрьской революции дать во всех театрах ряд пьес, имеющих непосредственное и прямое отношение к Октябрьской революции, я получил письмо из Москвы от театра имени Вах­ тангова с предложением написать пьесу для театра, при чем в этом письме были даже указаны две темы, которые мне были предложены на выбор. Первая из них — это переделать мой рассказ «Звездный цвет» в пьесу и вторая — разработать «Двадцать шесть комиссаров». По разным причинам я должен был от этих предложений отказаться. 78 После моего отказа я получил из Москвы письмо с предложением самому назвать какую-нибудь тему. Тут задача стала для меня очень тяжелой. Пославши отказ, я не думал, что мне придется придумывать новую тему. Я не могу вспомнить теперь, почему у меня возникла тема о флоте перед Октябрем. Может быть, это будет несколько смешно, но я припоминаю, что кажется толчком к этой теме была абсолютная случайность. В Этот день как раз я получил несколько книг из Москвы, в числе их была какая-то книга, кажется Дрезена, «Восстания в Черноморском флоте», или «в Балтийском флоте» — не помню, и па обложке этой книжки был фотографический снимок с «Авроры». Я посмотрел на «Аврору», и у меня мелькнула мысль, что как раз история и роль «Авроры» в Октябрьском перевороте является одной из самых интересных тем. Я послал письмо в Москву, с предложением такой темы: «Флот перед Октябрем», не будучи уверен, что эта тема понравится и возьмет за живое. В ответ я получил спешное письмо, что театр удо­ влетворен и просит прислать либретто. Тогда я начал думать над либретто и над основпым вопросом — что мне в сущности сделать, написать ли историческую хронику или же попытаться написать пьесу обобщен­ ного порядка, в которой не было бы слишком большой связанности определенными (рантами и событиями. Подумавши, я остановился на романтическом вымысле по нескольким причинам. Прежде всего это давало больший простор, не так связывало, позволяло внести больший пафос, нежели это было бы возможно при работе над исторической хропикой. Затем я подумал еще об одном обстоятельстве особого свойства. Ведь мне пришлось потом уже, конечно, после всех этих размышлений, разговаривать с целым рядом оче­ видцев событий; я опрашивал целый ряд моряков, 79 политических работников Балтфлота и каждый из этих разговоров и рассказов я записывал в общих, существенных чертах, отмечая интересные факты. И когда я подумал, что мне придется предстать перед судом этих очевидцев, то вспомнил основную юриди­ ческую истину, что если два очевидца видели одно и то же событие, то каждый из них расскажет то же самое событие по разному. Это и была одна из основ­ ных причин, по которой я отказался от исторической хроники, ибо сорок очевидцев сорок раз обругали бы меня за «неточную» обрисовку фактов. Когда сложилась окончательно мысль о характере пьесы, нужно было подумать над сюжетом, и вот от фотографии «Авроры» я перешел к ознакомлению с материалами пьесы об «Авроре». У меня возникло очень острое затруднение: как бы ни написать пьесу об Октябре, о матросах, но законы театра так или иначе требуют, для уравновешивания драматической ткани, ввода женских ролей. Эт0 закон внутренний, гак сказать, и драматургу сейчас в особенности трудно, потому что на нас все время слышатся нарекания: «Вы пишете пьесы, и у вас без конца мужчины, муж­ чины и мужчины. Им отводятся главные роли, а женщин совсем нет. Актрисам нечего делать». С этим законом мне и приходилось считаться, потому что действительно надо же и актрисам работать. Но ввести женщин в такую пьесу невероятно трудно. Трудно было ввести их в сюжетную канву пьесы: бал­ тийский флот, июльские дни, октябрьские дни, пере­ ворот, — что же делать женщине в этой обстановке? Вот тут случайно мне помогла статья одного из моряков—Холодковского, в которой было сказано между прочим, что в 1919 г. была попытка взорвать а Аврору». Белогвардейское офицерство не могло примириться с существованием этого бунтарского крейсера, и был организован заговор, чтобы его 80 взорвать. Организацию заговорщиков выдала жен­ щина. Одна строчка «пытались взорвать, и органи­ зацию заговорщиков выдала женщина», вот эта одна строчка и дала возможность ввести в пьесу женщину и дать ей заметную роль. Но что я знаю об этой женщине? Всего только полстроки. Вот тут-то я и начал наводить справки, писал направо и налево, расспрашивал, но никто ничего не мог мне сказать. Случайно добрался до П. Е. Дыбенко — при помощи театра Вахтангова. Он рассказал подробно актеру В. В. Куза историю взрыва, историю этой женщины, даже подробности о том, как она выдала органи­ зацию. Ее муж, белый офицер, один из участников восстания, был на форту Красная горка и принад­ лежал к организации, которая пыталась взорвать «Аврору», но тут вмешалась чисто любовная история, он бросил свою жену, сошелся с бывшей опереточной певицей и обещал ей, что, если взрыв удастся, они убегут за границу. И вот оскорбленная бабенка выдала из ревности заговор, совершенно не сочув­ ствуя революции. Взрыв был предотвращен, и «Аврора» спасена. Для меня не играло роли, что заговор был в 1919 г., а не в 1917 г., я исходил просто из пред­ положения, что если в 1919 г. была произведена такая попытка, то она могла с равным успехом, и даже с большим, быть и в 1917 году, потому что по существу уже в 1917 году такова была ненависть белых к «Авроре», что я удивляюсь, почему взрыв не подготовили раньше, когда она стояла у Николаев­ ского моста. Поэтому я считал себя вправе положить эту историю в основу всего сюжета. Тут у меня возникла мысль, что вся эта история с, неудачной любовью, с изменой, эта история мещан­ ского адюльтера непригодна для пьесы, написанной к юбилею Октября. Нужно было придумать какие-то другие психологические мотивировки, которые дали бы 81 возможность, оставивши этот сюжет, перевести его на другие рельсы. Я решил, что сюжет пьесы должен быть построен на политической стычке, на политическом расхождении между этими персонажами пьесы. Так возник основной сюжет, и на него нарастали факты один за другим, как снежинки нарастают на ком снега, нарастали и всякие другие детали, но это было еще не все. Нужно было показать матросскую массу такою, какою она была перед Октябрем. Нужно было показать, какими чаяниями и надеждами она жила; Далее мне казалось необходимым дать разлад, внутренне-политический разлад и разрыв как в матросской среде, так и в командном составе. Ведь матросская среда не была однородна по своему составу, и представление, которое вынесли бежавшие тогда из Петербурга «демократы» — будто все матросы насквозь большевики — было далеко неправильно, потому что в матросской среде тогда было много элементов чрезвычайно шатких и часто враждебных, державших сторону офицерства до по­ следнего момента. С другой стороны, нужно было показать этот разлад в среде командного состава. В командном составе большинство было врагами и очень незначительное количество, меньшинство, было друзьями, в матрос­ ской же среде большинство было большевики, а меньшинство — врагами большевиков. Мне хотелось командный состав возглавить двумя фигурами. Одна — враждебная, другая — дружеская. Точно также и матросская масса возглавлялась двумя фигурами, представителями враждебных лагерей. Отсюда и получился четырехугольник, основные стыки которого были: командный состав — Берсенев и Штубе, в матросской среде—Годун и Швач. С изображением матросской среды мне справляться было не слишком трудно. Я провел среди матросов 82 первые годы гражданской войны, жил с ними дружно и тепло, и психология матроса 17-го года не была для меня загадочной. Для меня было гораздо труднее описывать командный состав, тем паче, что фигура Берсенева была положительной фигурой, и в этом крылась громадная опасность, потому что, заставив Берсенева играть положительную роль, можно было перегнуть палку. Тут мне очень помогла книжка Ларисы Рейснер «Фронт». Я взял из нее образ бывшего помощника командующего флотом и помощ­ ника военного министра, адмирала Беренса, который перешел на сторону большевиков немедленно после Октября, затем начальника оперативного отдела Волжской красной флотилии H. Н. Струйского и іейтенанта Сабурова, бывшего очень крупного эми. ранта, до Октябрьской революции находившегося за границей, вернувшегося в Россию 60-летним ста­ риком и с молодым и беззаветным пылом бросив­ шегося в революционную борьбу. Эта книга помогла мне создать тип офицера, честного специалиста, не вдаваясь ни в сентиментальность, ни в слюнявость, не перегибая палку. Из немецкой фамилии Беренс я по созвучию сделал русскую фамилию — Берсенев. Тут уместно будет вспомнить, как найдены были имена других действующих лиц пьесы. Труднее всего оказалось найти фамилию для главного героя: нужна была характерная фамилия и, вместе с тем, краткая и ударная. Я перебрал 40 — 50 фамилий. Фамилия «Годун» меня удовле­ творила, прежде всего это была краткая, ударная по звукам, довольно типичная матросская фамилия, с украинским оттенком и, кроме того, смысловая фамилия. Правда, для коренных русских этот смысл скрыт, но «годун» по-украински — это кормилец, пестун, нянька, а Годун, по существу, и является в пьесе кормильцем всей массы—не в плане мате­ 83 риальном, и в духовном. ІПнач - фамилия боцмана, который был некогда на дредноуте «Севастополь». Она понравилась мне, краткая и подловатая. Фамилии остальных героев постепенно взяты по принципу, который я всегда применяю: беру телефонную книгу и по ней разыскиваю фамилии. Я не скажу, чтобы это было логически обосновано, но я подбираю фамилии, подходящие к образу персонажа и прием­ лемые и в смысловом отношении и в фонетическом. Теперь несколько слов о предварительной работе над материалом. Когда тема пьесы и основные ее фигуры вылепились, я достал большое количество книг. Во-первых, книги по истории революционных восстаний во флоте. Оттуда я почерпнул необходимый материал. Затем я начал опросы очевидцев. Если вам, читатели, при­ дется писать пьесу, в которой есть исторический материал, никогда не спрашивайте очевидцев — на этот совет дает мне право мой опыт — мною было опрошено около 40 человек по поводу одного п того же факта (записи у меня есть и хранятся в качестве уличающего материала, когда-нибудь я эти записи использую), и из сорока опрошенных человек только двое рассказали факт похоже, у остальных все перевернулось, перепуталось, и каждый из рассказывавших считал себя центром этого проис­ шествия. Многие, я знаю, даже не присутствовали в момент события, но серьезно уверяли, что были участниками его. Из материала рассказов очевидцев я почти ничем не мог воспользоваться, за исключением незначи­ тельных деталей. Для меня совершенно очевидная истина, что очевидцев опрашивать не стоит. Когда это было сделано, когда было написано либретто, я послал его вахтанговцам. Они ухватились за мат­ росские сцены и хотели показ матросской массы 84 широко развернуть, предложив мне второй акт отвести целиком под массовую матросскую сцену. Я раньше брыкался, но потом согласился и вижу, что это было правильно и необходимо. На всяких диспутах по поводу «Разлома» мне неодно­ кратно ставился вопрос: откуда мне известны матрос­ ская масса и матросский язык, матросские словечки, прибаутки, фразы, когда я сам во флоте не служил? Когда я попал в 1919 г. на бронепоезд и окунулся в матросскую гущу, меня поразила необыкновенная конструкция фраз, необыкновенные выражения и словечки, которыми разговаривали эти люди. Их язык настолько поразил меня, что я стал записывать все, что я слышал, в маленькую растрепанную записную книжку. Делал я это без всякой цели, тогда было вообще не до литературы. Я никогда в то время не думал, что смогу когда-нибудь бросить пушку и заняться литературой, и тем не менее целый ряд таких словечек записывался на страницы этой книжки. В продолжение 8 месяцев книжка эта была заполнена и брошена. Случайно она сохранилась. Целый ряд книг и документов у мепя пропал во время переездов с места на место, но вот эта маленькая книжонка случайно сохранилась в кармане старой гимнастерки и^ была найдена в 1924 году, когда л продавал татарину старый хлам. Я ее нащупал в кармане и положил в стол. Но вот, когда мне понадобилось показать в пьесе матрос­ скую массу и заставить ее разговаривать настоящим матросским языком, я вспомнил об этой книжке и бла­ гословлял судьбу, что я ее не бросил. Я использовал из псе в «Разломе» может быть всего-на-всего одну четверть и еще три четверти осталось. Запаса этого хватит на долгое время, если мне придется еще работать над этим материалом. Я думаю, что может быть мне удастся написать большой роман о флоте 86 в революции, потому чю эта тема очень увлекает меня, и там эта книжка будет использована до конца. Случай с этой записной книжкой был для меня хорошим уроком. До 1928 г. никогда не вел днев­ ников и записей, и сейчас многое из того, что я видел и слышал интересного, я позабыл: ведь память слабеет. Но с 1928 года я установил правило — вести Записную книжку. В календаре я каждый день регу­ лярно записываю, по мере возможности, случающиеся события, записываю краткий экстрактный материал, острые слова, характерные выражения. Может быть это мне не пригодится в течение некоторого времени, а может быть пригодится и в этом же году. Для работы это весьма необходимо, и свой дневничок я буду вести аккуратно, потому что практика показала чрезвычайную необходимость этого. Теперь о порядке работы над текстом пьесы. Туг была странная вещь. Надо сказать, что обычно у меня принцип работы таков: я вообще никогда не сажусь писать до те\ пор, пока у меня детально не продумана вся вещь. Таким образом, я могу носить в голове уже настолько готовую вещь, что, когда я сажусь писать, мне не приходится думать над отдельными положениями, даже над отдельными фразами. G «Разломом» случилось обратное. Может быть ряд обстоятельств этих лет, разбросанность жизни явились причиною того, что я писал «Разлом» как-то странно. Сначала был написан третий акт целиком, без всяких помарок. Он так и остался в пьесе. Затем кускамп, очень маленькими отрывками, я писал второй и четвертый акты. Второй акт был начат не с начала, а с середины, со встречи адмирала песнями и частуш­ ками. И вот эти три акта потребовали громадной работы, они перерабатывались по пять, шесть раз, пока н дошел до окончательного текста, в то время как написанный почти в два дня третий акт (утром я сел и написал почти две трети акта, вечером же весь конец акта) так и остался без всяких переделок, за исключением нескольких слов, которые были зачеркнуты. Я не считал возможным и нужным чтолибо в нем поправлять. Продолжительность работы над разными вещами вообще у меня очень неодинакова. Например «Белая гибель» заняла около двух недель, «Гравюра па дереве»—два с половиной месяца, а «Сорок первый» —написано в два дня. Я завидую европейским писателям, которые встают в 8 ч., 6 ч. работают каждый день. Я на это не способен. Я могу по месяцам ничего не делать, а потом работать запоем, работать без сна. Жаль, что не могу работать регулярно и постоянно. С другой стороны, может быть, это и лучше, потому что это дает гораздо больше удовлетворения, чем постоянно, без всякого желания писать и работать система­ тически 6 часов в сутки. По-моему, в литературном труде это не может быть применимо, нельзя писать, когда, например, у вас случилось что-нибудь скверное, настроение подавленное, а вы пишете бодрую, веселую вещь. Это должно приводить к неудовлетворительным результатам. Я то, впрочем, вовсе не берусь быть учителем, я просто рассказываю, какие приемы я лично при­ меняю в своей работе, рассказываю потому, что мы все работники одного производства. И если говорят, что в промышленности мы должны покончить с про­ изводственными секретами, то я считаю, что и в ли­ тературной работе с секретами мы должны покон­ чить. Я считаю, что наш труд очень тяжелый труд, h будет очень ценным, если каждый из нас сможет передать какой-то прием, какие-то навыки другому. 87 Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ Рассказать, как написана вещь — трудно. Трудно прежде всего найти тот момент, с которого на­ чинаешь вещь, можно сказать, что каждое произ­ ведение является результатом всей жизни. Особенно верно это можно сказать относительно «Недели». Это моя первая прозаическая вещь. До этого времени я писал довольно плохие стихи. «Педеля» же подъитожила весь мой художественный и психологический опыт. Я тогда был в компартии второй год и только начинал усваивать программу партии и марксизма. Это делалось в процессе постоянной политической работы. Работа состояла в том, что надо было самому много читать, много учиться и все это как-то пере­ рабатывать и передавать другим. Каково было мое бытовое окружение? С кем соприкасался я ближе всего? Эт0 были, конечно, товарищи но Политотделу, коммунисты из целого ряда организаций, чекисты, продовольственники, редактор газеты. С партийной верхушкой нашей организации я соприкасался реже, но всех знал. Надо сказать, что в основном своем ядре это были прекрасные коммунисты, давшие основу для целого ряда характеров «Недели». С красно­ армейцами я соприкасался очень много, потому что я был политработником армии. У меня все время было большое желание об этом написать, у меня было постоянное ощущение не­ обыкновенности этого времени, восторга перед ним, ощущение, что обязательно об этом нужно написать, что все, что происходит каждый день, никогда в мировой истории не происходило. И в то же время у меня было ощущение несовершенства всех изобразительных средств и даже какой-то немоты, точно не хватает 88 слов, чтобы выразить все те новые мысли, все те новые чувства, которые являлись каждый день. Я пытался писать, возьмешь карандаш, начнешь писать, но дело в том, что мне страшно мешали элементы старой творческой формации. Я писал с самых ранних лет, и теперь мне уже мешала какая-то сложившаяся система творческой работы. Я вырос под влиянием реалистической литературы, с одной стороны (особенно я любил прозу Бунина), и с другой стороны — под влиянием декаданса (А. Белый и его проза, в особенности). Но я чувствовал, что эти системы не соответствуют тому, что хочешь написать. Начинаешь писать — и вдруг осечка! Просматривая старые черновики, я нашел много таких набросков, попыток что-то написать, и в результате оказывалось, что в этих попытках ускользал дух времени, усколь­ зали основное движение жизни, ее особый ритм, как бы ее индивидуальная походка. Если получалось ближе к декадансу, то ощущалась чрезмерная взвин­ ченность; если я пытался итти по линии хорошей романтической художественной прозы, то все полу­ чалось натуралистически неподвижным. Все это было не то, что мне было нужно, надо было найти новую основу творчества. У меня было желание написать эпопею, обняв ею все 3 года революции; мне пред­ ставлялось, что интрига должна охватить весь Совет­ ский союз, разослать героев по всему Союзу- Но -, результате у меня все как-то расплывалось. Я помню, что с 14-летнего возраста я назвал ее «Жизнь». Я начал ее с 11-го года, кончалась она в 26-м году (рево­ люция предполагалась в 23-м году). Это конечно было ребячеством, и в двадцатом году, уже будучи взрослым, я почувствовал, что в моих мыслях по поводу эпопеи на три года и по всему Сов. союзу есть что-то от этих ребяческих мыслей. В таком состоянии напряжения, какой-то внутренней подOS готовки я провел почти весь год. Шла будничная работа, я работал как всякий рядовой коммунист, но в то же самое время я непрестанно и напряженно всматривался и обдумывал. И вот однажды, в тот мартовский день, который описан в «Неделе», я пришел домой рано, были поздние весенние сумерки, н мне хотелось об этом писать. Я взял карандаш и вначале у меня ничего не вязалось. Я решил просто записать свое состояние бессилия и нашел фразу — какими словами рассказать мне о нашей жизни и нашей борьбе. Эта фраза мне очень понра­ вилась, и она повела за собой другую, и вот полу­ чился отрывок, нечто вроде стихотворения в прозе. Оно однако не было то, что мне нужно, оно было слишком приподнято, по настоящему мне в нем нравилась первая фраза, но здесь, в этом, вообще говоря, художественно скверном отрывке, заключено в свернутом виде все будущее содержание «Недели». Оно было записано очень примитивными словами, но когда я написал, я почувствовал, что в этом наброске что-то есть, это был так сказать первый доступ к будущей вещи. Хотя и это не было то, что нужно, это было очень плохо. В чем тут дело? Когда я сейчас совершенно созна­ тельно пытаюсь посмотреть этот набросок, я вижу, что помимо плохих образов, которых здесь изо­ билие, основным недостатком является взвинченность, романтический туман, отдаление от конкретной тк^.. реальной жизни. Он может быть высказыванием одного из действующих героев этой эпохи, но он недо­ статочно объективен, чтобы быть исходным пунктом всей вещи. Эт0 начало так и осталось неудачным, нужно было начинать не с этого, но оно дало мне эпиграф к «Неделе». Это была первая фраза наброска. Таков был первый охват явлений, легший в основу содержания «Недели». Вторым толчком послужила 80 «Азбука коммунизма» Бухарина. Если вы вспомните, что там вначале есть посвящение коммунистической партии — той партии, которая управляет социали­ стическим государством, грузит дрова па коммуни­ стических субботниках — очень пафосное, но в то же время очень реалистическое посвящение. Когда я в первый раз прочел и не обратил внимания на это посвящение, «Азбука коммунизма» была для меня только орудием пропаганды. Но чем больше я думал о будущей своей вещи, тем большее значение по­ лучали для меня эти несколько строк, вернее — их какой-то совершенно особенный тон соединения при­ поднятости, пафоса с реалистическим ведением всего охвата революции и с выделением всего этого — основного субъекта мировых событий — коммунисти­ ческой партии. И недаром впоследствии Бухарину так понравилась «Неделя», его несколько строк дали мне прямой элементарный тон для «Недели». Следующим толчком к «Неделе» было произведение Пильняка «При дверях». Я думаю, что большинство из вас знают этот рассказ и нет нужды его пере­ сказывать. Там изображается маленький уездный горо­ док, тоже примерно на северовосточной окраине СССР, зима, примерно тоже 20-го года, состояние большой затрудненности советской власти, ощущение новизны и необычности советского общественного порядка. Но этим — общее кончается. Это было одно из первых по времени произведений советской художе­ ственной прозы. Сразу я сочувствовал внутренний протест против этой вещи. Мне казалось, что это клевета на революцию. В рас­ сказе изображено то, чего я не видел: скверные вечеринки коммунистов с пьянством, с интеллигент­ ским принципиальным и скучным развратом, пере­ межающимся глупым резонерством по поводу рево­ люции, нудное философствование по иоводу истори­ 91 ческих судеб России и т. д. Здесь же—упоминаются советские люди, учреждения, но все это в какой-то неправильной, искаженной перспективе. И все же вещь Пильняка была для меня важна, потому что она привела все мои неопределенные мечтания к кон­ кретности— «вот ты какой видишь революцию,— мысленно говорил л Пильняку,—а на самом деле она вот какая. На самом деле даже уездный городишко — овеян ветрами классовой борьбы, овеян всей мировой революцией, он сейчас насквозь героичен — вот они — эти герои, люди современности». А период, когда я так думал, действительно был героический, это была весна 21-го года, когда у нас было обострение всех затруднений. Началось это вот с чего: примерно в феврале месяце на общегородском собрании такого типа, которое описано в «Неделе», был сделан доклад, ни хороший пи плохой- средний доклад, в докладе были приведены цифры, и там говорилось, что мы успеваем и что все как будто бы благополучно, хорошо. Вот тогда один из товарищей, руководящих нашей парт, организацией, Лакоцков, вдруг берег слово — он, кажется, был председателем Губпрофсовета — и начинает говорить, что докладчик неправ, он перегибает палку, когда говорит, что у нас все хорошо, это неправильно, нам нужно сейчас но хва­ литься, а ставить перед собой проблемы одну другой серьезнее, что мы живем накануне кризиса. Опыт трудовой армии — неудачен. В учреждениях наших — волокита, и не надо замазывать себе глаза — уничто­ жение частного рынка декретом еще само по себе ничего не значит. У него не было упадочничества - он только заставил взглянуть в лицо действительному положению вещей, он только показал, как опасно самообольщение, что через 1-2 года мы перескочим через все затруднения. Это было замечательное выступление, такой трезвый, мужественный, сно92 коііный взгляд в лицо действительности, соединенный с большим революционным напором. Вообще говоря тон этого выступления, характер этого человека, даже его внешность нашли воплощение в а Не­ деле», это — в типе Робейко, в тоне его высту­ пления. II вот в скором времени началось большое сибирское восстание, очень жестокое восстание, охватившее всю Центральную Сибирь, восставшие захватили Курган, Петропавловск, прервали сообщение, хлеб не мог вывозиться в столицы, и вот костлявая рука голода нависла над столицами. Тогда хлеб стали давать губернии, не отрезанные от столиц, в частности и Челябинска. Мы начали выкачивать хлеб из губернии, тогда особенно обострилось хозяйственное положение, и это послужило толчком для новой волны недо­ вольства, для новых вспышек восстания. Я помню, как наиболее неустойчивые элементы в парторгани­ зации под давлением трудностей говорили: как мы можем давать хлеб, а сами что будем есть? И вот как сейчас помню, тов. Жиряков, один из руководи­ телей, выступил на одном общегородском собрании н сказал: «ну что же, поддержим центр всеми силами, которые имеются, сами будем голодать, а центру нужно дать хлеб, хотя нам самим будет тяжело». Это был второй момент, давший тон «Неделе». И тут у меня начала вызревать основная коллизия «Недели» и первый характер героя — это был Робейко — возник одновременно с фамилией, на основе некоторых черт облика Лакоцкова. Потом почти одновременно, не­ много попозже произошло зарождение Климина, Мартынова и Горных, при чем они связаны с ощу­ щением весны. После заседания выходишь на улицу, такой приятный весенний ветер ходит по городу, чувствуешь свою молодость и все же отказываешься от этой весны для работы... Вот тут я стал писать 83 первые наброски, они относятся к переживаниям Климина, Мартынова и Горных. После этого я переехал на работу в Екатеринбург, куда я был вызван военным округом, который в то время организовывал окружные политические курсы, и округ меня взял туда работать, как одного из организаторов этих курсов. Челябинск отодвинулся в прошлое. Екатеринбург — столица Урала, он гораздо больше Челябинска. Тут совершенно другие масштабы, но ощущение Челябинска у меня все время оставалось, и, вот тут как раз, когда Челя­ бинск отодвинулся в прошлое, только тогда я подумал совершенно реально, почему же описывать непременно весь Союз, а почему не описать такой вот типи­ ческий городок, вроде нашего. Зачем надо охватывать весь Советский союз, когда все действие можно скон­ центрировать в одном городе? Зачем брать 3 года революции? Можно взять один год, один месяц и, наконец, одну неделю и в одну неделю уложить все основные коллизии, в одной неделе можно дать на­ пряжение всех событий. И сразу же у меня начала вырисовываться схема событий, изображенных в «Не­ деле», я начал строить сюжет на развитии основного противоречия этой эпохи, выраженного в такой конкретной проблеме: если выведешь красноармейцев из города, то не остановишь восстания, если не выведешь, то не засеешь поля. Был выбран пра­ вильный путь; противоречие разрешили ценой вели­ чайших жертв. Чтобы засеять поля, нужно было добыть зерно, нужно было получить топливо, нужно было вывести красноармейцев, что вызовет восстание, но на это надо итти.... Вокруг развития этого противоречия сразу же обо­ значилась расстановка всех людей. Однако целый ряд мотивов у меня уже был закончен. Записано было ощущение весны (потом вошедшее 94 в трактовку Мартынова, Климина, Горных), обозна­ чался довольно неясно тот любовный мотив, который лег в основу отношений Климина и Симковой. Но основной тон вещи давали мне глубокие впечат­ ления от партийных собраний того времени, о г газет, от выступлений руководителей парторганизации и наконец переживания во время своих же докладов и речей на темы текущей политики. И только когда я нашел этот тон, я свободно овладел и ощущением природы, ощущением весны, как фони всего события, который давал как бы общее осве­ щение всего.... Этим, я начал вещь и до сих пор вижу, что начал ее правильно. Второй тон вещи — это ощущение враждебности маленького обывательского города к той социали­ стической революции, которая захватывает и его.... Этот мотив уже общественно усложняет и конкрети­ зирует вещь, он явился выражением моих мнений и чувств, когда усталый идешь с собрания и видишь — знакомые маленькие домишки, тысячу раз виденных людей, церкви и бугры — и чувствуешь несоответ­ ствие этого, что существует,—тому, что будет создано. И отсюда уже третий мотив — жизнь партийной организации, в ее специфических формах, парт­ собрание, субботник, сбор. До сих пор эти три мотива являются для меня как бы известным качественным определителем вещи, не ее содержания, не ее конкретных образов и развер­ тывания сюжета, а какой-то общей ее окраски. Вначале эти мотивы возникли как мои переживапия. Потом я начал их «прикреплять» к отдельным дей­ ствующим лицам, делая их субъективными высказы­ ваниями разных людей. Отрывок «Какими словами рассказать мне о нас» должен был быть из дневника Анюты Симковой. Должси был быть и дневник Сури­ кова. Суриков вообще предполагался как поэт, он 95 пишет стихи, поэмы. Кое-что из этих стихов и поэм было мною записано и должно было войти в «Неделю». И наконец третья стадия моей работы, во многом не завершенная, заключалась в том, что я отчасти стал отбирать те или иные высказывания героев и очищать их от субъективности, делать эти высказы­ вания как бы объективной окраской всей вещи. И тут-то я уже стал думать о целом ряде формальных особенностей вещи, она стала для меня целое, какой н бы хотел ее видеть после работы. Я стал ощущать и ее размер и стилевые ее особенности. Вещь должна была бы быть написана вот так, как написана первая глава — с внутренним ритмом, как бы слегка приподнятой прозой, с элементами условности в речи. В начале, в первых четырех главах, я избе­ гал, напр., слова «который», у меня было желание стилизовать вещь, я избегал понижающих вещь эпитетов, сравнений, все должно было итти в из­ вестном приподнятом тоне; слово же «который» при­ дает речи устойчивость, уточняющую реальность, Я чувствовал величину вещи — она по-моему должна была бы быть немного меньше, чем она есть. Я пред­ полагал, что в ней обязательно должно быть 7 глав. В первоначальных черновиках на ней чувствуется влияние Андрея Белого, это же влияние еще более пожалуй ощутимо на моей второй вещи—«Завтра». Если вы вспомните Андрея Белого, то тут нетрудно установить его влияние, тем более, что он был одним из любимейших моих писателей. «Неделя» должна была начаться и кончиться пар­ тийным собранием, между этими собраниями должна была улечься вся неделя и развиться весь траги­ ческий конфликт. Из всех формальных задач вещи меня вдохновляла особенно именно эта задача. С самого начала работы я хотел показать, что вот не одна группа стоит во главе, потом ее нет — но 96 происходит выделение нового руководства на новом собрании. Я начал писать «Неделю» с самого начала, с первой главы, при чем л все время писал, отталкиваясь ог тех общих и неконкретных романтических настроений, которые лежат в основе отрывка. «Какими словами рассказать мне о пас». «Вы видите, что вначале Здесь идет то, что называется «погода» —небо, весна. Затем — описание враждебности города, коммунисты идут на собрание, индивидуальности еще нет. «Идут люди все различные, но всех точно освещает одно и то же утреннее солнце». Когда я написал вот эту фразу, опа сразу меня обод­ рила, в ней я почувствовал первую конкретизацию того стиля, который я хотел найти «идут люди, они все раз­ личны, но пх освещает одно солнце». В этой фразе для меня был заключен метод раскрытия характеров «Недели». Необходимо еще сказать о Сенаторе — его я списывал почти с- натуры, это домохозяин той квартиры, где я жил, у пего действительно была аптека, это был до такой степени типичный средний буржуа, все интернациональные черты этого типа так ярко в нем воплощались, что добавить к нему почти ничего не пришлось. Первую главу я переписывал раз пять и дальше все но шел. И вот Пом гол выпускал газету, и я дал туда мой отрывок, он был напечатан под названием «Будни нашей борьбы». Тут Робейко был уже описан. Одно­ временно вещь начала двигаться очень сильно, я уже не успевал все записывать, материал на меня давил, сразу же, как л понял основную идею вещи и конкретность ее развития, я начал очень много писать. К сожалению, из всех 6 тетрадок черновиков у меня сохранилась только одна. Черновики были написаны очень беспорядочно. Я начинал писать то 7 87 один кусок, то другой, переходил от одного к другому, мне казалось, что первый уже кончен, потом опять возвращался к первому. Когда я сейчас прочитал все, я не мог уловить всей последовательности работы, все писалось очень беспорядочно — то чернилами то карандашом. С бумагой дело было очень плохо, хуже, чем сейчас, у нас в Челябинске были большие чаеразвесочные Высоцкого, мы там реквизировали много этикеток для чая, на них было очень удобно писать; кроме того у меня были какие-то книги «Страхование от несчастных случаев». Вот на этих листках я и писал. Повторяю, писал все страшно беспорядочно, но, когда я перебираю эти тетради, я нахожу здесь вчерне все основные эпизоды «Недели», все они писались и переписывались по нескольку раз, я все время переделывал и переписывал, даже в одной тетрадке повторяется один и тот же мотив. Теперь вопрос о близости к действительности всех этих эпизодов. Матусѳнко почти списан с натуры. Я сам наблюдал такого человека. Мартынов взят за исходный пункт, я представляю себе наружность, вспоминаю одного интеллигента, который в отно­ шении самого себя все время находился в состоянии какого-то внутреннего ревтрибунала. Мартынову я добавил много своих мыслей н чувств. Вот, напр., когда он идет по улице и видит церкви и смотрит на них точно из будущего. К характеристике Мартынова можно добавить еще один эпизод. Одному партийцу пришлось быть на обыске в семье священника, где он ухаживал за девушкой. Правда, этот парень держался на обыске очень твердо и спокойно. Когда я начал писать Мартынова, начал искать формы выявления его интеллигентной мечтательности, то взял и поставил Мартынова на место этого человека, и тогда полу­ чилось то, что нужно. 80 Дальше еще факт с подошвами, это тоже было взяю из жизни, я сам видел на улице такого человека с подошвами, подвязанными веревочками. К чему я указываю на эти моменты? У меня есть соображения, которые, мне кажется, должны быть полезны товарищам, начинающим работать в лите­ ратуре, — это вопрос об использовании фактов дей­ ствительности. Дело в том, что когда нам предстоит жизнь в чувственной достоверности, опа так богата, что, вообще говоря, можно о любом человеке написать множество книг. Но вся суть не в этом, а в том, чтобы суметь из жизни выбрать то, что нужно для кон­ кретного воплощения замысла, сгустить это вместе, или же наоборот сделать бледнее, чем в жизни, но сделать так, чтоб за данным случаем, фактом, взятым из жизни, можно было бы живо ощутить действи­ тельность— во всей полноте ее силы. Случай в семье священника произошел на самом деле не с человеком такого типа как Мартынов, это был подлинный партибц, и, когда дело коснулось обыска, парню было быть может впутреннѳ неудобно, но он провел свое дело хорошо. Мне же нужно вскрыть противоречия интеллигента - коммуниста, связанного социально­ психологическими корнями с чуждыми революции людьми. Я беру этот случай и я его как бы искажаю соответственно своим целям. Но это искажение заклю­ чается в том, что я его освобождаю от элементов случайности, даю ему большее напряжение, и это помогает мне подвести материал к идее произве­ дения. Я беру конкретный действительный факт, но я уси­ ливаю или ослабляю его, вместо одного человека я ставлю другого, вместо парня энергичного, хорошего коммуниста—появляется такой человек как Мартынов, и благодаря этому Мартынов вскрывается. Мне кажется, что в этом и состоит один из важных * 9В законов работы художника и подбор нужных ему впечатлений действительности. Дальше о возникновении Горных и Суриковых. Как ни страино, они возникли из разных сторон одного действительно существовавшего человека, т. е. один и тот же чекист послужил объектом для этих как будто противоположных типов. Я взял как бы две противоречивых тенденции внутри человека и во­ плотил их в двух людях. Почему я это сделал? Мне кажется, что я нс смог осмыслить противоположности черт в единство характера этого человека, и я осво­ бодил одну тенденцию от другой. Это говорит о не­ совершенстве моего художественного метода. Горных, оставаясь тем, что он есть, оставаясь прекрасным большевиком, мог бы, приходя домой, переживать целый ряд тех настроепий, которые переживает Суриков, — но он мог бы справиться с этими тяжелыми настроениями и стать еще тверже. С этой диалектической слажеппостыо характера я не мог тогда совладать и пошел по линии расщепления противоположностЛі, пх разделения, что повело за собой превращение живых характеров в символы. В Симковой я соединил черты двух коммунисток, одну я знал очень отдаленно, а другая была мне довольно близким человеком. Составился единый образ, по опять-таки, когда я беру этих живых ком­ мунисток и сравниваю с ними Спмкову, то вижу, что она романтизирована, у ней нет целого ряда кон­ кретных черт, которыми эти коммунистки обладали. Вообще Симкова живет не объективно, а через вос­ приятие Климина. В черновиках же своих я нашел описание того, что Симкова учительствовала в Перм­ ской губ., описание того, как она стала коммунисткой (эти черты сближали ее с Лизой Грачевой), в окон­ чательном варианте я все это опустил. Климин и Стѳлмахов — я не помню, откуда и как они возникли. 100 Целый ряд их мыслей и мотивов принадлежали то одному то другому герою. Целый ряд мыслей Мартынова раньше принадлежал Сурикову, а потом они перекочевали к Мартынову. Линия работы над черновиками шла таким образом. В первом черновике конспективная запись сцены в парткоме. Опа у меня есть в 4-х вариантах. Первый из них начинается такой фразой: «с самого начала Климин не придавал практического значения плану Робейко». Далее идет конспективное изложение речи Робейко, все это чрезвычайно сухими, чисто коммуни­ стическими словами. Во втором варианте гораздо больше конкретности и одновременно пафосности и главное, что гут есть, это то, что здесь совершенно реально выступает Караулов. В первом варианте еще нет Караулова, а есть какой-то неопределенный Подгорбунский, а во втором варианте появился Караулов, тот самый Караулов, который вошел в окончательный вариант «Недели». Этот набросок тоже еще не развер­ нут, но оп уже очень конкретен, такого типа люди не­ однократно появляются потом в моих произведениях. Так я работал над первыми 4-5 главами. Условия работы были очень тяжелы. Товарищам, которые любят поныть по поводу того, что условия тяжелые, и говорят, что они могли бы написать гениальную вещь, но обстановка им мешает, я расскажу следующее. Я был тогда начальником учебного отдела Окр. Воснполиткурсов и обстановка была приблизительно как описано в произведении «Комиссары», — очень тяжелая. Работа была очень ответственная, мне при­ ходилось руководить всей учебой, а отчасти и полити­ ческой жизнью курсов, это был период перехода к нэпу. Настроения в армии в связи с демобили­ зацией были самые разнообразные, и мне приходилось очень много выступать и много работать, поэтому для моей литературной работы оставалось очень 101 мало времени. Обычно я писал поздно вечером или рано утром. Было лето, я писал либо с утра, до начали занятий, или по возвращении домой. Такая усиленная работа создала страшное переутомление, которое было настолько серьезно, что мне по комиссии дали трехмесячный отпуск — случай, в армии не особенно частый. У меня признали зачатки анемии мозга. Я поехал в Москву, я возбудил ходатайство о переходе в распоряжение Главного управления военных учебных заведений. Перевод мой состоялся, и я стал работать помначгубом Высш. Воен. Школы Связи в тех же условиях в смысле работы, но немного легче в смысле питания. Тут я после 3-4 месяцев перерыва опять стал писать «Неделю». Но она была уже задумана, многое уже было написано. Когда я возобновил свою работу, я все переписывал, уже выравнивая вещь по основному эмоциональному тону, но, когда начал писать дальше, у меня наметился какой-то стилистический перелом. Если взять главу «восстания» и его ликвидацию, вообще последние главы, можно увидеть, что эти главы несколько в другом тоне, чем предыдущие. Они отличаются меньшей приподнятостью стиля, гораздо, большей вольностью в том смысле, что не так уже чувствуется ритмованная проза, все гораздо свободнее, описания реалистичней, конкретней. Появляется персонаж и описывается его наружность, передается прямая и индивидуализированная речь. Данков, Спицын, Се­ лецкий — очень отличны по методам описания от Горных и Робейко. Тут намечаются элементы не­ выполнения той задачи, о которой я говорил. Первые главы были написаны ритмическим стилем, что за­ метил Бухарин; он прочел и сказал: «У вас написаны первые главы точно стихотворение в прозе». А вот с пятой, шестой главы начинается обычная проза, ритмические куски все реже, п только 7-я глава была 102 дописана так, как была задумана, она была закончена партийным собранием, которое было как бы повто­ ром того собрания, которым начиналась «Неделя». Итоги : я считаю, что общую задачу, поставленную себе, в соответствии со своими силами я выполнил. Вещь писалась примерно год — пачал я ее писать 16 апреля 1921 года, а кончил 24 марта 1922 года. Что было плохо в этой вещи, что было хорошо? Я почувствовал в ней недостаток, на который указал Троцкий в своей работе о литературе. Во-первых, в «Неделе» отсутствует рабочий класс. В нашем городе рабочий класс, был правда, очень незначителен. У нас было депо, чаеразвесочные, были дрожжевые заводы, да еще большой угольный район в верстах 8-10. В этой вещи нет рабочего класса, а между том он должен быть. Восстание было ликвиди­ ровано железнодорожниками. Горных руководил железнодорожниками. Но чем эти железнодорожники по схематизму отличны от «кожапых курток» Пиль­ няка? Я думаю, что очень немногим, та же ходульная романтика. И все же свою основную задачу я считаю выпол­ ненной, т. ѳ. на основе нового чувствования мира л дал новую тему и новое построение сюжета. Целый ряд людей этой новизны не улавливают. А между тем эта новизна есть, она замечается в выведении и расстановке людей соответственно развитию обще­ ственного противоречия. Лиза Грачева вводится у меня с 5-й главы, и все время до конца вводятся в вещь новые люди. Но я совершенно не справился с развертыванием человеческих характеров, люди больше похожи на романтические символы, на мысли, чем на типы. Вот хотя бы Робейко, у него припадок кашля. «Робейко должен умереть, он болен, ему худо, он знает, что умрет». Все это сказано, — но сказано 103 слишком легкими словами. Таких типических мест в «Неделе» очень много. Вещь спасает только дви­ жение идеи в целом. На этой вещи сказались также остатки прежних творческих формаций — натуралистических и дека­ дентских. Есть такие моменты, как, напр., вазочка Стальмахова. Вазочка эта описывается в таком духе: «на ней нарисованы чьи-то любовные места». ЭГУ вазочку разбили, потом налили в нее чернила. Так всегда бывало у Стальмахова с вещами, которые ему дарпли на память. Вазочка тут фигурирует в виде символа, во время революции — где не может быть «красивости» личной жизни. 3го неправильная мысль — и ей соответствует неправильная стилевая линия, остаток старой непроваренноіі творческой формации, мешающей и затрудняющей понимать суть «Недели». В первой главе, напр., фигурирует красный пылающий ангел — ходульно романтический образ. Есть в «Не­ деле» и схематические натяжки, напр. отход Лизы Грачевой от бога. Раньше она верила в бога, потом увидела, как мучают коммунистов, и перестала верить, «и вот пасхальный звон напомнил о боге. Где он? В себе она больше его не чувствовала». Неужто так легко изживает человек веру в бога? Надо сказать, что вещь в том виде, в каком она была сдана в редакцию, была очень несовершенна, тт. Во­ ронений и * Клычков много поработали над ней и устранили из нее целый ряд длиннот и повторений. Концентрически ли возникает вещь? Она возникает, конечно, концентрически, т. е. воз­ никает сначала вся в целом, как замысел. Что бы я ни делал, у меня все время происходит процесс наблюдения, процесс сравнения, процесс подбора впе­ чатлений, он проходит у меня сам собой, иногда что-то выделяется из этого подбора, и я начинаю 104 думать, как можно это использовать, в какой связи с задуманной вещью кто-нибудь что-то сказал, другой ответил, и я обдумываю, как это можно описать. Вот все время происходят такие как бы бесцельные упражнения. К некоторым вещам воз­ вращаешься все чаще и чаще. Но одновременно суще­ ствует и другой план, план более общих мыслей, когда в результате наблюдения всей жизни целиком приходишь к каким-то мыслям, которые к тебе все время возвращаются. Когда я читаю «Неделю», то вижу, что основные мотивы моего творчества все очень похожи друг на друга, в «Неделе» те же мотивы, которые всюду повторяются — в «Комис­ сарах», в «Рождении героя». Вот, например, ощущепие возрождения страны — это есть в «Неделе», есть в «Комиссарах», или весна как время года; у меня очень часто повторяется мотив весенней природы, очень часто повторяется целый ряд ситуаций, на­ пример Матусепко — этот тип находит себе еще и еще раз повторение, — по каждый раз — в другой системе. Я ведь всегда нахожусь в состоянии при­ думывания 6-7 вещей, из них нужно брать установку на одпу вещь. Что это значит? Это Значит, что эту вещь представляешь всю как-то разом и вот начинаешь ее записывать страшно грубо, отдельными кусочками, это уже не придумывание, это уже есть творческий процесс в рамках определенной вещи. Светлов сказал: «смешно говорить, что стихотворение пишется с начала, молено ли сказать, что ребенок начинает создаваться с головы, стихотворение соз­ дается сразу все». То же в прозе. О плане. План вещь, конечно, хорошая. Ио план обычно пишешь, чтобы его потом опровергнуть. Когда начинаешь писать, выходишь из этого плана. Пишешь другой план. Элементы первого плана всегда есть в последнем плане. Но первый план дает как бы 106 объем вещи, он словно указывает, сколько воздуха нужно набрать в легкие, чтоб вещь писалась. Как я пишу, по вдохновению или по заданию? Когда мы говорим : талант, творческое дарование, мы очень слабо себе представляем, что включается в эти слова, здесь очень много составных частей, которые делают это понятие чрезвычайно сложным, но я знаю целый ряд людей, которые гораздо талантливее меня, но которые, вообще говоря, тем не менее ничего не пишут. Тут есть момент творческой воли, т. е. момент умения собрать, сконцентрировать, умение себя всего отдать работе, тут есть известная пре­ данность своим замыслам. Что это — вдохновение или нет? Очевидно, что и во всякой профессии нужно всегда так отдаваться работе, это составляет как бы основную канву жизни. Эт0 какая-то прикованность к своему делу, заставлять себя не приходится, в этом смысле вдохновения создавать себе не приходится, но все-таки это есть момент какой-то внутренней мобилизации. Момент вдохновения, конечно, есть, когда пишешь, сам не разбираешь, откуда что явилось, но пишешь, подчиняясь как бы самостоятельному бытию образа, как-будто бы все происходит само собой, но это между прочим все было неоднократно обдумано, бессознательно или сознательно наблю­ далось, затем происходит проверка правдоподобности образа тем, что его развиваешь, и если он развитию поддается, — значит он правильный. При всякой ли обстановке я пишу? Когда шумно, трудно писать. Мне приятно писать, когда в комнате никого нет. Если шумят за стеной, Это допустимо. Но я помню, когда я приехал в Москву, мне негде было там жить. Я поселился в Свердловском университете. Я садился за стол писать, а ребята тут же занимались своим делом, и я писал. Но лучше писать, когда в комнате никого нет. 106 НИК. НИКИТИН Первый свой рассказ я увидал во сне. Сон был со ** всршенно пластичен и настолько ярок, что проснув­ шись я ощутил не только сюжет, характеры и фа­ булу, но даже стиль этого моего рассказа. Правда, до этого я долго болел мыслью об этом рассказе, он вынашивался и писался в то время, когда я, каза­ лось, совсем было не занимался им. В сущности такой прием работы остался у меня и до сих пор. Это не значит, конечно, что я прежде чем писать — дожидаюсь сновидений, но очень часто мысли дня — особенно в период усиленной и большой работы — не покидают меня и ночью. Я вижу своих героев, вижу страницы, часто — как бы по книге написан­ ные. И утром записываю фразу или положение, виденное ночью. В то время, когда пишется, — ни одна деталь самого обыкновенного существования не проходит мимо. Все заполнено атмосферой этого материала, и нередко кажется, что начинаешь сам дробиться, принимать в себя каждый встречный образ, цвет неба, угол улицы или форму пуговиц, начинаешь применять детали этого бытия к тем лицам, к тому кругу мыслей, в котором живешь. И именно то лпцо, тот тип, с которым полней и многообразней сосуществуешь, в произведении выходит богаче и убедительней. Я пишу обычно периодами. Полгода я живу, в сущ­ ности, не делая ничего. Я езжу, я встречаюсь с людьми. Я стараюсь сталкиваться с фактами и познавать тот мир, который мне собственно не нужен, но я люблю его из интереса, из увлечения, как произведение искусства. В сущности только тот писатель может назваться писателем, который каждую минуі у своей жизни 107 ощущает себя таким и не забывает писательства' Тригорин в «Чайке»— сатира и анекдот, но в анек­ доте этом есть несомненно зерно правды, понятной и близкой самому Чехову (см. «Записпые книжки»). Тригорин — это Чехов в зеркале из Луна-парка. Жизнь писателя профессионально складывается очень скучно. Конечно, он может быть технологом своего дела и возбужденную мысль заменить технологией и математикой. Окружив себя газетами, книгами, теле­ фоном и подходящим толковым секретарем для внеш­ них сношений, он может по вылезать из кабинета и, сидя где-нибудь на Загородном, обозревать жизнь, строить идеологию, выпиливать рисунок и обтачи­ вать слово. Меня не прельщает такой способ. Жизпь для меня интереснее литературы. У меня в обычае — часто отлучаться из дому. И вот в этих поездках — всегда случайных и всегда необдуманных — я находил то, что впоследствии попадало в мои рассказы. Я никогда не ездил подобно корреспонденту с записной книжкой. Я всегда надеялся на себя, и художественная память никогда меня не обмапывала. Я забывал мелочи, шелуха бытовщины отсеивалась, но образ и поло­ жение, жанр и пейзаж вливались в тот или иной рассказ, точно сочиненный мной. И только тогда, когда проходил угар работы, через месяц — либо через год — я вспоминал действительно бывшее лицо, или черту, или случай, иногда это находили мои близкие, я поражался — необыкновенному совпадению, хотя поражаться тут собственно нечему. Воспомина­ ние работало автоматически. В свою книжку я заношу только цифры, названия, технические термины, текст каких-нибудь документов. Я ненавижу человека, идущего в жизни с записной книжкой и карапдашом. Мне кажется, что он видит пыль, дорогу, камни, и, записав это, он не имеет воз­ можности подумать про то, что есть за этими кам108 ними. Иногда, желая усвоить эту систему, я пытался записывать мелочи. Я отправлялся за материалом как воскресные охотники за дичью. -Но материал улетал от меня как дичь. Я гнался безуспешно за ним как за собственной тенью. И, когда теперь гово*рят при мне, что II. отправился за материалом, мио остается только пожать плечами. Я покидаю свой письменный стол, когда он мне надоедает. Мысленно прикидываю свой маршрут — ближний или далекий, короткий или долгий, смотря по денежным или домашним обстоятельствам. Часто в этих случайных скитаниях мпѳ хочется бросить надолго мой письменный стол и вдруг стать стрелоч­ ником, директором треста, актрисой, начальником милиции, остаться где-нибудь на маленькой станции, в селе или на заводе, или переехать навсегда в какойнибудь новый город. Каждый встречпый—это целая книга. Калейдоскоп человеческих эпопей настолько велик и разнообразен, мир так интересен, что остается только жалеть о том, что мы лишены физической силы все это перело­ жить на бумагу. Я часто ощущаю, что мне не хва­ тает времени и не хватит, что я загружен этим обилием. Но никогда мне этого не удалось бы видеть или слышать, если бы я подходил к миру профессионально. С человеком надо пить, есть, спать, любить или не­ навидеть, а не сидеть перед ним с записной книжкой и с карандашом в руке. Я пе задаю вопросы подобно следователю, люди сами рассказывают мне. Лишь незначительную часть того, что я выуживаю, я пускаю в тот аквариум, где плавают мои рыбы — мои книги. Но я не отчаиваюсь. Я надеюсь, что в хозяйстве у писателя чем больше — тем лучше. Хуже было бы на первых порах начать обкрадывать самого себя и собой заполнять собственные страницы. 109 Мое несчастье (да и не одно мое — наверное), что л очень скоро сделался писателем. Вернее не так... Жизнь очень скоро состряпала из меня писателяпрофессионала, и эта же самая жизнь, широкая, мно­ гообразная, разноличинная, непрестанно меняясь, — теперь течет впереди всех нас, и мы бежим за ней гуськом, стараясь — каждый по мере своих сил и способностей—догнать ее. Царская Россия осела как корова в хлеву — и тогда писать было легче. • Я пишу всегда утром. Пишу — как говорится—залнами. Ухожу в работу месяцами или неделями и не­ редко работаю по двенадцати-четырнадцати часов в сутки, с коротким перерывом на обед. Стараюсь в это время ничем но развлекаться, не употребляю никаких наркотиков, за исключением папирос, и те — в том обычном количестве, как и всегда — не больше 25 штук в день. Иногда лишь ночью, во времена усталости и особенного возбуждения, когда не хочется бросать работу и хочется завершить задуманное днем, — не можешь выпустить папиросы изо рта. Но повторяю — это редко. Эти «ночные строчки» обычно старательно вымарываю. В юности всегда работал ночью. Время работы подчинено исключи­ тельно привычке. Отсутствие систематичности в труде зависело у меня от того, что я писал короткие вещи. Все первые мои книги рассказов писались как сти­ хотворение. Так, например, рассказ «Пелла» весь выписался из одной строчки: Всегда начинаю так — камень снизу и камень сверху, тяжелое, литое 110 надо мной небо, ночью вобьют в него крепкие гвоздики. Люблю. Написав это — я стал писать рассказ о любви. Поло­ жение, фигуры, судьба Пеллы-любви вышли из музы­ кальной лирической ткани слов, как и многое в этом сборнике («Рвотный форт»). Так же писалась и одна из последних книг — о про­ винциальной России, о нашей величайшей тупости и поражающем нас мещанстве (книга «Обояньские повести»). Цикл «обояньских повестей» вырос из автомобильной поездки по России в 1925-м году, когда я проехал по нашим дорогам 5.000 километров — от Ленин­ града до Тифлиса, из остановки в яблочных садах Обояни, из провинциальных хроник и, вернее всего, из строчки: «Зачем сентябрь — как тоска — ложится листьями желтыми, красными. Много на свете глупых луж и ухабов — и в каждую лужу, в каждый ухаб смотрится солнце». Короткий рассказ поется в голове. После нанесения фразы на бумагу я поверяю эту фразу на слух. За фразой абзац. За абзацем глава. Так — целый рас­ сказ. Он складывается нота к ноте. Композиция го­ това. Затем нужно аранжировать, соблюсти пропор­ ции. Здесь опять—сперва глаз, вернее память, потом слух. Вот почему во время работы я не выношу шума ма­ шинки. А диктовка для меня прямо невозможна. Мне стыдно присутствия третьего лица. Я наедине — с мягким, «самопишущим» пером и квад­ ратной глянцевой бумагой. Пишу я быстро, может быть потому, что мне не­ приятен процесс... писания. Мне легче «мыслить» рассказ. И если он не выписывается сам из одной начальной строчки, то он где-то у меня сложился — 111 либо в образах, либо в эпизоде, либо в отдельных фразах« Сюжет и характеры самостоятельно развора­ чиваются во время самого процесса. Таким образом, процесс написания — лишь действие первичное и чуть ли ие механическое. Л начинаю читать — с середины, с конца, с начала. Идут бесконечные исправления. Я никогда не пере­ писываю. Начав переписывать — я не могу загляды­ вать— и, переписывая, я поневоле втягиваюсь уже в повое творчество, и от старого материала у меня рождается второй рассказ, мало похожий на первый. Так выписались из одного три рассказа («екатерин­ бургских»)— «25-ое июля 1918-го года», «Трава-пышма», «Шесть дней». Исправления я всегда наношу па тот же экземпляр — сверху, сбоку, снизу, путем вырезки, перечеркиваний и приклеек. Но число перечитываний бесконечно, и только тогда, когда мне рассказ надоедает, я бросаю его, считая — что он готов. И за малыми исключе­ ниями не меняю ни в каких последующих изданиях. Правда, это относится не ко всем вещам. Некоторые рассказы появились спешно, как «очередная работа», и об этом я предпочитаю не говорить. Я думаю, что главная работа заключается именно в этой жадной проверке. Надо, чтобы рассказ мог начаться чтением с любого куска, чтобы читателя от середины потянуло к началу, от начала к концу, чтобы каждая фраза овладевала вниманием, задевала своей музыкой, только тогда рассказ можно считать художественно-полным. Не один десяток раз следует с пером в руке перевернуть свою рукопись, и так — дозрев — произведение падает с дерева, точно плод. Только тогда я чувствую себя свободным, только освободившись — я могу воспринимать окружающее. Когда пишешь, все окружающее становится пресным и скучным, берешь его только с той точки зрения, 112 в которую вживаешься во время писаиия. Вот почему я не умею писать параллельно ряд разнообразных вещей и, когда работал в газетах (целых два года), не написал почти ни одной художественной вещи. Не знаю — каприз ли это художественного и психи­ ческого устройства, но это так. И в те годы, когда я писал сравнительно большие вещи («Преступление Кирика Руденко» 1926 — 7, «Шпион» 1929 г.), я уже не мог писать никаких других вещей и не написал для печати ни одного рассказа. Эти последние вещи, конечно, нельзя было писать как рассказы. Тема «Шпиона» зародилась давно, в 1925-м году, когда я жил в Луге и написал несколько рассказов — тех, что критик П. Н. Медведев отнес к периоду «лужских» («Белый лес», «Тоска»). Материал этого романа накапливался постепенно — все здесь шло в производство, и личные встречи, и впечатления, и документы, и книги. Но книги и документы появи­ лись лишь тогда, когда тема вещи и ряд основных фигур уже созрели во мне. Таким образом — доку­ ментальной стороной я дополнял уже накопленный, полученный из жизни капитал. Этот капитал соби­ рался отовсюду — и в русской провинции, и в Ленин­ граде, и даже в Париже — около авеню Ваграм — в маленьком бистро, наполненном эмигрантской молодежью. Работа над большой вещью строится иначе, чем над рассказом. Роман пе напишешь в месяц. Из опыта я должен сказать, что двенадцать листов романа можно написать в десять месяцев, не считая конечно пред­ варительной работы — работы накопления и обдумы­ вания. Ведь садишься писать роман только тогда, когда уже твердо решил взяться за эту тему, когда охватил настроение вещи, когда сюжет ясен, когда видны характеры основных, двигающих фабулу, лиц. 8 113 Нет нужды, потом они могут изменяться, фабула во время работы развернется иначе (что и бывает), но дрожжи вещи и содержание — готовы, как тесто в горшке, иирог печь можно. Так между моментом возникновения темы и реальным осуществлением ее может пройти три года. «Шпиона» я начал писать только тогда, когда почувствовал себя готовым. А в промежуток этих трех лет я имел возможность написать две другие книги («Обоянь» и «Престу­ пление Кирика Руденко»). Роман я пишу постепенно, эпизод за эпизодом, лишь механически разделяя его на главы. После первого написания начинается чтение глазами, все это до тех пор, пока не почувствуется, что пора листы отдать в машинную переписку. После машины эта работа повторяется в том же самом приеме. Эпизоды иной раз перетасовываются, вписывается новое, заме­ няются одни абзацы другими. И, только заново пере­ монтировав главы, в соответствии с музыкой вещи, а не с ее течением (как вначале), можно приступить к ее стилистической отделке, только тогда опять взвешивается на слух каждое слово. Хорошо читать — не глядя в рукопись — и медленно повторять фразу, обдумывая ее смысл в звучании. И самое последнее в работе — это чтение вслух какому-нибудь посто­ роннему лицу. И то, что ускользало при чтении самому себе, здесь всплывает легкой и ненужной пробкой. Плохое место вдруг выскакивает, сразу чувствуешь его фальшь, это дурное качество мате­ риала настолько становится очевидным, что его про­ глатываешь и никогда не рискнешь произнести перед третьим лицом, слушающим тебя. Точно также от­ четливо видны в данном случае всякая допущенная небрежность, пробел или упущение. Эт0 ревизия вещи, испытание ея слушателем необыкновенно полезно. Вторая редакция переписывается еще раз 114 заново. Наконец исправляется третья, и после этого я отдаю в печать. После того, как рукопись сдана в печать, я остываю к ней. Я уже не чувствую никакого волнения. Я почти не возвращаюсь к переделкам. Так кукушка кладет яйцо в чужое гнездо и забывает о своем детище. Критику и рецензии я читаю только тогда, когда добрые друзья сообщат мне или предупредительно пришлют мне какую-нибудь ругань. Похвал я не разы­ скиваю — их мало. Но когда они неожиданно встре­ чаются, я принимаю их с удивлением и удоволь­ ствием. Обычно мне приходится сталкиваться с рецензиями следующего типа. В этой статье я уже цитировал начальную фразу, запев — из которого построились «Обояньские повести» — это о том, что в «каждую лужу, в каждый ухаб смотрится солнце». Рецензент, выдернув ее, обычно комментирует так:—ну, конечно, мы так и знали, дорогие читатели... Никитин — это про себя... себя он считает солнцем... А нас с вами, республика наша, для него — глупые лужи и ухабы... Исходя отсюда и принимая во внимание... учтите — па что Никитин тратит свой художественный талант (здесь комплиментарный эпитет)... Словом, маневр не столь грациозный, сколь удобный и верный, чтобы не уронить свое реномэ, лягнуть автора, подчеркнуть личную стопроцентность, рассчи­ тывая на полную безопасность (л никогда не отвечаю на рецензии). Меня ни капли не сердит эта беспар­ донность, тем более, что она удивительно одно­ образна, как-будто бы эти люди (за небольшим исключением) занимаются списыванием диктанта друг с друга. Короче говоря, я не разыскиваю в газетах своего имени и не состою подписчиком в Бюро вырезок. Я не страдаю лихорадкой этого рода. Может быть — 115 Это болезненное самолюбие... Я боюсь встреч с боль­ шой аудиторией. Эт0 не боязнь массы, а водобоязнь. По правде говоря, странности такого сорта очень мешают мне жить, но что-яі поделаешь—моя бли­ зорукость тоже мешает мне... Зато я безмерно счастлив, встретив где-нибудь (в вагоне, на станции, либо при случайном знаком­ стве) своего читателя, выслушать от пего все — и радостное, и горькое. • В работе очень ваяша чистота творческого тона — вот почему в дни занятий я не могу ужо отвле­ каться ни на что другое. Если же это необходимо — то литературные занятия следует перенести на утро, когда голова свежа, когда ощущение ровное, когда мозг не отвлекался ни газетной статьей, ни телефо­ ном, ни разговором с фининспектором, когда уто­ мляющее и нередко пустое заседапио не перебило того плавного и пожалуй спокойного процесса, про­ текающего до сих пор как-то таинственно, когда мысль в определенной синтаксической и фонети­ ческой гамме живет будто бы своей собственной, отдельной от меня жизнью и запечатлевается на бумаге через перо, через механические движения руки. Я всегда удивляюсь этой процедуре и не могу объяснить ее себе. Одно слово тянет другое, имя су­ ществительное тянет за собою глагол, слова роятся в самостоятельном движении, и образ вдруг рождает мысль. Это возможно только при спокойной настро­ енности, когда чувствуется, что вы овладели линией вещи, вы готовы — бессознательно, вам не хватает только бумаги. Первая фраза нередко дается с трудом. Она долго кокетничает и кружится около, как мотылек над огнем. Она еще не прикасается. Первое слово зачер­ 116 кивается, пишется второе. Но и оно ио налажено. Мотылек улетает. Бумага пуста. Я ясно ощущаю шуршание этик слов и не могу поймать их смысла — Это просто набор, это словарь в голове, где веером перелистываются страницы. Выкуреиа первая папироса. Наконец мотылек опалил крылья. Дальше уже легче, почин сделан, и по при­ меру первого мотылька рой за роем толпится на огне. Бывают особые дни, когда в силу каких-либо обстоя­ тельств нет этой рабочей настроенности, нет ясности звука. Приходится настраивать. Нередко перед тем, как писать, необходимо и успо­ коить себя и привести в порядок свою клавиатуру. В этих случаях я прибегаю к чтению какой-нибудь прекрасной книги. Гамсун и Стендаль — чудесные настройщики. Гоголь не годится — он расстраивает. Бальзак — мно­ гоголосый орган — утомляет. Достоевский — увлекает диалогами — как театр—и отнимает много времени, становишься зрителем. Полчаса, сорок минут времени совершенно доста­ точно, чтобы закрыть книгу и почувствовать себя готовым. Если бы я умел раскладывать пасьянсы, я для при­ ведения себя в состояние, предшествующее работе, Занимался бы комбинациями «Могилы Наполеона». Лучше всего пишется до трех, до четырех часов дня. Лучше, чтобы работа шла систематически изо дня в день—без антрактов. Антракт в двое суток, отданный на какие-то посторонние интеллектуальные занятия, вносит дисгармонию, настроение вещи испа­ ряется, тон утерян, и пригодится его ловить. Прихо­ дится прочитать написанное, чтобы вновь войти в вещь, чтобы вдышаться в тот воздух, в котором живут события и люди этой вещи. 117 Я избегаю в эти периоды новых встреч и шумных развлечений. Все привычное и домашнее меня не развлекает. Но непременно двухнедельное сосуще­ ствование с вещью требует какой-либо внешней раз­ рядки, письменный стол приедается, тогда на два дня надо от вещи уйти, забыть ее, совершенно не думать о ней, бросить ее в ящик и предаться антракту. Такое переключение не мешает. Рукопись пишется дальше с последней точки просто и легко, какбудто эта точка была поставлена накануне. Длительные перерывы в работе очень вредны. И когда художественные вещи не клеются — проме­ жутки необходимо заполнять какой-либо другой фор­ мой, но непременно литературной. Франс советовал заменять ее эпистолярной, я работал на газету — поставлял очерки, построенные на непосредственном впечатлении и пейзаже. Сейчас это стало невозмож­ ным. Теперешний очерк требует фактического и си­ стематизированного идеологически или производ­ ственно материала и выводов, рто правильно. Время суррогатов, «взгляда и нечто»—прошло. Очерк — не баловство и нс промежуточная форма. Новой промежуточной формы—«америки»—я не открыл. Заполняю промежутки тем, что выдумываю— или вернее записываю аггрегаты для будущих вещей. Их, по формуле Золя, — непременно хотя бы одну фразу в день, — пожалуй, хватит. Во времена же большой работы мне пишется очень легко, я не испытываю никакого утомления. Я могу писать без плана и без эскиза и пишу до тех пор, пока чувствую, что мне уже не разогнуть пальцы и в ногах такая физическая усталость, точно я исходил десятки верст. Повторяю, эта усталость очень приятна и легка — все утомительное падает на вторую часть, на последующие редакции напи­ санного. 11в Только в «Шпионе» я пробовал составлять план, но в работе он оторвался, он был не нужен, события текли не так, действующие лица говорили не то, и вещь выписывалась очевидно по тому внутреннему плану, который составился в подсознании. • Есть еще одно важное обстоятельство в работе, о котором я уже отчасти упоминал, это физическое состояние и гигиена. Можно писать—будучи больным, можно забыть про боль, можно увлечься до того, что самый процесс работы превратить в своеобразный наркотик, но нельзя плодотворно и без натяжки, без искусственного самопринуждения работать, если каждый вечер ходишь по гостям, напиваешься, объ­ едаешься, танцуешь. Нужно избегать всего того, что выбивает из необходи­ мой для полной работы атмосферы сосредоточенности. Вот почему полезно и легко работается утром после сна. Работать надо голодным. Если перед работой наесться до отвалу, значит и написанное будет вуль­ гарное и грубое... Здесь — какие угодно эпитеты... Да и вообще во время работы я очень мало ем. Физиологически все это очень понятно. Затягивать работу за полночь также не стоит. Уто­ мленный мозг, втянутый и без того в работу, пере­ грузившись, продолжает ее механически, наступает бессонница. Положения, слова, лица беспокоят вообра­ жение, головой овладевает состояние лихорадочное, антитворческое и бесполезное. Сразу после сна освеженному водой, после легкой еды, не отвлекая себя никакими беседами, — приятно сесть за стол. В воспоминаниях дочери Достоевского подробно описывается, как тщательно он мылся и плескался каждое утро перед работой. 119 Во время работы очень важна окружающая обста­ новка. Стол должен быть в порядке, комната прибрана и руки чисты. Неряшливость действует на нервы. Нужно, чтобы ничто не раздражало, кроме чисто­ психических возбуждений предстоящей работы. Я заметил, что удобнее работается в привычной обстановке, когда глаз не останавливается ни на чем и внимание не распыляется. Можно работать даже среди своих, но стоит пока­ заться новому человеку — как уже начинаешь испы­ тывать какое-то неприятное напряжение, какую-то неловкость. Прекрасно писать в гостинице, окруженному без­ различной, стандартной обстановкой — среди чужих и далеких — в чужом и далеком городе, когда никто не постучится в дверь, когда никто тебя не знает и не встревожит ничей телефонный звонок. Некоторые из вещей я так и писал. «Полет» задуман и частью написан в Волхове. «Обояньские повести» писались в Детском селе, в Луге и на Валдае. «Ночь» в Свердловске. «Преступление Кирика Руденко» — в деревне Скреблово, Лужского уезда. Для того, чтобы уловить скользящий строй мысли, требуется комната-коробка с крепко запертой дверью. Эти комические привычки сложились у меня не теперь, когда я сравнительно обеспечен. Все это сложилось в пору тяжелых жизненных обстоятельств. Мы жили втроем в одной компате. И дома — я мог писать только ночью, когда все спали. Либо спе­ циально оставался на службе и, когда все покидали канцелярию, я запирал двери, засыпал на канце­ лярском диване и, отдохнув часа два-три, в моно­ тонной тишине военно-хозяйственного учреждения писал до ночи. Так писалась моя первая книга. • 120 Что такое заказ и отвечает ли писатель на данный ему заказ и кем этот заказ может быть дан? Я считаю, что в смысле экономическом заказы писа­ телями не выполняются. Трест машиностроения может получить заказ на турбины от электротреста. Но я нс знаю ни одного писателя, писавшего по заказу редакции. Можно заказать детскую или популярную или компилятивную книгу, можно заказать агитстих, политическую брошюрку, но строгий, научный, художественный или политический труд сомнительно выполнять как какое-то комиссионное поручение. Есть заказ другой — заказ эпохи, заказ среды. Такой заказ несомненно существует. И смешно думать, что мы этот заказ не выполняем. Каждый выполняет его по-своему. Плохо ли, хорошо, отвечает или не отвечает требованиям заказчика, но никто пе рабо­ тает в безвоздушном пространстве. Несомненно успех пятитомных «Форсайтов» Гелсуорси есть показатель вкусов английских библиотек. Прав был А. Франс, говоря своему секретарю: — Этот год мы будем писать роман об Орлеанской девственнице... ведь следующий сезон будет антиклерикальным. В ядовитой насмешке Франса — привычка француза играть с правдой, так же — как шутить с женщиной. Напрасно было бы спрашивать его: выполнял лп он заказ эпохи... Сумасшедший поп Свифт — ужасное дптя чинного прихода, забронировавшись сутаной, как дьявол воору­ жился трезубцем и перемешивал ненависть со смехом. Он работал на другую эпоху — на новое общество свободы. Стендаль опоздал родиться и, прожив незаметным чиновником бок-о-бок с Бальзаком, выскочил писателем чуть ли не через столетие. Его реставрировали, и в шумную и визгливую какофонию утомившегося капитализма общество возжелало при­ ятно утешиться ясной классичностью, где за внешним 121 льдом стиля лавой кипели другие страсти, утерянные современными «искателями золота». Людей, оголтелых в борьбе за власть и деньги, от Бальзака, напол­ ненного тем же, — естественно потянуло к иному Монблану, где страсть была кристальна, как лед на его верхушках, где пахло не деньгами, а разреженным горным воздухом чувства... столь чистого, какого наверное никогда не бывало в природе. Бальзак работал, как вол, не на одно поколение. Стендаль — па частности. Но и тот и другой — питались и были питаемы своей средой, т. е. материей, т. е. «социальнобытовыми условиями». Закончить этот очерк мне хотелось бы описанием атмо­ сферы работы и импульса, побуждающего нас к ней. Время работы — это время опьянения. Самое трудное начать, поднять на плечи груз. Идешь с ним, вжи­ ваешься в эту ходьбу, и кажется, что ритмически понесешь его без конца. Но вот наступает конец... где сбросить? Концов несколько. Какой же выбрать?.. Технически есть несколько готовых приемов... В этот период выбора и раздумья каждый хочет найти свое, особое, свой вариант в сущности заранее опре­ деленного всей техникой литературы того или иного конца. Но у меня ощущения конца нет. Конец «старинного романа» был радостью свадьбы — конец оптими­ стический или печалью — смертью, не трудно знать — на чем прервется судьба героя и тема автора. Сейчас вещь остается как бы без конца, в про­ должении. Сюжет кончен... Но не кончена тема. И вот на другом материале, в другой обстановке она опять возрождается. Вернее, тема стремится к возрождению, дополнению и толкает писать дальше. Это постоянное стремление (по гётевской мысли) и есть наше величайшее счастье. И в поисках надо 122 быть неутомимым, надо деятельно врываться в воздух жизни, где гремят политические и научные дискуссии, чистки, регистрации, судебные процессы, маленькие криминальные и большие личные трагедпи, где рядом с волчьими ямами и невежеством вырастают многотысячные турбины, где нередко величайший подвиг и бескорыстие соседят с подлостью. Эту жадность к жизни, ко всем ее мелочам, упорство к ее охвату, не пренебрегая ничем — вплоть до счета от прачки (ибо плох будет тот писатель, который не знает цену за стирку рубашки), — эта бесцере­ монная стремительность доводила до такого опыта, который позволяет видеть невиданное. В этом — и тема, и материал, и новая форма. Этого надо достичь. Лучше в погоне сделать сто больших ошибок и найти одну маленькую правду, чем... чем вообще ничего не искать и пользоваться испытанным оружием из литературного арсенала, оставшегося нам в наследство. 123 БОР. ПИЛЬНЯК Детство. В проходной комнате висит па стене зеркало, в которое л умещаюсь вместе с моим конем. Я — иль Руслан или Остап (самое оскорбительное — назвать меня Фарлафом!). Многими часами каждый день — месяцами — я сижу на моем коне, обтянутом шкурой жеребенка, — л, обвешанный булавами, пиками, ко­ пьями, мечами, арканами,—перед зеркалом. Я мчусь на врага, я ражу печенегов и половцев: я раз­ говариваю сам с собою, — я переделываю под зеркало не только Руслана и Остапа, но и все диканьские вечера, но и пампасов. Я махаю руками, я мчусь на моем коне, я кричу, я грожусь. Я не слышу, что делается вокруг меня в доме, — мама знает, что, если меня неурочно позвать от зеркала, я засмущаюсь, я разревусь от обиды, — сестренка-ж Знает, что ее я побью Русланом, если она прервет мое вранье.— Все это было почти тридцать лет тому назад, — какая древность! Я знаю, что тогда перед зеркалом — я наслаждался, и до сих пор помню, что сидеть перед зеркалом мне было — необхо­ димо. И еще от детства. Мне нужно было сходить на ту улицу, иль к отцу в амбулаторию, — я приходил домой и рассказывал, что по улице провели слона, что к папе в амбулаторию привели тигра (в детстве я долгое время был уверен, что солонина есть — сло­ нина, мясо слона). Мое детство прошло между Можай­ ском и Саратовом, — в Саратове л неимоверно врал о Можайске, в Можайске я неимоверно врал о Сара­ тове, населяя их всем чудесным, что я слышал и что я вычитал. Я врал для того, чтобы органи­ зовать природу и понятия в порядок, кажущийся мне наилучшим и наизанятным. Я врал неимоверно, 124 страдал, презираемый окружающими, но не врать — не мог. Самые лучшие мои рассказы, повести и романы написаны, конечно, в детстве, — потому что тогда я напряженнее всего ощущал творческие инстинкты: романы эти погибли, выветренные из памяти. Юность. До восемнадцати лет я разговаривал сам с собою. Я стыдился этого, pro было потребностью. Я уходил в лес, иль на пустыри, — и там вслух, на слово, на звук, я сочинял, организуя виденное и фантазируя, чтобы организовать. Писать я начал очень рано, записывать на бумаге (тринадцати лот я напечатался), и писать я не любил, потому что написанные па бумаге мои враньи вслух — не оставляли на бумаге и сотой доли себя. Писать я не люблю до сих пор, потому что и до сих пор на бумаге остается только сотая заду­ манного не на бумаге, — и потому, что писать это значит: уметь и трудиться. На учебу уметь писать я труды положил (и кладу) лет с десяти, потому что мне необходимо (хотя иной раз и не хочется) остановить свои мысли бумагою. Учеба и умение, и труд — противопоставлены вранью зер­ кала, но сопоставлены с волею организовать вранье так и в такие рассказы, которых я не читал у других (тут рядом лежит мысль, посторонняя делу, о том, что у каждого писаголя первый, реша­ ющий и единственный читатель — он сам, в плане субъективном, конечно). Не писать я не могу, как — мысль принадлежит Л. Толстому — как беременная женщина, забеременев, не может не родить. Все, написанное выше, есть разговор о том, почему я пишу. И ответа на этот вопрос я дать не могу, потому что все начала уходят в подсознательное, — и еще потому, что, если-б я знал это «почему», писать л не стал бы: у каждого писателя должна 125 быть, должно-быть, своя трагедия, своя проиасть, своя неувязанность, которые творчеством он заполняет. Как я пишу? — сейчас, вот над этой строчкой, я просидел много минут, чтобы точно ответить, и точного ответа не нашел. Не знаю, как пишу,— знаю, как написал каждую вещь в отдельности, — как не знаю, почему пишу, и знаю, почему написал тот или мной рассказ. Грубейших несколько правил изложу сейчас же. Пишу по утрам, сейчас же после сна, при чем в эти дни прошу меня не будить, — пишу не больше двух часов в сутки. Пишу почти без поправок. Примерно записываю всегда одно и то же количество — вось­ мушку печатного листа. — Обдумывыю я свои вещи не за столом,—за столом я записываю обдуманное раньше. Рассказы до листа пишу на машинке сразу, — больше листа — пером и затем на машипке. В дни работы меня тянет на молочную пищу, — в этакие дни стараюсь не употреблять ни кофе, ни чая, ни алкоголя, заменяя все молоком. Сев за работу, л пишу каждодневно (и бывали случаи: у нас жизнь по­ строена суматошнейшѳ, все мы висим на телефонном крючке, этом невежливейшем аппарате, который лезет к тебе в дом круглые сутки без спросу, мне нужно гораздо меньшее количество людей, чем то количе­ ство, которому нужен я, — бывали случаи, когда отрывали от работ день, два, три, — на четвертый, на пятый день в таких случаях я впадал в состояние человека, отвыкающего от курения табака, и гнал ко всяческим чертям ни в чем неповинных людей, домашних в первую очередь). Каждый раз, когда я за работой, я думаю, что, вот, кончу этот рассказ, сяду за следующий, — и всегда у меня между вещами перерывы, — чем большая вещь, тем больший пере­ рыв. Іа столом я только записываю придуманное раньше. 126 Самая большая моя досада, когда меня будят с утра — вот, почему. Утром, в минуты, когда сон борется с явью, когда часть ощущений осталась ото сна, но по мозгам пошла — одна, другая, третья — мысли,— в эти минуты на стыке коры большого мозга с под­ корковым бессознанием, я привожу в порядок то, что сегодня буду записывать на бумагу. Слово «обду­ мываю» здесь не подходит. Из свалки всего, что накопилось на чердаках памяти и раздумий для того рассказа, который я сейчас пишу, в эти минуты утра приходит в порядок нужное мне на сегодня, — я вижу и слышу то, что сегодня будет записано, — вижу сном, слышу сознанием. За столом я буду записывать это виденное, стараясь словами записать как можно точнее. Чужую беду руками разведу,— когда я читаю произведения моих коллег, я могу сказать, почему это хорошо и это плохо, — в ста случаях из ста-десяти, когда дело касается моих собственных рассказов, я не могу объяснить, почему я написал так или иначе, — подобно тому, как до сих пор я не знаю, откуда берутся мои рассказы. Я помню десятки случаев, как возникли рассказы. Приведу примеры. — Я был у Ал. Ден. Дикого, он должен был ехать куда-то в Кяхту, он рассказал мне причины поездки. Возвращаясь от него, я слез на Стра­ стной площади с трамвая, — я помню это место на Страстной, я остановился выколотить трубку, набил ее английским табаком, закурил, вдохнул запах «вирджиниа», — и понял, что у меня будет рассказ, возникший из рассказа Дикого и запаха табака фаб­ рики Кэпстэн. Через год рассказ был написан: «Старый сыр». — Я поехал с Куродасан в Крым к его соотечественникам, поднимавшим с Черного моря «Черного принца». В вагоне был синий свет, лицо Оттокичи Курода было зеленым, — я понял, что я еду не по железной дороге, но по сюжету. Через 127 полгода был написан рассказ: «Синее море».— За исключением семерки случаев, когда я писал на заказ (и написал худшие мои вещи), я писал не потому, что хотел написать на заданную тему, но потому, что эта тема родилась помимо моей воли, каждый раз неожиданно. Каждый из нас видит, слышит, продумывает тысячи вещей, из этой тысячи для письменного стола остается десяток, и каждая единица этого десятка неожиданна. Но, вот, подобно тому, как со «Старым сыром» на Страстной площади, возникло ощущение нового рассказа. Оно начинает рости. К бесформенпому зародышу со свалок (и из «кипарисовых ларцѳв») памяти начинает прирастать нужное рассказу, его линии, его одежды, его окраски. Мозг координирует их. Эти зародыши растут месяцами. В данном случае я но похож па жѳнщипу-мать, потому что таких зародышей растет одновременно несколько, — зачав­ шиеся в разное время, в разное время они появятся на свет, — в дни появления я могу устраивать скан­ далы, если мне мешают разродиться. Знаю, мппуты между сном и явью по утрам — это остатки того, что сажало меня на коня перед зер­ калом детства и что в отрочестве гоняло меня по лесам, чтобы разговаривать самому с собою. Ныне сам с собою я не говорю. В детстве-ж я стал учиться записывать—писать. Ныне я знаю очень много правил того, как надо писать, как ставить слова и фразы, как вводить и выводить людей, вещи, время. Если-б, в продолжение этой строки, я стал бы вписывать эти правила, — чего доброго получился бы том учеб­ ника, в котором разговор пошел бы о том, что писателю надо продумать все, начиная от «л» и «р». Выше я говорил о «чужой беде»: за столом я не думаю об этих правилах, но знаю, что опи забрались ко мне под стол сознания, Сейчас я закончил роман 128 «Волга впадает в Каспийское море»: для того, чтобы написать этот роман, я прочитал десятка три гидро­ технических книг, разыскивал и знакомился с инже­ нерами-гидротехниками, ездил на Днепрострой, — но этот же роман я видел во сне, а возник он — из десятка ощущений, которые в романе стали дыханием романа и которые указывают, что роман написал я, а не кто-нибудь иной, ибо это дыхание — мое. Знаю, что к каждой вещи я подхожу не потому, что я хочу ее написать, а потому, что не могу не на­ писать,— за каждую вещь я сажусь с таким же ощуще­ нием, как и пятнадцать лет назад, будто я пишу впервые (чем больше такое ощущение, знаю по опыту, тем лучше будет вещь), знаю, что все, что напи­ сано,— уже плохо и лучшее то, что не написано. Этим сборником писатели отвечают читателю — как они пишут, как они работают. Труднейшая тема! И все же решающим дополнением к этому ответу будут наши книги, где показано, как каждый из нас пишет. в 129 МИХ. СЛОНИМСКИЙ Первый рассказ написан мною в 1921 году. Рассказ этот («Поручик Архангельский») — о войне, в кото­ рой я участвовал. Я очень медленно писал его, вер­ нее— долго обдумывал, прежде чем взяться за перо. С той поры подготовительный период обдумывания и отрывочных записей не сократился для меня. Вы­ нашиваю каждую вещь долго, добиваясь для себя полной ясности основного мотива вещи и характеров персонажей ее. Персонажам своим в первых черно­ виках даю свободу, иду за ними, а не стараюсь сразу же руководить их движениями и словами. Движущая воля автора не должна быть, по-моему, ощутима и видна читателю. Воля эта должна быть воплощена в сюжете и характерах. Если подготовительный период тянется для меня обычно долго, то самый процесс писания иных ве­ щей— довольно краток. Так, роман «Лавровы» напи­ сан мною в три с половиной месяца, рассказ «Чор­ тово колесо»—в один час и т. д. Писать я стараюсь только о том, что знаю во всей полноте, со всеми оттенками, знаю так, что вижу человека или предмет со всех сторон. Иногда даже выписываю для себя биографию персонажа, которая может потом и не войти в вещь, но помогает мне ощущать героя, как живого человека. При такой склонности я естественно пользуюсь материалом на­ блюдений, записей, иной раз и автобиографическим материалом, и прототипами моих персонажей очень часто являются живые люди. В некоторых главах романа «Лавровы» я стремился к почти протоколь­ ной точности — там, где дело касалось исторических событий. Событйя в казармах на Кирочной были записаны мной под непосредственным впечатлепием 130 в марте семнадцатого года, записи свои я сохранил со смутным ощущением, что когда-то для чего-то они пригодятся. Я их ввел целиком в роман, стили­ стически выправив. Вообще отправляюсь в своей работе обычно от фактов, имевших место в действительности. Даже в таком какбудто фантастическом рассказе, как «Варшава», я исходил из типического для 1915 года факта — мно­ гие офицеры, закутив в Варшаве, застревали там при отступлении и пытались вплавь переправиться через Вислу. Поэтому при писании «Варшавы» и при на­ падках на нее я чувствовал все же твердую почву под ногами. Рассказ «Пощечина» основан на газетном факте, заинтересовавшем меня, и в данном случае на помощь мне пришло знакомство мое с жизнью рудничного врача. «Лопата Еремея» написана на основании рассказанного мне одним случайным чело­ веком. В рассказах «Дикий» и «Генерал» спародиро­ ваны библейские сюжеты п т. д. С рассказом «Однофамильцы» произошло нечто дру­ гое. Сюжет его выдуман целиком. Фактов, подобных описанному мной, я не знал и не знаю. В том виде, в каком рассказ был напечатан в первый раз, он показался мне совершенно сырым и удивительно не­ правдоподобным. Четыре года спустя я его перепи­ сал заново, почти ничего не оставив из- первого варианта, но четыре года спустя я уже верил в воз­ можность случая, послужившего материалом для этого рассказа, как в заметку из отдела происшествий. Я сам себе поверил. То же самое вышло с рассказом «Начальник станции». Трудней всего мне в начало вещи. Первая фраза дает мне тон для всего произведения, и вожусь я с пей иной раз чрезвычайно долго. Переписываю рукопись по нескольку раз (больше десяти раз, кажется, не случалось), но иные вещи 131 (например роман «Лавровы») написаны мною сразу, и первый черновик мало чем отличается от оконча­ тельной редакции, — очевидно материал этих вещей совершенно оформился во мне до того, как я взялся за перо. Вообще же бесконечные черновики изводят у меня огромное количество бумаги, и в окончатель­ ной редакции я вычеркиваю очень много. План вещи меняется в процессе написания, и я на­ хожу его по окончании работы в таком трансфор­ мированном виде, что только мне он и заметен. Однако для меня это тот скелет, костяк, без которого вещь рухнула бы. Не имея плана, то-есть, верней, не зная основного сюжета вещи, не могу писать. На бессюжетную вещь, кажется, неспособен. Сюжеты, впрочем, никогда почти не заношу в за­ писную книжку. Записываю главным образом харак­ терные слова и выражения, ибо на интонациях и речевых особенностях строю отчасти характеристику персонажей, оживляю их. Апогей увлечения моего «идиотизмами» языка — рассказ «Сельская идиллия». Имеет для меня большое значение и жест человека. Жестов я, конечно, не записываю, но запоминаю их лучше, чем лицо или одежду. Мне кажется, что иной жест, правильно схваченный и переданный, может объяснить человека ярче длинных психологических описаний. Пишу пером. Карандашом пользуюсь иногда для от­ делки какой-нибудь фразы. Рисунков на рукописи не делаю. Возможности печатать вещи сразу на пишу­ щей машинке искренно не понимаю. Курю при ра­ боте усиленно. Отвыкнуть от этой привычки так и не удалось. Без папиросы не могу писать. Работаю я не в определенные часы. Чувствую, что приятнее всего работать утром. Но мне никогда не случалось быть только профессиональным писателем. Я всегда служил и нес разные общественные нагрузки, 132 количество которых иной раз совсем не оставляло времени для писания. Поэтому привык писать когда угодно — ночью и днем, утром и вечером. За девять лет работы написано мною около сорока печатных листов — значит, за год приходится в сред­ нем листа четыре, на месяц — треть листа. Если включить сюда и то, что отброшено мною, как совер­ шенно негодное, то и тогда вряд ли получится более полулиста в месяц. Особенно мало я писал в период между первой книгой и «Лавровыми», ибо стремился отделаться от некоторой вычурности в стиле. В стиле своем стараюсь выправлять всякую витиеватость, выспренность, излишнюю образность. Мне кажется, что во внешних завитушках и вывертах нельзя искать новизны. Все дело в заложенных в вещь мотивах, в тех движущих ее пружинах, которые, в сущности, являются философией ее. Новый мотив, заложенный в вещь, поворачивает самые простые слова так, что они начинают звучать свежей и острей. Гладкая поверхность вещи оказывается тогда совсем не тра­ диционной. 138 Н.ТИХОНОВ Между прочим, знаете ли Вы, что 1 олеин написал своею а Калеба Уильямса» с конца. Сперва он запутал своего героя в сеть затруднений, а потом для первого тома окружил его известного рода изЪяснением того, что было сделано. Письмо Диккенса к Эдгару По. Чтобы нѳ путаться и скучной паутине анкетных во­ просов, к просто объясню, как собрался материал к рассказу «Бирюзовый полковник» (из книги «Ри­ скованный человек»), как я работал над ним и что из этого вышло. • Тогда я странствовал по Туркмении первый раз. Воздух Копот-Дага, очертания его скал, люди в вы­ соких шайках, пестрые встречи, пешее мое блужда­ ние, занятное и рискованное, любопытные бытовые положения уже таили в себе схему рассказа, требо­ вали изображения их в дисциплинах повествования. Пейзаж тоже не захотел оставаться немым, только увиденным и забытым. Он просился на бумагу. нее началось с черепахи. Рассказ еще не существо­ вал. Был серебряный ручей у подножия гор, и на ртом ручье я со случайным спутником тщетно варил черепаху. Мы вытряхивали из котелка с кипятком Это упорное животное, и оно сейчас же упорно упол­ зало в кусты. Эта черепаха стала первым персонажем ненаписанной вещи. Я долго по мог забыть ее. Я ло­ мал себе голову над тем, почему мы не могли сва­ рить ее. Я занес черепаху в ег.ою записную книжку. Окружающая меня природа была такой буйной и ли­ тературной, что целыми часами я играл в удиви­ 1М тельные названия растений, перебирал их как рифмы для стиха. Ощущение этого разнообразного мира вошло позднее в рассказ без всякого изменения. Я оценил их с первого взгляда и прикинул на весах метафор, тут же записав ту страницу, что нашла себе место через год в «Бирюзовом полковнике». Вот эта страничка: «Что касается растений, то золотой сияющий зве­ робой, рабочие ветви арчи, веселый странствующий актер—звездный фиолетовый касатик, красный тюль­ пан, добряк, страдающий ожирением сердца, белые султаны ковыль, марширующие вразброд, розовый, как щеки на севере, чертополох, одетый в хаки угрюмец астрагал, чиновник джунглей, белый и жел­ тый шиповник, тополь и клен — аяксы ущелья, кру­ шина, розовый горошек, дикий виноград, желтые шарики лука и все бесчисленные безыменные кусты и травы — были свидетелями великой жизни ущелья». Я еще не знал тогда, что они мне пригодятся, но полнокровие их жизни поражало меня. Черепаіа становилась как-то более понятной со своей змеи­ ной головой и сальными глазками рядом с этим причудливым рабочим миром. Наконец я увидел человека, единственного в своем роде. Сухой темнолицый старик, бывший воин рос­ сийского империализма, тряс пустой дождемер над ведром с делениями. Он ждал дождя, а дождя не по­ лагалось по климату вовсе. Я нашел доступ к его суровой и одинокой душе и услышал его чудовищ­ ный проект преобразования ' этой дикой местности в райские сады будущего. И, когда он, повествуя о прошлой жизни, сказал между прочим: в 1917 году мой дом в городе подвергся исторически справедли­ вому нападению вооруженного похода, — я решил: рассказ будет. Молния замысла сразу пронзила за­ писную книжку — в двух местах — джунгли и старик. 136 Черепаха болталась сбоку, но уже где-то в рассказе ей готовилось местечко. Вот мой герой, — сказал я, — займемся этим человеком. Я смотрел на жизнь полковника глазами соглядатая. Я старался за его жестами, словами, привычками, поговорками разгадать ту сложную мысль, что соз­ дала в пустыне такой литературно-условный характер. Я лег спать в его доме. Целую ночь звук пилы вры­ вался в уши и не давал мне уснуть. Утром я про­ снулся от него же. Я выбежал на этот лязгающий звук, думая увидеть безумного старика, пилящего дрова. Я увидел собаку, бегавшую на цепи, которая была привязана к проволоке, я вспомнил киплинговскую крысу, бегавшую по желобу и изображавшую приви­ дение. В записной книжке одной записью стало больше. Полковник в молодости был кавалеристом — я тоже. Мы беседовали о лошадях, как-будто мы имели соб­ ственные конюшни, и я обещал ему прислать своих «Военных коней». Я списал с натуры все, что мог. Уже записи походили на картину экспрессиониста, где местами в холст было вставлено бутылочное стекло или блестела свинцовая бумажка. Записи пре­ вращались в регистрацию фактов, и я даже фамилии изменял лениво: Куропаткин становился Фазанчаѳвым, Фирюза— стала Бирюзой. За последним хреб­ том цоселка лежала страна другого цвета — Персия. Полковник был со всех сторон пограничен — он по­ ходил на великую державу — по литературной слож­ ности своего хозяйства и характера. Кроме того, во внешнем мире я неведомо для него становился его представителем. Но как герой он был одинок. Необ­ ходимо было найти ему товарищей. Я вспомнил рассказ жителя средне-азиатского городка о «кукушке», игре в смертельное желание, когда че­ ловека расценивают как птицу, игру, о которой тур­ кестанский спец сказал в свое время: 188 — Не осуждайте кукушку — на ней самой воспита­ лось целое поколение туркестанцев в сознании, что жизнь — копейка и поэтому эти сорванцы и показы­ вали, когда нужно было, чудеса храбрости... Всему свое время... Между нами говоря, эта игра и сейчас не бесследно исчезла из советских стран Востока, но о ней не принято говорить на банкетах или в случайной бе­ седе. Из ясно представленной игры этой вышла сама собой фигура бывшего пограничника. Охотни­ чий рассказ о каменном кабане, стоящем на скале в одном из ущелий Паро-Памнза, слышанный мной случайно, я передал этому моему второму герою и за­ крепил за ним. Теперь я входил в путаницу сюжетных сдвигов. Ревко — фамилия моего боевого товарища. Я дал ее большевику тех мест, говоря языком текущего мо­ мента— выдвиженцу, новому человеку в стране, ко­ торый уравновесил в рассказе слишком авантюрное развитие личности основного героя. Он осаживал его на землю всякий раз, когда бытовая сторона готова была превратиться в приключение. Я вспомнил китайскую вазу в Ташкенте и ее стран­ ную историю, и я соединил ее с жизнью моего пол­ ковника без всякого ведома с его стороны. Собака с цепью, схема старика в виде рассказа, виды КопетДага, черепаха, пограничник, кукушка, не виденный случайный Ревко—все раскачивало мое воображение, но основной точки еще не было. Был мир до его сотворения. И тогда в веселый хаос размышлений на заре, на чудной пепельно-розовой заре (на такой верно Пушкин подсмотрел свою Нереиду), я увидел мертвого барса. Он свешивался с ишака, и крупные капли росы ви­ сели на его коротких блестких полковничьих усах. Этот рассвет и барс решили все. 137 Здесь кончились записи с натуры. Последней сцепы записывать было нечего. Эта сцена была уже фило­ софией джунглей. Необходимо было, остановившись у границы вымысла, развести моих жильцов по углам рассказа и не длить ярмарки впечатлений ради впе­ чатлений. Несколько месяцев ушло на обдумывание сюжета. Я не торопился. Я рассуждал о необходимости существова­ ния той или иной детали, я в душе восточный человек. Торопливость—свойство дьявола. Я представил по­ ступки Бакланова и Ревко так, как-будто они все о себе рассказали мне сами. Я сделал рассказ естественным. Объединив его пла­ ном, я стал передавать это знакомым как вещь, слы­ шанную от других. Когда они не удивлялись ничему, а слушали со вниманием, я увидел, что рассказ со­ зрел для изложения на бумаге. Устный его период кончился. Схема закончилась. Все детали были запи­ саны. Основное решение лежало в старом младенце — полковнике, и оно сдвинулось с мертвой точки, когда я узнал, что он занимается рабкорством. Тогда я дал ему личную жизнь, несколько иную, чем в действи­ тельности, и приступил к рукописи. Я знал, что рассказ, заключающий 90% правды, не будет выглядеть бытовым. У нас сочиняют быт, и со­ чиненное принимается за правду; сейчас невозможно читать очерки о колхозах, ибо это вымысел и очень посредственный, а между тем жизнь в колхозах сей­ час требует самого сугубого литературного внимания, но в литературе ей не везет, потому что каждый набегающий на колхоз литератор в первую голову не наблюдает, а берет готовую свою схему из соб­ ственной головы, где бродит трактор с большой буквы и больше ничего. Все, что я рассказал, в основе есть изложение только бытового факта, но судьба факта в устной или пись188 мепной передаче очень различна. Я утешился, когда в Ташкенте при мне человек с Севера рассказывал, как он плыл 3 недели на лодке по Северным рекам и все 3 недели по сторонам, по берегам стояли леса. Слушатели, уроженцы Туркестана, не бывшие на Севере никогда, смеялись и толкали друг друга под столом — 3 недели и все лесами — хохотали они— —и откуда же взяли столько леса... Они смеялись от души — ну, и врет человек... — Позвольте, — говорил он обиженно, — да там можно плыть месяцами и все будут леса... — Ну, это уже экзотика, — отвечали южане. — Этого не бывает. По­ дите .Вы... Север против Юга никогда не вставал так резко как в этом разговоре. Я знал, что Север так же примет мой рассказ как экзотику — тут делать было нечего. Я написал рассказ в 4 дня. В рассказе потом оказа­ лось, в третьей редакции, 2 печатных листа. Когда я поставил точку, я послал полковнику «Военных коней». Он отвечал немедленно кратким письмом и посылал мне за коней «большое кавалерийское спасибо». Я правил рассказ, трижды переписав сцену кукушки, чтобы убить в ней трудно убиваемую дра­ матичность, четырежды — сцену охоты — очень осто­ рожно рисуя барса, точно я сам барс и хожу на четве­ реньках. Я писал рассказ с середины, потом перешел к концу, начало явилось после всего. Я старался писать просто, и у меня была большая любовь к изобра­ жаемому. Итак рассказ был напечатан. Рецензенты нашли его удовлетворительным. Я радовался, что мое де­ тище, вывезенное из Туркмении, имеет некоторый успех под скудным солнцем Ленинграда. Однажды ко мне зашел человек, вернувшийся из пустыни, моло­ дой и общительный ученый. Он сказал: 180 — Читал Ваше произведение', как же| Откуда вы взяли полковника — не знаю. Выдумка не ахти ка­ кая— а вот ротмистра пограничника с натуры спи­ сали. Все его знают... — Как? — сказал я. — Этого не может быть... Он не существовал. Я его выдумал. — Мой гость захо­ хотал: — Ну, ну ■—выдумали,—а я с ним в Безмеинѳ вер­ блюдов закупал, он еще говорит: когда я мигну — Этих верблюдов не берите, а когда я спичку выну — тут покупайте—зверь серьезный... На колодцах я с ним болтался по пустыне 2 месяца, а вы его выдумали. Говорите, но не мне. Да и Рѳвко живет в Фирюзе. У него огород. Его тоже за свой вымысел выдаете поди. — Позвольте, выходит, я угадал существование этих людей... — Не знаю, не знаю, а только они живут и адреса имеют — можете им написать, а может они Вам на­ пишут. Оскудение фантазии глядело на меня со страниц рассказа. Вот так работа воображения... Слово было за главным героем. О нем доходили до меня беспо­ койные слухи. Рассказ стал известен в этой глуши быстрей, быстрей, чем это полагается даже в наше быстроногое время. Люди стали приходить смотреть на старика, сидевшего в одиночестве и не знавшего, что он описан. Вдруг он прочел в местной газете отрывок рассказа и написал мне письмо, где неумолимо просил позна­ комить его с историей его жизни, рассказанной легкомысленно всему свету. Я послал ему книгу журнала и длинное письмо, где писал, что на свете есть две правды. Правда быта, жизни. Можно описать человека во всех его привыч­ ках, положениях, сохранив фотографическую точ­ 140 ность — раз. Вторая правда — правда художественного восприятия, переходящая в тонкое искусство, если хотите художественной лжи, — претворить быт так, чтобы он вышел из частного случая в общий и много­ временный и многопланный — вот задача писателя. Качающаяся пирамида простого быта уже расщелкала, как орехи, немало писателей, и поэтому я избегаю прогуливаться под ее качающейся тяжестью, избегаю плоскости фотографической ' брони. Я заменил бытовые положения выдуманными. Ника­ ких обидных измышлений я не таил в себе и вовсе о них не думал. Я допустил в рассказ большое коли­ чество человеческой теплоты. И критик и читатель встретили героя его без всякой насмешки и рассма­ тривали его всерьез- Что касается стиля повество­ вания— чем богаты, тем и рады. Я писал ему, что, как он сам видит, рассказ не схо­ дится с биографической правдой, все время удаляясь в сторону вымысла. Воспользовавшись местным материалом, я избежал линии очерка и выполнил свою задачу, выпрямив героев в художественный типаж. В моей передаче жизнь вещей стала значительней, чем в быту. Я укра­ сил природу ущелья больше, чем она того заслужи­ вает. На самом деле Фирюзинская ще9ь совсем не так замечательна, как я ее раскрасил. Мой «возвышающий» все обман казался мне во много раз дороже «низких истин» повседневного быта. Так я писал своему герою, но ответом было холод­ ное молчание, и наша переписка прервалась. Я увидел его весной в этом году, вблизи аула Ба­ гир. Он ехал на узком желтобоком ишаке с портфе­ лем под мышкой в редакцию «Туркменской Искры» с очередной заметкой. Он не узнал меня и проехал мимо, желтолицый и сухой, каким он смотрит со страниц моей книги. Если бы он узнал меня, он 141 поднял бы в атаку своего иніака или, кто зиает, ска­ зал бы неожиданное хитрое восточное приветствие. Я узнал, что он стал мирабом — распределителем воды в Фирюзинскоіі долине и гордится своей рабо­ чей старостью и обязанностями. Я смотрел ему вслед и боялся искушения предска­ зать п новом рассказе продолжение этой долгой и пустынной жизни. Но-я не имею на это права — я прошел мимо и подумал, что где-нибудь в шкафу, под портретом рекламной красавицы дежит мой рас­ сказ, исчерканный узким и воинственным карандашей «Бирюзового полковника». Он проехал молча. Я не остановил его. Зачем? Рассказ был написан и жил помимо уже моей и его воли. Мы уже ничего не смогли бы исправить в его судьбе. А началось все с пустяка, как многое в лите­ ратурной жизни — с черепахи, которая упорно не хотела вариться... 142 АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ Только в двух случаях я задолго готовился к работе: роман «Петр 1» был задуман еще в конце 1916 года, и предварительно написаны — повесть «День Петра» и пьеса «На дыбе». Роману «Восемнадцатый год» предшествовала полуторогодовалая подготовка по соби­ ранию книжных, рукописных и устных материалов. С годами я более внимательно и осторожно отношусь к началу работы. Прежде бывали такие случаи, что садился к столу, как человек, готовящийся быть загипнотизированным. Вот — перо, бумага, папироса, чашка кофе, и — что накатит... Иногда накатывало, иногда не накатывало, после третьей странички начиналось рисование рожиц, и — зловещие мысли: а не поступить ли куда-нибудь на службу?.. Происходило это вот почему: в писателе должны действовать одновременно мыслитель, художник и критик. Одной из этих ипостасей недостаточно. Мыслитель—активен, мужественен, он знает — «для чего», он видит цель и ставит вехи. Художник — эмоционален, женственен, он весь в том—«как» сделать, он идет по вехам, ему нужны рамки, — иначе он растечется, расплывется, он — «глуповат», прости господи... Критик должен быть умнее мыслителя и талантливее художника, но он не творец и он не активен, он — беспощаден. Разумеется, крупное произведение должно создаваться всеми тремя элементами. Отсюда — необходимость подготовки. Нетерпеливость нужно сдерживать. Но не всегда это удается. Иной раз (особенно в прежние года) понадеешься на «диктовку», — когда сам не знаешь, почему приходят образы и мысли (каждый писатель знает эт’у «диктовку»), — и увлеченный чем-то мель­ кнувшим— кидаешься писать... Рассказ написан, как148 будто бы вышло здорово... Но я утверждаю, что будь тут предварительная подготовка, — то есть: обдумать и так и этак, собрать материал книжный или устный, да посоветоваться с «критиком»: а может быть все это бросить и — начать совсем по другому, — получилось бы во сто раз здоровее. Торопливость — вредная штука. Сколько напрасно выплеснуто страсти на бумажные листы. Мелькнула книжка, нашумела и канула в безвременье, — лишь оттого, что в ней все торопливо, не продумано, не сработано. А холодный Меримѳ сияет, не тускнея. На второй вопрос анкеты я отчасти уже ответил, — я пользуюсь всяким материалом: от специальных книг (физика, астрономия, геохимия) до анекдотов. Когда писал «Гиперболоид инженера Гарина» (старый знакомый, Оленин, рассказал мне действительную историю постройки такого двойного гиперболоида; инженер, сделавший это открытие, погиб в 1918 году в Сибири), — пришлось ознакомиться с новейшими теориями молекулярной физики. Много помог мне академик П. П. Лазарев. Много лет я веду записные книжки, но записываю мало, главным образом — фразы. Раньше записывал пейзажи, случаи, которые наблюдал и пр., но это мне ни разу не пригодилось : память (подсознательная) хранит все, нужно ее только разбудить. Но фразы, словечки записывать необхо­ димо. Иногда от одной фразы рождается тип. • Часто ли прототипом действующих лиц являются для меня существующие люди? Нет, никогда. Лишь —какаянибудь поразительная черта, лишь особенно яркая фраза, лишь отчетливая реакция на обыкновенные явления. Тогда от этой особенности и яркости (живого чело­ века) начинается выдумка моего действующего лица. Я загораюсь, почувствовав в человеке типичное... 444 К слову et выдумка в (я обращаюсь к читателям) не нужно относиться как к чему-то мало серьезному, например, так: это списано с жизни, значит — правда, а это выдумано, значит — «литература»... Конечно, бывает выдумка, целиком остающаяся на совести у писателя, но есть выдумка, открывающая глаза на типичное явление жизни. Ведь аРѳвизор» —сплошная, почти невероятная выдумка, но городничие и Хле­ стаковы до сих пор раскланиваются с нами в трамваях. Именно так нужно работать в области выдумки: собирать по частям, по кусочкам тип и типичное. Собирая, примеряешь на себе, ищешь в себе то героя, то смертного убийцу, энтузиаста, ревнивую женщину, плута или мещанина... Здесь напрашивается весьма пикантный вопрос: почему почти у всех писателей отрицательные типы ярче положительных? Негодяй, бездельник какой-нибудь точно живой лезет со страниц книги, а благородный и возвышенный пер­ сонаж разговаривает пыльными монологами, и никак отчетливо не разглядеть его лица. Ведь вы же на себе его примеряли?... Думаю, что психическая организация писателя такова, что способный превращаться и актерствовать, любящий пеструю суету, он утрачивает в себе негнущийся сверхмужской, стальной стержень, свойственный герою, высоко положительному персонажу, он с тру­ дом надевает на себя эту ледяную маску, глядящую пощады не знающими глазами поверх суеты — на вы­ сокую цель... Писателю удобнее маски попроще, по­ чуднее, иную вытащил прямо из грязи, напялил и, смотришь, все аплодируют... От человеческой сла­ бости,— вот ответ на ваш вопрос. И отсюда вывод: Знай цену аплодисментам, не уставая работай над собой, от суеты быта — к холодным вершинам, от уродствующей маски к Че ловеку-герою... • ю 145 Вопрос о начальном импульсе к работе — крайне любопытный, но, мне кажется, не имеющий практи­ ческого (учебного) значения. Для каждого произве­ дения различный импульс. Нужно сознаться, — будь я матерьяльно обеспеченным человеком (а я таким никогда не был), — я написал бы, наверно, значительно меньше и продукция моя была бы, наверно, хуже. Начало почти всегда происходит под матерьяльным давлением (авансы, контракты, обещания и пр.) Лишь начав — увлекаешься. «Детство Никиты» на­ писано оттого, что я обещал маленькому издателю для журнальчика детский рассказик. Начал — и будто раскрылось окно в далекое прошлое со всем очаро­ ванием, нежной грустью и острыми восприятиями природы, какие бывают в детстве. Первый том «Хож­ дения по мукам» начат под сильным моральным давле­ нием. Я жил тогда под Парижем (19 год) и этой работой хотел оправдать свое бездействие, это был социальный инстинкт человека, живущего во время революции: бездействие равно преступлению. В романе «Восемнадцатый год» руководил инстинкт худож­ ника,— оформить, привести в порядок, оживотворить огромное еще дымящееся прошлое. (Но так же и контракт с «Новым миром» и сердитые письма По­ лонского). Каждый писатель — конденсатор времени. Время летит со скоростью света (быть может время и есть скорость света). То, что мы называем про­ странством или бытием, — есть наше восприятие вре­ мени. Мы, живущие мгновение на земле, хотим как можно дольше продлить это мгновение, развернуть еі'о в перспективу пережитого, — это наша память. Память останавливает время, создает Историю. Если бы мы могли так развить память, чтобы все ощущения оставляли след на ней — мы жили бы вечность. Искусство выполняет работу памяти: оно выбирает из потока времени наиболее яркое, волнующее, значи­ 146 тельное и запечатлевает его в кристаллах книг. Но искусство идет дальше. Оно стремится развернуть перспективу не только позади, но и впереди жизйи, силится увлечь в будущее. В особенности характерно это для нашего времени. Весь пафос — в будущем. Перед искусством труднейшие задачи: проникать в туманную завесу грядущего и, приподнимая ее, показывать вероятное, безусловное, волнующее с той же силой, как прошлый или настоящий миг. • Говоря о предварительной продуманности работы, я не хотел, чтобы поняли, будто я советую писать по составленному плану. Я никогда не составляю плана. Если составлю, то с первых страниц начну писать не то, что в плане. План для меня лишь руководящая идея, вехи, по которым двигаются дей­ ствующие лица. План, как заранее проработанное архитектоническое сооружение, разбитый на части, главы, детали и пр.,— бессмысленная затея, и я не верю тем, кто утверждает, что работают по плану. Леонид Андреев рассказывал мне, что составляет такого рода планы, задумывая пьесу, — все входы и выходы, все мелочи продуманы и ясны. И он, дей­ ствительно, «выносив», писал пьесу в четыре-пять ночей, и пьеса выходила мертвая, не верная, не­ нужная... Писать роман, повесть (крупное произведение) — значит жить вместе с вашими персонажами. Их выду­ мываешь, но они должны ожить, и, оживая, они часто желают поступать не так, как вам хотелось бы. Вы начинаете следить за их поступками, подталкивать их в сторону ^главной линии, страдать вместе с ними, рости, а иногда и срываться в бездну вместе с со­ зданным призраком... (Помню,—когда я описывал смерть генерала в романе «Две жизни», теперь — 147 «Чудаки», — песколько дней ходил разбитый, будто и вправду пережил смерть). Такой роман — органи­ ческий, это искусство. Здесь уже положитесь на себя,— маленький вы человек и людишки в романе малень­ кие. Трудная вещь искусство. Романом вы держите экзамен на Человека. С театром обстоит несколько иначе. В театре время условно. Широчайшая картина жизни должна уло­ житься в дна часа чтения. Здесь необходимо чрезвы­ чайно работать фантазией. Должны быть точно известны пачало и финал, отчетливо представлены — узел интриги, взаимодействия действующих лиц и судьба того лица (или группы лиц), которое является носителем темы спектакля. В пьесе не может быть колебаний, недомолвок, половинчатых характеристик. Все персонажи должны быть в психологическом дви­ жении. Пьеса—это целый мир, проглатываемый одним глотком. • В •работе я переживаю три периода: начало — обычно трудно, опасно. (В молодости я с гораздо большим легкомыслием садился к столу). Когда почувствуешь, что ритм найден и фразы пошли «самотеком» — чув­ ство радости, успокоения, жажды к работе. — Затем, где-то близ середины, наступает утомление, поне­ многу все начинает казаться фальшивым, вздорным,— словам, со всех концов — заело, застопорило. Тут нужна выдержка : преодолеть отвращение к работе, пересмотреть, продумать, найти ошибки... Но не бросать — никогда! Иногда введешь какое-то новое лицо, и все освежится, оживет... Перевалив через Эти подводные камни, чувствуешь снова подъем, идешь к концу... Часто конец произведения наступает раньше, чем задуман, он наступает во мне самом, и фактическое окончание начинает казаться ненужным, 148 лишним...Но эго неверное чувство... Здесь нужно призвать на помощь, и мыслителя и критика, — все силы... Хорош тот конец, когда читатель, окончив книгу, раскрывает ее на первой странице и начи­ нает сначала... Конец — труднейшая из задач. Почти столь же трудно — назвать книгу. • В приложенной здесь анкете не имеется основного вопроса: о языке. По-вашему,— что это такое? До­ садный материал ? Мало опознанная стихия, в ко горой порою тонешь с головой? Или область неисчерпан­ ной красоты? Что вы считаете хорошим языком? Что такое стиль? Во время работы кто кого ведет,— язык вас или вы насилуете язык? И дальше: каким языком пользуетесь: органическим, народным? Или книжным, литературным? Конечно, отвечая на эти вопросы, нужно написать книгу. Но я постараюсь кратко рассказать историю моего отношения к . русскому языку. В 1909 году я начал первые прозаические опыты. Чрезвычайно смущало одно обстоятельство: я никак не мог понять, какая из форм данной фразы наилучшая. От символистов (в то время они были на «командных высотах») я знал, что каждой мысли соответствует одна единственная форма фразы. Задача: найти ее. Но язык мне представлялся студенистой массой, не желающей застывать в тот самый кристалл един­ ственной фразы. Первый опыт, рассказ «Архип» (про конокрада), до­ ставил мне немало огорчений,— я переписывал его пять раз, меняя расстановки слов и фраз, заменяя одни слова другими. Но прочности текста так и не получилось: можно было без ущерба еще раз все перечеркать. Тем летом в Коктебеле я услышал пере­ воды (Макса Волошина) рассказов Анри де Геньѳ. 148 Меня поразила четкость образов: я физически видел их. Язык Ренье (в этих рассказцу), скупой и точный, уверенно рисовал четкий контур, слегка его подкра­ шивая. Разумеется, я немедленно кинулся подражать. Это послужило отличной школой: я стал учиться видеть, то есть — галлюцинировать. Впоследствии я развил в себе эту способность до такой яркости, что часто, вспоминая, путал бывшее и выдуманное. Все же язык оставался загадочной и непокоренной стихией. Рисовать еще мало. В повествовании нужно уметь изображать движение — внешнее и внутреннее (психологию), писать диалог. Как быть с глаголами? И Здесь я снова погружался в студенистую стихию. Оставалось одно: цепляться за образцы. Я был воспитан на Тургеневе. Больше всего любил Гоголя. Мостик для меня к этим далеким высотам переки­ дывал Алексей Ремизов. Недочеты я скрывал под стилизацией (18-ый век). Все это было очень мило, покуда я занимался рас­ копками прошлого. (Романы ^Чудаки» и «Хромой барин», повести «Под старыми липами»). Но настал день, когда я с трепетом почувствовал: нужно жить в современности. Последующие два года были очень тяжелыми для меня. Я писал все хуже, все ненужнее,— беспомощно барахтался в дикой стихии русского языка. (Из этого периода почти ничего не вошло в собрание сочинений). Война раскрыла огромные темы, но у меня было плохое орудие, чтобы проникнуть в их глубину, и вот почему две трети написанного во время войны так же не вошло в мои сочинения. Этим закончился первый период моей писатель­ ской жизни. Я работал ощупью. У меня всегда было очень критическое отношение к самому себе, но я начинал приходить в отчаяние: я не могу идти вперед. В конце шестнадцатого года покойный историк, В. В. Каллаш, узнав о моих планах писать ISO о Петре 1, снабдил меня книгой: это были собранные профессором Новомбергскип пыточные записи сем­ надцатого века, — так называемые дела «Слова и Дела»...И вдруг моя утлая лодчонка выплыла из непроницаемого тумана на сияющую гладь. Я увидел, почувствовал,— осязал: русский язык. Дьяки и подьячие московской Руси искусно записы­ вали показания, их задачей было сжато и точно, сохраняя все особенности речи пытаемого, передать его рассказ- Задача в своем роде литературная. И здесь я видел во всей чистоте русский язык, но испорченный ни мертвой церковно-славянской фор­ мой, ни усилиями превратить его в переводную (с польского, с немецкого, с французского) ложно литературную речь. Это был язык, на котором гово­ рили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал. (За исключением гениального Слова о полку Игореве). Почему так случилось? Мне кажется, — от великого, всеобъемлющего, многосотлетнего хамства. Россия была страной рабов, — начиная от кабального холопа, кончая первым боярином. Каждый (за исклю­ чением последнего) сзади — господин, спереди — раб. Потому язык книжный, язык господский, стремился как можно дальше уйти от подлого, народного,— изощриться в церковном тяжеловесно казенном вели­ колепии. Наверно, боярам казалось, что, читая книгу или разговаривая по книжному, они беседуют как ангелы на византийских небесах. Но разве эта традиция не прокатилась через весь восемнадцатый и девятнадцатый века до наших дней? Вглядитесь в газетный язык, — нет-нет да и мелькнет отблеск этого высокомерия... В судебных (пыточных) актах — язык дела, там не гнушались «подлой» речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь. Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто 161 нарочно созданный для великого искусства. Увле­ ченный открытыми сокровищами, я решился произ­ вести опыт и написал рассказ «Навождениѳ». Я был потрясен легкостью, с какою язык укладывался в кристаллические формы. Рассказ этот я читал во время путешествия с вечерами художественного чте­ ния по городам (осенью 18 года) и рукопись потерял. Спустя два месяца, издавая в Одессе книжку разсказов, я от слова до слова, до запятой (пропустив только.одно место в несколько строк) вспомнил его наизусть... Это язык — примитив, основа народной речи, в нем легко вскрываются его законы. Обогащая его совре­ менным словарем, получаешь удивительное, гибкое и тончайшее орудие дв ойного действия (как у всякого языка, очищенного от мертвых и не свой­ ственных ему форм), — он воплощает художественную мысль и, воплощая, возбуждает ее. Пушкин учился не только у московских просвирен, он изучал историю пугачевского бунта, то есть как раз подобного рода акты, и не они ли способствовали созданию русской прозы? (Да простят меня пушкинисты!). О двойном действии языка знают все. Я хочу сказать только вот что (из своей практики) : ни на мгновение нельзя терять напряжение языка. Иной раз по слабости душевной напишешь такое-то место приблизительно, — оно скучно, фразы лежат непрозревшие, мертвые, но мысль выражена, беды как-будто нет? Черкайте без сожаления это место, добивайтесь какою угодно ценой, чтобы оно запело и засверкало, иначе все дальнейшее в вас самом начнет угасать от этой гангрены. Я всегда руковожусь чувством приязни и неприязни к бегущим строчкам. Скука — вернейший опреде­ литель нѳхудожественности. Покуда предыдущее не сделано, я не могу идти дальше. Отсюда метод работы: 112 я не пишу черновиков, не могу заставить себя набро­ сать, скажем, рассказ вчерне и затем отделать его, — работа опротивет, соскучусь, брошу. То, что написано, — уже почти готово (исключая мелочей, длиннот, неудачно найденных слов). Так работать — лучше всего на пишущей машине. Рукописный текст всегда неясен (неразборчивость почерка, инди­ видуальность его, малое, — сравнительно с печат­ ным,— количество слов на странице), все это ме­ шает каждую минуту отрешаться от себя, взглядывать критически, как на чужое, на свою работу. Когда фраза слишком сложная, или когда они толпятся, забегая вперед, — набрасываю их пером. Мне никогда не удавалось набросать от руки больше трех, четырех страниц, — сейчас же тянет взглянуть на это в пе­ чатном виде, — на машинке. Возвращаюсь к языку. Речь порождается жестом (суммой внутренних и внешних движений). Ритм и словарь языка есть функция жеста. Многие считают язык Тургенева классическим. Я не разделяю этого взгляда. Тургенев — превосходный рассказчик, тонкий и умный собеседник. (Иногда сдается, что он думает по-французски). И всюду, в описаниях и в голосах его персонажей, я чувствую язык его жестов. Он подносит мне красивую фразу о предметах вместо самих предметов. Но я хочу, чтобы был язык жестов не рассказчика, а изображаемого. Пример: степь, закат, грязная до­ рога. Едут — счастливый, несчастный и пьяный. Три восприятия, значит — три описания совершенно раз­ личных по словарю, по ритмике, по размеру. Вот задача : объективизировать жест. Пусть предметы го­ ворят сами за себя. Пусть вы, читатель, глядите не моими глазами на дорогу и трех людей, а идете по ней и с пьяным, и со счастливым, и с несчастным. Это можно сделать только работая * над языком 163 примитивом, но не над языком, уже проведенным через жест автора, не над языком, который двести лет подвергался этим манипуляциям. Как я работаю над языком? Я стараюсь увидеть нужный мне предмет (вещь, человека, животное). Вещь я определяю по признаку, характеризующему ее отли­ чительное бытие среди окружающих вещей (пример: в изящной комнате стоит крашеный стул. Я не стану описывать ни его формы, ни материала, — определю только: «крашеный»). В человеке я стараюсь увидеть жест, характеризующий его душевное состояние, и жест этот подсказывает мне глагол, чтобы дать движение, вскрывающее психологию. Если одного движения не достаточно для характеристики — ищу наиболее замечательную особенность (скажем — руку, прядь волос, нос, глаза и тому подобное) и, выделяя на первый план эту часть человека определением (по примеру «крашеного стула») — даю ее опять-таки в движении, то есть вторым глаголом детализирую и усиливаю впечатление от первого глагола. Я всегда ищу движения, чтобы мои персонажи сами говорили о себе языком жестов. Моя задача — создать мир и впустить туда читателя, а там уже он сам будет общаться с персонажами не моими словами, а теми не написанными, не слышимыми, которые сам поймет из языка жестов. Стиль. Я его понимаю так: соответствие между ритмикой фразы и ее внутренним жестом. Работать над стилем — значит, во-первых, сознательно ощу­ щать это соответствие, затем—уточнять определения и глаголы, затем беспощадно выбрасывать все лишнее: ни одного звука «для красоты». Одно прила­ гательное лучше двух, если можно выбросить наречие и союз — выбрасывайте. Отсеивайте весь мусор, сдирайте всю тусклость с кристаллического ядра. Не бойтесь, что іфраза холодна, — она сверкает. 154 Какая расстановка слов дает фразе наибольшую эмо­ циональную силу? Предположим, что скупость и точность уже соблюдены. Ближайшее слово (считаю слева направо), поставленное под главное ритмическое ударение фразы, должно быть именно тем понятием, во имя которого вы создаете данную фразу. Оно должно дать п е р в ы й рефлекс. Например: «искажен­ ное лицо было покрыто бледностью«. Здесь суще­ ственно то, что — искаженное лицо. «Бледностью покрыто было искаженное лицо». Здесь существенно,— бледность. Существительное в этой фразе не несет никакого рефлекса, так как само собой подразуме­ вается, поэтому «лицо» ритмически само перескаки­ вает во втором варьянте фразы на последнее место, в первом же занимает второе место только потому, что если бы поставить его в конце, то есть: «иска­ женное покрыто было бледностью лицо», то ритми­ ческое ударение упадает не на «искаженное», а на «бледностью» («искаженное покрыто было», — стано­ вится ритмическим трамплином — вместо эмоциональ­ ного образа), и вы не достигаете цели. Место вспо­ могательного глагола «было» зависит уже только от ритмики. • Если любопытно знать, какие ощущения у меня связаны с окончанием работы, отвечу: пустота, как от утраченной любви, возвращение к будням, к вздорному времяпрепровождению, и, конечно, — неко­ торое удовлетворение, что сделана работа. Удовле­ творение небольшое, так как уже двадцать раз мысленно ее окончил. • Вот еще один общий вопрос: во время работы я, как и большинство писателей, произношу фразы вслух. 1&б Те, кто не делают этого, пусть делают. Стыдно перед домашними бывает только первое время,—домашние привыкают. Думаю, что произнесение фраз вслух составляет существенную часть работы и весьма деликатную. Можно произносить их так, что все ошибки будут завуалированы вашим завыванием, а можно так, что именно ошибки-то явственно и за­ фальшивят, как пробкой по стеклу. Все в том — чьим голосом произносятся фразы, — своим, авторским, притворно благородным, сдобренным самодовольством (а оно неизбежно), или голосом персонажей, в ко­ торых вы (через жесты, галлюцинации) переселяетесь и одновременно слушаете их сторонним ухом (критик). Большая наука—завывать, гримасничать, разговари­ вать с призраками и бегать по рабочей комнате. • Техника письма: я уже говорил, что набрасываю пером и сейчас же стукаю на машинке. К карандашам чувствую отвращение. Люблю письменные принад­ лежности— самопишущие перья, хорошую бумагу. Ах, писчебумажные магазины во Франции!Фантазия отказывается представить все эти вздорные и милые мелочи. Пограничники пусть так и знают,—поеду за границу под килем парохода привезу контрабан­ дой мешок с писчебумажными принадлежностями. • Паппрос во время работы не курю, — не люблю дуреть от табаку, не люблю много дыму. Курю трубку, которая постоянно гаснет, но доставляет еще мало изученное удовольствие. Кофе — для легкого возбуж­ дения. Нет кофе, — чай, но это хуже. • Меняю ли текст при последующих изданиях? Да. Сколько изданий — столько и текстов. Некоторые 168 романы («Чудаки», «Хромой барин») по три раза пере­ писывал заново. Брошу переделывать, когда дело пойдет под гору, йо — покуда вижу ошибки, значит еще росту. Затем последнее (в порядке совета) — о желудке’ Степан Петрович Яремич говорит: чистите ваш желудок. Он так же любит повторять: Лермонтов погиб оттого, что не чистил желудка. Это парадокс, но покопайтесь-ка в причинах вашего дурного настроения, головной боли, минут черного пессимизма и пр. — желудок. Вы сели к столу, в голове смесь ваты с простоквашей, щурясь — курите, перо выводит на полях какой-то рисуночек,— топорик, ромбики, завитушечки. Чистите ваш желудок! Два раза в месяц вы схватываете грипп, — сидите дома, сморкаетесь, шаркаете туфлями. Грипп — что может быть хуже!? Вы мнительны к тому же... Но попробуйте чистить желудок. Вам нет времени заниматься физкультурой (лыжи, теннис, лодка, охота), вам кажется, что дей­ ствительно нет времени, и вы даже сожалеете об этом. Вздор! Вычистите желудок — и время сразу найдется... 167 ЮРИЙ ТЫНЯНОВ .............. а если покрыто штукатуркой, попробуйте верхний слой содрать стилем (ото такая скульптурная лопаточка, есть деревянные, есть и стальные). Лекции по палеографии. 1 Всего труднее заставить человека поверить в факт, факт его существования. Не то, чтобы он не чувствовал, что существует: он чувствует свое дыханье, свое тепло, иногда и чужое, он носит свое тело, в нем проходят мысли, он работает,—вещь рождается у него под руками. Но на сколько верст в окружности существует он, на сколько лет? Смотря кто. Есть диаметр сознания. Интерес к прошлому одновременен с интересом к будущему. Человек из записной книжки Чехова взглянул в окно на похороны: Вот ты умер, тебя хоронить несут, а я завтракать пойду. Этот человек, конечно, может сказать и о будущем: вот ты не родился еще, у тебя нет фамилии, а я сейчас завтракать пойду. 2 Я думаю, что три четверти людей, так или иначе образованных, до сих пор обходятся тем фактом, что солнце движется вокруг земли. Все, или по крайней мере многие, учили в школе, что земля движется вокруг солнца, но из этого знания до сих пор както ничего и не получилось. Знание — знанием, а сознание — сознанием: средний интеллигент ходит, честно говоря, с сознанием того, что солнце всходит и заходит. Ему нечего делать с таким громоздким и совсем неочевидным фактом, что земля движется. 168 Человек живет в чужих улицах, в городах, построен­ ных дедами, притом чужими дедами. В Чехии есть целый город, который живет в гостях у XIV * века: все сохранилось. Трубы не дымят, печи в исправности,—квартира алхимика при двореКарла IV *. Современная старуха, которая показывает рту квар­ тиру и варит в алхимическом котле картошку, вряд ли живет в XX веке: платье XX века, голос XIX, квар­ тира ХІѴ *-го, сама — никакого. 3 Человек живет не только в чужом доме, в доме чужих дедов, но и в чужом языке. Сколько слов и выра­ жений человек не понимает. Он знает, и все же — не понимает. Вот он сидит и читает газету: после того как Бонкур пошел в каноссу к Бриану. Каносса. — Он пошел в рту Каноссу. — Каносса — рто замок, в 18 километрах к Ю-В от Реджо, в Апеннинах, он стоит на горе.... — Ах, так там должно быть очень тепло. — В Каноссу скрылась вдова императора Лотара, Аделаида, преследуемая исканиями Беренгара П-го, она звала на помощь императора Оттона, предлагая ему руку--Сама предлагала? Постойте, когда рто было? Кто рто такой Беренгар II-й? Я и первого не знаю. — Это было в X веке. — В X веке! Чорт возьми! Но при чем здесь Бонкур? — В Каноссу бежал папа Григорий Ѵ *11, принимая защиту владелицы замка маркграфини Матильды... — Ах, вот как, и папа. Эт° в котором же веке? — Это было в XI веке. Сюда холодною зимою прибыл император Генрих IV *, чтобы выпросить прощение у папы и, простояв 3 дня у ворот в одеянии кающе­ гося, пал затем к ногам папы и... — Пал? To-есть как рто пал? На самом деле упал, что ли? 1Б9 — Да, вроде того, что на самом деле упал. Впрочем я и сам не совсем точно... И решительно никто не может в это поверить. Про­ стоял три дня у ворот, и еще в одеянии... босиком, что ли... Я где-то в театре, кажется, такую поста­ новку видел. И не видал. Невозможно поверить в этого Генриха IV *. И старый историк тряс маленьким клочком бумаги: — Счет — счет гостиницы, в которой стоял Генрих в Каноссе: постель — столько-то, вино — столько-то... Хлеб — столько-то. Вы слышите? Вино! Он пил вино! Все представляли себе вино. Он стоял в гостинице. Представляли гостиницу. В факт верили. Он не аал, он стоял в гостинице н пил вино, Каносса была, Каносса была сделкой, факт вошел в сознание. 4 Прохладный вечер спускался над древними Афинами когда молодой Каллимах... Ах, не спускался этот вечер. Потому что вечер не спускается — ни разу в жизни не видел я, как вечер спускается. Становится темнее: на юге, например, темнота падает внезапно, наваливается грудью; но кто первый открыл, что вечер спускается? Откуда спускается? Читатель читает. Во-первых, — коротко и устало реги­ стрирует он, — я знаю, как темнеет, ничего при этом не спускается. Во-вторых, — еще короче отмечает он, — в древних Афинах может и спускалось. В то время может это и было так. Ничего неизвестно. В то время все могло быть. Даже может быть ничего не было в то время. Древние Афины не . существуют, более того: они никогда не существовали. Если же молодой Каллимах 160 ходил по Афинам, — Афины в то время и не могли быть древними. Древние Афины дважды уничтожены одной фразой. 5 А может и не уничтожены, может отныне древние Афины навсегда будут у человека тем городом, в котором вечер спускается, именно спускается, в особенности если человек прочтет это в детстве. Такая например странная история произошла у меня с Иваном Грозным. Об Иване Грозном я узнал 8-ми лет по замечательной книжке сытинского издания Удалой Атаман Ермак Тимофеевич и его верный есаул Иван Кольцо. Я бы с радостью перечел эту книжку, и хочу искать ее по примете: на обороте обложки был желтый подсолнух в красной ленте. Опрични­ ков я любил, там были такие песенки: — эх, ух,— а на обложке розовый молодец в шапочке с зало­ мом. Сапожки были лаковые, похожие на музы­ кальные инструменты и были лучше, чем сапожки асмоловского мужика. (Т. ѳ. мужика, изображенного на коробке асмоловского табаку). Молодец отплясывал, сапожки иі'рали. Еще в университете, когда я проходил Ивана Гроз­ ного, появлялась у меня вся компания: есаул Иван Кольцо, шапочка с заломом, сапожки с игрой, и гро­ мадный подсолнух в красной ленте. 6 ...итак, счет гостиницы, документ непарадный, доку­ мент о хлебе и вине. Есть документы парадные, и они врут как люди. У меня нет никакого пиэтета к «документу вообще)). Человек сослан за вольнодумство на Кавказ и про­ должает числиться в Нижнем Новгороде, в Тенгинском полку. Не верьте, дойдите до границы документа, il 161 продырявьте его. И не полагайтесь на историков, обрабатывающих материал, пересказывающих его. Когда я работал над «Смертью Вазир-Мухтара», меня поразила история Самсон-Хана. История эта была разработана исследователем почтенным, много пора­ ботавшим над историей императорского периода на Кавказе — Адольфом Петровичем Берже. Самсон-Хан, солдат-дезертир русской армии, начальник персидской гвардии, у Берже ведет себя как дворянин, случайно поступивший на службу к иностранному правитель­ ству: во время русско-персидской кампании он отка­ зывается участвовать в войне и уѳжаѳт из Тавриза. Русский батальон дезертиров против русской армии не выступает. Я решительно ничего не мог сделать с этой конфетной историей. И не пробовал. У меня не было под рукой никаких документов, опровергающих Берже, и все-таки я не мог писать вместе с Берже. Мне почему-то представлялся все время какой-то попечитель учебного округа эпохи Александра III, где-то, в какойто гимназии уверяющий гимназистов, что «даже закоЁѳнелыѳ преступники, и те, почувствовав раскаяние...» іахадѳран в ханском халате, убивший свою жену, как-то хмурился и не соглашался на свои горячие национальные чувства. Начальник гвардии не может отказаться от военных действий. И как персы поз­ волили бы этому своему генералу пить кофе и шербет, когда их били? Разве из недоверия? Но батальон дезертиров, эти дезертиры, многажды битые и про­ гнанные сквозь строй—и ненавидящие строй, который их обидел, так-таки «не пожелали», «отказались» и т. д.? Нет. И, сознательно, но имея документов, опровергающих Берже, я написал об участии Самсона и его солдат в битвах с русскими войсками и не чув­ ствовал угрызений совести. А потом, уже после того как напечатал это, роясь в каких-то второстепенных материалах, наткнулся на краткую записку генерала 162 (кажется, Красовского), в которой тот требовал под­ моги, потому что на левом фланге наседают на него русские изменники. А насчет того, что Самсон уезжал из Тавриза во время войны, этот факт подтвердился. Но уехал он из Тавриза — в ставку персидского главнокомандующего Аббаса Мирзы. И уже значительно позже после 1837 года, когда капитану Альбрандту удалось наконец вывести из Персии дезертиров, в парадных докладах могли писать, что «даже нераскаянные злодеи» и проч. 7 Там, где кончается документ, там я начинаю. Представление о том, что вся жизнь документи­ рована— ни на чем не основано: бывают годы без документов. Кроме того есть такие документы: реги­ стрируется состояние здоровья жены и детей, а сам человек отсутствует. И потом сам человек — сколько он скрывает, как иногда похожи его письма на торопливые отписки! Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более главное. Ну, и приходится заняться его делами и договаривать за него, приходится обходиться самыми малыми документами. Важные вещи проявляются иногда в мимолетных и не очень внушительных формах. Даже большие движения — чем они сначала проявляются на поверхности? Там, на глубине, меня­ ются отношения, а на поверхности — рябь или даже — все как было. Если вы вошли в жизнь вашего героя, вашего чело­ века, вы можете иногда о многом догадаться сами. Если бы вам довелось с ним встретиться, мог бы произойти такой разговор: -Ну, Это совсем, кажется, не так было. Вы напутали. — Но ведь вот ваше письмо об этом. —Да, в самом деле. Как странно! 163 А вот относительно того, на чем вы не настаиваете, что вы выдумали, может случиться, что человек тряхнет головой и неожиданно пробормочет: — Да, вспоминаю. Ведь много времени прошло. 8 Я чувствую угрызения совести, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашел за документ или не дошел до него, за его неимением. Я, например, знаю, что в своем романе о Грибоедове пропустил между прочим без внимания одну фамилию; это фамилия молочного брата Александра Сергеевича Грибоедова, его служителя Александра Дмитриевича Грибова. Их странная дружба повела в результате к тому, что один стал каким-то дополнением другого в романе. Но на деле я недоволен тем, что не учел фамилии Александра Дмитриевича. Фамилия Грибов до странности напоминает фамилию Грибоедова. У аристократии существовал обычай метить своих незаконных сыновей фамилиями: фамилия отца иска­ жалась — она либо переворачивалась задом наперед (таким сыном и вместе перевертнем Шубина был Ни буш), либо отсекался слог, обычно начальный (так, Бецкой был сыном князя Тру-бѳцкого, Пнин сыном князя Рѳ-пнина, Мянцов (Менцов тож) сыном Ру-мянцова). Насчет Грибова дело это неизвестное, документов нет, папенька Александра Сергеевича, Сергей Иваныч, нам неизвестен ни с этой стороны ни с какой другой, известен только чин его; кормилица Грибоедова никого (кроме, может, именно Сергея Иваныча) не интересовала. Документов нет, но мне жаль, что я сам не додумался до них. Я знал о фамилиях нату­ ральных сыновей аристократии, даже замечал, что 164 Грибов что-то очень похоже на І'рибоедова, но эти знания не столкнулись, и «документ» не был создан. (Указал мне Борис Васильевич Казанский). Брат, услужающий брату, брат Грибоедова, лакей с усеченной фамилией, с которым посланник и поэт дружит, а иногда его и порет, — эх, жалко мне, что я ждал документа. 9 Насчет жены Булгарина и Грибоедова документов нет. Есть намек у Пушкина о Фаддее Булгарине: Что ж он в семье своей почтенной? Он?... Он в Мещанской дворянин. Мещанская была неблагополучная улица: на ней помещались веселые дома. Есть еще мелочи, но ничего существенного. Но тон какой-то, самая дружба такая. И много времени после того как я написал роман я просматривал замечательный альбом художникакаррикатуриста Н. Степанова. Альбом этот (нигде, к сожалению, не воспроизведенный) — шаг за шагом изображает жизнь и деятельность Фаддея. Розовый, маленький, с обнаженными веками, стоит он перед своей женой (которую пощадил каррикатурист.) Он смотрит на портрет. На портрете резкое, сухое лицо (обведенное, — для приличия? — черным мазком бакенов). Под рисунком подпись: «Вот портрет моего усопшего друга! — Он боготворил жену мою как собственную свою и был настоящим отцом детей моих»... А на другом рисунке Фаддей представлен со всей своей семьей. Склерозная розовая пышка катится впереди всех. За ним жена. Позади, и как-то особо, худо­ щавый, черноволосый юноша в шинели и треуголке. Он нарисовин с очевидным намерением напомнить о Грибоедове, красивый, осанка аристократична. 166 Я не порадовался, потому что ведь я не думал о детях: как невесело быть сыном Грибоедова и носить всю жизнь фамилию Булгарина. Все это, разумеется, мелочи. Но я должен быть уве­ ренным, что знаю людей. В споре Катенина с Пуш­ киным по поводу «Моцарта и Сальери», что нельзя так, здорово живешь, обвинять исторического чело­ века в убийстве, я на стороне Катенина. 10 Я люблю шаршавые, недоделанные, недоконченные вещи. Я уважаю шаршавых, недоделанных неудач­ ников, бормотателей, за которых нужно договаривать. Я люблю провинциалов, в которых неуклюже пла­ стуется история и которые поэтому резки на пово­ ротах. Есть тихие бунты, спрятанные в ящик на 100 и на 200 лет. При сломке, сносе, перестройке ящик находят, крышку срывают. — А, — говорят, — вот он какой! Некрасивый. — Друг, назови меня по имени. 11 Странное для меня обстоятельство в моей работе: я сначала всегда уверен, что напишу очень мало, потом оказывается, что написал много. Первая моя книга по договору должна была равняться шести печатным листам, а написал 20. Начиная роман о Гри­ боедове, я опять подумал, что напишу листов 6, и даже заключил такое условие с журналом, а вышло больше двадцати. Но теперь, когда я хочу написать маленькую вещь, я знаю, как это делается. Я пишу ее в маленьком блокноте. Нет большого листа без линий, похожего на ледяной каток, по которому вы можете шататься справа налево и как угодно, — есть узкоколейка блокнота. Так мне удалось написать небольшой рассказ. 166 12 Буду откровенным: когда садишься за белый лист, не знаешь, что выйдет. Большая неопределенность, серо кругом, куда пойдет? Вдруг я разучился писать, и все разбрелось, все вывалилось из рук? Начинается: люди начинают умничать, заикаться и говорить приблизительными словами, которые лежат тут же, на столе, не дальше пепельницы. А надо было путешествовать, пройти сквозь стену, выйти на улицу, за город. Скоро начнутся описания природы (ужас!). Ну, чтож. Это не у меня серый период неуверенности, это у моих героев (потому что у всех людей и во всех состояниях он бывает. Кстати, потом все это можно будет вычеркнуть). Эт0 мои герои, люди злятся, топчутся, не знают, на что решиться. Про­ странство романа вышло из моего повиновения. Сдаюсь: сегодня утром, такого-то числа, я временно потерял власть и не имею права дергать и утомлять людей (не совсем бумажных, даже может совсем не бу­ мажных). Я становлюсь рядом с людьми романа. Пусть, в самом деле, человек ходит так, как может и считает нужным. Пусть он сам изворачивается. Через час работы по старой дружбе они возвращают мне власть. 13 Все идет, все налажено, — мелочь портит все. Мелочь, неловкость, — не все объясняется. Какие-то еще, повидимому, необнаруженные черты, которые даже не гармонируют с тем, что описано и на что потра­ чено много времени. Очень приятно было бы отка­ заться от этого дела, — так все слажено. В конце концов, это ведь только беллетристика. Э> какого чорта, пускай не гармонирует! Этот человек жил и имеет право на нецельный характер. Характеры, кроме того, меняются. И вот я не отказываюсь. Я не могу отказаться от лишних черт, мне не нужно черных и 167 белых, мне нужно объяснить самому себе, почему это сделалось так, а не иначе. 14 Нельзя сказать, чтоб я любил образцовый порядок при работе, — порядок на столе, в частности. Мне нужна стратегическая линия, а не голый стол с аккуратно разложенными листками и раскрытыми книжками, готовыми для употребления Я должен вспомнить справку, которая нужна, добыть ее мышечным усилием, растолкать книги, перетряхнуть листки и тетради, с тихой яростью переползти к полкам, — и только тогда становится ясно, что рта справка не нужна. По пути к ней, ища ее, непременно натолкнешься на окно, на улицу, на мысль, гораздо более важпую, чем вся-то эта справка. 15 Начало приходит обычно на улице — фразой, не фразой, словесной походкой. 16 Нужен пункт, лежащий вне, для того, чтобы проверять то, что пишешь. Это странное признание. Нужен умный завиток ковра или шкап бычьей внешности, зашедший в комнату из другого измерения, попавший сюда из другого геологического пласта. Он нужен как свидетель, как оценщик, как метроном. Он — неясное присутствие собеседника, читателя. Он крепкий, рыжий, не жалуется, молчит, посматривает на меня. У него есть свои качества, которые я уважаю. И я не уважаю качеств знакомого, застрявшего в комнате, когда я работаю, по вежливости или на­ вязчивости и старающегося не шуметь и не смотреть на меня. Пишут, как любят, — без свидетелей. 16В НОИСТ. ФЕДИН Вряд ли всегда приемы писательского труда схожи между собою, применительно к тому или иному рас­ сказу или двум разным романам. Вывести «среднее арифметическое», говоря о своей работе «вообще» — значит допустить заведомую неточность там, где целесообразной могла бы быть только точность. Идя по этому пути, легко не заметить, как раздви­ нулись рамки темы до пресловутого «взгляда и не­ что», и ничего не стоит впасть в юмористику. Недавно на вопрос, «как я пишу роман» мне при­ шлось отвечать берлинскому журналу «Quersch­ nitt ». Я подробно остановился на качественных преимуще­ ствах ализариновых чернил дрезденской фирмы Леонарди перед чернилами Гюнтера Вагнера в Ганно­ вере. Германский кино-актер Бернгардт Гѳтцке, прочтя мою статью, с примерным глубокомыслием начал говорить мне о том, какой капризной воспри­ имчивостью обладает душа художника, если ничтож­ ные внешние обстоятельства (подумать только — чернила!) могут оказать влияние на его деятель­ ность. Клянусь честью, мне надо было разъяснять недораз­ умение! И я вовсе не хочу умалять остроумие куль­ турного и тонкого Гетцкѳ. Он мог объяснить исто­ рию с чернилами хотя бы детской наивностью славянской души по сравнению с огрубелой «взрос­ лой» душою цивилизованного европейца. Но я очень доволен, что в конце статьи, охраняя труд начина­ ющих немецких писателей, сообщил об уничтожении своего первого романа, несмотря на то, что он был написан великолепными чернилами Леонарди... 18В Более или менее ценные выводы из рассказов писа­ телей о своей работе можно сделать тогда, когда такие рассказы построены на воспоминании о кон­ кретном опыте, когда они представляют собою своего рода отчет писателя о последовательных приемах решения известной литературно - производственной задачи. И если мои слова не должны быть поняты как обещание написать подобный отчет, то пусть они послужат толчком к работе в этом напра­ влении писателей, литературное мастерство кото­ рых поучительно для всех, кто желает и мо­ жет овладеть трудным искусством художественного письма. Я попробую с возможной точностью ответить на некоторые вопросы, поставленные сборником, при­ влекая факты из опыта работы над отдельными произведениями, по мере значения того или другого факта для данного ответа. • Самое трудное для меня — работа над словом. Чем руковожусь я, предпочитая одно слово другому? Вопервых, слово должно с наибольшей точностью опре­ делять мысль. Во-вторых, оно должно быть музы­ кально-выразительно. В-третьих, должно иметь размер, требуемый ритмической конструкцией фразы. Труд­ ность работы состоит в одновременном учете этих трех основных требований. К ним надо прибавить два других, не менее сложных: в авторской речи надо избегать частых повторений одного и того же слова и нельзя употреблять изношенных, вульгар­ ных, мнимо-красивых слов. У меня существует ис­ писанный словарь пегодных для работы, запрещенных слов (например, такой категории, как «нега», «сла­ дострастие», «лира»). В работе своей я не преследую целей «словотворчества», в том смысле, какой при­ 170 дан этому выражению футуризмом. Борьба за новое слово для меня заключается в постоянном обновле­ нии фразы путем бесчисленных сочетаний тех самых «обыкновенных», «некрасивых» слов, которые усвоены нашей живой речью и литературой. Таким образом, любое слово из «запрещенного словаря», вплоть до «сладострастия», может себе найти прекрасное упо­ требление в авторской речи. Необыкновенно трудна борьба со всякого рода сло­ весной красивостью. За время своей литературной работы я наделал множество ошибок и думаю, что наделаю их еще немало. Замечательно, что начина­ ющих литераторов больше всего привлекают словес­ ные побрякушки. Но горе тому из нас, кто «соблаз­ нит единого из малых сих»: мы должны мужественно признать свои неудачи и открыто смеяться над чу­ даками, которые пропагандируют их как перлы со­ здания. Плодом увлечения моего словесными аллите­ рациями были две-три фразы в романе «Города и годы» (между прочим: «Петербург шелушился же­ лезной шелухой...»). Это дало повод нескольким кри­ тикам подсчитывать одинаковые согласные в десятке абзацев романа и делать поощряющие выводы о стиле романа на основании своей статистики. Допускаю, что такой метод исследования имеет известное зна­ чение (хотя, признаться, он напомнил мне Великих Академиков из свифтовской Лапуты). Но если на секунду предположить, что вся писательская работа делается сознательно, то в абзацах, послуживших объектом статистического обследования, я не погре­ шил никакими аллитеративными намерениями. И было бы лучше, если бы, натолкнувшись на явную алли­ терацию, критика сказала: вот здесь писатель обна­ ружил свою стилистическую неустойчивость, здесь он поддался обольщению книжной красивости, здесь ему изменил вкус. 171 К несчастью, вкус изменяет коварно, словно испод­ тишка. Когда бьешься над удалением рифм, изго­ няешь ассонансы (неисчислимое множество суще­ ствительных с окончанием «ание», «ение», тьма причастий с окончанием «ущий», «ющий», «авший», і'лагольныѳ формы одного времени и лица и т. д.), когда прислушиваешься к тому, как звучит фраза, в этот момент память подсказывает словечко, чрез­ вычайно подходящее ритмически. И вот оно пред­ почтено другому, часто — в ущерб ясности речи, в ущерб точности смысла. Особенности ритмиче­ ского задания в повести «Анна Тимофѳвна» при­ вели к засорению ее излишними словами, взятыми ради соблюдения размера. Это не значит, что теперь я не ставлю себе ритмических задач. Нет, но я го­ ворю об искусе, пройденном мною, о трудности работы над словом. Соблазн красивости очень велик. Ведь существуют целые школы «ритмической прозы» «орнаментализма» и прочее, школы, давшие искус­ ству художественной прозы очень много ценного. Они возникли, конечно, не из соблазна красивости. Но, возникнув, дали превосходное обоснование вся­ ким увлечениям словесною игрою, и большинство писателей моего поколения переболело этою литера­ турною корью. У меня корь имела, кажется, невоз­ можную в медицине, возвратную форму. Сравни­ тельно легко я болел ею в первоначальный период своей литературной школы и как-будто вылечился к моменту работы над «Садом». Но уже через год, попав в самое пекло тогдашней молодой литературы, опять заразился, и по первой моей книге легко су­ дить, как протекала болезнь — жар любви к образ­ ной речи, ритмический озноб, легкий бред сказом («Пустырь»). Разновидные осложнения болезни сказались и на ро­ мане «Города и годы», но, как-будто, здесь я уже 172 выхожу из возраста, подверженного детским болез­ ням. Во всяком случае, работа над словесной тканью этого романа протекала в условиях тех основных требований, которые я ставлю себе сейчас, с акцен­ том на первом из них — слово должно точно выра­ жать мысль — и с постоянным учетом всех других. Роль слова в художественном произведении, как я понимаю ее теперь, становилась мне ясной поне­ многу. Думаю, что в «Братьях» она выполняется лучше, чем в «Трансваале», в «Старике» значительно лучше, чем в «Братьях». Сказанное касается работы над авторской речью. Как я работаю над языком героев? Сложнее всего обстоит дело с языком людей интеллигентского круга, ограниченным условностями книжной речи. Легче улавливать особенности языка крестьянина, ремесленника, торговца, игру и оттенки уличного слова. Часто случайная фраза, к месту сказанная поговорка вызывают в представлении законченный человеческий характер. Но об этом ниже. Я записы­ ваю счастливое слово на клочке бумаги, две, три родственных записи дают возможность, по аналогии, составить известный фразеологический набор, кото­ рый и служит затем основой речевых оборотов ка­ кого-нибудь персонажа. Кстати, до сих пор не могу приучить себя вести записную книжку, п стол мой во время письма засыпан бумажонками, точно снегом. • Я читаю молча, но мысленно произношу каждое слово точно так, как произносил бы его, читая вслух. При этом я отчетливо слышу малейшую инто­ нацию непроизносимой речи, как еели бы слушал чтеца. То же самое происходит со мною во время письма: я прежде всего слышу, что пишу. Поэтому я не в состоянии перейти к последующей фразе, не 178 закончив предыдущей так, чтобы она но раздражала меня своей неслаженностью. Написав страницу, две, я перечитываю их заново, удаляю лишние фразы и слова, заменяю одни другими. Иногда это проис­ ходит десятки раз, так что, в конце концов, я запо­ минаю текст наизусть. Перед началом работы я читаю написанное ранее, ввожу себя в ритмический строй рассказа и послушно следую ему. По окончании ра­ боты или, если она обширна, — части ее, я всегда прочитываю написанное нескольким слушателям и делаю последние исправления. Тогда единственный экземпляр моего черновика готов. На переписанном экземпляре рукописи исправлений очень немного, а на гранках корректуры их почти нет. Когда работа кончена, я теряю к ней интерес. Текст переиздаваемых книг заботит меня ровно настолько, чтобы он не был искажен по сравнению с первым изданием. Свои старые произведения я люблю не больше, чем мать любит приемных детей. Мне всегда кажется, что самое главное и самое хорошее делается мною в данный момент, а к прошлому возвращаться нет охоты. Ни с чем я не могу сравнить опустошения, испы­ тываемого по окончании работы, особенно — боль­ шой. Когда приближаешься к концу, думаешь, что он будет довольством, освобождением, радостью. Но поставил точку — и тебя охватила апатия, смешанная почти с каким-то страхом, словно померк свет. Я объясняю это тем, что в воображении повесть давным давно и много раз окончена (мне финальная глава всегда известна, если не с начала работы, то с середины), радость, которую приносит завершенный труд, как-будтох уже пережита, и только тягостное физическое и душевное изнурение дает себя знать. • 174 Летом 1919 года, под Сызранью, я осматривал фру ктовые сады, довольно захиревшие после войны с чехо­ словаками. Сторож, сопровождавший меня, сказал, между прочим, вспоминая о старых «хозявах»: «уехали—словно все с собой взяли». Я спросил: «Ну, а как же с новыми «хозявами»? Он ответил: «Вона в кирпичном сарае ни одного кирпича не осталось, в собаку нечем бросить». Пока я доехал на лошади до города, у меня был готов рассказ «Сад». Как я сказал, часто одно слово дает толчок к воз­ никновению образа. Ряд второстепенных персонажей в «Городах и годах» обязан моей памяти, сохранив­ шей характерные для войны немецкие сентенции, которые просто переводились мною на русский. Но гораздо чаще импульсом к работе служат зри­ тельные восприятия, так же как в большинстве слу­ чаев на впечатлениях видимого строится образ. Возвращаясь в 1918 году из плена, я встретил в эше­ лоне мужика, с беспокойной ревностью оберегавшего свой овчинный полушубок. Дело было в августе или начале сентября, солпце еще усердно грело, и жел­ тая кожа овчины повсюду преследовала меня назой­ ливым ярким пятном. Год спустя л написал рассказ о мужике, убежавшем от революции в германский плен (рассказ был премирован на конкурсе «Роста»). Позже история с полушубком, переработанная, вошла в «Города и годы». Немецкие карусели и сцены игры в тир, где мише­ нями служат бутафорские головы преступников, я действительно наблюдал в Эрлангене, перед самым началом мировой войны. Подобных примеров я мог бы привести десятки. Пример другого ряда. Захудалый и несчастный мужиченко из деревни Ві:титнево, пережидая со мною дождь в лесу, около «самогонного завода», с упоением рассказал мне не176 которые восхитительные приключения из жизни «бедного мельника Сваакера». После этого я начал пристально расспрашивать в деревнях о «Трансваале» и, ни разу не повидав «бедного мельника», написал повесть о характере, соединившем в себе черты Фомы Опискина и Квазимодо. Но то, что произошло вокруг повести, дальнейшая эпопея «бедного мель­ ника», его удивительная судьба в настоящем и мно­ гое прочее заслуживает особого описания, которое я непременно сделаю, как только закончу вторую повесть под названием «Конец Трансвааля». Чудес­ ные рассказы об этом здравствующем человеке про­ должают поступать ко мне, и такой метод работы мне положительно нравится. • Здравствует не только мой «бедный мельник Сваакер». До сих пор перебивается на свете Анна Тимофевна, хотя ей очень трудно. Говорят, она обиде­ лась на меня за то, что я ее похоронил. Человек суеверный, она, конечно, не могла принять писа­ тельского поклепа с необходимой литературной объ­ ективностью. Попрежнему гоняет коров дядя Рямонт, и героиня «Мужиков»—Проска — радует его цвету­ щим внуком. Афанасий Сергеевич Пушкин действи­ тельно скончался, впрочем, естественной смертью и несколько раньше, чем в моей «Наровчатской хро­ нике». Это может подтвердить Алексей Н. Толстой, встречавший его на Волге, примерно в те же годы, когда, в саратовском пассаже, я впервые увидел ожившую пушкинскую шинель и высокий цилиндр. Уже после выхода «Городов и годов» на немецком языке, в своей отчизне и на своем посту, намыливая ладонью щеку какому-нибудь шуцману иль, может быть, члену общества друзей хорового пения, умер парикмахер Пауль Гѳнниг — социал-демократ по пар- 1Т * тийной принадлежности. В последнюю поездку в Гер­ манию я уже не застал его в живых и очень жалел, что мне не удалось поспорить с ним о политике. Я ничего не мог узнать о бельгийском гражданине и музыкальном клоуне месье Перси, так что, пови­ димому, печальная судьба его в моем романе угадана довольно верно. Точно так же я не мог найти ника­ ких следов Курта Вана, но только с горечью узнал в Нюрепберге, что составная часть этого героя — господин народный учитель Кратцер — пал, как гово­ рится, смертью храбрых на французском фронте — anno 1914. Мир твоему праху, дружище, хотя ты и отшатнулся от меня в момент объявления войны... На ртом не исчерпывается список живых или умер­ ших людей, которые послужили прототипом действу­ ющих у меня в романах и повестях персонажей. Увеличивать списка не следует, потому что Анны Тимофевны пуще всего обижаются, когда писатель отступает от правды, то есть делает их вовсе не та­ кими, какими они хотели бы видеть себя на «худо­ жественной» фотографии. Увеличивать список про­ тотипов тем более не имеет смысла, что почти всегда они служат только толчком к созданию вымысла, отправной позицией, тою «печкой», от которой легко начинается танец воображения. Черты несколь­ ких характеров, встреченных в жизни, нередко объ­ единяются в один образ, при чем это происходит не умозрительно, но совершенно естественно, органи­ чески, как сама собою подбирается обстановка какойнибудь комнаты. Так же нередко материалом для повести служит автобиография. По ведь буквально весь жизненный опыт, все наблюдения входят в круг биографии, становятся ею, так что трудно сказать, когда мате­ риал благоприобретен, когда он автобиографичен. 177 Перед началом работы я составляю ее план. Есл пишется рассказ, то на двух, трех листках бумаги я размечаю по главам или частям весь его сюжет. Отдельные эпизоды, коротко записанные, дополняют, иллюстрируют основную разметку. Финальное поло­ жение записывается точно, часто заранее устанавли­ вается окончательная редакция последней фразы. План рассказа во время работы меняется редко, мысленно я вижу рассказ совершенно законченным, знаю его общий размер, объем каждой главы. Весь труд сводится к поискам наилучшего словесного вы­ ражения уже существующих образов. План романа значительно сложнее. Здесь над каждой долей приходится работать как над рассказом, не имеющим, однако, самостоятельного тематического и сюжетного разрешения. Отдельные мотивы, раз­ лично служащие пониманию общей темы, перекли­ каются между собой в разных главах, то исчезая то вновь появляясь. Закрепить их своеобразное движе­ ние—задача плана. Он разрастается в порядочную пачку бумаг и бумажонок. На них я отмечаю все существенное для тематического замысла; множество этапов развития действия — фабульные «узлы»; кри­ вую сюжета. Весь этот костяк медленно обрастает мясом: появляются обрывки диалогов, слова и сло­ вечки, начальные фразы описаний, характеристик, метафоры. Как драматург заботится о том, чтобы каждая картина пьесы была наделена постепенным драматическим ростом и кончалась каким-нибудь сильным заключеньем, точно так же романист строит главы и книги своего романа, никогда не забывая об эффекте «занавеса». Я стараюсь распределять драматическое напряжение с таким расчетом, чтобы подъем чередовался с упадком, высокое с низким, помня, что в живописи нет «плохих» и «хороших» тонов, но все зависит от искусства сочетания и рас­ 179 пределения красок. План романа, в отличие от плана рассказа, часто меняется во время работы. Компози­ ция а Городов» по первоначальному замыслу была иной, чем к середине работы, иной, чем при окон­ чании романа. Процесс письма помогает мне много­ кратно переоценить значение того или другого эпизода и соответственно изменить план. Мысль постоянно бежит на много впереди слова, и план романа живет вместе с жизнью его текста. • К сказанному выше я прибавлю ранее написанную заметку, касающуюся условий подготовительного пе­ риода литературной работы. С весны 1914 года до осени 1918-го мне пришлось жить в Германии. В течение всей войны я имел, таким образом, возможность приглядываться к жизни германского тыла. Я не принимал в ней никакого участия, и те ее стороны, которые для деятельных участников проходили незамеченными, бросались мне в глаза. Года три-четыре подряд я накапливал наблю­ дения, не обобщая их, не думая о том, что из них больше или меньше ценно. У меня набралось мно­ жество газетных вырезсйс, каких-то афишек, теле­ грамм, открытых писем, патриотических воззваний, реклам и антивоенных статеек; Это был недурной па­ ноптикум человеческой глупости и человеческих стра­ даний. Я дополнял его заметками в дневниках, очер­ ками и статьями, которые складывались в ящик стола. В то же время я писал роман. По материалу и теме этот роман был бесконечно далек от моих военных наблюдений, от фактов, волновавших меня повсе­ дневно и громоздившихся в моем столе. Роман «был несозвучен эпохе». Писал я его с увлечением и в спокойной уверенности, что никакой иной писатель­ ской работы в данный момент для меня существо­ 178 вать нѳ может. Роман этот, очень обширный, впо­ следствии я уничтожил: он был плох. Я начал писать в 1910 году, но до 1919-го ничего не напечатал (кроме «мелочей» — в 1913—14 гг.)— отчасти мне это не удавалось, отчасти я сознавал наивную беспомощность своих трудов. Девятилетний период работы был приготовительным классом. В конце 1918 года я вернулся в Россию и прожил в лихорадочной борьбе всем нам памятное трехлетие гражданской войны, голода, нищеты и революцион­ ных побед. Еще более пристально и увлеченно я на­ капливал наблюдения этих лет, что-то записывал, что-то возил в своем вещевом мешке из города в город. Я был тогда газетным работником и с жа­ ром откликался на злободневные темы. Каждый рево­ люционный лозунг десятки раз повторил я пером публициста и фельетониста, а перо писателя все еще с любовью возвращалось к материалу, давно изучен­ ному и жившему только в воображении. Я писал рассказы, ничем не связанные ни с войной, ни с революцией, и был попрежнему спокойно убе­ жден, что хорошо служу своему писательскому делу. Гак к 1922-му году я подготовил первую книгу, вполне «несозвучную эпохе», положив конец работе над материалом, который увлекал меня когда-то, до некоторой степени исчерпав его. И только тут я почувствовал, что другой материал, собиравшийся мною на протяжении всей войны и первых лет революции, созрел во мне настолько, чтобы стать материалом писателя. Под впечатле­ ниями революции забылась европейская война, под впечатлениями новой экономической политики стали забываться годы военного коммунизма, «созвучными эпохе» считались уже другие темы. Но мне—писателю—драгоценнее всего были клочки и обрывки бумаг, собранные когда-то в Германии 190 и сохранившиеся в ящике стола, да торопливые за­ писи, которые я носил с собою в вещевом мешке несколько лет назад. Так я написал новую книгу, «отстававшую от эпохи» (1924 г. «Города и годы»). Понимание «эпохи», как видпо, стало у нас очень нешироким. Писательская работа всегда будет «от­ ставать», если под «эпохой» мы будем разуметь злобу дня. Для того, чтобы материал сложился, сде­ лался пригодным для моей работы — нужен срок. Поездки писателей в совхозы могут принести коекакую пользу совхозам, но никакой — литературе. Это не значит, что писателям не следует ездить в совхозы, не следует изучать жизни. Ездить нужно, изучать совершенно необходимо. Но смешно думать, что тотчас после возвращения писателя из совхоза искусство литературы обогатится книгами, выража­ ющими значение совхозов в современности. Обога­ тится литература о совхозах — дело чрезвычайно жизненное и большое. Но только ЛЕФ мог считать, что это и есть искусство литературы. Я уверен, что все изумительное богатство и много­ образие условий нынешнего дня искусство литера­ туры охватит в сравнительно отдаленном «завтра». Это не мешает искусству быть глубоко современным, потому что корни «сегодня» уходят во «вчера», точно так же, как его ветви тянутся к «завтра». 181 ОЛЬГА ФОРШ Прежде всего я пишу потому, что не писать не могу. Это необходимость. После каждой работы только на короткое время испытываю радостное опустошение, но очень скоро опять прихожу в особого рода беспокойство. Оно отдаленно похоже на неотвратимую потребность найти, во что бы то ни стало, куда-то засунутую и совершенно необходимую вещь. В своей работе наблюдаю три периода. Два первых условно можно назвать а геометрический» и «зритель­ ный» ; третий — рукописный. Первые два состояния очень трудно поддаются анализу, потому что, хотя они и построены на своей особой логике, она отлична от логики общепонятной. Из собственного опыта заключаю — по интенсивности творческой энергии и по остроте впечатлений, — что здесь, вероятно, происходит наибольшая работа в преодолении материала. И потому эту, еще незримую, работу, предваряющую «рукопись», я считаю у себя наиважнейшей. Состоит же она вот в чем: Часть «геометрическая». Из пространства, во что бы то ни стало, хочется и надо выхватить и со всех сторон отчеканить какой-то объем. Это особое, ни с чем, мне сознательно известным, не схожее, чисто волевое усилие продолжается до тех пор, пока явится ощущение, что нужный для работы объем есть. Быть может, вышеописанное состояние не что иное, как подсознательное определение объема будущего романа или повести. Я не знаю, я только наблюдаю. Едва выхваченный мною из пространства объем, уже не расплываясь, станет в твердых гранях, 182 в моей работе начинается период второй — «зри­ тельный». Вероятно, оттого, что из всех искусств мне живопись ближе всего (прежде чем начать писать, мне пришлось пройти рисовальную школу), мне и в литературной работе, как для рисунка, стало необходимым итти только «от общего к частному». А героев своих я не слышу, не осязаю, но прежде всего «вижу». В первых двух стадиях моей работы — «геометри­ ческой» и «зрительной»—я еще не беру в руки пера. Я лишь с неослабным напряжением наблюдаю, как наблюдает зритель сцену, в том объеме или форме, которую выхватила и очертила моя воля, всю предстоящую мне работу. В этой творческой стадии из ничего надо сделать все. В зрительный фокус стягивается весь жизненный запас мысли, эрудиции, чувства и воображения. Записная книжка здесь не помогает, а, напротив того, мешает. Она — атрибут «рукописи». Словом, прежде чем приступить соб­ ственно к писанию романа или повести, мне необхо­ димо их предварительно «просмотреть» до конца. В тех случаях, когда у меня не хватает воображения, и я вещь не досмотрю на воображаемой сцене, я уже знаю, что, сколько ни бейся, художественной убеди­ тельности в тексте не выйдет. Третья часть работы — «рукописная» — ясна сама по себе. Ее уже легко контролировать. Ее задача — довести, возможно ярче, до сведения читателя то, что пока известно только автору. Здесь, мне думается, уместно посоветовать каждому пишущему не только принять к сведению, а каждой фиброй органически запомнить чудесное правило художественного письма, преподанное Флобером Мо­ пассану: возможно меньшим количеством слов, с пре­ дельной яркостью и своеобразием давать характер героя, вещи, пейзажа, событие. 183 Технически это, конечно, очень трудно. Главное условие свежести образа — это опять научиться вос­ принимать как ребенок, как в самый первый раз. Но одновременно с этой детскостью важно и необхо­ димо обладание немалой культурой и вкусом, чтобы делать нужный отбор. Первый импульс к работе дает мне обычно не книга, а живая жизнь и природа. Так два романа под объеди­ няющим заглавием «Современники» пришли мне в голову при созерцании огромного пня, который получился от ровной красивой распилки. На пне очень отчетливо видны были все отложения концен­ трических кругов — так называемых «годичных». Их всех пересекал радиусом от центра пня к его коре «сердцевинный» длинный луч. Изучение этого пня, помню, внезапно помогло мне сформулировать давно необходимую мысль. «Современниками» обычно называют людей одного времени, объединенных вот этими концентрически­ ми — годичными — кругами быта. И вполне безраз­ лично для определения «современником», творит ли кто историю своего века или пребывает в ней просто — по гоголевскому выражению—«суще ст в о ват ел ем», ну, а если расположить современников только по длинному сердцевинному лучу, который от центра, пересекая все годичные круги, упирается в круг последний — круг сегодняшнего дня? Не произойдет ли перекличка в веках с нашим сегодняшним днем истории по признакам, более важным, чем безразборноѳ сосуществование в одних и тех же годах ? Итак графика большого пня подсказала мне установку проблем личных и общественных, намеченных исто5ней до нашего времени, но родственных и нам. *тсюда всплыли соответствующие герои и положения в двух романах. Из них осуществлен пока только 184 первый — о Гоголе и А. Иванове. Тему же общест­ венности, связанной со временем Н. Новикова, я еще не могу досмотреть до конца на моей воображаемой сцене, и потому из периода «зрительного» к «руко­ писному» мне перейти нельзя. Думается мне, что молодым писателям, помимо необходимых записных книжек и иного накопления точных знаний, в интересах чисто художественной стороны работы, необходимо развивать воображение и зрительную память. Они достигаются лучше всего путем «творчества из ничего». 186 А. ЧАПЫГИН Пишу я всегда по ночам от 10 веч. до 3 и 4, иногда 5-ти часов утра. Утром я перечитываю и делаю поправки, ибо утром замечаешь по-иному. Работать утром или днем я не могу — образовалась привычка. Привычка эта появилась давно : работая в мастерских, я жил в рабочих квартирах, где всегда бывало с ве­ чера или по праздникам шумно. Когда все затихало, я садился писать. Приходилось трудно на работе днем, хотелось спать, но все же я продолжал писать по ночам. Если я сел писать, а в комнате мусор, то я не могу работать — должен вымести комнату. Если вечером у меня были гости, и я с ними выпил пива или вина, то ночь пропала — я должен спать. Мысли, правда, от выпивки ярче, воображение рабо­ тает по-особому смело, но вялость и даже какая-то болезненная лень мешают работать. Самое большее, что мне приходилось сделать в веселом настрое­ нии, — это набросать бегло несколько страниц, из которых потом при просмотре оставалось три или четыре строчки. За работой я курю трубку не чаще, чем всегда, иногда отойдя от стола лежу на постели и думаю, чтб писать дальше и как написать ту или иную сцену. Наркотиками никогда не увлекался и не знаю их очарования. Случалось, что та или иная книга меня перед тем как писать очень увлекала, и казалось бы я должен был избрать сюжет, совпадающий хоть немного с прочитанным, а выходит всегда наоборот. Давно когда-то, когда я еще не печатал, читал книгу Г. Сенкевича «Камо грядеши». После увлечения прочитанным я сел писать и на­ писал большой рассказ из жизни петербургских ху­ 186 лиганов, как раз похожий на некоторые из работ Василия Андреева, пишущего теперь. Из жизни ли я беру сюжеты? Да, некоторые рассказы имеют в своем стержне конкретную правду, и рассказы эти именно те, которые относятся к первому периоду моей литературной работы: «Навождѳниѳ», «Зимней ночью», «Одинокая жизнь», «Ванькино детство». По­ вторение сюжета «Навождениѳ» — «Игошка» написан уже в поисках интуитивной правды, т. ѳ. сюжет и краски воображаемые, или проще — так должно быть. Сюжет «Последняя дорога» подслушан был только сон пьяницы - кровельщика — где Петропавловский собор втаскивают в Исаакиевский. Записан был этот сон и брошен, валялся в моих бумагах, мой приятель композитор М. Ф. Гнесин любил рыться и перечи­ тывать мои наброски, он пристал ко мне, чтоб я кончил записанное, развил в рассказ- Конец рассказа, как пьяницы несут гроб жены кровельщика, расска­ зывал столяр, у которого в углу я жил, рассказ «Федька Минога», я как-то раз проходил мимо дома, где молодой длинный парень подвешивал трубу под четвертым этажом, его раскачивало на своей скамейке ветром, а он цеплялся за крючья и трубу ногами. Работая с кровельщиками, я знал жизнь многих их, стал писать, а отдельные сцены взял из своих тет­ радей, где записаны пейзажи, а также случаи. Переделываю я по 6, иногда по 10 раз всю работу, написав — обыкновенно читаю знакомым меньше для того, чтоб поправить сообразно их замечаниям, больше потому, чтоб читая вчитаться и исправить то, что мне самому кажется ошибкой или недоде­ ланным. Щелканье машинки мне метает, я всегда пишу только пером. Перо для меня не безразлично — писать люблю мягким пером, если есть, то медным. Я не люблю писать на заданные темы, и единственный рассказ написан мной по вычитанному из газет 187 описанию «Гости», расстрел лесника в Эстонии — за этот рассказ изъяла царская цензура книжку журнала «Образование», а редактора Острогорского суд приго­ ворил к аресту. Когда я начинал писать первые вещи, то мне было легче написать начало, потом я стал писать охотнее и сильнее конец. Позже, много лет спустя, я пишу, задумав только остов рассказа, не продумывал деталей. Пишу иногда начало, иногда раньше середину и отдельные сцены, потом соединяю, что окажется длинным, то сокращаю. Если я не вижу в своем воображении сцену и не вижу так называемого героя, то дело идет медленно, когда я все вижу, тогда пишу, и работа двигается скоро. Ритмика и музыка мне во время работы безразличны, и если какой-либо навязчивый мотив звучит в моих ушах, то мешает работать. Для меня работа, как сон, — если человек молчит и сидит в комнате, даже спит, я не могу работать. Также — если я переехал в другую комнату, то не менее полгода, пока не привыкну, работать не могу. Живые люди для меня нужны и необходимы, но они не должны быть точной фотографией — иначе работа мне не интересна. Трудно исполнимая задача мне интереснее, чем легкая. Для исторического романа и быта вместе с нужными я читаю и те книги, материал которых мне не нужен, читаю для широты кругозора. К историческим ра­ ботам, чтоб яснее было, делаю иногда рисунки городов, крепостей — так было с «Разиным», я рисовал вид Астрахани по Олеарию, Стрюйсу и другим, а также и Симбирск с Волгой и Свиягой. Рецензии меня мало интересуют. Я потерял большие статьи о моих работах, часто хвалебные, но отзыв критический, исключая отдельных критиков, был всегда таков, что тот, кто хвалит работу, до конца 188 не прочел, и тот, кто ругает, также делает ошибку — и там же. Я ценил и ценю отзывы М. Горького, он делал мне детальные замечания так, как никто из писателей и критиков. Подготовительный период длителен только к истори­ ческим работам, к обычным — короткий, а если период к написанию рассказа затянулся, то часто материал от длительности тускнеет и интерес про­ падает. В окончательной редакции вычеркиваю только отдельные слова. 188 вяч. шишнов У меня, как и у всякого писателя, есть по размеру вещи крупные, средние и мелкие. Рассказы мелкие, шутейные возникают и пишутся двояко. Когда хочется безотчетно смеяться, или, чрез смех, сознательно грустить, рассказ получается живой, веселый, он течет легко как родник. Но бывает необходимость высказаться, а не осмыслить, как ска­ зать. Тогда рассказ переделывается по три, по четыре раза, он становится все суше, мертвенней, хотя, может быть, поверхностно изящней. Словом, после большой затраты сил, рассказ в конце концов уподобляется дистиллированной водичке, не вредной для здоровья, но противной. Импульсом к написанию небольшого рассказа служат факты из газет, подслушанный разговор, далекое воспоминание. Все это, конечно, является лишь воз­ будителем фантазии. Вот, например, «Спектакль в селе Огрызове». В 1920 году я был в Ретенях (Лужского уезда), крестьяне и школьники ставили мою пьесу «Грамотеи». Много было курьезов в самой игре, в процессе постановки, в поведении зритель­ ного зала. Возникла мысль написать на эту тему что-нибудь веселое. Дома, чрез месяц, сел за стол. Припоминалась масса курьезов, делались соответствую­ щие выписки из записных книжек, все это сортиро­ валось, просеивалось чрез сито писательской выручки, и лишь самое пужное, яркое нанизывалось на перо. Крупные рассказы, повести, а иногда и романы точно также возникают чрез возбуждение фантазии какимнибудь слышанным фактом или виденным осколком текущей жизни. Кстати о фантазии. Всем известно, что фантазия или художественная деятельность воображения — 190 родная мать искусства. Нет фантазии, нет и искус­ ства. Фантазия из потока действительных пережи­ ваний, наблюдений, фактов вьет творческий узор вымысла. И этот вымысел под иным пером может оказаться верней, доподлинней живой правды. Но фантазия должна идти об руку с художественной памятью писателя, т. е. такой памятью, которая из всего виденного и слышанного запечатлевает лишь ценное, нужное, то самое, что необходимо для образного мышления, для воссоздания художественных образов, положений, жестов, слов. Обращаюсь, далее, к одной из своих ранних повестей «Страшный кам». Однажды, проездом по Алтаю, я услыхал рассказ о казни местными крестьянами алтайского шамана (кама). Факт казни произошел за 30 лет до моего проезда. Шамана сбросили в реку, его колдовской костюм и бубен сожгли. Кровавым событием этим я заинтересовался. Прожил здесь более недели, наблюдал камлание (культ шаманизма), изучал обста­ новку, быт, собирал сведения об этом факте от достоверных лиц. Дома изучал шаманизм по литера­ туре. Насыщенный достаточными знаниями, расска­ зами, личными впечатлениями сажусь писать. Повесть не сразу становится на ноги. Одни места ярки, другие бледны. Сюжет несколько раз меняется, но и это не спасает положения. Было мясо, пережаренное и впросырь, был сплошной какой-то кисель, аморфная масса, без укрепы, без стержня, без души. Я терялся, не знал, что делать. Материал хорош, а нет навыка овладеть им, поставить все на свои места, осмыслить. Я убавлял одну главу, прибавлял другую, вставлял красивости, яркие словечки, нет, не то. В таких творческих потугах, наконец, возник вопрос: а для чего все это писалось, что этим хотел сказать автор, имел ли он намерение что-нибудь сказать? Вот 1Ѳ1 тут-то мало искушенный в писании автор и хлопнул себя по лбу: «Позвольте, позвольте! Но ведь прежде всего должна быть — идея, а потом и вещь». Вот в том-то и вся сила : во всяком произведении должна быть оплодотворяющая идея, чтоб произве­ дение вознеслось над повседневностью, над быстро­ течным временем и, опережая жизнь, утратило ха­ рактер, хотя может быть и художественного, но простого пересказа факта. Идея есть сказочная живая вода: спрыснешь — и мертвое слово заговорит. Само собою разумеется, что одним из главнейших определяющих моментов чистопробного искусства является философия изящного, т. е. эстетика (о ней написаны целые томы), а также — способность видеть вещи в их сокровенной сущности и умение передавать бумаге то, что видишь, знаешь, ощущаешь. Без этих условий, как и без фантазии, не может быть искус­ ства. Без этих условий — искусственность, сырой быт, не творчество, а сочинительство. • Перехожу к вопросу о том, как писались мною крупные по размеру вещи. Вот «Тайга». Прочитал судебную заметку в сибир­ ской газете о расстреле крестьянами шести бродяг, заподозренных в краже денег у торговца, но впослед­ ствии оказавшихся оклеветанными зря. Сел писать рассказ на эту немудрую тему. Я поставил себе целью изобразить поимку бродяг и казнь их. Только и всего. Это моя первая крупная вещь (пи­ сана в Сибири, в 1913 —15 г.). Никакого плана работы не было. Поэтому, в процессе творчества, я чувствовал себя плывущим по большой реке, куда глаза глядят. Я думал, что эта река есть глав­ нейшая артерия, впадающая прямо в океан. Самый 182 заурядный, каких тысячи, рассказ мой подходил к концу. И вдруг всплыла другая идея, значительно сильнейшая, чем первоначальный замысел. Оказалось, что несущая мою ладью речонка, которую я прини­ мал за главную речищу, есть но более, как маленький приток большой реки, о существовании которой ми­ нуту тому назад я вовсе не подозревал. Такой поворот мысли, похожий на мгновенное озарение, произошел совершенно неожиданно, внезапно, вдруг. Пришлось написанное сжечь и засесть за совершенно новую, более осмысленную работу, в которую первоначальный замысел вошел как фрагмент большого полотна. И я понял, что в процессе творчества какая-нибудь Значительная, всплывшая в подсознании мысль или идея может целиком поглотить идею или мысль, спокойно выдуманную, даже вдвинутую расчетливым умом в рамки писанного плана. Еще раз напоминаю: «Тайга» сработана без плана, а так, вслед за челном, по вольной воле. Но вот работа по-немецки, в рамках строго обдуманного плана. Это мой роман «Угрюмрека», который находится в производстве много лет. Я предвидел, что так долго буду писать его: он психологичен, не современен, поэтому работа над ним часто перебивается новыми темами, с отрывом от романа на год, на два. Предвидя это и наученный опытом беспланового создания «Тайги», я весь роман фиксировал в рамках плана. Сначала выдумал голую краткую схему и положил ее на четырех писанных страницах, затем составил схему глав, затем — более или менее подробное — содержание каждой главы в отдельности. «Вот это идеально»,— думал я.— «В сущности, роман готов, он весь перед глазами, садись, пиши. Ах, какое удобство. Можно писать с на­ чала, можно с середки, или с конца, все равно. Можно, например, сразу взять из плана эскиз XXV главы,— 13 193 там в сжатой форме все: (кто что сказал, куда пошел, кого зарезал), внимательно прочесть и начать Эту самую главу писать. Вот и хорошо. Поэтому и перерывы в год, в два, в десять лет совсем не страшны», — думал я. Но вот что получилось на практике, в работе, ко­ торую я все-таки стал осуществлять не с XXV * главы, и не с конца, а по старинке, с самаго начала. Тут я вновь должен оговориться, — пусть читатель простит меня за мою неопытность в писании статор, — я предва­ рительно обязан кой-что разъяснить. Позвольте просто-на-просто вместо разъяснения процитировать относящийся к нашему вопросу отрывок из 3-ей части романа «Угрюм-река». Здесь автор должен со всею добросовестностью предупредить читателей, что последующие события, несмотря на всю их неожиданность, отнюдь не являются огульным вымыслом. Ведь зачастую жизнь людей идет сама собой, по каким-то, для многих еще не ясным, законам. Точно так же идет своей дорогой, помимо воли автора, и жизнь героев этого романа. Художественное творчество имеет два пути. Путь первый. Автор берет известное ему событие в том виде, в каком оно протекало прел его глазами и почти протокольно, шаг за шагом изображает его на своих страницах. В этом случае, т. е. описывая то, что было в реальной жизни, автор всецело ответствен за судьбу и действия своих героев. Ежели он утверждает обратное, то он, выражаясь мягко, попросту — хитрит. Путь второй. Во сне иль на яву вдруг автору предстанет некая мысль иль бестелесная идея. Она стоит в его уме и сердце, она неотступно требует воплощенья в жизнь, и нет от нее покоя ни днем ни ночью. Допустим, автор не хочет повторять зады, не желает заимствовать у жизни, он чувствует в себе дерзость творить жизнь сам. Тогда из недр его фантазии подымается туманный, лишенный формы хаос. Но в этом хаосе, сокровенное до времени, есть все, чего не было, но быть должно и будет. Затем из хаоса мечты начинают исподволь выявляться люди, вещи и события, начинает твориться жизнь. И вот, хотя не жизнь, но отблеск жизни сотворен. Сначала беспомощные, слабые, похожие на 194 марионетки, герои произведения все больше и больше наби­ раются соками творимой жизни, вот их сердце стало биться полнокровными ударами, им дана сила воли, мысль, душа, они становятся, наконец, близкими, как бы давно знакомыми нам людьми. Тогда удивленный автор отходит в сторону ; он больше не властен распоряжаться судьбою им же создан­ ных героев: они из ничего, из марионеток превратились теперь в живых людей, наделенных свободной волей созидать, вер­ шить свою судьбу. Тут произвольной выдумке автора, писаному роману — точка. Отсюда начинается натуральная жизнь самих героев. Автору же лишь остается наблюдать за чредой проходящих пред его глазами событий и стать их правдивым истолкователем и летописцем. Вот. Т. е. я хочу сказать, что иногда и срмый план летит в тар-тар. Писать-то начинаешь, копечно, по плану. Но когда, примерно, четверть работы сделана, возникают сначала недомолвки, потом и жестокие ссоры автора с героями. Автор сует в нос героя план: — «Полезай сюда, вот в это место,«—а герой упирается, не лезет. Еще один-то ничего, с однимто героем не считаешься, упрячешь его в план, он и сидит, как за решеткой. Однако, мало-по-малу начинают заявлять свой протест и прочие дейст­ вующие лица. Они так пристают, так с тобою спорят, утверждая свое право на независимое существование, что по ночам не спишь, теряешь аппетит, надолго запираешь рукопись в рабочий стол. А все-таки этот спор на большую пользу. Из спора, из столкновения автора с героями летят искры, озаряющие дальнейший путь творимой жизни, родится истина. Всем вышесказанным я в самых грубых чертах хочу установить, что в процессе работы возможны (вернее — неизбежны) конфликты между холодным математическим рассудком автора и сферой истин­ ного творчества. При таких конфликтах внезапно вспыхнувшее умственное озарение указывает автору иной путь, часто в корне отличающийся от пред­ намеренно составленного плана. 195 Впрочем, это заключение, конечно, совершенно субъ­ ективно, спорно. Да я и не собираюсь устанавливать какие-бы то ни было незыблемые правила: в области творческих процессов все темно, гадательно, свое­ образно. Вот и в моем примере с «Угрюм-рекой». Что-нибудь из двух: либо план составлен непродуманно, ложно, т. е. не согласованно с художественной правдой, либо мои предположения о возможности конфликтов между ожившими героями и автором несут в себе некоторую долю истины. » Однако, несмотря на свое скептическое отношение к «плановому творчеству», я все-таки, противореча сам себе, стою за работу с планом. Да это, впрочем, все равно. Была бы до конца проведена идея, была бы сила выразительности в слове и уверенность, что творимая тобою жизнь — есть подлинная жизнь. • В давно известный афоризм — «стиль это — человек», по-моему, следует внести одну существенную поправку. Если форма всегда определяется содер­ жанием, а содержание—это конкретизация в образах той или иной идеи, значит, стиль не есть нечто незыблемое, самодовлеющее: у одного и того же писателя, поскольку он поглощен разными идеями, стиль по необходимости разнообразен. Дальше больше: стиль одного и того же произведения, иногда резко ломается, так как в произведении кроме общей, руко­ водящей идеи, могут быть второстепенные, побочные, определяющие перелом стиля. Поясню примером на моем сибирском рассказе «Черный ч ас». Рассказ начинается так: — Ого-гой!! — закричал вдруг звалась: «О-гой...» 186 тунгус Пиля. И тайга ото­ Осмотрелся кругом: лес, снег, клок седого неба. Вынул изо рта неугасимую: — А-гык ! Резко, четко, словно шаіітан к >шам: — <А-гык.» Пиля любит покричать в тайге: один, скучно. Крикнешь,—ответит, ну значит, двое, не один. Далее идет описание путешествия одинокого Пиля по тайге в поисках счастья, в поисках жены. Вот он находит чум, в нем — красавица Гойля. Пиля женится на Гойле, ее отец-старик уходит. Вдруг в чум заезжает богатый якут, старый Талыман. Он сразу же влюбляется в Гойлю и просит Пиля уступить Гойлю ему, Талымапу. Описание всего этого ведется в холодных медли­ тельных тонах, ленивым, как сама тайга зимой, стилем, местами с нарочитым торможеньем языка. Пиля никак не соглашается отдать любимую Гойлю. Но ведь Талыман «не на вовся» просит Гойлю, а на месяц. Нет, нельзя. Ну, на неделю. Нет. Ну, на день. Нет. -- Ну, на час. — На час? — переспросил Пиля и, упираясь пятками, не­ много отполз от якута. Вновь все смолкло, замерло. Словно застыло все. Даже сахатиныіі жир на сковородке перестал трещать, и языки пламени к земле приникли. — На час ежели — можно, — просто, от всего сердца сказал Пиля. С этого момента сразу все меняется: настроение Пиля, окружение, среда и самый темп рассказа. Пиля впа­ дает в полное отчаянье, ограбленное сердце бьет набат, кровь бурли г, как перегретый кипяток в котле. Но прежде всего бурлит кровь автора, его перо не­ сется по бумаге вскачь: Как затрещит на сковородке жир, как взметнется пламя, и гиканье и песня. И сам Поля пляшет, и Гойля пляшет, 197 и старый Талыман трясет толстым животом. И смех, и слезы, и собачий вой. Вина! Дайте Пиле огненной воды. Еще, еще. Э-ЭХ ! ! Чум пляшет, земля трясется, белый снег под ногами вьюгой вьет. Вей-вей-завивай !... Пуще, пуще... Э-эх ! ! Упал Пиля и хохочет. Схватил Пиля за шиворот собаку, целовать стал. Подполз к деревянной ступе, целовать стал. Плачет и целует, плачет и целует, хохотать стал; он самый сильный, самый богатый. Его жена самая красивая. Две урбахи... Три урбахи! Ха-ха-ха-ха!... На час, корыстно ли... Где Гойля? Где Талыман?!! Стойте ужо... Амиткалле... Амиткалле... А, шайтан, попался? — АгыкИ И словно сохатый в яму — ух! По чуму пьяный Пилин храп пошел. Чрез день (обязательно чрез день, чрез неделю), когда автор (т. е. Пиля) приведет себя в состояние относительного покоя, возвращаются неторопливые строки: «Вот и весна явилась. /Курчат ручьи. Под солнцем журавли плывут. Проснулась тайга, стряхнула белый сон, позеленела. Пиля один. Не встретил весну. Ушла весна и не простилась. Или рассказ «Пятерка» («Пролетарий» — альманах № 2). Он написан обычным для меня, не особенно скучным, не особенно задорным языком. Написан, ровно. Но вот глава — пляска, центральная часть рассказа. Вся эта глава написана стремительным языком, она * инструментована (если позволительно так выразиться) под мотив гармошки: «вот бы, да вот бы, да вот бы, да вот бы». Привожу небольшой кусок этой главы: Началось, рассыпалось, взнялось волной: ударила песня, ударила гармошка вдробь, лес подпрыгнул, чихнул, осатанел, И час и два роют каблуками землю, звяк по земле идет, плещут, вьются сарафаны — ветерочки ходят, — плещут руки, взбрякивают бусы на груди. Грянь-грянь во всю мочь, гармонь, песня бей, гуди во все концы ! 198 А народ на поляне прибывает. Много своих, знакомых, но и не здешних много. Кто таков, кто таков? Девки, бабы глазами съесть его хотят, у парней под сердцем защемило: вот бы, вот бы, вот бы такой костюмчик им и такую га рмонь-тальянку. Как взыграет серый пиджачок на своей тальянке, заголосила тальянка, залилась: «Вот бы, да вот бы, да вот бы, да вот бы!!» Девки, парни на четыре вихря крутят. И, вся в цветистом вихре, в дробном топоте, радостно кричит Наташа гармо­ нисту в сером пиджаке: — Вот бы, вот бы, вот бы фокстрот, пожалуйста, сыграть! • Зачастую мы слышим споры — что главнее: форма илп содержание? Сам для себя я этот вопрос решаю так: Если считать, что один из основных признаков искусства это — свойство заражать читателя или зрителя известным настроением, то с этой точки зрения форма и содержание должны быть уравно­ вешены, слиты воедино. Л хочу сказать, что идейному большому содержанию должна сопутствовать и соответственная * форма. Когда писатель владеет жизненным опытом (без него писатель — не писатель), даром художественного вымысла, способностью наблюдать и по-своему, поособому видеть жизнь, когда он наделен властью над словами, дающей ему силу ставить в произведении все на своп места, тогда, вооруженный всем этим писатель имеет право сильно, веско, заражающе говорить с миллионами людей на протяжении сто­ летий. Идеал, к которому каждый литератор, от гения до бумагомараки-графомана, должен всю жизнь победоносно шествовать иль, спотыкаясь, падая, плестись. Иногда самое нутро произведения, его идея, дух — обязывает писателя к определенному стилистическому приему. 199 Беру свой роман «Ватага». В нем — бандит, анар­ хист Зыков, бывший руководитель партизанского отряда, вначале верный рабоче-крестьянской власти, потом, в силу своей натуры и полного непонимания задач времени, оторвавшийся от нее. Я случайно, от одного очевидца, услыхал в 1923 г. рассказ о разгроме Зыковым сибирского городка Кузнецка, о том, как из 4000 жителей Кузнецка 2000 были зыковской ватагой убиты, обезглавлены, некоторые перепилены на-двое пилой (все это впоследствии подтвердилось). Я хотел на эту тему написать рассказ, изобразив зверское буйство ватаги. В процессе же работы мне пришла мысль, что «зыковщина» и «пугачевщина» — родные сестры, что мужик — каким был при Иване Грозном, царе Петре, Екатерине, таким в своей массе и остался до последнего времени, что царизм за многие сотни лет не пожелал вытащить класс кресть­ ян из полускотской жизни. Словом, мне захотелось обе эпохи — «пугачевщину» и «зыковщину» сблизить, сопоставить, дать читателю возможность сделать соответствующие выводы. Опираясь на это, я взял полу эпическую повество­ вательную форму и весь роман, за недостатком фак­ тических данных, сдвинул с исторического фокуса. Да я и не собирался писать романа исторического, меня интересовала психология масс, лишенных идейного руководительства. II роман «Ватага» начинается так: «Русская сказка, как и всякая сказка, идет к нам из мрака отдаленных веков. Сказка — как ветер. Где родина ветра? Вся земля. Русская же сказка — особая сказка. Породил ее простоватый с краев, но мудрый посередке русский дух., нутро, и главный герой ее — наш русский Иван-дурак. Да не дедова ли сказка и вся Русь-то наша? Может, над­ звездный дед бренчит на досуге в звездные струны, и вот по солнцу, по месяцу, от зари к заре —льется на землю русская сказка-быль. Да, Русь — сказка, красивая, жестокая, страшная». 200 Сам Зыков для меня символ, сборный тип, черная сила, чугунный, темный, с завязанными глазами, богатырь. «Чернобородый чугунный Зыков соскочил с черного, как чорт, коня и бросил понодья страже». «Черный всадник собирается в глубь Алтайских гор». «Стоя на скале, Зыков бросал вниз как ядра чугунные — слова». «Конь скачет, пляшет, из ноздрей дым, из-под копыт пламя». И во всем романе, при установке на реализм пере­ ходящий иногда в натурализм, дана сказочная про­ низь, уводящая «Ватагу» из бытового плана в сферу эпического вымысла. Но в своей основе роман все-таки пригвожден к дей­ ствительности случавшимися на самом деле или верно угаданными фактами. Тем не менее иные кри­ тики, совершенно не поняв автора, пропустили мимо ушей и полусказочную структуру романа (фабульность) и его фактическую сторону. Одни обвиняли автора в неправдоподобной жестокости некоторых изображенных в романе сцен, другие — в слащавости. Умудренный же критик по мою душу еще не приходил. Я люблю оживлять природу, сливать ее в одно с описываемым действием: «В темном густом лесу мрак и страшновато: черти в нем. Но вспыхнул на поляне пламень десяти костров, лесная бородатая трущоба ожила, прокашлялась, задвигала обомше­ лыми ногами, готова в пляс вступить». («Пятерка»). «Месяц потряхивал в небе лысой головой и скалил седые зубы. И его беззвучный древний смех растекался по бегучей воле игривой серебряной тропинкой. А там, за рекой, тем­ ные избы деревеньки подслеповато подмигивали месяцу («Крестики»), «К лампе-молнии подвязан голубок из дранок. Растопырив крылья, он висел на ниточке, он ио любовному поглядывал бисерным глазочком на Варвару, признал ее и самовольно повернулся клювом к ней, будто по живому сказать хотел: «здравствуй, матушка». («Дикольче»'. 201 «и как ста^а Ненила дожиться о бок с Варварой, кровать сердито скорготнула на Ненилу: «А ты куда ?» («Дмкольче»). • Теперь несколько слов о тон, как я строю фразуКогда, по смыслу, необходимо сделать упор на какомнибудь слове, я это слово ставлю дважды, трижды: .. . я вроде как Польша напирает: прет, прет, прет, этакая бабища грудастая». («Диво дивное»). «Сквозь снег чернела виселица и как виселицы - четыре догоравших колокольни. Черные стояли обгорелые дома и до тла сгоревшие развеялись по снегу черным прахом Черные печи грозили небу, как перстом, черными трубами» («Ватага»). «Воздух свеж, стеклянен и стеклянна река, на студеном стеклянном небе вспыхнули бледные точки звезд- И мутно-, белый туман зачинается у померкших берегов. Чрез туман, чрез стеклянную гладь остывших струіі тоскливо маячит на том берегу огонек». («Свежий ветер»). «"Эта фраза, в сущности, не адресовалась никому, эта фраза была обронена в пространство. А в пространстве, как известно, ветерок, и вот понес легким ветер фразу куда надо». («Лайка»). «Он шел рынком, вместо краснощеких теток торговали пель­ менями лайки, вместо галок порхали и полаивали лайки, весь белый свет наполнился лайками, — и заместитель сказал своей кухарке: — «Лай-ка мне, Агафьюшка, закусить чего нибудь». («Лайка»). Иногда повторность слов и выражений необходима для ритма, музыкальности: Берегись,-дьяволеныши, не попадайся под сапог! А дьяволе­ ныши мягкими комочками меж игривых ног сигают, щелктреск по поляне шел: то один, то другой неувертыш под каблук it — как орех под молотком — щелк-треск». («Пятерка»). Иногда необходима фраза, сжимающая действие в один быстрый удар: Подошла война, и за войной — пых-трах: вздыбил народ — мятеж, огонь и буря». («Ватага»). «Бородулин крякнул, привскочил: трах!—мимо, увернулся, трах! — кто-то на руке повис. 202 — Бей! Кто это! Нож, нож, нож, лови, держи, режьіі А в гору во весь дух летит он, враг, он, окаянный, живой, оборотень, он. («Тайга»). • Все приведенные в статье примеры, чтоб не рыться в десяти томах, я брад наугад. Поэтому они, может быть, и не особенно для меня типичны. Но вот случайно попалась мне такая фраза: «...Теперь же протопопа распротопопили за какие-то про дерзости. После творога да масла теперь коркохлебился он где-то в церковной сторожке из милости». («Падучая»). Я должен за такую фразу сделать себе упрек. Так писать не следует. В погоне за двумя придуманными мною ненужными словечками «распротопопили», «коркохлебился», я утратил простоту и ясность языка. Получился словесный, ни уму ни сердцу не говорящий фокус. Раз коснулось дела слов, то перейдем к словам. • Припоминаю совет первоклассного стилиста Алексея Ремизова. Он говорил мне: каждое даже и малое писаное слово есть условный знак, за которым скры­ вается большая сущность. Поэтому к словам надо относиться чрезвычайно бережно, умеючи. Многое зависит от расстановки во фразе слов. Надо выбирать и расставлять слова так, чтоб в них зажглись фона­ рики, чтоб слова светились. Помню, Ремизову понравилась моя фраза: «Тихо падал снег — гость' небесный». («Краля»). Он находил, что определение снега—«гость не­ бесный»— образно, просто, мягко, верно (в наших широтах снег — гость), что вся фраза легкая, как снег, неторопливая, «тихо падал», ласковая, что в ней все слова на своих местах, попытка изменить поря­ 203 док слов испортит фразу- На первом месте должно стоять слово «тихо», — чтоб подчеркнуть тишайшее, благостное, умиротворяющее состояние природы. Как прелюдия дает ключ к опере, так первое слово фразы дает тон дальнейшему сочетанью слов. Фраза «снег падал тихо, как небесный гость» в данном рассказе «Кра ля» звучала бы как псевдо - художе­ ственная. Таких примеров добротной и фальшивой фразы можно было бы привести из моих рассказов целую охапку. Мы знаем, что язык имеет свои прихоти, свои ка­ призы, что слова выражают идеи, понятия, что соз­ дателем и носителем языка является народ или, точнее, класс. Для обогащения живого языка необходимо общаться с народом — рабочими, крестьянами, и кры­ латые фразы, структуру речи, выражения заносить в записную книжку. Мне в свое время приходилось встречаться в тайге с бродягами, каторжниками и прочим людом. Много слышал от них мудрых слов и фраз. Например: «Бедному умереть легко, стоит только защуриться». Такой золотой фразы вы не найдете ни у Даля, ни в афоризмах Шопенгауэра, эта фраза есть тема для большой книги. Как-то ехали мы с крестьянином по тайге верхами. Крестьянин сказал: «Скоро зима ляжет: лес-то задумы­ ваться стал». Вот где источник драгоценных слов — народ. Или так. Недавно я слышал речи председательницы сельсовета (в Бежецком уезде) крестьянки Груши. Она «президиум» строит из двух русских слов: «придизаум» (так легче запомнить). Тем, кто плохо раз­ бирается в вопросе — кто средняк и кто кулак, она говорит: «ты классовую растерял». В ее речи часто слышится: «мы вплотную идем к сацилизме». Все такие слова ее звучат трогательно-убеждающе, их тоже необходимо складывать в копилку памяти. 204 Надо крепко помнить, что революция сдвинула говор крестьянина и рабочего с мертвой точки. Правда, язык значительно засорился газетной гугней и за­ умным лепетом провинциальных, а подчас и цент­ ровых газетчиков, тем не менее он приобрел широту диапазона, гибкость, иногда литературность. Папример. Пленум в волисполкоме. Зачитывается отчет политпросветчиком. В д. Горки, где работает Груша, при красном уголке 6 кружков: сельско-хозяй­ ственный, рукодельный, драматический, безбожника и др. В другой же деревне только один кружок, санитарный. Пожилой крестьянин, который до рево­ люции рта разинуть не умел, встает и говорит (буквально): «Позвольте спросить, почему это один красный уголок весь в кружках, аж в глазах рябит, а другой, т. е. наш, имеет только один, санитарный, как-будто наша деревня заразная и что всем надо лечиться?» Но возвратимся к вопросу о словах. Длинных, корявых слов употреблять не надо. Когда я читаю где-нибудь такое слово, мне припоминается один «ходаталь по делам», который за бутылку водки с соленым огур­ цом стряпал в кабаках всякие прошения. Он бумагу начинал с начертания громкого титула: «Идапопремногоблагорассмотрительствующемусяже». Шипящих слов тоже по возможности надо избегать. Но умышленные с шипящими звуками аллитерации я допускаю: «Шорохом ширился шопот». («Ватага»). «Веник жихал и шелестел, как шелк». («Спектакль в с. Огрызове»). «Шел человек белым полем, пропал человек. На тысячи верст разметала пурга лохмы,, воет: — Я белая, шальная, я стра-а-шш-шшная.,. Зачем при­ шел? Шел человек белым полем, пропал человек, погиб». («Пурга»). 205 Не надо употреблять таки к слов н выражений, как: 1) «Посочувствовав»—длинно и 4 раза «в». 2) «Под подметку» — два раза «под», лучше скизать «под каблук». 3) «Нетерпеливо ожидали»—надо «ждали», чтобы избежать двух «о» рядом. 4) «В голове заметались вихри» —надо «взметнулись», иначе получается неточность (как «заметались»? мет­ лой, что-ли?). 5) «Забурлили»—лучше «взбурлили». В прозе, как и в поэзии, каждый звук на учете. Ухо должно знать, где нужно написать «через», где — «чрез», где «или», где «иль», где «волнение», где «волненье». Настанет время, когда вдумчивый чита­ тель сумеет оценить все эти мелочи стиля. В конце же концов, заканчивая речь о стиле, хочется сказать, что самый совершенный стиль есть тот, которого читатель не замечает, но тем не менее всецело подпадает под его власть. Эта мысль не моя, не знаю, чья эта мысль. Она кажется мне бесспорно верной. Например. Беру роман Гамсуна «Соки земли». Начинаю читать. Описание идет необычайно медли­ тельно, детализируются все мелочи природы, быта, хочется подстегнуть автора, ускорить темп. Читаете и чувствуете: себя, книгу, автора, жизнь, про которую он тужится рассказать. И нет никакой слитности: вы сами по себе, книга сама по себе, Кнут Гамсун сам по себе. Но вот мало-по-малу Гамсун превращается в колдуна, он постепенно захватывает вас в сеть своего таланта. И с 20-й, с 30-й страницы каким-то волшебством проваливается все: белая, испещренная строками книга, Кнут Гамсун, иронически глядящий на вас из-под пенснэ, и вы сами, как читатель интересного романа. Остается живая жизнь и вы в ней. Да не читателем, не зрителем, а одним из действующих лиц. И, оторвавшись от книги, ложась спать, вы не скажете: «А что-то я завтра 206 прочту в романе?» вы скажете: «А как-то я завтра буду жить и действовать на этом уголке сканди­ навской земли?» Итак, в три-четыре дня, перево­ площенный чарами колдуна-писателя, вы прожи­ ваете многолетнюю трудовую жизнь. А потом, опо­ мнившись, начинаете подтрупивать над собой, что так ловко дали околпачить себя постороннему человеку, начинаете вдумываться в способы его литературных приемов, в стиль. Ищете, и ничего не находите, кроме необычной простоты, искренности автора и гениальности егр. • Вот некоторые примеры опыта и практики из области моей писательской работы, которые я счел нужным привести. Теперь о мелочах. Каждой работе предшествует подготовительный период. Знакомишься с литературой вопроса, роешься в боль­ шом количестве своих записпых книжек. Это строи­ тельный материал: кирпичи, цемент и прочее. Не вредно съездить куда-нибудь на место, поучиться у жизни, восстановить в памяти, что смыло время. Природа, встречи, свежие впечатления — тоже строительный материал: лес на корню, морской песок, бегучая вода в реке, живой словесный бисер. Итак, материала в изобилии. Писатель должен вообразить себя зодчим. Он составляет в уме (или на бумаге) предварительный проект постройки. Затем начинает строить. Иногда, увенчивая здание куполом, зодчий видит, что вся постройка покривилась, рушится. Значит, математи­ ческий расчет поверен, зодчий ошибся, или просто он не зодчий, а мясник из кооперативной лавки. Однако, так или иначе здание с грехом пополам завершено, леса сняты. Важпо снять леса, загоражи­ вающие здание. Во время постройки зодчий не видит, 207 каково оно. Снять леса— значит выждать время, отойти от здания иа полгода прочь и посмотреть. Может оказаться, что предварительный и исполни­ тельный проекты далеко не совпадают. Затем идет штукатурка, внутренняя отделка, устройство рустиков, архитравов, кариатид, словом — завершение словес­ ной изощренности. Не вредно показать это здание, ежели оно просто и понятно, постороннему массо­ вому зрителю (читателю). От такого показа лично я иногда извлекал для себя большую пользу. Когда коллектив, аудитория рассматривает (слушает) твою работу, затаив дыхание, значит все благополучно. И вот, здание ваше весом в восьмушку фунта или фунт — в зависимости от его объема и сорта бумаги, поступает, наконец, в печать. Далее — полоса критики. Иногда критика бывает «молчащая». Это очень плохо. К критике же говорящей (писаной) зодчий должен относиться иронически-благожелательно, с добро­ душной улыбкой. Но бывают случаи, когда с этой стоической позиции зодчий срывается, следствием чего — худоба, кислая отрыжка, лишний седой волос. Изредка попадается критика серьезная, полная откро­ вений, блистательная, умная. Такой критике незазнавшийся писатель всегда рад: она учит, расширяет горизонты, вскрывает тайное, не пером написанное, о чем автор и не помышлял, и этим самым поды­ мает автора в его же собственных глазах. Зодчий (т.-е. я) не любит на страницы своих книг вытаскивать живых людей. Гораздо приятнее выду­ мывать, творить (об этом сказано выше), чем снимать с жизни хотя бы и первоклассные мастерские копии. Худое, да мое. Плохой зодчий (т.-е. я) работает когда попало. Охотнее утром. Ночью весьма редко: он не раз пла­ тился за это жестокой бессонницей и общей вялостью на следующий день. Проводимое за столом время не 208 менее 5-6 часов в сутки. Когда зодчий устанет, бросает работу на месяц, на два. Я считаю себя писателем революционного периода. До революции у меня была «Тайга» и полтора рас­ сказа. Теперь, за 15 лет работы, около 150 листов (из них листов 40 в рукописях, в работе). Пишу всегда пером. В местах ответственных, прежде чем положить фразу на бумагу, тщательно строишь ее в уме. Когда черновик готов, начинаешь со всем тщанием править его. Получается вторая редакция рассказа. Рукопись становится неимоверно грязной, со вставками, подклейками, четырехэтажными по­ правками в поисках нужного слова. Затем рукопись передаешь для переписки на машине. Ошибки сразу выпирают. Большая правка, третья редакция. Тут иногда достается не только стилю, но и общей кон­ цепции рассказа. Вновь машинка. Если рассказ пи­ шешь вчерне месяц, то отделываешь его недели три. Звучность, инструментовку речи я ставлю во главу угла. Работая, автор должен всегда прислушиваться к своему перу. Чрез это иногда проигрываю, но удержаться не могу. Проигрываю так. Вот, например, ландшафт, который нужно изобразить в пространстве и во времени, а главное — изощриться проникнуть в тайники природы, в суть вещей. Тут, по существу, надобен какой-то точный, глубокий, всеобъемлющий язык. С большими потугами, с кряхтеньем этот скупой добротный язык, пожалуй, и найдешь, напишешь. Прочтешь: нет, не то. Нет ритма, музыкальности, какие-то корявые, обыденные фразы... И, сі 'епя сердце, начинаешь портить. Плохо обладать музыка, ьным слухом и не иметь над собой вожжей с кнутом. С окончанием большой работы — странное дело — вместо вздоха облегчения, какая-то досада: тебя ждут еще две такие же работы. Видно, облегченно вздохнем при гробе. 14 200 Основательно переделывать напечатанное при по­ вторных изданиях, грешный человек, не люблю. Развѳ-разве, когда выпирает какой-нибудь абсурд, идиотизм, вопиющая неточность. Поправки сводится к сжатию фраз, к замене одних слов другими. На вопрос: «употребляете ли вы наркотики во время работы и в каком количестве?»—отвечу гак: не морфинист, не кокаинист, мало и редко пыощий, умеренно курящий. 210 В. ШКЛОВСКИЙ Пишу я уже пятнадцать лет и, конечно, за это время очень изменил способ писать и манеру писать. Пятнадцать лет тому назад мне было очень трудно, я не знал, как начать. Когда писал, казалось, что все уже сказано. Отдельные куски не сливались. Примеры становились самодовлеющими. В сущности говоря, так и осталось. Писать и сейчас трудно, хотя по-иному. Кусок развертывается у меня в самостоятельное произведение, а главное, как в кинематографии, все же стоит между кусками. Изобретение вообще и изобретение литературного стиля в частности часто рождается от закрепления случайной мутации, случайного изменения. Это про­ исходит приблизительно так, как при выводе новой породы скота. Есть обще-литературный стиль, который тоже возник­ ни основе индивидуального стиля. Этим стилем писать нельзя, он не способен шевелить вещи, и сам он не существует, не ощущается. В Маяковском есть закрепление ошибок против силіабо-тонического стиха. В Гоголе закреплен диалект, полуязык. Гоголь писал, вероятно, не на том языке, на котором думал, и украинская стихия возмущала стиль. Так дальние звезды возмущают эллипсисы планет. Пишу я, исходя из факта. Стараюсь не изменять факт. Стараюсь сводить факты, далеко друг от друга стоящие. Кажется, это из Ломоносова о сближении далековатых идей или из Анатоля Франса о сталки­ вании лбами эпитетов. Так вот я стараюсь столкнуть не эпитеты,а вещи, факты. Сейчас я начинаю писать иначе,особенно когда работаю над научной книгой. Но и тогда я начинаю с материала. 211 Вопрос, почему меня нс интересует до тех нор, пока для меня не решен вопрос, что и как. Я не ищу причин неизвестного. Начинаю я работу с чтения. Читаю, стараясь не напрягаться. Вернее, не стараюсь запоминать. Напря­ жение, настороженность, она мешает. Нужно читать спокойно, глядя в глаза книге. Читаю я много. Как видите, у меня вместо статьи о том, как я пишу, получается статья о том, как я работаю. Продолжаю. Читаю не напрягаясь. Делаю цветные закладки или закладки разной ширины. На закладках, на случай, если они выпадут, хорошо бы делать, а я не делаю, обозначение страницы. Потом просматриваю за­ кладки. Делаю отметки. Машинистка, та самая, которая печатает статью сейчас, перепечатывает куски, с обо­ значением страницы. Эти куски, их бывает очень много, я развешиваю по стенам комнаты. К сожалению, комната у меня маленькая, и мне тесно. Очень важно понять цитату, повернуть ее, связать с другими. Висят куски на стенке долго. Я группирую их, вешаю рядом, потом появляются соединительные переходы, написанные очень коротко. Потом я пишу на листах бумаги конспект глав довольно подробный и рас­ кладываю соединенные куски по папкам. Начинаю диктовать работу, обозначая вставки номе­ рами. Вся рта техника чрезвычайно ускоряет темп работы. И делать ее легче. Я как-будто работаю на пишущей машинке с открытым шрифтом. Почти всегда в процессе работы и план и часто даже тема изменяются. Смысл работы оказывается не пред­ назначенным, и тут на развалинах будущей работы переживаешь то ощущенье единства материала, ту возможность новой композиции, то алгебраическое 212 стягивание материала подсознательным, которое назы­ вается вдохновением. Работа растет, переделывается. Я думаю, что я не доделываю своих книг, что я их обрываю слишком рано, что переписанные еще два или три раза они стали бы лучше, понятнее, что меня стали бы понимать и читатели, а не только друзья, что я освободился бы от остроумия. Мое остроумие, которым меня упрекают, — эго след инструмента, это некоторая нѳдоработанность. Корректуры я не правлю, так как не могу читать самого себя. Мне приходят другие мысли, и я отры­ ваюсь от текста. Выслушать самого себя вслух мне было бы мучением. Манера моей работы и манера недоработанности, не ошибка. Если я овладею техникой вполне, то не буду ошибаться в самой быстрой работе так, как не оши­ бается стеклодув. В результате, впрочем, произвожу я не больше других, так как темп работы утомляет. Приходится отдыхать. Очень много я рассказываю другим и не думаю, что человек должен все писать сам. Я убежден, что нужно писать группами. Что друзья должны жить в одном городе, встречаться и что работа возможна только коллективами. Лучший год моей жизни — это тот, когда я изо дня в день говорил по часу по два по телефону со Львом Якубинским. У телефонов мы поставили столики. Я убежден, Лев Петрович, что ты напрасно отошел от телефона и взялся за организационную работу. Я убежден, что я напрасно живу не в Ленинграде. Я убежден, что отъезд Романа Якобсона в Прагу большое несчастье для- моей и для его работы. Я убежден, что люди одной литературной группи­ ровки должны считаться в своей работе друг с другом, должны друг для друга изменять личную судьбу. 213 Путает меня то, что я не только исследователь, но и журналист и даже беллетрист. Там другие факты, другое отношение к предмету и есть установка на прием. Это мешает мне изгладить в научной работе следы инструмента и написать книги, которые были бы понятны для чужих учеников, которые были бы обязательными, не требовали бы перестройки головы Но я хочу требовать. В работе журналиста нужна честность, нужна смелость. Я проехал через Турксиб. Там было пыльно, жарко, пищали ящерицы. Стояла высокая трава, то полынная, то ковыльная, то жесткая, колючая, трава пустыни и тамариск, похожий на нерасцветшую сирень. Там в пресный Балхаш, пресное озеро с солеными заливами, текут осенью солоноватые реки. Там люди ездят на быках и на лошадях так, как мы в трамваях. Там в ковыле скачут, как-будто не ногами, а изгибая одну тонкую как-будто из картона вырезанную спину — киргизские борзые. В песках ходят козы. В солончаках застревают авто­ мобили на недели. Верблюды тащат телеги. Орлы летят за сотни верст, чтобы сесть на телеграфный столб, потому что в пустыне сесть не на что. Там строят сейчас Турксиб. Это очень нужно и очень трудно. Там так жарко, что киргизы ходят в сапогах, одетых сверх тонких валенок, в меховых штанах, в меховых шапках. А называются они не киргизами, а казаками. Строить дорогу тяжело. Воды мало. Хлеб нужно при­ везти. Хлеб нужно достать. Хлеб нужно где-нибудь держать. Рабочих много, над каждым нужно построить крышу. И все же построили. Хорошие книги получаются тогда, когда человеку нужно во что бы то ни стало одолеть тему, когда он мужественен. 214 И это тоже называется вдохновением. Іак я написал «Сентиментальные путешествия». «Цоо» я написал иначе. Есть гимн Опояза. Он длинный, так как мы довольно красноречивы и не очень молоды. Там есть куплет: И страсть с формальной точки зренья Есть конвергенция приемов. Это вполне возможно. Страсть втягивается инерцией навыков и в частности литературной инерцией страсти. А в книгах это так. Нужно мне было написать книгу о людях, что-нибудь вроде «Сто портретов русских литераторов». Был ли я влюблен или вообще попал в какую-то конвергенцию, или может быть выбрал любовь, как ослабленный организм выбирает себе болезни. И вот получилась неправильно написанная книга. Мне очень хочется сейчас писать беллетристику. Жду конвергенции. Жду, когда изобретется. Жду материала и вдохновения. Есть другие инерционные книги, которые я презираю, которые состоят из навыков, из подстановок. Этими подстановками можно искажать прекрасные материалы. Так частный случай борется с общим материалом в ленте под всезначащим названием «Старое и новое» Сергея Эйзенштейна. В бормотаниях дилетанта, который возражает против ленты — почему в ней не показана кооперация, есть правда, потому что лента не соотнеслась, она взята вдоль темы, а организована выборочным, эстетизи­ рующим материал способом сюжетного искусства. Сюжетные приемы — это набор лекал, годных не для вычерчивания любой кривой. Нужно учиться. 216 Я не помню, товарищи, тот длинный и толковый список вопросов, которые вы мне задали. Библио­ графию моих вещей вы где-нибудь найдете, а буду­ щего своего я еще не знаю. 216