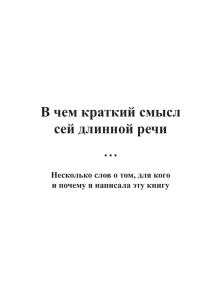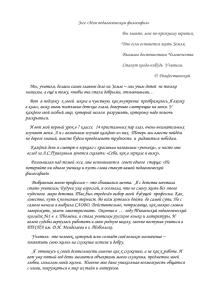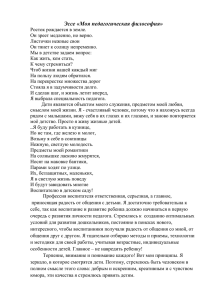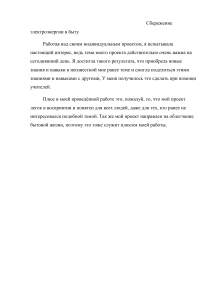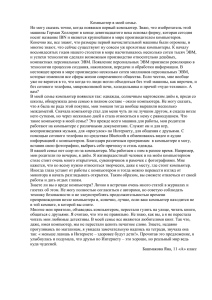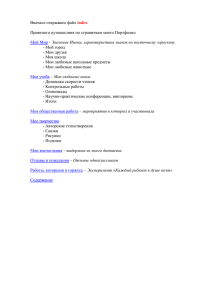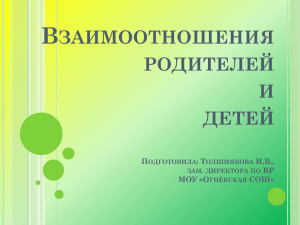Annotation Это откровенный рассказ о жизни человека с биполярным расстройством. Жизни, в которой есть невероятные эмоциональные вершины – и такие же невероятные спады. Жизни, в которой чувства остры до предела, а неудачи приводят к черным депрессиям. Кей Джеймисон испытала все это на себе – депрессии, мании, попытку самоубийства. Будучи психиатром, она посвятила себя изучению аффективных расстройств в целом и биполярному расстройству в частности. Кэй Джеймисон Предисловие переводчика Предисловие 15 лет спустя Вступление Часть I К самому солнцу Школа жизни Часть II Полеты разума Тоска по Сатурну Морг Постоянная штатная должность Часть III Офицер и джентльмен Мне говорили, идет дождь Как на безумие глядит любовь Часть IV Говоря о безумии Беспокойная спираль Врачебные привилегии Жизнь и настроения Эпилог Благодарности Об авторе notes 1 2 3 Кэй Джеймисон Беспокойный ум. Моя победа над биполярным расстройством Переводчик Мария Фаворская Редактор Алиса Черникова Руководитель проекта А. Василенко Корректоры Е. Аксёнова, Е. Чудинова Компьютерная верстка А. Абрамов Дизайн обложки Ю. Буга © Kay Redfield Jamison, 1995 © Предисловие Kay Redfield Jamison, 2011 © Фотография на обложке Tom Wolff This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, an imprint of the Knopf Doubleday group, a division of Penguin Random House, LLC. © Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2017 Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ). *** Моей матери, Делл Темпл Джеймисон, которая дала мне жизнь не однажды, но бессчетное количество раз Сомневаюсь, что тихая и спокойная жизнь подошла бы мне, но порой мне ее не хватает. Байрон Предисловие переводчика Я не поверила своему счастью, когда выяснила, что ни одна из книг удивительной Кэй Джеймисон, писателя и психиатра, за прошедшие 20 лет не была переведена на русский язык. Значит, у меня есть шанс открыть их для российского читателя, стать в некотором роде соучастником миссии доктора Джеймисон – просвещать людей о расстройствах настроения. Аффективным расстройствам, прежде всего биполярному расстройству и депрессии, подвержены миллионы человек во всем мире. Если ориентироваться на мировую статистику, в России больных биполярным расстройством (его также называют маниакальнодепрессивным) должно быть больше миллиона, а депрессия когдалибо случалась у 5–20 % людей. Наша страна в изучении, лечении и понимании этих проблем отстает от родины Кэй Джеймисон США не на одно десятилетие. О психических расстройствах часто шутят, ими пугают, но их едва ли воспринимают всерьез. Больные, боясь быть отвергнутыми обществом, страдают от недостатка квалифицированной помощи и информации, от одиночества. То, что маниакально-депрессивное расстройство, – не приговор, если соблюдать определенные правила и подобрать верное лечение, знают немногие. Серьезная, адекватная дискуссия о психических заболеваниях началась в нашем обществе совсем недавно, буквально несколько лет назад. Мы уже признаём депрессию, что-то знаем об аутизме, но почти ничего – о биполярном расстройстве. Поэтому я считаю, что «Беспокойный ум» – очень важная книга именно сегодня. Это – первое научно-популярное издание по данной теме в России. Она повествует о событиях в жизни автора в 1960–1980-х годах. О том, как молодая и успешная женщина-врач внезапно оказывается жертвой неизлечимого психического заболевания. Как она проходит все круги ада – от психотической мании до суицидальной депрессии. Эта история универсальна. На месте автора мог оказаться любой человек в любой точке мира. Но конец ее непредсказуем: с одной стороны, среди больных биполярным расстройством очень много талантливых, деятельных людей, с другой – самоубийц. Но книга не столько о болезни, какими бы детальными ни были описания ее симптомов, сколько о надежде. О победе разума и силы воли, о победе современных медицины и психотерапии, которые позволяют людям с тяжелыми психиатрическими диагнозами жить полной, насыщенной жизнью. Кэй Джеймисон не только смогла «приручить» болезнь, которая едва не стоила ей жизни, но и сделала столько для борьбы с ней, сколько, наверное, не сделал никто другой – это книги, ставшие бестселлерами, основанный ею медицинский центр, просветительские фильмы, научные исследования о связи биполярного расстройства с творческими способностями. Если эта книга найдет своих читателей в России, я надеюсь, в свет выйдут и другие произведения автора. В первую очередь «Опаленные огнем» (Touched with fire) – уникальное медицинско-литературное исследование о маниакально-депрессивном расстройстве в жизнях великих поэтов и писателей. С благодарностью издательству, читателям и любимому мужу. Мария Фаворская, переводчик Предисловие 15 лет спустя Пятнадцать лет назад я написала книгу о своей борьбе с манией и депрессией, о попытке самоубийства, едва не ставшей для меня фатальной, об упрямом нежелании принимать лекарства, которые мне были необходимы. Это была тяжелая книга, погружающая в тяжелую реальность биполярного расстройства. Но это было и повествование о спасительной силе любви, дружбы, семьи, о даре врача, способного исцелять. «Беспокойный ум» написан от самого сердца. Я страдала от биполярного расстройства с семнадцати лет. Позднее столкнулась со всеми трудностями, которые ожидают людей с психическими нарушениями. Я верила, что книга о моем опыте будет полезна для людей с теми же проблемами. Поскольку я также профессионально занималась лечением и изучением этой болезни, то смогла показать с новой стороны проблему, которой уже посвящено множество трудов, начиная с Гиппократа, который описал ее за пять столетий до рождения Христа. Я тогда не знала, какими будут последствия публикации для моей жизни и карьеры. Но я отдавала себе отчет, что писать столь откровенную автобиографию, будучи профессором психиатрии в известной медицинской школе, – значит многократно увеличивать риски. Одни последствия были предсказуемыми, другие – нет. Я не была готова к столь многочисленным отзывам. Мои коллеги по Больнице Джонса Хопкинса и ее директор оказали мне огромную поддержку. Они единогласно поддержали мое решение говорить о расстройстве открыто, многие из них ясно дали понять, что открытость – это именно то, что нужно, чтобы преодолеть стигматизацию больных. Меня воодушевили доброта и сочувствие большинства людей, хотя критика и желчность некоторых из читателей были весьма болезненны. Обсуждение психических расстройств одним дает возможность проявить гуманность, в других же пробуждает глубинные страхи и предрассудки. Людей, которые считают психическое расстройство дефектом или недостатком характера, оказалось куда больше, чем я могла себе представить. Общественное сознание сильно отстает от прогресса в научных и медицинских исследованиях депрессии и биполярного расстройства. Столкновение лицом к лицу со средневековыми предрассудками, казалось бы, неуместными в современном мире, было пугающим. Но самым сильным моим впечатлением после выхода книги была боль. На каждом из выступлений люди, которые подходили подписать книгу, показывали фото своего ребенка, родителя, супруга, покончившего с собой из-за депрессии или биполярного расстройства. Я сама едва не погибла по той же причине, потеряла многих друзей и коллег. Я многие годы изучала суицид и болезнь, которая нередко приводит к нему. Но и после всего этого я не была готова к встрече с той болью, которую оставляют после себя покинувшие нас люди. Я едва могла осознать, скольких терзают чувства потери, вины, беспомощности, которые приносит самоубийство. До того, как я рассказала о собственной болезни и попытке самоубийства, меня лишь краем коснулась эта боль, теперь же она захлестнула меня с головой. Я посвятила теме суицида мою следующую книгу, «Тьма опускается быстро». Это был крик души, книга, которую чрезвычайно трудно писать, но не написать – невозможно. У меня до сих пор перед глазами фотографии погибших. С тех пор я написала еще несколько книг, каждая из них – о сложной и властной природе настроений. Настроений, которые делают жизнь насыщенной или коверкают, разрушают ее. «Изобилие: Страсть к жизни» я написала сразу после книги «Тьма опускается быстро». В ней говорится о неоценимой роли мощной энергии, воодушевления, которые также свойственны биполярному расстройству, для того, чтобы быть лидером, просвещать людей, развивать научное и творческое воображение. Я получала настоящее удовольствие от работы над этой книгой. После длительного погружения в тему самоубийства она была для меня как глоток свежего воздуха. И тогда, и сейчас я чувствую, что жизненные силы, которые дает повышенное настроение, – лишь краткая передышка между патологическими состояниями депрессии и тревоги. Моя последняя книга, «Ничто не будет как прежде», задумана как продолжение «Беспокойного ума». Я написала ее после смерти мужа, когда не знала, как справиться с этой потерей. Я, как и многие, тогда открыла для себя, что между горем и депрессией есть не только обескураживающие сходства, но и принципиальные различия. Книга – об этих различиях, это в своем роде элегия. Она о болезни и смерти, о любви и об облегчении, которое следует за горем. Это кульминация моего личного отчаяния, восторга и понимания человеческой природы. Это любимейшая из написанных мною книг, но я бы не решилась писать ее еще раз. К «Беспокойному уму» у меня другое отношение. Временами я даже жалею о том, что издала ее. Но если эта книга хотя бы на шаг приблизила нас к пониманию умственных расстройств, я рада тому, что рассказала о собственном опыте безумия. Кэй Джеймисон, психиатрии доктор наук, профессор Медицинская школа Университета имени Джонса Хопкинса Январь 2011 года Вступление Когда на часах два ночи и у тебя мания, даже в медцентре Калифорнийского университета можно найти что-то интригующее. В то осеннее утро почти двадцать лет назад это заурядное нагромождение скучных зданий вдруг стало центром притяжения для моей взвинченной, болезненно чувствительной нервной системы. Вибриссы расправлены, антенна настроена, глаза превратились в тысячу фасеток – я с жадностью впитывала все, что происходило вокруг. Я стремительно и яростно носилась по больничной парковке, пытаясь хоть как-то израсходовать бесконечную, беспокойную энергию мании. Я бежала со всех ног, но внутри медленно сходила с ума. Мужчина, который был вместе со мной, коллега из медицинской школы, вымотался и остановился еще час назад. В этом и не было ничего удивительного: граница между днями и ночами для нас обоих исчезла уже давно и настало время расплаты за бесконечные часы, заполненные виски, громкими спорами и хохотом до упаду. Вместо сна мы работали, читали журналы, чертили графики, составляли утомительные (и совершенно нечитаемые) научные таблицы. Внезапно появилась полицейская машина. Даже в моем почтисовсем-просветленном состоянии сознания я видела, что офицер, выбираясь из машины, держит руку на пистолете. «Какого черта вы тут делаете посреди ночи?» – спросил он. Не самый неожиданный вопрос. Мой коллега, который, к счастью, соображал лучше, чем я, сумел задействовать свою интуицию: «Мы оба работаем на факультете психиатрии». Полисмен только взглянул на нас, улыбнулся и вернулся в патрульную машину. Конечно, работа на факультете психиатрии все объясняла. Всего через месяц после того, как я получила место доцента психиатрии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, я была на верном пути к безумию. Шел 1974 год, мне было двадцать восемь. Тогда я только начинала долгую и изнурительную войну с медикаментозным лечением, которое всего через несколько лет буду настоятельно рекомендовать другим. Войну с лекарством, которое вернуло мне разум и в итоге спасло жизнь. Сколько себя помню, я всегда была подвержена удивительным, а порой и ужасающим переменам настроения: очень эмоциональная в детстве, крайне непостоянная в юности, к началу карьеры я попала в порочный круг взлетов и падений маниакально-депрессивного расстройства. Я стала изучать психиатрию отчасти по необходимости. Это был единственный способ понять (а точнее, принять) болезнь, с которой я живу. И это был единственный способ попытаться изменить к лучшему жизни других людей, которые тоже страдают от аффективных расстройств. Болезнь, которая едва не стоила мне жизни, каждый год убивает десятки тысяч людей: большинство из них молоды, подчас – удивительно талантливы, одарены творческим воображением, и многих из этих смертей можно было бы избежать. Китайцы верят, что, прежде чем убить дикого зверя, ты должен увидеть его красоту. Наверное, я пыталась проделать это с маниакально-депрессивной болезнью. Она была для меня восхитительным, но смертельно опасным зверем, врагом и товарищем. Меня пленяла ее сложность, взрывоопасная смесь самого прекрасного и разрушительного в человеческой природе. Чтобы победить болезнь, мне необходимо было сперва узнать ее во всех бесчисленных обличьях, понять ее реальную и воображаемую власть. Сначала болезнь казалась мне просто развитием моего характера – привычных переменчивых настроений, вспышек энергии и воодушевления. Кроме того, я была уверена, что должна справляться со все более сильными перепадами настроения самостоятельно. Потому первые десять лет я не искала никакой помощи. Даже когда мое состояние требовало срочного медицинского вмешательства, я пыталась сопротивляться лечению, хотя и понимала, что оно было единственным выходом. Мании, по крайней мере в своей ранней и относительно мягкой стадии, совершенно меня опьяняли. Я наслаждалась стремительным полетом мысли, бьющей ключом энергией, которая волшебным образом превращала новые идеи в проекты и публикации. Лекарства не просто подрезали мне крылья, они давали побочные эффекты, которые казались невыносимыми. Слишком много понадобилось времени, чтобы понять, что потерянные годы и разрушенные отношения не вернуть. И вред, причиненный себе и родным, не восполнить. А свобода от ненавистных лекарств не имеет никакого смысла, когда тебя ждут только безумие и смерть. Борьба, которую я вела с собой, – отнюдь не редкость. Главная проблема в лечении биполярных расстройств не в том, что эффективных лекарств нет. Они есть, но пациенты слишком часто отказываются их принимать. Или вовсе не ищут помощи – из-за недостатка информации, некачественной медицинской помощи, стигматизации болезни, страха повредить своей карьере и личной жизни. Маниакально-депрессивное расстройство искажает настроения и мысли, провоцирует на ужасные поступки, подрывает основу рационального мышления и слишком часто уничтожает саму волю к жизни. Эта болезнь, биологическая по своему происхождению, переживается как психологическое состояние. Она уникальна в том, как приносит радость и решительность, а затем – едва переносимые страдания, которые нередко приводят к суициду. Мне повезло, что я выжила. Что я получила самое лучшее лечение из доступного. Еще больше мне повезло, что у меня есть друзья, коллеги и родные. Я благодарна за это и делаю все возможное, чтобы использовать собственный опыт борьбы с маниакально-депрессивной болезнью в исследованиях, преподавании, клинической практике и просвещении. В своих работах я постаралась объяснить коллегам парадоксальную природу болезни, которая одновременно разрушает и созидает. И вместе со многими единомышленниками попыталась изменить общественное мнение о психиатрических диагнозах в целом и биполярном расстройстве в частности. У меня было много сомнений, пока я писала эту книгу, в которой очень открыто рассказываю о своих приступах мании и депрессии, о том, как мне трудно было смириться с необходимостью лечения. Практикующие врачи редко стремятся демонстрировать свои психиатрические проблемы, и их легко понять. Я не могла знать заранее, как эта книга отразится на моей жизни и карьере. Но, какими бы ни были последствия, они куда лучше молчания. Я устала прятаться, я устала от лицемерия, устала вести себя так, будто мне есть что скрывать. Я просто хочу быть собой. Прятаться за научной степенью, титулом или любым другим нагромождением слов – это просто бесчестно. Может быть, вынужденная, даже необходимая, но все же бесчестность. Мне по-прежнему тревожно думать о том, чем может обернуться такая открытость. Но у меня есть безусловное преимущество, которое дают тридцать лет борьбы с маниакальнодепрессивным расстройством, – ничто больше не кажется непреодолимым. Часть I Далекая синяя высь К самому солнцу Я стояла, задрав голову к небу, и слушала рев мотора. Звук был чрезвычайно громким – это означало, что самолет совсем близко. Моя начальная школа была неподалеку от базы военно-воздушных сил Эндрюс в пригороде Вашингтона. Многие из нас были детьми летчиков, и шум реактивных двигателей был для нас привычным звуком. Но привычка не лишала такие моменты волшебства, и я инстинктивно поднимала взгляд от детской площадки и махала рукой. Я знала, конечно, что пилот не может меня видеть, и даже если бы мог, все равно это не мой отец. Но это был один из ритуалов, который мы все исполняли, а мне только и нужен был предлог, чтобы уставиться в небо. Мой папа, офицер ВВС, был прежде всего ученым и только потом пилотом. Но он любил летать. И поскольку он был метеорологом, то в конце концов оказался в небе и душой, и телом. Как и мой отец, я прежде всего смотрела вверх. Когда я говорила ему, что армия и флот намного старше воздушных сил, куда богаче традициями и легендами, он отвечал: «Да, это так, но за ВВС будущее». И затем всегда добавлял: «А еще мы можем летать!» Это повторение символа веры часто сопровождалось вдохновенным исполнением гимна военно-воздушных сил. Его отрывки и по сей день в моей памяти вперемешку с рождественскими гимнами, детскими стихами и молитвами. Все они наделены особым значением, настроением моего детства, да и сейчас порой заставляют сердце биться чаще. И каждый раз, когда звучит «И вот мы взлетаем в далекую синюю высь», я думаю, что это самые прекрасные слова из мною слышанных, а на словах «стремясь высоко, к самому солнцу» меня переполняет радость и я думаю, что тоже была одной из тех, кто любил бескрайность неба. Шум мотора стал громче, и я увидела, что и другие дети из моего второго класса задрали головы. Самолет был слишком низко. Он пронесся мимо нас, едва не задев детскую площадку. Пока мы стояли, столпившись, в абсолютном ужасе, а самолет несся на деревья. Он взорвался прямо перед нами. Мы услышали и почувствовали столкновение во всей его жестокости, мы увидели, как искореженную машину охватили жуткие языки пламени. Спустя минуты матери бросились на детскую площадку, чтобы успокоить детей, уверить каждого, что это не его отец. К счастью для меня, сестры и брата, это не был и наш папа. Через несколько дней, когда последние сообщения юного пилота диспетчеру были преданы огласке, стало ясно, что он мог спастись, если бы катапультировался. Но он знал, что после этого неуправляемый самолет может упасть прямо на детскую площадку и убить всех нас. Погибший пилот стал героем, превратившись в недостижимый идеал, само воплощение чувства долга. Идеал, еще более притягательный из-за своей недостижимости. Воспоминания о крушении возвращались ко мне много раз – напоминанием о том, как мы жаждем идеала и как убийственно сложно его достичь. С тех пор я больше не могла видеть в небе только простор и красоту. С того дня я знала, что смерть тоже где-то там. Как все семьи военных, мы часто переезжали. К четвертому классу мы с сестрой и братом поменяли четыре начальные школы. Мы жили во Флориде, Пуэрто-Рико, Калифорнии, Токио, Вашингтоне. Родители (особенно мама) делали все возможное, чтобы наша жизнь при этом оставалась уютной и безопасной. Мой брат был старшим и самым стойким из нас, моим вечным союзником, несмотря на трехлетнюю разницу в возрасте. В детстве я благоговела перед ним. Я часто ходила за братом по пятам, когда он с друзьями бродил по окрестностям или играл в бейсбол, хотя и старалась не быть навязчивой. Брат был умен, справедлив и уверен в себе. И я всегда чувствовала себя защищенной, когда он был рядом. Мои отношения с сестрой, которая всего на тринадцать месяцев старше, были куда сложнее. Она была самой красивой в нашей семье, с темными волосами и чудными глазами. При этом у нее был бурный нрав, крайне переменчивое настроение, и она с трудом выносила консервативный образ жизни военных, который казался ей тюремным режимом. Она старалась идти своим путем и бросала вызов всему, чему только можно. Она ненавидела школу и, когда мы жили в Вашингтоне, часто прогуливала уроки. Иногда – чтобы сходить в Военно-медицинский музей или Смитсоновский институт, чаще – чтобы курить и пить пиво с друзьями. Сестра сердилась на меня и дразнила «везунчиком», потому что считала, что мне все в жизни дается слишком легко – и друзья, и учеба. Считала, что я прячусь от реальности за наивно-оптимистичным взглядом на людей и жизнь. Брат был прирожденным спортсменом и никогда не получал оценок ниже, чем «отлично», а я в целом была довольна школой и с удовольствием участвовала в ее жизни, особенно спортивной. Сестра же была одинока в своем стремлении бунтовать и бороться с тем жестоким и сложным миром, который она видела вокруг. Сестра ненавидела образ жизни военных, постоянные переезды и необходимость искать новых друзей. Вежливость окружающих казалась ей лицемерием. Возможно, благодаря тому, что мои приступы тоски начались в более зрелом возрасте, у меня было больше времени, чтобы освоиться в этом добром, безопасном, удивительном мире, полном приключений. Мне кажется, моя сестра никогда не видела его таким. Все долгие годы детства и ранней юности были для меня счастливыми, и они дали мне прочную основу доверия, дружбы и уверенности. Они стали для меня могущественным амулетом, способным охранить от будущих несчастий. У моей сестры не было такой защиты. Когда нам обеим пришлось встретиться со своими демонами, она видела тьму внутри как неотъемлемую часть себя, своей семьи, всей жизни. Я, напротив, считала ее чужаком. Как бы прочно ни обосновалась тьма в моей душе, я всегда воспринимала ее как внешнюю силу, которая пыталась подавить мое истинное «Я». Сестра, как и отец, умела быть очаровательной: яркой, оригинальной, блестяще остроумной. Она была наделена тонким вкусом и воображением художника. Но при этом никогда не была простым человеком, и по мере того, как росла, росли и ее проблемы. Она могла разбить сердце, могла взбесить, и часто мне казалось, что я горю в пламени ее души. Отец легко увлекался. Его отличало неуемное любопытство, живой интерес к явлениям и красотам природы. Снежинка для него никогда не была просто снежинкой, а облако – просто облаком. В его рассказах они оживали, становились частью необычайной вселенной. Когда у него было отличное настроение, он всех заражал своим воодушевлением. Дом наполняла музыка, в нем внезапно появлялись удивительные украшения – кольцо из лунного камня, изящный браслет из неограненных рубинов, подвеска из камня цвета морской волны, окаймленного золотом. И все мы настраивались на то, чтобы подолгу слушать о том, что стало предметом его нового увлечения. Иногда это было страстное повествование о том, что мир спасут ветряные двигатели; иногда – о том, что мы все трое должны взяться за русский язык, потому что русская поэзия невыразимо прекрасна. Однажды папа прочитал о том, что Джордж Бернард Шоу завещал деньги на развитие фонетического алфавита, уточнив, что в первую очередь необходимо перевести его пьесу «Андрокл и лев». Тогда мы немедленно получили книги с этой пьесой, как и все гости, которые посещали наш дом. По слухам, папа закупил и раздал почти сотню экземпляров. В масштабности его увлечений было что-то волшебное. Я и сейчас улыбаюсь, вспоминая, как папа читал вслух об Андрокле, лечащем раненую лапу льва, а солдаты пели «Бросьте их к львам» на мотив гимна «Вперед, христово воинство». А отец перемежал чтение ремарками о жизненной важности фонетических и международных языков. До сих пор я храню в своем офисе большого керамического шмеля с ведерком меда и вспоминаю, как папа брал его и показывал, как он выполняет в воздухе разные маневры на манер самолета, в особенности «клеверный лист» – поиск в расходящихся направлениях. Когда папа переворачивал шмеля вверх ногами, ведерко опрокидывалось, мед разливался по столу, и мама возмущалась: «Маршалл, обязательно так делать? Ты подаешь детям плохой пример». Мы одобрительно хихикали, и шмель продолжал летать. Это было уморительно, как будто нашим папой была Мэри Поппинс. Годы спустя он подарил мне браслет с выгравированной цитатой из Майкла Фарадея, той самой, которая украшает кафедру физики в Калифорнийском университете: «Не бывает ничего слишком чудесного, чтобы быть правдой». Стоит сказать, что у самого Фарадея бывали нервные срывы, и цитата звучит не слишком правдиво, но зато несет в себе заряд настроения в духе моего папы, каким он был в свои лучшие моменты. Мама как-то призналась, что часто чувствовала себя в тени папы с его остроумием и обаянием. По ее словам, для детей он был как легендарный дудочник из Гамельна. Он и правда завораживающе действовал на моих друзей и всех остальных соседских детей, где бы мы ни жили. Зато мама была тем человеком, с которым мои друзья любили разговаривать. Они играли с отцом, но болтали с матерью. Мама всегда была убеждена, что важно не то, какие тебе выпали карты, а то, как ты ими сыграешь. И она, безусловно, мой самый большой выигрыш в этой жизни. Добрая, справедливая и щедрая, она обладала той уверенностью, которую могут дать не просто любящие, но при этом добрые и справедливые родители. Дед, который умер еще до моего рождения, был преподавателем в колледже и физиком по образованию. Он был умен и чрезмерно добр к своим студентам и коллегам. Бабушку я помню хорошо, она была заботливой и душевной. Как и мама, она проявляла глубокий и искренний интерес к людям и потому была прекрасным другом, способным расположить к себе людей, дать им почувствовать себя как дома. Люди к ней тянулись, как и к моей маме, и она всегда была готова уделить им минутку, как бы занята ни была. В отличие от деда, который все свободное время читал и перечитывал Шекспира и Марка Твена, бабушка не была интеллектуалом и предпочитала проводить время в клубах. Поскольку при этом она обладала отличными организаторскими способностями, ее постоянно выбирали руководить, в какое бы сообщество она ни вступала. Бабушка была убежденным консерватором – сторонница республиканцев, дочь американской революции, любительница чаепитий, от которых моего папу мог хватить удар. Она всегда оставалась мягкой, но решительной женщиной, которая носила платья в цветочек, держала ногти ухоженными, безупречно накрывала на стол и пахла душистым мылом. Она совершенно не умела злиться и была прекрасной бабушкой. Моя мама – высокая, тоненькая, красивая – была популярна в школе и колледже. С фотографий в ее альбоме смотрит счастливая молодая женщина, окруженная друзьями. Она играет в теннис, плавает, скачет на лошади, занимается фехтованием, позирует в обществе подруг или с бойфрендами – один другого краше. Эти кадры запечатлели удивительную невинность другой эпохи, но именно в ней моя мама чувствовала себя как в своей тарелке. Там не было дурных предзнаменований, подавленных лиц, вопросов о тьме внутри. Мамина вера в то, что жизнь последовательна и предсказуема, росла из абсолютной нормальности людей и событий, ее окружавших, а та опиралась на несколько поколений надежных и уважаемых людей, которым был понятен этот мир. Но даже поколения кажущейся стабильности не могли подготовить маму ко всему хаосу и трудностям, с которыми она столкнулась, покинув родительский дом. Стойкая уравновешенность моей матери, ее вера в надежность мира, умение любить и учиться, слышать и меняться, помогли мне пережить все грядущие годы боли и кошмаров. Она не знала, как трудно сопротивляться безумию, – никто из нас не знал. Но она обратила на меня всю силу своей любви и сочувствия. Она никогда не думала о том, чтобы сдаться. Родители поощряли мой интерес к поэзии и школьным спектаклям, а еще – к науке и медицине. Ни мама, ни папа не пытались ограничивать мои мечты, и при этом они всегда видели разницу между временным увлечением и чем-то серьезным. Даже мои перепады настроения они принимали с добротой и остроумием. Я часто страстно чем-нибудь увлекалась и однажды решила, что мне просто необходим ленивец в качестве домашнего животного. Мама, которая, скрепя сердце, уже разрешила мне держать собак, котов, птиц, рыбок, черепашку, ящериц, лягушек и мышей, была явно не в восторге. Папа убедил меня подготовить детальное научное и литературное исследование ленивцев. Он предложил, чтобы, кроме сбора практической информации по уходу и содержанию, я сочинила стихи и рассказы о том, что для меня значат ленивцы. Также я должна была сконструировать у нас в доме подходящее жилище и провести наблюдения за ленивцами в зоопарке. И только если я выполню все эти условия, родители подарят мне настоящего ленивца. Я уверена, родители отлично понимали, что я просто увлеклась этой необычной идеей и, если найду другой способ для выражения своего воодушевления, этого будет вполне достаточно. Они оказались правы: моя одержимость ленивцами закончилась на этапе наблюдения за ними в зоопарке. Если и есть что-то более скучное в мире, чем наблюдение за ленивцем, то разве что крикетный матч или заседание Комиссии по бюджетным ассигнованиям. И в конце концов я была рада вернуться к общению со своей собакой, которая по сравнению с ленивцем была просто гениальна. Увлечение медициной оказалось куда более серьезным, и родители его полностью поддерживали. Когда мне было двенадцать, они подарили мне микроскоп, набор для препарирования и «Анатомию» Грея. Книга была трудна для понимания, но благодаря ее присутствию на полке я чувствовала себя причастной к настоящей медицине. Стол для настольного тенниса в подвале стал моей лабораторией. Я проводила там целые вечера, препарируя лягушек, рыб, червей и черепах. Но когда я дошла по эволюционной лестнице до млекопитающих, вид зародыша свиньи с крошечным рыльцем и щетинкой оттолкнул меня от дальнейших экспериментов. Врачи в больнице на военной базе Эндрюс, где я по выходным помогала медсестрам в качестве добровольца, выдали мне скальпели, кровоостанавливающие зажимы и даже бутылочки с кровью для моих домашних опытов. Что более важно, они отнеслись к моему интересу совершенно серьезно. Они никогда не пытались отговорить меня от желания стать врачом, хотя в те времена женщины чаще всего работали медсестрами. Они брали меня с собой на обходы и иногда разрешали ассистировать на несложных операциях. Я внимательно наблюдала, как врачи накладывали швы и делали пункции. Я подавала инструменты, рассматривала раны, а однажды сама снимала швы. Я приезжала в больницу пораньше, уходила поздно и приносила с собой массу книг и вопросов: каково быть студентом-медиком? Принимать роды? Сталкиваться со смертью пациента? Наверное, я была очень убедительна в своем интересе, потому что один из докторов в конце концов разрешил мне присутствовать при вскрытии. Это было необычно и жутко. Я стояла у краешка металлического стола и изо всех сил старалась не смотреть на маленькое тельце мертвого ребенка, но никак не могла оторвать от него взгляд. Запах в помещении был тяжелым и неприятным, и единственной альтернативой было смотреть на быстрые движения рук патологоанатома. Чтобы справиться с тяжелым впечатлением, я подключила свой мозг и стала сыпать вопросами. Почему доктор делает именно такие разрезы? Почему он носит перчатки? Почему одни органы взвешивает, а другие – нет? Сначала бесконечные вопросы были лишь способом отвлечься, но затем меня действительно охватило любопытство. Сконцентрировавшись на вопросах, я перестала видеть тело. Тогда, как и сотни раз после, характер и любопытство заводили меня в ситуации, с которыми не справлялись эмоции. В то же время научный склад ума создавал дистанцию, которая позволяла переварить происходящее и двигаться дальше. Когда мне было пятнадцать, вместе с другими медсестрами я отправилась в психиатрическую больницу святой Елизаветы округа Колумбия. То, что я увидела там, оказалось намного страшнее вскрытия мертвого ребенка. Пока мы ехали в автобусе, девчонки смеялись и сыпали довольно бестактными замечаниями, столь типичными для школьниц. На самом деле мы старались скрыть беспокойство, которое охватило нас перед встречей с миром безумия, каким мы его себе представляли. Думаю, мы боялись инаковости, возможной агрессии, людей, полностью потерявших контроль над собой. Одна из детских дразнилок была такой: «Тебя отправят в святую Елизавету!» И хотя у меня не было ни малейших поводов сомневаться в собственной адекватности, и в моей душе нашлось место иррациональным страхам. В конце концов, я была вспыльчива, а когда срывалась, это пугало всех окружающих (пускай и случалось нечасто). Тогда это было единственное пятно на моем образцовом поведении. Я и сама не знала, что скрывали суровая самодисциплина и контроль над собой, привитые мне родителями. Но чувствовала, что в этой оболочке были трещины, и это меня пугало. Больница оказалась вовсе не таким мрачным местом, как я себе представляла. Просторный, довольно симпатичный двор со старыми деревьями, из которого открывались впечатляющие виды на город и реки. Красивые здания довоенного времени сохранили обаяние старого Вашингтона. Но как только мы вошли в здание, иллюзия спокойствия, навеянная изящной архитектурой и природой, рассеялась. Нас встретила страшная реальность безумия с его специфическими запахами и звуками. В больнице Эндрюс я привыкла видеть множество врачей и медсестер, но старшая сестра, которая нас вела, пояснила, что здесь на одного врача приходится девяносто пациентов. Я удивилась, как один человек может контролировать такое количество больных, возможно, склонных к насилию, и спросила, как защищен персонал. Она ответила, что большинство больных ведут себя спокойно под действием лекарств, но все же время от времени приходится их связывать. «Связывать?!» – подумала я. Неужели они действительно настолько не в себе, что к ним применяют такие грубые меры? Я потом долго не могла выбросить этот ответ из головы. Но еще хуже было то, что мы увидели, когда вошли в одну из женских палат. Странные манеры ее обитательниц, нелепая одежда, усмешки, вскрики… Одна пациентка стояла замерев и поджав ногу подобно аисту. Она постоянно хихикала. Другая, довольно красивая женщина, разговаривала сама с собой, заплетая и расплетая свои длинные рыжеватые волосы. Все это время она внимательно следила за движениями тех, кто пытался к ней приблизиться. Сначала она меня напугала, но потом мне стало любопытно. Я осторожно подошла к ней и, постояв напротив несколько минут, набралась смелости, чтобы спросить, почему она оказалась в больнице. Краем глаза я отметила, что медсестры уже собрались вместе в другом конце зала. Пациентка довольно долго смотрела сквозь меня. Затем, взглянув искоса, сказала, что ее родители поместили автомат для игры в пинбол в ее голову, когда ей было пять. Красные шарики говорят ей, когда она должна смеяться, а синие – когда молчать и держаться в стороне от людей. Зеленые шарики говорят, что она должна умножать на три. Каждые несколько дней машина выбрасывает серебряный шар. На этих словах она уставилась на меня. Полагаю, она хотела убедиться, что я все еще ее слушаю. Конечно, я слушала. Это было так странно, но при этом приковывало внимание. Я спросила ее, что означает серебряный шар. Она посмотрела на меня испытующе, а потом ее взгляд погас. Она снова погрузилась в свой внутренний мир. Я так и не узнала ответ. Я была заинтригована, но все же больше напугана: не только странностью пациентов, но и атмосферой страха. Но сильнее него была боль в глазах женщин. Какая-то часть меня инстинктивно отозвалась на эту боль. Я ее поняла. Хотя тогда даже не могла представить, что, однажды посмотрев в зеркало, увижу ту же боль и безумие в собственных глазах. В подростковые годы все поощряли мой интерес к науке и медицине: и родители, и их многочисленные друзья, и врачи из больницы Эндрюс. Семьи работников метеорологической службы направляли на те же военные базы, и мы подружились с одной из них. Мы ходили вместе на пикники, ездили в отпуска, помогали друг другу нянчить детей и всей компанией ходили в кино, на ужины и вечеринки клуба офицеров. Детьми мы играли в прятки с тремя их сыновьями. Когда подросли, вместе посещали уроки танцев, вечеринки (официальные и не очень), а затем выросли и неизбежно разъехались в разные стороны. Но детьми мы были неразлучны: в Вашингтоне, Токио и снова в Вашингтоне. Их мать, обаятельная, независимая и очень практичная ирландская католичка, дала нам второй дом. Я чувствовала себя в этих гостях как в собственном доме и оставалась подолгу. Там часто пахло пирогами, и мы часами болтали. Они с мамой стали лучшими подругами, и я чувствовала себя частью этой большой семьи. Будучи медсестрой, она внимательно слушала мои пространные рассказы о грандиозных планах по изучению медицины и ведению научных исследований. «Да, это очень интересно!» – отзывалась она и одобрительно кивала: «Конечно, ты сможешь…», «А думала ли ты еще о…» Ни разу я не слышала от нее чего-либо «отрезвляющего» вроде: «По-моему, это не слишком практично» или «Почему бы тебе не подождать и не посмотреть, как все сложится?». Ее муж, математик и метеоролог, тоже меня очень поддерживал. Он никогда не забывал спросить меня о последнем проекте, прочитанных книгах, изучаемых мною животных. Он очень серьезно говорил со мной о науке и медицине и всячески одобрял мое стремление идти за своей мечтой. Он, как и мой отец, был увлечен естественными науками и мог подолгу рассказывать, как физика, математика и философия, подобно ревнивым женам, требуют абсолютной отдачи и внимания. Только сейчас я могу по достоинству оценить ту серьезность, с которой меня воспринимали окружающие взрослые. Позже находилось немало коллег, которые советовали мне умерить амбиции и придержать коней. И только сейчас я понимаю, насколько необходимы были эти уважение и поддержка для развития моей души и разума. Страстные натуры очень ранимы. Мне действительно повезло расти в окружении людей увлеченных. Я тогда была совершенно счастлива: у меня были друзья, жизнь, полная вечеринок, ухажеров, спортивных игр, пикников на заливе и множества начинаний. Но в то же время я постепенно осознавала реальность: каково быть страстной и деятельной девушкой в крайне традиционном мире военных. В нем едва ли было место независимости и бурному темпераменту. Военно-морские балы были тем мероприятием, где дети офицеров осваивали изящные манеры, танцы и прочие премудрости. Они также служили для того, чтобы еще крепче вбить в наши головы принятую иерархию: генералы превосходят рангом полковников, а полковники превосходят майоров, капитанов, лейтенантов и всех прочих. А эти прочие выше рангом детей. Ну а мальчики всегда превосходят девочек. Одним из неприятнейших способов указать юным девушкам на их место было обучение старому и глупому ритуалу – делать реверанс. Трудно представить, что хотя бы одна девушка в здравом уме находила это занятие приятным. А для меня (с моим довольно либеральным воспитанием у отца-нонконформиста) это было невыносимо. Я видела перед собой ряд девушек в накрахмаленных до хруста юбках, и каждая из них аккуратно делала реверанс. «Овечки, – думала я, – послушные овечки». Но настал и мой черед. Что-то внутри меня закипело. Я достаточно насмотрелась, как девушки безропотно следуют ритуалам подчинения. И отказалась. Не такой уж серьезный поступок, как это кажется со стороны. Но в мире военных традиций и протокола, где ритуалы и иерархия значат все и где плохое поведение ребенка может поставить под удар карьеру отца, это было равносильно объявлению войны. Никому и в голову не приходило, что можно просто отказаться подчиниться взрослому, каким бы абсурдным ни было его требование. Мисс Кортни, учительница танцев, уставилась на меня. Я повторила свой отказ. Она сказала, что полковник будет весьма расстроен моим поступком. Я ответила, что полковнику нет до этого ни малейшего дела. Я ошибалась, ему действительно было дело. Каким бы смешным ни считал мой отец обучение девочек делать реверанс перед офицерами и их женами, его расстроило, что я повела себя невежливо. Я извинилась, и мы договорились о компромиссе: я сделаю реверанс, но наклоняться при этом буду совсем чуть-чуть. Это был один из типичных для моего папы выходов из неловких ситуаций. Мне не нравилось кланяться, но нравились элегантность нарядов, музыка и танцы, красота этих балов. Я поняла, что, как бы ни стремилась к независимости, мир военных традиций по-прежнему будет меня привлекать. Он дарил удивительное чувство безопасности. Всегда было ясно, чего от тебя ждут. В этом обществе искренне верили в справедливость, честь, доблесть и готовность погибнуть за свою страну. Да, оно требовало слепой лояльности в качестве членского взноса. Но принимало отчаянных молодых идеалистов, готовых рисковать своими жизнями. А еще – менее дисциплинированных ученых (в основном метеорологов), которые любили небо почти так же сильно, как пилоты. Это общество было построено на стыке между романтикой и дисциплиной: непростой мир пафоса, демонстративности, стремительной жизни и внезапной смерти. Будто окно в прошлое, во времена своего расцвета в XIX веке: цивилизованное, изящное, элитарное и абсолютно нетерпимое к личным слабостям общество. Готовность пожертвовать своими желаниями принималась как данность. Самоконтроль и сдержанность были обязательны. Мама однажды рассказала мне, как она ходила на чай в дом командира части. В обязанности его жены на этом вечере входило вести беседы об этикете с молодыми женами: как правильно устраивать ужины и участвовать в жизни сообщества. После этой вступительной беседы она обратилась к главному: пилоты никогда не должны отправляться в полет расстроенными или рассерженными. Это может повлиять на их концентрацию, что повышает риск аварии. И значит, жены пилотов никогда не должны с спорить с мужьями перед полетами. Сдержанность и самообладание – не просто добродетель для женщины. Это необходимость. А это значит, что недостаточно просто сходить с ума от беспокойства каждый раз, когда твой муж отправляется в небо. Нужно еще чувствовать себя ответственной, если с самолетом что-то случится. Гнев и недовольство следует держать при себе. Военные гораздо больше, чем все прочие люди, ценят воспитанных, мягких и уравновешенных женщин. И именно тогда, когда я вполне освоилась со всеми этими переменами и парадоксами и впервые почувствовала себя дома в Вашингтоне, мой отец ушел из ВВС и стал ученым в корпорации Rand в Калифорнии. Шел 1961 год, мне было пятнадцать, и мой мир начал рушиться. Я пришла в школу Pacific Palisades, когда учебный год длился уже несколько месяцев. И быстро поняла, что здесь все будет совсем подругому. Все началось с привычного ритуала для новичков: ужасающие три минуты, в которые тебе нужно уложить всю свою жизнь перед полным классом незнакомых людей. Это было непросто сделать перед детьми военных, но теперь, в школе для богатых и пресыщенных калифорнийцев, выглядело просто глупо. Как только я объявила, что мой папа был офицером ВВС, я поняла, что с таким же успехом могла сказать, что он был хорьком или тритоном. В классе повисла мертвая тишина. В школе Pacific Palisades знали только одну породу родителей – «из индустрии», то есть из кинобизнеса. Богачи, корпоративные юристы, бизнесмены и очень успешные врачи. Я осознала, что это гражданская школа, когда услышала смешки после своих «да, мэм» и «нет, сэр» в ответ на вопросы учителей. Довольно долго я просто плыла по течению. Я ужасно скучала по Вашингтону. Там остался мой парень, без которого я чувствовала себя совершенно несчастной. Он был голубоглазым блондином, часто смеялся и любил танцевать, и многие месяцы мы почти не разлучались. Именно он дал мне независимость от семьи. Как, наверное, и все пятнадцатилетние девицы, я верила, что наша любовь навсегда. Я оставила позади такую привычную и любимую жизнь – жизнь, наполненную близкими, дружными семейными буднями, безграничным теплом и смехом. Я оставила город, который стал мне родным, и консервативную жизнь военных, которую вела всю свою жизнь. Я ходила в детский сад, начальную и среднюю школу при военных базах. В старших классах в Мэриленде я училась вместе с детьми военных и государственных служащих. Это был маленький, уютный и безопасный мир. Калифорния же, или по крайней мере Pacific Palisades, казалась мне блестяще-холодной. Несмотря на то, что я постепенно освоилась и завела новых друзей (благодаря постоянным переездам я была довольно общительна), я чувствовала себя потерянной и совершенно несчастной. Большую часть свободного времени я проводила в слезах, сочиняя письма своему парню. Я была зла на отца, который зачем-то выбрал работу в Калифорнии вместо того, чтобы остаться в Вашингтоне. Я с нетерпением ждала звонков и писем от старых друзей. В Вашингтоне я была лидером и капитаном всех возможных команд, а учеба не требовала особых усилий. Школа Pacific Palisades была совершенно другой. Здесь играли совсем в другие спортивные игры – я не знала ни одной, – и мне понадобилось немало сил, чтобы проявить себя в них. Что еще хуже, конкуренция между учениками была жесточайшей. Я оказалась позади всего класса почти по всем предметам. И чтобы догнать остальных, понадобилась масса времени. С одной стороны, общество очень сильных учеников не давало расслабиться. С другой – это был новый опыт, и довольно болезненный. Непросто было признать ограниченность собственных возможностей. Постепенно я начала привыкать к новым реалиям. Почти догнала одноклассников, завела новых друзей. Каким бы странным ни казалось мне новое общество, я все же нашла в нем свое место. Когда первый шок был уже позади, я радовалась новому опыту. Какой-то даже удавалось получать на уроках. Откровенные рассказы одноклассников были захватывающи. Почти у каждого было по нескольку мачех и отчимов, в зависимости от количества разводов в семье. У моих друзей было полно наличных, а еще они могли поведать немало интересного о сексе. Мой новый парень продолжил мое образование. Он учился в Калифорнийском университете, где я работала по выходным на кафедре фармакологии в качестве волонтера. И он был всем, о чем я мечтала в том возрасте: старше меня, красив, со своей машиной, будущий медик, без ума от меня и, как и прежний мой молодой человек, любил танцевать. Мы встречались все мои старшие классы. Вспоминая об этих отношениях, я думаю, что для меня это был скорее способ уйти от домашних проблем, чем серьезная влюбленность. Я тогда впервые узнала, кто такие WASP – белые англосаксонские протестанты[1]. Я была одним из них, и это было неплохо. Я быстро уяснила, что быть одним из них – значит быть консервативным, высокомерным, строгим, холодным, скучным, необаятельным, но при этом тебе все завидуют. И тогда, и сейчас эта концепция мне кажется весьма странной. Но все это определяло социальное расслоение школы. Одни ребята, которые ходили днем на пляж, а ночью на вечеринки, стремились быть WASP. Другие, попроще и более пресыщенные, стремились к интеллектуальным развлечениям. Я прибивалась то к тем, то к другим, чувствуя себя вполне комфортно и там и там. Мир WASP хрупко напоминал мне о прошлом. Мир интеллектуалов, напротив, был связан с моим академическим будущим. Прошлое все же должно оставаться в прошлом. Комфортного мира вашингтонских военных больше не было, все изменилось. Брат уехал учиться в колледж, и мир стал чуть менее безопасен. Отношения с сестрой, всегда непростые, стали конфликтными вплоть до враждебности. Мы отдалились друг от друга. Ей было гораздо труднее меня освоиться в Калифорнии, но мы почти это не обсуждали. Каждая из нас шла своим путем – настолько по-своему, будто мы жили в разных домах. Родители, хотя по-прежнему жили вместе, тоже отдалились. Мама была занята преподаванием и заботами о доме. Отец полностью погрузился в научную работу. У него по-прежнему временами было прекрасное настроение, и тогда он сиял, озаряя своим весельем и энергией весь дом. Порой его грандиозные идеи были на грани разумного и явно выходили за рамки того, что ему мог позволить работодатель. Однажды он, например, придумал, как определить коэффициент интеллекта сотен людей, большинство из которых уже умерли. Методика была довольно специфическая и не имела никакого отношения к его метеорологическим исследованиям. Но периоды полета быстро сменялись провалами. И тогда мрак отцовских депрессий заполнял собой все пространство в доме, как раньше это делала его любимая музыка. Через год после нашего переезда в Калифорнию отец впал в чудовищно подавленное настроение, и я чувствовала себя совершенно беспомощной. Я все ждала, когда вернется его чудесная восторженность и веселье, но теперь они, за исключением редких моментов, уступили место гневу, отчаянию и подавленности. Я едва узнавала своего отца. Иногда он был не в силах даже встать с постели, подавленный мрачными мыслями о всех сторонах своей жизни. Иногда он срывался на крик, и его внезапный гнев приводил меня в ужас. Я никогда таким его раньше не видела, он всегда был добрым и мягкосердечным. Бывали дни, а то и целые недели, когда я опасалась показаться за завтраком или вернуться домой из школы. Тогда же отец начал пить, и все стало еще хуже. Мама была так же растеряна и испугана, как и я, и тоже стремилась сбежать от этого к друзьям или в работу. Я все больше времени проводила со своей собакой, которую мы взяли еще бездомным щенком в Вашингтоне. Мы всюду ходили вместе, собака спала в моей кровати и часами выслушивала мои жалобы на все эти горести. Она, как и все собаки, была отличным слушателем. Ночь за ночью я засыпала в слезах, обняв ее за лохматую шею. Благодаря парню, друзьям и собаке я сумела пережить отчаяние в своем доме. Но вскоре я поняла, что не только отец был подвержен мрачному и беспокойному настроению. К шестнадцати-семнадцати годам я осознала, что мои всплески энергии и воодушевления часто опустошающе действуют на людей вокруг, а после недель в мечтах и полетах я погружалась в тяжелые и грустные раздумья. Двум моим лучшим друзьям, красивым, ироничным и пылким юношам, тоже были свойственны мрачные настроения, и втроем мы отлично понимали друг друга. Хотя в целом нам удавалось наслаждаться и более нормальной, жизнерадостной стороной школьной жизни. Я и мои друзья были школьными лидерами, спортсменами, очень активными в общественной жизни. Мы создали наш собственный мир смертельной серьезности, пьянок, игр в «Угадайку» ночи напролет, страстных споров о жизни и смерти, экзистенциальной и меланхоличной литературы Гессе, Байрона, Мелвилла и Гарди, музыки Бетховена, Моцарта и Шумана. Мы все честно сражались со своим внутренним хаосом: у двоих из нас, как мы узнали позже, были маниакальнодепрессивные родные. Мать одного из моих друзей застрелилась. Вместе мы испытывали первые ростки той боли, с которой позже должны были остаться наедине. У меня это произошло довольно скоро. Я оканчивала школу, когда случился первый приступ маниакально-депрессивного заболевания. Я стремительно теряла рассудок. Сначала все казалось таким легким! Я носилась как бешеная белка, воодушевленно бурля идеями. Спорт, вечеринки с друзьями ночи напролет, чтение всего, что попадалось под руку, сочинение стихов и пьес. Я строила масштабные и совершенно невыполнимые планы на будущее. Жизнь была полна удовольствий, она столько мне обещала! Я чувствовала себя не просто хорошо, а потрясающе. Я была уверена, что мне все по плечу и не существует никаких слишком сложных задач. Мой разум был кристально ясен, идеально сфокусирован и способен проворачивать такие математические операции, которые мне сейчас кажутся непостижимыми. Окружающий мир казался не просто наполненным смыслом, он складывался в некую космическую гармонию. Мой восторг перед совершенством законов природы лился через край. Часто я буквально заставляла друзей выслушивать мои откровения о том, как все вокруг прекрасно. Они не слишком впечатлялись моими озарениями, но удивлялись, как много те отнимают у них энергии. «Ты говоришь слишком быстро, Кэй. Притормози, Кэй. Ты меня утомляешь, Кэй. Притормози, Кэй». Даже когда друзья не произносили этого вслух, такие мысли ясно читались в их глазах: «Ради Бога, Кэй, притормози!» И в конце концов я действительно притормозила. Точнее, колесо моей жизни со скрипом остановилось. Позже у меня были более страшные маниакальные эпизоды, которые приводили к психозу и полной потере самоконтроля. Тот первый приступ был относительно мягкой, даже обаятельной прелюдией к настоящей мании. Как сотни последующих приступов бурного воодушевления, он был скоротечен и быстро закончился. Это было утомительно для моих близких, пьяняще и опустошающе для меня самой, но пока не вызывало тревоги. Но затем моя жизнь начала погружаться на дно. Мышление из ясного процесса стало медленным и мучительным. Я перечитывала одни и те же страницы снова и снова, понимая, что не могу вспомнить, о чем шла речь. Каждая книга, каждый стих казался невнятным. Я ни в чем не видела смысла. Я едва следила за ходом уроков, надолго замирала, смотря в окно и ничего не видя. Это было действительно страшно. Я уже привыкла принимать свой быстрый ум как данность. Вести бесконечные беседы с самой собой. Обладать бездонным источником юмора и инструментом анализа, который всегда спасал меня от скуки и неловкости. Я всегда могла положиться на остроту и живость своего ума как на лучшего друга. Но теперь разум внезапно меня подвел: будто мстя мне за пустое воодушевление, будто смеясь над моими безрассудными планами. Он больше не находил ничего увлекательного или хотя бы стоящего вокруг. Он вдруг оказался неспособен концентрироваться на чем-либо, кроме мыслей о смерти: если я все равно умру, разве имеет смысл что бы то ни было? Жизнь коротка и бессмысленна, так зачем жить? Я чувствовала себя совершенно измотанной и едва выползала из кровати по утрам. Я даже ходить стала раза в два медленнее. Я носила одну и ту же одежду, поскольку выбрать что-то новое требовало слишком больших усилий. Я стала бояться разговаривать с людьми, избегала друзей, когда только возможно. Утра и вечера я проводила в школьной библиотеке, неподвижная, с омертвевшим сердцем и мозгом вязким, как глина. Едва проснувшись, я чувствовала себя уставшей – раньше я такого не испытывала почти никогда, равно как не бывало скуки и безразличия. За ними следовали серые, бледные мысли о смерти и разложении, о том, что всё в конце концов гибнет и лучше умереть сейчас, чем терпеть боль в ожидании. Я устало слонялась по местному кладбищу, размышляя, как долго прожил каждый из усопших. Сидя на могильной плите, сочиняла длинные мрачные стихи, чувствуя, что мой ум, мое тело уже гниют. Периоды полного опустошения сменялись днями ужасного беспокойства и возбуждения. Несколько недель подряд я пила перед школой водку с апельсиновым соком и постоянно думала о самоубийстве. Тогда я проявила свою уникальную способность держать форму. Мне удавалось так хорошо изображать то, чего я не чувствовала, что почти никто не заметил произошедшей со мной перемены. Ничего не заметила даже моя родная семья! Два друга были обеспокоены, но я взяла с них клятву молчать. Заметил лишь один из учителей, и еще мама друга спросила, что со мной не так. Я уверенно врала: все в порядке, спасибо за беспокойство. Ума не приложу, как мне удавалось производить нормальное впечатление в школе. Разве что люди настолько погружены в собственные проблемы, что редко обращают внимание на отчаянные попытки других спрятать свою боль. А я прилагала массу усилий, чтобы никто ничего не замечал. Я понимала, что со мной что-то не так, но не могла уразуметь, что именно. Меня приучили держать свои проблемы при себе, и я с этим неплохо справлялась. Как писал Хуго Вольф: «Я порой выгляжу веселым и в хорошем расположении духа, рассуждаю вполне последовательно, и кажется, что я совершенно в ладу с самим собой. Но душа моя при этом спит мертвенным сном, а сердце истекает кровью от тысячи ран». Было невозможно избежать душевных ран: я совершенно не в состоянии была заметить, что происходит вокруг, мысли мне не подчинялись абсолютно, я была так подавлена, что хотела только умереть. И все это происходило за несколько месяцев до того, как раны хотя бы начали заживать. Оглядываясь назад, я поражаюсь, что выжила (и выжила одна) и что в школьные годы жизнь была так запутана, а смерть так близка. Я быстро повзрослела за эти месяцы, как взрослеют люди, теряя себя, вдали от безопасности, бок о бок со смертью. Школа жизни Мне было восемнадцать, когда я с неохотой приступила к учебе в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Не туда я стремилась. Многие годы я хранила в маленькой шкатулке позолоченный значок Чикагского университета, подаренный отцом. Два конца булавки соединяла изящная золотая цепочка, которая казалась мне верхом изящества. Я мечтала заслужить право носить ее. В Чикагском университете меня привлекала его бунтарская репутация, а также то, что его окончили и отец, и дед. Но его мы не могли себе позволить. Выходки отца стоили ему работы в Rand. Потому, пока друзья отправлялись в Гарвард, Стэнфорд и Йель, мне пришлось довольствоваться Калифорнийским университетом. Я была горько разочарована. Мне так хотелось уехать из штата, стать независимой, учиться в каком-нибудь небольшом университете! Но спустя годы я поняла, что Калифорнийский университет оказался для меня идеальным местом. Он дал мне блестящее образование и возможность вести независимые исследования, а также свободу для моего бурного нрава, которую могут позволить себе только крупные университеты. Но альма-матер не могла защитить меня от страшной тревоги и душевной боли. Многие вспоминают студенчество как лучшие годы своей жизни. Для меня это непостижимо. Университетские годы стали для меня временем изнуряющей борьбы с собой, кошмарных приступов тоски, которые длились неделями и даже месяцами. Но также и временем страстей, воодушевления, трудной, но благодарной работы. У перепадов настроения и энергии была и притягательная сторона, которую я испытала в старших классах. На подъеме мой мозг фонтанировал идеями и я была уверена, что мне хватит сил воплотить каждую из них. Я моментально забывала о своем консервативном воспитании, носила юбки покороче, декольте поглубже, и без оглядки наслаждалась бурлящей юностью. Во всем в моей жизни был избыток. Вместо одной симфонии Бетховена я покупала девять, записывалась на семь курсов вместо пяти, вместо двух билетов на концерт брала десять. Как-то на первом курсе, прогуливаясь по университетскому ботсаду, я обратила внимание на ручеек среди камней. Он живо напомнил мне сцену из «Королевских идиллий» Теннисона, что-то о Леди Озера. Эта мысль захватила меня, и я тут же побежала в книжную лавку, чтобы купить эту книгу. Я ушла из лавки, нагруженная двумя десятками томов. Одни из них действительно имели отношение к стихам Теннисона, но связь с ними других было довольно трудно проследить: «Смерть Артура» Мэлори, «Король былого и грядущего» Теренса Уайта, «Золотая ветвь» Фрэзера, «Кельтское королевство», «Письма Элоизы к Абеляру», книги Юнга, Роберта Грейвса, сказания о Тристане и Изольде, антология мифов о сотворении мира, сборник шотландских сказок. В тот момент я очень четко видела связь между этими книгами. Более того, мне казалось, что все вместе они содержат важную разгадку какой-то тайны вселенной, которую мой ум пытался постичь. Рыцарская трагедия, казалось, объясняла всю суть человеческой природы: страсти, предательства, насилие, красоту, надежды. Мой разум был убежден, что вот-вот постигнет абсолютную истину. Неудивительно, что все покупки казались мне совершенно необходимыми. Но в прозаичном реальном мире я не могла позволить себе роскошь импульсивных покупок. Я работала по двадцатьтридцать часов в неделю, чтобы оплатить учебу, и свободных денег у меня почти не оставалось. К сожалению, розовые квитанции из банка о задолженности всегда приходили в те периоды, когда после недель восторженности приходила депрессия. Так же, как и в выпускном классе школы, учеба в эти головокружительные периоды давалась мне очень легко. Экзамены, лабораторные работы и курсовые казались удивительно простыми. Я увлекалась всевозможными политическими и общественными проектами – от антивоенных собраний до акций против убийства черепах в косметической индустрии. Однажды я пикетировала магазин косметики с самодельным плакатом в руках. На нем были кое-как изображены морские черепахи на песке, озаренные лунным светом, и красовалась крупная надпись: «Ради вашей кожи они остались без своей». Но как за днем неизбежно следует ночь, так и мой ум после этих вспышек активности погружался во тьму. Тогда я теряла всякий интерес к учебе, чтению, друзьям, прогулкам, мечтам. Я не понимала, что со мной происходит, и каждое утро просыпалась в ужасе от того, что мне предстоит пережить еще один мучительный день. Я часами сидела в библиотеке, не в силах встать и войти в аудиторию. Я смотрела в окно, смотрела на обложки книг, перекладывала их, так и не открыв, и размышляла о том, чтобы бросить университет. Когда я все-таки добиралась до лекций, это оказывалось бесполезно. Бессмысленно и мучительно. Я почти не понимала, что происходит вокруг, и думала, что только смерть избавит меня от давящего ощущения тьмы и непонимания, которые сгущались вокруг меня. Я чувствовала себя совсем одинокой, и от наблюдения за оживленными беседами однокурсников мне делалось только хуже. Я переставала отвечать на звонки и часами лежала в горячей ванне. Иногда эти периоды отчаяния усугублялись сильнейшим беспокойством. Мои мысли скакали с предмета на предмет. Но вместо того, чтобы витать среди космических идей, как это бывало раньше, они наполнялись жуткими звуками и образами смерти и разложения. Перед моими глазами были мертвые тела на песке, останки животных, трупы в морге с бирками на ногах. В такие периоды я становилась беспокойной, раздражительной, злой. Единственным способом облегчить это состояние было движение. Я бегала по пляжу или ходила взад-вперед по своей комнате, как медведь в зоопарке. Я не понимала, что со мной происходит, и была совершенно неспособна попросить о помощи. Мне даже не приходило в голову, что я больна. В конце концов, после лекции о депрессии на курсе психопатологии я отправилась в студенческий медцентр с намерением записаться к психиатру. Я смогла добраться лишь до порога клиники и опустилась на ступени, парализованная стыдом и страхом, не в силах ни идти дальше, ни уйти. Наверное, я просидела там больше часа, обхватив голову руками и всхлипывая. А потом ушла и больше никогда не возвращалась. Со временем депрессия отступила – но лишь затем, чтобы набрать силу перед новой атакой. Но каждый удар судьбы в моей жизни компенсировался полосой везения. Как, например, однажды на первом курсе. Я проходила теорию личности на курсе психологии, и профессор рассказывал о разных способах оценки личности и когнитивной структуры. Он продемонстрировал нам карточки для теста Роршаха и попросил записать ответы. В тот день мой разум парил высоко благодаря колдовскому зелью нейромедиаторов, которое Господь Бог замешал в мои гены. Страницу за страницей я заполняла довольно странными ответами. Зал был большой, все передавали свои ответы вперед. Профессор зачитал несколько из них. Я услышала странный набор ассоциаций и с ужасом поняла, что это мой листок. Некоторые из заметок были смешными, другие же просто нелепыми. Весь курс смеялся, а я в оцепенении смотрела на свои ботинки. Дочитав мелко исписанные листки, профессор попросил автора ответов остаться для разговора. Я была убеждена, что он, как профессиональный психолог, насквозь видит мою психотическую натуру. И была в ужасе. Подозреваю, на самом деле он увидел очень серьезного, решительного и довольно беспокойного человека. Но тогда, осознавая, насколько я не в порядке, я думала, что это очевидно и для него. Преподаватель предложил мне пройтись с ним до его кабинета. И пока я в уме рисовала себе картины принудительного лечения в психбольнице, он говорил, что за все годы работы не видел таких творческих ответов на тесты Роршаха. Ему хватило такта назвать творческим то, что иной назвал бы истеричным. Это был мой первый урок в распознавании тонкой границы между оригинальностью и ненормальностью, и я глубоко благодарна этому человеку за широту мышления, которая позволила ему увидеть в моем сочинении творческую, а не патологическую сторону. Профессор попросил меня рассказать о себе. Я сказала, что учусь на первом курсе и хочу стать врачом. Он напомнил, что, согласно правилам университета, его лекции предназначены для второготретьего курсов. Я ответила, что курс показался мне очень интересным, а ограничение довольно произвольным. Он громко рассмеялся, и я внезапно осознала, что наконец-то кто-то оценил мою независимость. Это не мисс Кортни, и мне не нужно делать реверанс. Профессор сказал, что у него есть место лаборанта для работы по его гранту, и поинтересовался, нужна ли мне работа. Еще бы! Ведь это значило, что я могу бросить свою скучную подработку кассира в магазине одежды и наконец-то буду учиться вести исследования. Это был прекрасный опыт: я научилась кодировать и анализировать данные, работать с компьютером, делать обзоры научной литературы, готовить материалы для публикаций. Профессор, с которым я работала, изучал структуру личности, и исследование индивидуальных различий между людьми казалось мне захватывающим. Я погрузилась в работу, которая стала для меня не просто источником дохода и знаний, но и убежищем. В отличие от лекций, которые, как и любое строгое расписание, предполагают стабильное настроение и трудоспособность, исследовательская работа допускает гибкость и независимость. К сожалению, университеты не признают сезонных колебаний поведения и способностей у маниакально-депрессивных личностей. Моя зачетка пестрела незавершенными курсами и проваленными экзаменами, но качественная дипломная работа, к счастью, перевесила плохие отметки. Перепады настроения и приступы черной депрессии нанесли огромный ущерб моей жизни и карьере в студенческие годы. В двадцать лет, по окончании второго курса, я решила на год сменить обстановку и отправиться учиться в Сент-Эндрюсский университет в Шотландии. Мой брат и кузен тогда учились в Англии и предложили присоединиться к ним. Я была очарована шотландской музыкой и поэзией, которые мой отец так любил. В кельтской меланхолии, которая для меня ассоциировалась с нашими шотландскими предками, было что-то притягательное, даже несмотря на то, что я хотела бы отстраниться от темной стороны моего отца. Думаю, тогда я чувствовала, что возвращение к истокам как-то поможет мне разобраться в собственных путаных чувствах. Я подала заявку на государственный грант и покинула Лос-Анджелес на год, чтобы днем осваивать науку, а по ночам – музыку и поэзию. Сент-Эндрюс, говорил мой научный руководитель, это единственное место в мире, где снег падает горизонтально. Он был известным нейрофизиологом родом из Йоркшира. Как и все прочие англичане, он был убежден, что нормальная погода, как и вообще цивилизация, заканчиваются там, где начинается шотландская провинция. У него определенно был пунктик по поводу погоды. Древний каменный город Сент-Эндрюс расположен на самом Северном море. Осенью и зимой его насквозь продувают ветра такой силы, что в это невозможно поверить. Мне после нескольких месяцев в Шотландии поверить пришлось. Ветер был наиболее суров на восточной окраине города, где располагалась лаборатория морской биологии. Мы, десяток зоологов-третьекурсников, дрожали и стучали зубами в холодной, промозглой лаборатории, кутаясь в шерстяные шарфы и рукавицы. Преподаватель, казалось, был еще больше озадачен моим присутствием на курсе зоологии, чем я сама. Он являлся большим авторитетом в узкой области зоологии, а именно – специалистом по слуховому нерву саранчи. Прежде чем высказать свои ремарки о снегопадах, преподаватель успел выставить на всеобщее обозрение мою вопиющую безграмотность в вопросах зоологии. Он поручил нам сделать электрофизиологическую запись со слухового нерва саранчи. Все студенты, изучавшие естественные науки уже несколько лет, аккуратно препарировали и вели запись. Я же не имела ни малейшего представления, что делать. Преподаватель это знал, и мне оставалось только недоумевать, почему университет направил меня на курс такого высокого уровня. Сначала я извлекла насекомое из клетки, и мне понадобилось немало времени, чтобы разобраться, где у него находятся крылья, тело и голова. Я почувствовала на себе взгляд преподавателя и обернулась, чтобы увидеть его язвительную усмешку. Он подошел к доске, изобразил на ней саранчу, выделил участок ее головы и произнес со старательным акцентом: «К вашему сведению, мисс-почти-само-совершенство, ууухо находится здеееесь». Класс захохотал, и я тоже, смиряясь с тем, что весь год буду безнадежно отставать. Но я узнала за этот год очень многое и постигала науку с удовольствием. Мои лабораторные заметки с того занятия полностью передавали степень погружения в предмет: «Голова, крылья и ножки отделены от тела. После срезания заднегрудных стернитов обнажаем воздушные мешки. Слуховой нерв отсечен по центру, чтобы исключить возможность ответа от головного ганглия». И так далее, пока я не закончила следующим пассажем: «Изза недостаточного понимания указаний и общего недостатка знаний не удалось протестировать другие способы стимуляции, и к тому времени как понимание было достигнуто, слуховой нерв устал. Как и я сама». Все же в изучении беспозвоночных были и свои преимущества. Начать с того, что, в отличие от психологии, вы можете съесть объект исследования. Особой популярностью пользовались лобстеры – свежайшие, только что из моря. Мы их с удовольствием поедали до тех пор, пока один из преподавателей не заметил, что «некоторые объекты исследований, похоже, по ночам выбираются из своих аквариумов». В тот год я подолгу гуляла вдоль моря и по городу, среди древних руин, часами размышляя и записывая свои мысли. Я пыталась представить, как выглядел городской собор в годы его расцвета в XII веке, какими витражами сияли его ныне пустые окна. Не пропускала я и воскресных служб в университетской часовне, возведенной в начале XV века. Средневековые учебные и церковные традиции мистически переплетались в этом университете. Студенты носили плотные яркокрасные мантии, которые резко выделялись на фоне серых каменных зданий. Рассказывали, что король Шотландии издал специальный указ о такой форме одежды, чтобы студенты, как потенциальные бунтари, были легко узнаваемы. После церковной службы студенты в красных одеждах шли на городской причал, и их яркость живо контрастировала с серостью неба и моря. Это место полно мистики и воспоминаний: о холодных ясных ночах, мужчинах и женщинах, облаченных в вечерние наряды, длинные перчатки, шелковые шарфы и килты, с накинутыми на плечи клетчатыми пледами. О бесконечных балах и званых ужинах с ветчиной, лососем, свежей дичью, виски и портвейном. О ярких студенческих мантиях на багажниках велосипедов, в классах, в садах, на газонах, когда приходила пора пикников. О длинных ночах, полных песен и разговоров; о ярких волнах одуванчиков и колокольчиков в полях над морем, о водорослях, камнях и ракушках на желтом песке у линии прилива. О потрясающе красивых рождественских службах в конце семестра: студенты в длинных ярких мантиях, выпускники в темных и коротких, древние гимны, висячие лампы с позолотой, глубокая резьба на дереве хоров, декламация на английском и более мягком лиричном шотландском. Выходя со службы в зимний вечер, ты будто попадал в прошлое: красное на белом, удары колокола, ясная луна. Сент-Эндрюс дал мне отдых перед грядущими болезненными годами. Пытаясь убежать от непонятной тоски и отчаяния, я обрела в нем талисман, защищавший меня потом от страданий и потерь. Долгая зима на Северном море стала бабьим летом в моей жизни. Мне исполнился двадцать один год, и я снова вернулась в Калифорнию. Это была резкая смена окружения и еще более резкий скачок в ритме жизни. Я попыталась вернуться к привычному быту и рутине, но давалось мне это с трудом. Весь год я была избавлена от необходимости работать по двадцать – тридцать часов в неделю, чтобы обеспечить себя, а теперь снова была вынуждена совмещать лекции, рабочие часы и перепады своего настроения. Мои карьерные планы тоже изменились. Со временем стало ясно, что перепады настроения и эмоциональность не позволят мне окончить медицинскую школу – особенно тяжелы были первые курсы, которые требуют феноменальной усидчивости. Мне было трудно подолгу находиться на месте, гораздо легче получалось учиться самостоятельно. Мне нравилось писать, вести исследования. Строгие рамки, которые задавала медицинская школа, меня все больше угнетали. Во время учебы в Шотландии я прочла психологическое исследование Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта» и увлеклась идеей изучать психологию, в особенности индивидуальные различия темпераментов и эмоциональности. Я также начала работу с другим научным руководителем. Это было увлекательное исследование о физиологическом и психологическом воздействии психотропных веществ вроде ЛСД, марихуаны, опиатов, барбитуратов и амфетаминов. В частности, он выяснял, почему люди предпочитают определенный тип наркотиков. Например, одни выбирают галлюциногены, в то время как других привлекают вещества, поднимающие настроение или, напротив, притупляющие чувства. Его, как и меня, интересовали аффекты[2]. Сам профессор – высокий, скромный, блистательный человек – тоже был склонен к быстрым и резким перепадам настроения. Работа с ним (сначала в качестве ассистента, а затем и аспиранта) стала для меня потрясающим опытом. Он был очень творческим, любопытным и открытым всему новому человеком. Строгим, но справедливым в своих интеллектуальных запросах и чрезвычайно терпимым к моим собственным перепадам настроения. Мы интуитивно понимали друг друга, но почти не обсуждали наших проблем, хотя тема плохого настроения и всплывала время от времени. Наши кабинеты были рядом друг с другом, и в депрессивные периоды он замечал, что я выгляжу утомленной и подавленной, и интересовался, чем мог бы помочь. Однажды мы выяснили, что оба измеряем свое настроение в попытке найти причины и закономерности его скачков. Он – по десятибалльной шкале, от «прекрасно» до «ужасно», я – по шестибалльной, от –3, что означало «полное отчаяние», до 3, что значило «великолепное настроение». Мы обсуждали возможность принимать антидепрессанты, но оба не верили, что они помогут, и опасались побочных эффектов. Как и многие люди в депрессии, мы считали собственные переживания более сложными и экзистенциальными, чем они были на самом деле. Антидепрессанты – это для слабаков, для обычных пациентов. Такая бравада дорого нам обошлась, мы оказались заложниками собственного воспитания и гордыни. Несмотря на продолжавшиеся передряги, я думала, что нашла убежище в работе. Часто, когда я засыпала прямо на рабочем месте, не в силах противостоять жизни, профессор во сне укутывал меня своим пальто и оставлял на столе записку: «Скоро тебе станет лучше». Все вместе – удовольствие от этого сотрудничества, успехи с другим преподавателем, с которым я продолжала работу с первого курса, сильное влияние Уильяма Джеймса, нестабильность моего собственного настроения, – привело к тому, что я предпочла медицине аспирантуру по психологии. Калифорнийский университет предлагает одну из лучших программ по психологии в США, и в 1971 году я приступила к своим изысканиям. Уже давно я поняла, что необходимо что-то делать с перепадами настроения. В конечном итоге я выбирала между визитом к психиатру и покупкой лошади. Но почти все мои знакомые общались с психиатрами, а я продолжала верить в то, что со всеми проблемами должна справляться самостоятельно. Так что я остановилась на лошади, приобрела самую упрямую и нервную лошадь из всех возможных, лошадь с характером Вуди Аллена, только не такую веселую. Воображение рисовало мне прелестную картину: лошадь, едва меня завидев, навострит уши, радостно заржет, подбежит ко мне и будет тереться о бриджи, выпрашивая сахар. Вместо этого я получила крайне беспокойное, слегка хромое и не слишком умное животное. Она пугалась змей, ящериц, людей, собак, других лошадей – в общем всего, что встречала на своем пути. При этом она вставала на дыбы и неслась куда глаза глядят. В этом была некоторая польза: когда я скакала на ней, то была слишком испугана, чтобы чувствовать себя депрессивно. А когда чувствовала себя маниакально, я ничего не боялась и безумные скачки мне вполне подходили. Покупка лошади была не только безумным решением, но и неимоверно дорогим. Гораздо проще было взять эти деньги и просто скормить их лошади. Кроме подков и упряжки, ей требовался регулярный прикорм в виде специальных гранул, которые оказались дороже хорошего бренди, а еще специальная ортопедическая обувь, чтобы избавиться от хромоты (по крайней мере попытаться это сделать). По сравнению с этой обувью Gucci казался пустяком, и постепенно я дошла до понимания, почему людям иногда хочется пристрелить торговца лошадьми, а потом и саму лошадь. В конце концов мне пришлось признать, что я всего лишь аспирантка, а не доктор Дулиттл и даже нисколько не Рокфеллер. Я продала лошадь и вернулась к лекциям. Я наслаждалась учебой в аспирантуре так же, как жизнью в СентЭндрюсе, и нагоняла упущенное в студенческие годы. Оглядываясь назад с высоты своего нынешнего медицинского опыта, понимаю, что это была лишь ремиссия, типичная для первых лет развития маниакально-депрессивного психоза, обманчивое облегчение тяжелой болезни. Но тогда я решила, что полностью вернулась к своему нормальному состоянию. В те дни я не знала слов и терминов, которые могли бы объяснить эти ужасные перепады настроения. Аспирантура была периодом свободы не только от болезни, но и от жесткого расписания студенческих лет. Я пропускала примерно половину лекций, и это не было проблемой. Пока аспирант справляется с программой, не важно, какими путями он этого добивается. Я тогда была замужем за французом, который был не только талантливым художником, но и необычайно добрым и мягким человеком. Мы познакомились в начале 1970-х на обеде у общих друзей. Это была эпоха длинных волос, общественных беспорядков и протестов против войны во Вьетнаме. И я была рада встрече с человеком совершенно аполитичным, умным и преданным искусству. Мы были очень разными, но обожали друг друга. Разделяли страсть к живописи, музыке и природе. Я тогда была тонка, как тростинка, и устремлена к активной общественной жизни, стремительной академической карьере и большой семье. На фотографиях того времени запечатлен высокий, необычайно красивый мужчина с темными волосами и карими глазами, который на всех снимках остается верен этому образу. А рядом с ним – молодая женщина, поражающая своим непостоянством. На одном снимке она смеется, распустив длинные волосы по голым плечам, на другом – строго одета, серьезна и задумчива. Мои прически менялись вслед за настроением. Я носила длинные волосы до тех пор, пока меня не захлестнул приступ недовольства собой. Решив, что мне помогут только радикальные перемены, я постриглась под мальчика. Настроения, стрижки, наряды менялись от недели к неделе. Мой муж, напротив, был очень уравновешен, и мы вполне дополняли друг друга. Через несколько месяцев после знакомства мы поселились в маленькой квартире на берегу океана. Это была вполне спокойная жизнь, заполненная друзьями, фильмами, поездками на юг – в Калифорнию, Сан-Франциско, Йосемити. Надежность нашего брака, близость добрых друзей и интеллектуальная нагрузка моей учебы поддерживали уют этого мира. Я начала осваивать экспериментальную психологию, в первую очередь ее физиологический и математический аспекты, но после нескольких месяцев клинических исследований в больнице Мэдсли в Лондоне решила переключиться на клиническую психологию. У меня был не только профессиональный, но и личный интерес к этой науке. Моя научная работа, которая ранее включала статистические методы, биологию и экспериментальную психологию, теперь сосредоточилась на психофармакологии, психопатологии, клинических методах и психотерапии. Психопатология, наука о психических расстройствах, оказалась чрезвычайно интересной. Общение с пациентами требовало интеллектуальной и эмоциональной отдачи. Хотя нас и обучали ставить клинические диагнозы, я по-прежнему не видела связи между описаниями маниакально-депрессивного заболевания в учебниках и своими личными проблемами. Это было нечто противоположное обычному синдрому студента-медика, который начинает искать у себя все изучаемые заболевания. Я никогда не рассматривала свои особенности в контексте изучаемой науки. Сейчас моя тогдашняя слепота кажется просто непостижимой. Но я заметила, что мне проще вести психотических пациентов, чем многим коллегам. В те времена клиническая психология и психиатрия чаще связывали психоз с шизофренией, а не с маниакально-депрессивным заболеванием, и я не многое узнала об аффективных расстройствах. Тогда процветал психоанализ, и в первые два года работы с пациентами моими супервайзерами были почти исключительно психоаналитики. Психотерапия была сфокусирована на разборе детского опыта и конфликтов, интерпретации снов и символов. Более медицинский подход, основанный на диагнозе, симптомах и лекарствах, получил распространение позже, когда я уже приступила к интернатуре в Институте нейропсихиатрии Калифорнийского университета. У меня было много разногласий с психоаналитиками, особенно с теми, кто выступал против лечения тяжелых психических расстройств медикаментами, даже после того, как литий и антидепрессанты доказали свою эффективность. Но полученный в начале карьеры опыт психоаналитического мышления оказался бесценным. С годами я подзабыла многое из психоаналитической терминологии, но наука была интересной. Я никогда не могла понять весьма произвольное разделение на «биологическую» психиатрию, которая делала акцент на медицинских причинах и методах лечения психических заболеваний, и «динамическую» психологию, сосредоточенную на процессах развития, структуре личности, конфликтах, мотивации и подсознательном. Крайности всегда абсурдны, и меня поражало, до чего может довести некритичное мышление. На одном из занятий мы изучали, как проводить различные психологические тесты, в том числе на интеллект, например Шкалу умственных способностей взрослых по Векслеру (WAIS), а также личностные тесты, такие как тест Роршаха. Первым моим испытуемым стал муж. Как художник он блестяще справился с визуальной частью WAIS. А его ответы на тест Роршаха были одними из самых оригинальных, какие я когда-либо видела. Он со всей серьезностью отнесся к заданию нарисовать человека, уделив рисунку столько времени и сил, что я рассчитывала получить очень откровенный автопортрет. Но когда он показал мне результат своих трудов, я увидела очень старательное изображение орангутанга, длинные лапы которого тянулись к краям листа. Я была восхищена и решила показать результаты всех его тестов своему супервайзеру. Та была крайне догматичным психоаналитиком, начисто лишенным чувства юмора. Эта женщина потратила больше часа на совершенно надуманные и пустые интерпретации психической неуравновешенности, асоциальности, подавленного гнева и внутренних конфликтов моего мужа. Она назвала его (человека, который никогда не лгал!) социопатом. Человек, который всегда отличался искренностью и мягкостью, показался ей неуравновешенным, конфликтным, переполненным гневом. И все из-за того, что он решил ответить на тест нестандартно. Мне это показалось настолько смешным, что я начала непроизвольно хихикать, провоцируя дальнейшие разоблачения. С хохотом я убежала из ее кабинета, отказавшись писать отчет по тесту. И эти мои действия также подверглись тщательному анализу с ее стороны. Реальный опыт я приобрела, занимаясь с многочисленными пациентами во время интернатуры. Тем временем я завершила работу по двум своим дополнительным специальностям – психофармакологии и поведению животных. Мне особенно нравилось изучать животных, и я дополнила свои психологические курсы зоологическими. Они были посвящены биологии морских млекопитающих и включали в себя не только биологию и естественную историю тюленей, китов, дельфинов, выдр, но и такие экзотические темы, как кардиоваскулярные адаптации морских львов к нырянию и система коммуникации дельфинов. Я училась ради удовольствия от процесса и наслаждалась этим. Те курсы не имели ничего общего с моей работой ни тогда, ни в будущем, но они были одними из самых интересных. Квалификационные экзамены были сданы. Я провела довольно заурядное исследования героиновой зависимости и написала по нему столь же заурядную диссертацию. Затем, после двух недель лихорадочного заполнения своих мозгов невозможным количеством информации, я вошла в зал, где за столом сидели пятеро людей с серьезными лицами. Там я прошла испытание, которое вежливо называют финальным устным экзаменом или, на военный манер, защитой диссертации. Двое членов комиссии были преподавателями, с которыми я проработала несколько лет. Один из них был достаточно добр ко мне, другой – вероятно, чтобы продемонстрировать свою непредвзятость, – безжалостен. Один из трех психофармакологов, он же единственный внештатный, попытался устроить мне настоящий допрос. Но другие двое решили, что он перегнул палку с самоутверждением в статистике и схеме проведения исследований, и вернули защиту в более цивилизованное русло. После трех часов этого изощренного интеллектуального балета я покинула зал и положенное количество времени нервно дожидалась итогов голосования в коридоре. Вернувшись, я увидела все тех же пятерых мужчин, которые сначала показались мне такими суровыми. Но теперь они улыбались и протягивали мне ладони для рукопожатия. К моему огромному облегчению, они меня поздравляли. Ритуал вступления в научный мир загадочен и крайне романтичен. Все трудности и неприятности защиты были легко забыты, когда наступил радостный момент торжества с бокалами шампанского. Настал великий день, когда я была допущена в очень старый клуб, посвящена в академические ритуалы и в первый раз ко мне обратились «доктор Джеймисон», а не «мисс Джеймисон». Получив должность доцента на кафедре психиатрии Калифорнийского университета, я поспешила вступить в клуб факультета и начать свое восхождение по академической пищевой цепи. У меня была прекрасная весна, великолепное лето, а всего через три месяца после получения научной степени начался настоящий психоз. Часть II Совсем не прекрасное безумие Полеты разума Такого рода безумие состоит из боли, восторга, одиночества и ужаса. Когда ты на подъеме, это восхитительно. Стеснительность исчезает, нужные слова и жесты находятся сами собой, приходит уверенность – особенно в своей власти впечатлять окружающих. Мысли и чувства ярки и стремительны, как падающие звезды, и ум следует за ними до тех пор, пока не встретит новые, еще более яркие. Даже в скучных людях начинаешь видеть что-то интересное. Переполняет чувственность. Желание соблазнять и соблазняться становится непреодолимым. Захватывают ощущения эйфории, легкости, власти, уверенности, почти всемогущества. Но в какой-то момент все меняется. Мысли становятся слишком быстрыми, их уже слишком много. Ясность сменяется растерянностью. Память спотыкается. Живой интерес на лицах друзей сменяется беспокойством и тревогой. Все, что раньше шло как по маслу, теперь дается с трудом. Ты раздражителен, напуган, едва держишь себя в руках, блуждаешь в самых темных чуланах собственного разума. А ведь раньше ты даже не догадывался об их существовании! Эта пытка длится и длится, безумие плетет сети собственной реальности. В конце концов остаются только воспоминания других о твоих странных поступках – бурных, непонятных и бессмысленных. Мания милостива тем, что часто лишает памяти. Кредитные карты аннулированы, приходят счета, по которым придется платить, нужно объясняться на работе, приносить извинения. Провалы в памяти (что я делала?). Разрушенный брак, потерянные друзья. И навязчивая мысль: ведь это случится опять! Мои чувства – реальны? Какая я – настоящая? Полная энергии, порывистая, импульсивная, хаотичная, сумасшедшая? Или же робкая, отстраненная, отчаявшаяся, обреченная, уставшая от жизни? И та и другая? Вирджиния Вульф написала о своих взлетах и падениях так: «Как сильно наши чувства меняются от погружения на самую глубину? Я все думаю: каковы они на самом деле?» Я не проснулась в один день сумасшедшей. Жизнь казалась такой легкой! Я постепенно осознавала, что моя жизнь и разум ускоряются, пока однажды, в мое первое лето на факультете, они полностью не вышли из-под контроля. Но этот разгон – от стремительных мыслей к хаосу – был постепенным и увлекательным. Сначала все казалось совершенно нормальным. В июле 1974-го меня взяли на факультет психиатрии и приписали к одному из отделений для взрослых пациентов. Я курировала психиатров-стажеров и клинических психологов – интернов по части диагностики, психологического тестирования, психотерапии и испытания препаратов. Кроме того, я отвечала за взаимодействие между департаментами психиатрии и анестезиологии, где я консультировала, вела семинары, внедряла протоколы исследований для изучения психологических и медицинских аспектов боли. Что касается моих собственных исследований, я в основном доделывала работу, которую вела в университете. Аффективные расстройства меня в ту пору не особенно привлекали. К тому же перепады настроения меня не беспокоили больше года, и я уже было решила, что этой проблемы больше нет. Ты тешишься этой надеждой каждый раз, когда чувствуешь себя нормально достаточно долго, но неизменно ошибаешься. Я взялась за новую работу со всей энергией и воодушевлением. Мне нравилось преподавать, как и руководить врачебной работой других, хотя сначала это и казалось мне необычным. Переход из интернов в преподаватели прошел гораздо легче, чем я могла ожидать. Не стоит и говорить, что солидная прибавка в зарплате очень тому способствовала. Свобода реализовывать собственные научные интересы меня окрыляла. Я очень много работала и все меньше отдыхала. Недостаток сна – это и причина, и следствие мании, но тогда я об этом даже не догадывалась. Лето часто приносило мне хорошее настроение и длинные рабочие дни. Но тем летом я вышла далеко за пределы того, что когда-либо испытывала ранее. Лето, недостаток сна, обилие работы и генетическая уязвимость завели меня куда глубже уже знакомых уровней эйфории – в пылающее безумие. Ректор университета проводил традиционный прием на открытом воздухе в честь новых преподавателей. Человек, который позже стал моим психиатром, тоже был на этой встрече – он только что начал работу на соседнем с нами медицинском факультете. Благодаря ему я осознала разницу между самовосприятием и взвешенным, спокойным наблюдением специалиста. Я помню ощущение легкой эйфории: чувствуя себя неотразимой, я общалась с массой людей, легко перемещалась по саду от человека к человеку, от коктейля к коктейлю. Я довольно долго беседовала с ректором. Он понятия не имел, кто я, но был либо слишком вежлив, либо оправдывал свою репутацию волокиты за юными особами. Как бы то ни было, я была уверена, что он нашел меня очаровательной. У меня также была долгая и довольно странная беседа с главой моего департамента. Этот необычный человек, наделенный богатым воображением, далеко не всегда придерживался строгих рамок академической медицины. В узких психофармакологических кругах о нем рассказывали легенды. Например, что он убил слона в ходе загадочного эксперимента с применением ЛСД – это было частью исследования связи галлюциногенов с агрессивным поведением, – и он неверно рассчитал дозу. Тогда мы увлеченно обсуждали с ним эксперименты на слонах и даманах. Даманы – африканские животные, которые в общем-то ничем не похожи на слонов, но из-за строения зубов считаются их ближайшими родственниками. Я уже не могу вспомнить, чем они нас так заинтересовали. Но я немедленно и с удовольствием поставила себе задачу: просмотреть каждую из доброй сотни статей, написанных про даманов. Тогда я взялась за изучение поведения животных в зоопарке Лос-Анджелеса, ведение курса по этологии и еще одного по фармакологии. В моей памяти вечеринка в саду сохранилась как чудесное, кипящее жизнью событие. Однако мой психиатр вспоминает ее совсем по-другому. Он видел перед собой женщину с безумным взглядом. Я была слишком провокационно одета, и это разительно отличалось от моего обычного консервативного стиля. Я была ярко накрашена, крайне возбуждена и чрезмерно разговорчива. Он даже отметил про себя: «Кэй выглядит маниакально». Я же полагала, что совершенно неотразима. Моему разуму приходилось прилагать усилия, чтобы сохранять ясность. Идеи приходили и уходили так быстро, что начинали путаться и сталкиваться, будто на шоссе моей логики образовалась нейронная пробка. Чем сильнее я пыталась замедлиться, тем яснее осознавала, что не могу этого сделать. Мое воодушевление тоже било через край, и во всем, что я тогда делала, я видела стройную логику. Однажды, например, я увлеклась копированием: я сделала по тридцать – сорок копий поэмы Эдны Сент-Винсент Миллей, статьи о религии и психозах из American Journal of Psychiatry и еще одной статьи, «Почему я не посещаю разборы клинических случаев». Автор, знаменитый психолог, разобрал все возможные причины, почему плохо организованные разборы клинических случаев – это бездарное убийство времени. Я была уверена, что все три материала наполнены глубоким смыслом и имеют самое непосредственное отношение к моей работе в больнице. Я раздавала их всем, кому могла. Сейчас меня удивляет не то, что я совершала столь типично маниакальные поступки, а то, что в первые дни мании во всех них находился определенный смысл. Например, обходы палат действительно были потерей времени, хотя заведующий отделением был не в восторге, когда я сообщала об этом всем и каждому (и еще менее он обрадовался моей идее распространять эту статью среди сотрудников). Ту поэму Миллей, «Возрождение», я читала еще в юности. Я впадала во все большую экзальтацию, мой разум набирал обороты, и я вдруг с поразительной ясностью вспомнила эти стихи и немедленно их нашла. Хотя мое погружение в безумие только начиналось, эта поэма рассказывала обо всех кругах ада, через которые мне предстояло пройти: автор сначала описывала нормальное восприятие мира («Сначала разглядел мой взор / Лишь три холма да темный бор»), затем приходила в экстаз, говорила о видениях; наконец проваливалась в отчаяние, а после снова возвращалась в реальный мир, теперь уже полный тревог. Миллей было всего девятнадцать, когда она писала эти строки. Много позже я узнала, что она пережила несколько нервных срывов и госпитализаций. В своем нездоровом состоянии я понимала, что эта поэма чем-то важна для меня. Я раздавала ее интернам и практикантам как метафорическое описание психотического процесса и возможности восстановления. Практиканты, хотя и не догадывались о моих истинных мотивах, хорошо откликались на это – они были только рады возможности отдохнуть от обычных медицинских публикаций. Пока я была лихорадочно увлечена работой, мой брак распадался. Я ушла от мужа, объяснив это тем, что хотела иметь детей, а он – нет, хотя на самом деле все было намного сложнее. Я становилась все более беспокойной и раздражительной, я жаждала волнения. Внезапно я поймала себя на том, что бунтую против всего того, что еще недавно любила в своем муже: его доброты, уравновешенности, тепла, нежности. Я отчаянно стремилась к другой жизни. Я нашла ужасно модную квартиру в Санта-Монике, хотя раньше ненавидела современную архитектуру; купила современную финскую мебель, хотя всегда любила уютные и старомодные предметы. Все, что я тогда покупала, было стильным, угловатым, в холодных тонах. Наверное, это как-то успокаивало мой хаотичный ум и расстроенные чувства. Из новой квартиры был впечатляющий (и впечатляюще дорогой) вид на океан. Тратить больше денег, чем у тебя есть, или, как это сформулировано в диагностических тестах, «приступы неумеренного шопоголизма» – классический признак мании. Когда я на подъеме, я не беспокоюсь из-за денег. Они откуданибудь непременно возьмутся. Я имею право. Я особенная. Бог поможет. Кредитные карты – это настоящая катастрофа, а именные чеки и того хуже. К сожалению, мания всегда имеет экономические последствия. С банковскими счетами и кредитками все блага кажутся доступными. Потому я приобрела дюжину наборов против укусов змей и была уверена в важности и своевременности этой покупки. Я скупала драгоценности, элегантную и бесполезную мебель, вызывающую одежду, которая мне не шла. Приобрела трое наручных часов (причем скорее в ценовом классе «Ролекс», чем «Таймекс») с промежутком в один час. Во время одного из приступов шопоголизма в Лондоне я потратила несколько сотен фунтов на книги, которые мне приглянулись лишь своими названиями и обложками: от исследований по палеонтологии кротов до двадцати разных книг издательства Penguin (мне захотелось, чтобы они образовали на моих полках колонию). Однажды я украла из магазина блузку, потому что мне не хватило терпения дождаться своей очереди у кассы. Или, может быть, мне показалась забавной сама идея кражи, не помню. Я была в полном замешательстве. Два серьезных маниакальных эпизода обошлись мне более чем в тридцать тысяч долларов. И Бог знает, сколько я еще растратила во время менее суровых, но многочисленных приступов. Когда ты начинаешь принимать литий и жить с самой обычной человеческой скоростью, то подсчитываешь размеры ущерба. И приходит смирение: манию далеко не каждый может себе позволить. Болезнь усугубляется необходимостью оплачивать дорогие препараты, анализы и психотерапию. И если эти расходы можно, хотя бы отчасти, возместить с помощью системы здравоохранения, то маниакальный шопинг не покроет ни одна медицинская страховка. Так что к тому моменту, когда бурную манию сменяет тяжелая депрессия, у вас есть веская причина, чтобы чувствовать себя еще более подавленным. Докторская степень в Гарварде по экономике не подготовила моего брата к тому, чтобы разбираться с горой счетов, сваленных на полу моей квартиры. Это были счета за покупки по пластиковым картам, розовые листочки уведомлений о превышении лимита по кредиту, охапки счетов из всех магазинов, в которые меня заносило. Отдельной стопочкой лежали письма от коллекторских агентств, не предвещающие ничего хорошего. Хаос в квартире полностью отражал сумбур в моей голове. Теперь, пребывая в самом мрачном расположении духа, я с пристрастием разбирала последствия своей финансовой безответственности. Это напоминало мне археологические раскопки в собственном мозгу. Взять хотя бы счет от таксидермиста за набивку чучела лисы. Всю свою жизнь я любила животных и когда-то мечтала стать ветеринаром: как мне могло прийти в голову купить мертвую лису? Я всегда восхищалась этими хищниками, их ловкостью и сообразительностью. Как я только могла оплатить убийство одного из них? Я была в ужасе от этой покупки и переполнена отвращением к себе. А главное, даже не могла представить, что я буду делать с чучелом, когда его доставят. Чтобы хоть как-то отвлечься, я начала разгребать охапку счетов. Почти на самом верху нашелся счет из аптеки, где я купила наборы против змеиных укусов. Фармацевт, который только что заполнил мой рецепт на литий, понимающе улыбался, пока звонил, чтобы выяснить насчет моих наборов против укусов и прочих странных покупок. Я знала, о чем он подумал, и в благодушии своего нездорового настроения даже оценила комичность ситуации. Но фармацевт, в отличие от меня, даже не догадывался о смертельной угрозе, которую создавали гремучие змеи в долине Сан-Фернандо! Ведь Господь избрал меня, чтобы я спасла людей от нашествия змей-убийц. Или же я так думала в своих бредовых прогулках. Я скупала эти штуки, чтобы защитить себя и близких мне людей. На пике я внезапно поняла, что нужно предупредить о грядущей угрозе Los Angeles Times. Но при этом я была слишком маниакальна, чтобы связать эти бредовые мысли в стройный план. Брат, будто прочитав мои мысли, вошел в комнату с бутылкой шампанского и бокалами на подносе. Он подумал, что шампанское будет нелишним, потому что нам предстоит не самое приятное дело. Мой брат – человек, которого невозможно недооценить. Честный и очень практичный, своей уверенностью он вселяет уверенность в других. Всем этим он похож на нашу маму. Когда родители расставались, он взял меня под свое крыло, оберегая и от жизненных невзгод, и от моего собственного бурного характера. Его надежное плечо всегда было рядом. Во время учебы в колледже, работы в университете и сейчас, когда бы я ни нуждалась в убежище от боли и неизвестности, я была уверена, что среди своей почты найду авиабилет и приглашение навестить его – в Бостоне, Нью-Йорке, Колорадо, Сан-Франциско. Брат всегда был готов меня выслушать, дать совет, взять несколько выходных на работе. Я встречала его в каком-нибудь крупном отеле или роскошном ресторане и была счастлива снова видеть, как он, высокий, красивый, стильно одетый, стремительно шагает мне навстречу. С каким бы вопросом я к нему ни обращалась, он всегда умел показать, что рад мне. А когда я уезжала надолго в другие страны – сначала в Шотландию, затем в Англию по учебе, потом снова в Лондон в творческий отпуск, – я всегда знала, что не пройдет и нескольких недель и он появится там, чтобы узнать, как я, пригласить на ужин или на прогулку по книжным магазинам. После первого тяжелого приступа мании он взял меня под свое надежное крыло. Он сразу дал понять, что, если я нуждаюсь в помощи, он возьмет билеты на ближайший рейс. И теперь он не осуждал мои бессмысленные покупки. Брат взял кредит в отделении Всемирного банка, где работал экономистом, чтобы мы смогли покрыть эти безумные счета. Очень медленно, за многие годы, я вернула ему долги. Точнее, я вернула одолженные деньги. Но я никогда в жизни не смогу по достоинству отплатить брату за его доброту, любовь и понимание. Жизнь тогда неслась с головокружительной скоростью. Я работала допоздна и почти не спала. Дом тем временем погружался в хаос: охапки одежды в каждой комнате, нераспакованные покупки и свертки по углам. Сотни обрывков бумаги повсюду: на рабочем столе, на кухне, целые кучи на полу. На одном из листков были нацарапаны бессвязные обрывки стиха. Я нашла эту записку в холодильнике, рядом с коллекцией приправ, которая за время мании неимоверно разрослась. Я назвала стих «Бог травояден». Таких записок и обрывков было много, они были везде. Только спустя недели я полностью вычистила квартиру и все же продолжала находить в самых невообразимых местах клочки бумаги, исписанные от края до края. В те дни мое восприятие звуков, и в особенности музыки, крайне обострилось. Звуки валторна, гобоя, виолончели стали пронзительными. Я слышала сначала каждую ноту отдельно, затем все вместе, и они ошеломляли меня чистотой и совершенством. Мне казалось, будто я стою в оркестровой яме. Меня переполняли эмоции. Но вскоре сила и печаль классической музыки стали для меня невыносимы. Я переключилась на рок, включала альбомы Rolling Stones на полную громкость. Переходя от трека к треку, от альбома к альбому, я подбирала музыку под настроение, а настроение следовало музыке. Мои комнаты уже были завалены пленками, пластинками, конвертами от них, а я продолжала поиски идеального звука. Однажды я потеряла способность воспринимать музыку. Я была растеряна, испугана, сбита с толку. Мое поведение переставало быть адекватным происходящему. Тьма медленно проникала в мой разум, и в конце концов я полностью потеряла контроль над собой. Я уже не понимала собственные мысли. Фразы в моей голове распадались на обрывки, на отдельные слова. Потом остались лишь бессвязные звуки. В один из вечеров я стояла посреди своей гостиной и смотрела в окно на кроваво-красный закат, разгоравшийся над океаном. Внезапно я ощутила вспышку внутри головы, и перед глазами возникла огромная черная центрифуга. Я увидела высокую фигуру в длинном вечернем платье, которая с колбой крови в руках приближалась к этой центрифуге. Когда фигура обернулась, я с ужасом осознала, что это я и что все мое платье, накидка и длинные белые перчатки залиты кровью. Я смотрела, как я, то есть она, аккуратно поместила колбу с кровью в одно из отделений центрифуги, закрыла крышку и нажала кнопку на машине. Центрифуга начала вращаться. В этот момент изображение вышло за пределы моей головы. Я была парализована страхом. Вращение центрифуги, дребезжание стекла о металл становились все сильнее, а затем машина разлетелась на тысячу осколков. Кровь была повсюду. Она забрызгала оконные стекла, залила стены и картины на них, стекала вниз на ковер. Я взглянула на океан и увидела, что кровь на окне слилась с кровавым закатом, было невозможно отличить одно от другого. Я кричала во всю силу своих легких, но не могла никуда деться от вида крови и грохота машины, которая все ускоряла свое ужасное вращение. Мои мысли не просто кружились в безумной карусели, они превратились в жуткую фантасмагорию жизни и разума, полностью слетевших с катушек. Постепенно галлюцинация отступила. Я позвонила коллеге. Налила себе большой стакан скотча и стала ждать его приезда. К счастью, он пришел на помощь прежде, чем моя мания стала очевидной для всех. Это был мужчина, с которым я встречалась после расставания с мужем, и он очень хорошо меня понимал. Он поставил меня перед фактом, что я должна начать принимать литий. Это было непросто даже для него: я была перевозбуждена, подозрительна и агрессивна. Он был мягок, но неотступен, и сумел убедить меня назначить встречу с психиатром. Вместе мы изучили все, что нашли о моей болезни и методах ее лечения. Управление по контролю за лекарственными средствами разрешило использовать препараты лития для лечения мании всего четыре года назад, в 1970 году, и в Калифорнии найти их было непросто. Но после прочтения всех медицинских исследований стало очевидно, что литий – единственный препарат, который может помочь в моем случае. Мой друг прописал мне литий и еще несколько нейролептиков в качестве «скорой помощи», пока я не получу заключение профессионального психиатра. Он написал мне, сколько таблеток нужно принимать утром и вечером. Он не пожалел многих часов на беседы с моими родственниками, объясняя им, как мне можно помочь. Он также потребовал, чтобы я взяла кратковременный отпуск, и в итоге это спасло меня от потери работы и лицензии на медицинскую практику. А еще он присматривал за мной у меня дома, когда только мог. После этого первого в моей жизни приступа мании я чувствовала себя бесконечно хуже, чем во время худшей из предыдущих депрессий. На самом деле хуже, чем когда-либо еще в своей жизни, за которую я вроде бы уже привыкла к подъемам и падениям. У меня были умеренные приступы мании и раньше, в лучшем случае они приводили меня в экстаз, в худшем – вгоняли в стыд, но никогда не были такими страшными. Я к ним вполне приспособилась, выработала приемы самоконтроля: научилась подавлять приступы неуместного смеха, обуздывать раздражительность. Научилась избегать ситуаций, которые могли взвинтить мои сверхчувствительные нервы, научилась делать вид, что слушаю, когда мой разум витал за облаками, в тысяче разных направлений одновременно. Моя карьера тем временем шла полным ходом. Но ни успех на работе, ни воспитание, ни интеллект, ни характер не подготовили меня к встрече с безумием. Я неумолимо приближалась к этой точке многие недели, осознавая, что все совсем не в порядке. Я отчетливо помню тот момент, когда осознала, что душевно больна. Мои мысли скакали так быстро, что, заканчивая фразу, я уже не помнила ее начала. Обрывки идей, образов, фраз проносились в моем мозгу, как звери в детских сказках. В конце концов, как и эти звери, они превратились в бессмысленные пятна. Все понятное раньше стало непонятным. Я отчаянно хотела снизить темп, но не могла. Ничего не помогало – ни многочасовой бег, ни заплывы на несколько миль. Что бы я ни делала, моя энергия не истощалась. Секс стал слишком интенсивным, чтобы приносить удовольствие, и во время его мне казалось, что мой мозг пронзают черные линии света. Это пугало. Моя фантазия рисовала картины медленной, болезненной смерти всех растений на планете – листок за листком, стебель за стеблем они умирали, и я ничего не могла поделать. Они издавали пронзительные вскрики. Все больше и больше темноты и распада. Наступил момент, когда я решила, что, если мой разум не станет прежним, я убью себя. Сброшусь с ближайшей двенадцатиэтажки. Я дала себе двадцать четыре часа. Но я не чувствовала времени – миллионы мыслей, влекущих и болезненных, проплывали мимо. Бесконечные и ужасные дни бесконечно ужасных препаратов – торазин, литий, валиум, барбитураты. Все это наконец-то подействовало. Я почувствовала, как мой разум замедляется, как я снова его контролирую. Но прошло еще немало времени, прежде чем я снова начала ему доверять. С человеком, в тот период ставшим моим психиатром, я познакомилась, когда он был старшим ординатором Института нейропсихиатрии Калифорнийского университета. Высокий, привлекательный, уверенный в себе, он обладал железной логикой и отличался острым умом и чувством юмора, которое смягчало этот внушительный образ. Он был жестким и дисциплинированным и прекрасно понимал, что и как следует делать. По-настоящему преданный своей профессии, он был отличным учителем. В тот год, когда я была интерном на кафедре клинической психологии, он руководил моей врачебной работой в стационаре для взрослых пациентов. Он стал для меня примером рационального мышления и эмпатии в клинике, где доминировали самолюбование и бессмысленные рассуждения о внутренних конфликтах и сексуальности. Он твердо придерживался мнения о необходимости раннего и интенсивного медикаментозного лечения психотических пациентов, но также был уверен в важности психотерапии для облегчения состояния больного. Его доброта к пациентам в сочетании с глубокими познаниями в медицине, психиатрии и психологии произвели на меня сильнейшее впечатление. Он стал единственным, кому я смогла довериться, когда у меня началась буйная мания сразу же после начала работы на факультете. Я интуитивно понимала, что у меня нет ни малейшего шанса сбить его с толку. В момент полной растерянности я приняла удивительно здравое решение. Когда я впервые записалась к нему на прием, то была не просто серьезно больна. Я была в полном ужасе и растерянности. Я никогда еще не посещала психиатра и даже психолога. Но у меня не оставалось выбора. Я окончательно теряла рассудок. А без профессиональной помощи наверняка потеряла бы работу, без того разваливающийся брак, а возможно, и жизнь. Я ехала из своего университетского офиса в его приемную в долине Сан-Фернандо. Был приятный южный вечер, чудесные часы, но впервые в жизни я дрожала от страха. Мне было страшно от того, что скажет мне врач, и страшно от того, что он мне не скажет. Я не видела никакого выхода из своего положения и не понимала, может ли хоть что-то мне помочь. Я нажала кнопку лифта и прошла по длинному коридору в приемную. Еще два человека ждали своей очереди, и это только усилило мое чувство униженности и смущения от этой смены ролей. Но у меня уже не оставалось никаких сил на поддержание приличного вида ценой нормальной жизни. Возможно, не будь я в тот момент так ранима, все это не имело бы большого значения. Но я была напугана, растеряна и уже ни в чем не уверена. Казалось, моя уверенность в себе, которая, сколько помню, всегда была при мне, взяла длительный отпуск. На дальней стене приемной я заметила ряд кнопок. Очевидно, я должна была нажать на одну из них, чтобы психиатр узнал о моем приезде. Я почувствовала себя крупной подопытной крысой, которая должна нажать на рычаг, чтобы получить вознаграждение. Странно унизительная, хотя и прагматичная система. У меня было давящее чувство, что я не сумею смириться с тем, что сижу по другую сторону стола. Врач открыл дверь, смерил меня долгим взглядом и, сказав что-то ободряющее, усадил за стол. Я совершенно забыла, как это бывает, – уверена, его интонация подействовала не меньше, чем слова, – но тонкий, очень тонкий лучик света робко пробился сквозь мрак моего сознания. Я почти ничего не помню из того, что мы обсуждали на первой сессии, разве что разговор был путаным и бессвязным. Врач сидел и слушал, и все это бесконечно долго длилось. Его высокая фигура приподнималась над столом, он закидывал ногу за ногу, постукивал кончиками пальцев по столу, а затем начал задавать вопросы. По сколько часов я сплю? Трудно ли мне сосредотачиваться? Бываю ли я болтливее, чем обычно? Говорю ли иногда быстрее, чем обычно? Просил ли кто-либо меня говорить медленнее, потому что не мог меня понять? Было ли у меня желание говорить без остановки? Чувствовала ли я необычайный прилив энергии? Говорили ли окружающие, что они за мной не поспевают? Брала ли я на себя больше дел, чем обычно? Ускорялись ли мои мысли до такой степени, что мне трудно было за ними уследить? Чувствовала ли я себя беспокойной, взбудораженной? Более сексуальной? Тратила ли я больше денег? Действовала ли импульсивно? Бывала ли более гневлива и раздражительна? Казалось ли мне, что у меня есть особые силы и способности? Видела или слышала ли я то, чего не замечали другие? Чувствовала ли я странное ощущение возбуждения во всем теле? Бывали ли у меня такие симптомы раньше? Были ли подобные проблемы у кого-то из родственников? Я стала объектом очень тщательного психиатрического исследования. Вопросы были мне знакомы, я сотни раз задавала их сама. Но как пугающе было на них отвечать, не понимая, чем все это может закончиться; осознавать, как это обескураживает – быть пациентом. Я ответила положительно практически на все, включая целый список дополнительных вопросов о депрессии, и поймала себя на том, что совсем по-новому начинаю ценить психиатрию и врачебный профессионализм. Постепенно опыт моего психиатра как врача и его уверенность как человека возымели действие; постепенно начали действовать и препараты, которые успокоили буйство моей мании. Врач прямо и недвусмысленно сказал мне, что у меня маниакально-депрессивное заболевание и мне придется принимать препараты лития. Возможно, всю жизнь. Эти новости звучали пугающе. Тогда о заболевании и его течении было известно значительно меньше, чем сейчас. Но все равно я испытала облегчение, услышав диагноз, который в самой глубине своего сознания считала верным. Но я все же сопротивлялась приговору, который, как мне казалось, выносил мне врач. Он внимательно выслушал все мои сбивчивые попытки найти альтернативное объяснение своим нервным срывам: неудачный брак, стресс из-за переработки, стресс от начала работы в психиатрии. И остался тверд в диагнозе и назначенном лечении. Это было горькое, но все же облегчение. Я прониклась безмерным уважением к своему психиатру за его ясность мышления, очевидную заботу и способность прямо, без обиняков, сообщить плохие новости. На протяжении всех последующих лет, за исключением того времени, что я работала в Англии, я встречалась с ним как минимум раз в неделю. Когда я была в тяжелой суицидальной депрессии – чаще. Он тысячу раз сохранил мне жизнь. Он видел меня в безумии, в отчаянии, в прекрасных и ужасных любовных историях, в моменты побед и разочарований, рецидивов болезни и попытки самоубийства, смерти любимого человека, взлетов и неудач моей карьеры. Проще сказать, он наблюдал практически все аспекты моей психологической и эмоциональной жизни. Он был очень добр ко мне, но притом всегда тверд. Понимая, как никто другой, сколь многое я теряла от приема лекарств – в своей энергии, активности, оригинальности, – он никогда не позволял себе забыть, чего мне будет стоить отказ от них. Его не смущали сложность и двусмысленность, он оставался решителен даже среди хаоса и неопределенности. Он обращался со мной с уважением, с уверенным профессионализмом и несокрушимой верой в мою способность вылечиться и многого достичь. Заболевание и перепады настроения сильно повлияли на мои отношения с близкими и на работу. Но в то же время именно отношения и работа их и формировали. Мне было необходимо научиться понимать эту сложную взаимозависимость, различать в лечении роли лития, силы воли, стремления к выздоровлению и осмысленной жизни. Именно для этого была нужна психотерапия. Я не представляю себе нормальной жизни без помощи лития и психотерапии. Литий смягчает депрессии, предотвращает соблазнительные, но опасные подъемы, проясняет спутанные мысли, замедляет меня, делает мягче. В конце концов, он удерживает от разрушительных шагов в карьере и отношениях, спасает от госпитализации и создает почву для психотерапии. Но раны лечит именно психотерапия. Она помогает обрести смысл в растерянности, разобраться в пугающем хаосе мыслей и чувств, вернуть себе самообладание, надежду и способность учиться на собственном опыте. Таблетки не помогут принять реальность, но вернут в нее быстрее, пока еще есть силы бороться. Психотерапия – это убежище, это поле битвы, это место, где я была психотична, невротична, восторженна, растеряна, отчаянна сверх всякой меры. Но благодаря ей я всегда верила – или научилась верить, – что однажды смогу со всем этим справиться. Ни одна таблетка не спасет вас от нежелания принимать таблетки. Равно как никакое количество часов психотерапии не избавит вас от маний и депрессий без помощи лекарств. Мне было необходимо и то и другое. Это довольно странно – быть обязанной жизнью таблеткам и этим особенным, необычным и глубоким отношениям, которые называют психотерапией. Однако то, что я обязана жизнью литию, довольно долгое время не было для меня очевидным. Мое сопротивление лечению слишком дорого мне обошлось. Тоска по Сатурну Люди с Сатурна сходят с ума по-своему. Не так уж и удивительно, что я, дочь метеоролога, в дни той великолепной летней иллюзии улетела на эту далекую планету, чтобы скользить по облакам и эфиру, мимо звезд, через поля ледяных кристаллов. Даже сейчас, особенным взглядом своего разума, я вижу необычайное мерцание света, переменчивые цвета поверх гигантских вращающихся колец и едва заметные бледнолицые луны этой планеты – огненного колеса. Помню, как пела «Унеси меня к лунам», мысленно проносясь мимо спутников Сатурна и считая себя крайне остроумной. Тогда я видела и чувствовала то, что было лишь фантазией. Было ли это в реальности? Конечно же нет, ни в одной из разумных ее трактовок. Но было ли это со мной? Да. Спустя много времени после того, как мой психоз прошел, а медикаменты начали действовать, это стало одним из тех ярких воспоминаний, что остаются на всю жизнь, овеянные прустовской меланхолией. Спустя годы после этих странствий души и разума Сатурн с его ледяными кольцами приобрел для меня элегическую красоту. Я и сейчас не могу смотреть на изображения этой планеты, не чувствуя острой грусти от того, что она теперь так далека от меня, так недостижима. Сила, великолепие и абсолютная уверенность полетов моего разума долго не давали мне поверить, что я должна по собственной воле расстаться с ними как с болезнью. Я была медиком и ученым, я прочитала массу исследований и ясно понимала неизбежность тяжелых последствий отказа от лития. Но долгие годы после постановки диагноза я сопротивлялась приему лекарств. Почему? Почему мне пришлось пройти через новые эпизоды мании, через затяжные суицидальные депрессии, прежде чем я стала систематически принимать литий? Сопротивление, без сомнения, росло из категорического отрицания того, что мое состояние – на самом деле болезнь. Как ни странно, это довольно типичная реакция на ранних стадиях заболевания. Перепады настроений настолько неотъемлемая часть жизни и представлений о самом себе, что даже психотические крайности могут казаться временными, объяснимыми реакциями на жизненные события. Я ужасно страдала от ощущения потери себя, того, кем и где я была. Отказаться от полетов разума было трудно, даже несмотря на то, что неизменно следовавшие за ними депрессии едва не стоили мне жизни. Друзья и родные рассчитывали, что я буду рада стать «нормальной», буду благодарна лечению и с легкостью приму нормальный сон и уровень энергии. Но если вы ходили по звездам и продевали руки сквозь кольца планет, если вы привыкли спать всего четыре-пять часов в сутки, а теперь вам требуется восемь, если раньше вы могли бодрствовать ночи напролет, а теперь не можете, то встроиться в ритм жизни простых смертных – непростая задача. Каким бы он ни был комфортным для других, для вас такая жизнь непривычна, полна ограничений, куда менее продуктивна и безумно скучна. Когда я жалуюсь знакомым на то, что стала менее энергичной, бодрой и живой, они, пытаясь меня поддержать, отвечают: «Ничего, просто ты теперь такая же, как и все мы». Но я-то сравниваю себя не с ними, а с собой прежней. Более того, я часто сравниваю себя нынешнюю с собой «лучшей», то есть во время умеренной мании. И нынешняя «нормальность» так далека от того состояния, когда я была самой яркой, самой активной, полной сил и энергии. Я так скучаю по себе прежней. Я скучаю по Сатурну. Моя война с литием началась вскоре после того, как я начала его принимать. Впервые мне прописали этот препарат осенью 1974 года. Но уже ранней весной 1975-го, вопреки советам врача, я прекратила прием. Как только мания прошла и я пришла в себя после последовавшей за ней ужасной депрессии, мой разум выстроил целую армию обоснований сопротивления лекарствам. Одни из них были чисто психологическими. Другие были связаны с побочными эффектами от высоких доз лития, которые были нужны для удержания моего настроения в норме. (В 1974 году в медицинской практике было принято назначать более высокие дозировки лития, чем сейчас. Потом я многие годы принимала меньшие дозы препарата, и практически все побочные эффекты исчезли.) С побочными эффектами, которые мучили меня первые десять лет лечения, было трудно справиться. Для небольшой части пациентов, включая меня, терапевтическая доза лития, то есть та, при которой он начинает действовать, опасно близка к токсической. В том, что литий мне помогает, сомнений не было. У меня классическая форма маниакально-депрессивного заболевания – полный набор симптомов из учебника по психиатрии. И все эти симптомы хорошо лечатся литием. У меня были грандиозные мании, и они предшествовали депрессиям гораздо чаще, чем наоборот. Но препарат сильно влиял на умственную деятельность. Я оказалась зависима от лекарства, которое вызывало частые и сильные приступы тошноты и рвоты. Порой мне приходилось спать на полу в ванной, завернувшись в теплый шерстяной плед из Сент-Эндрюса. Из-за изменений в питании и физической нагрузке, колебаний гормонов или уровня солей в крови концентрация лития внезапно оказывалась слишком высока. Мне становилось плохо в столь разных местах, что я бы предпочла их всех не помнить. Часто это были общественные места: аудитории, рестораны, Национальная галерея в Лондоне… (все изменилось к лучшему, когда я перешла на препараты с медленным высвобождением лития). Когда интоксикация была сильной, я начинала дрожать, теряла ориентацию в пространстве и буквально натыкалась на стены, речь становилась спутанной. В результате я несколько раз оказывалась в скорой помощи, чтобы получить внутривенную инъекцию против интоксикации. Но гораздо более унизительным было то, что порой я выглядела так, будто была под наркотиками или перебрала с алкоголем. Однажды вечером после занятия по верховой езде в Малибу, во время которого я дважды упала с лошади, меня остановила полиция. Они подвергли меня тщательной неврологической проверке, которую я провалила: не смогла пройти по прямой линии, не коснулась кончиком пальца носа, и у меня не получилось постучать кончиками пальцев по большому пальцу. Боюсь представить, как выглядели мои зрачки, когда полицейский посветил в них фонариком. Стражи порядка отказывались верить, что я не под кайфом, до тех пор, пока я не продемонстрировала им свои лекарства и контакты психиатра и вдобавок согласилась сдать любые анализы, какие они потребуют. Вскоре после этого инцидента, когда я немного научилась ездить на лыжах, я спускалась с очень высокой горы где-то в Юте. Я тогда не знала, что высота в сочетании с физической нагрузкой может поднять уровень лития в крови. Я совершенно потеряла ориентацию и не могла найти дорогу вниз. К счастью, мой коллега, который знал, что я принимаю, начал беспокоиться, когда я не вернулась в положенное время. Он решил, что мне стало плохо, и отправил за мной лыжный патруль. В итоге я спустилась с горы вполне безопасно, хоть и намного более горизонтально, чем хотелось бы. Но в какие бы неудобные положения меня ни ставили тошнота, рвота и периодические отравления, это были еще не самые тяжелые побочные эффекты. Литий повлиял на мою способность читать, понимать и запоминать прочитанное. В редких случаях литий вызывает проблемы с аккомодацией глаза, что снижает четкость зрения. Но также он ослабляет внимательность, память и способность концентрироваться. Чтение, которое всегда было основой моей интеллектуальной и эмоциональной жизни, внезапно оказалось почти недоступным. Я привыкла читать по три-четыре книги в неделю, а теперь это было невозможно. За десять лет я не прочла целиком, от корки до корки, ни одного серьезного научного или литературного произведения. Мои боль и отчаяние были безмерны. В слепой ярости я бросала книги об стену, швыряла медицинские журналы через весь кабинет. Статьи в журналах давались мне легче, чем книги, потому что они короче. Но и те требовали огромного труда: мне приходилось перечитывать по нескольку раз одни и те же строки и делать письменные заметки, чтобы понять смысл прочитанного. Но даже после этого информация исчезала из моей памяти, как снег с прогревшейся земли. Чтобы как-то занять часы, опустевшие без чтения, я начала вязать и делала бесконечные подушечки и салфетки. Слава Богу, стихи мне были все еще по силам. Я всегда любила поэзию и теперь набросилась на нее со всей страстью. Я обнаружила, что детские книги гораздо доступнее, так как они короче книг для взрослых и вдобавок в них просто крупнее буквы. Я снова и снова перечитывала детскую классику: «Питер Пэн», «Мэри Поппинс», «Паутина Шарлотты», «Приключения Гекльберри Финна», «Волшебник страны Оз», «Доктор Дулиттл»… Когда-то давно они открыли для меня столько новых, незабываемых миров. А теперь – дали второй шанс, второе дыхание счастья и красоты. Чаще всего я возвращалась к книге «Ветер в ивах». Временами я бывала полностью ею захвачена. Однажды я разрыдалась над описанием Крота и его домика. Я плакала, не в силах остановиться. Недавно я достала с полки этот томик, который не открывала с тех пор, как снова обрела способность читать, и попыталась понять, что же меня так потрясло. Довольно быстро я нашла тот самый отрывок. Крот много времени провел вдали от своего подземного дома, путешествуя и исследуя мир вместе со своим другом Крысом. Однажды зимним вечером во время прогулки он внезапно почуял запах своего старого дома, и «воспоминания обрушились на него потоком». – Рэтти, Рэтти! – позвал он, приходя в веселое возбуждение. – Обожди! Вернись! Ты мне нужен! Скорее! – Не отставай, Крот, – бодро отозвался дядюшка Крыс, продолжая шагать. – Ну, пожалуйста, постой, Рэтти! – молил бедняжка Крот в сердечной тоске. – Ты не понимаешь, тут мой дом, мой старый дом! Я его унюхал, он тут близко, совсем близко! Я должен к нему пойти, я должен, должен! Ну пойди же сюда, Рэтти, ну постой же! Крыс сначала не хочет тратить на это время, но в итоге соглашается навестить Крота в его доме. Позднее, по– сле рождественских гимнов и чашечки горячего эля у камина, Крот рассуждает, как же сильно он скучал по прежним теплу и безопасности, по всем этим «знакомым и дружелюбным предметам, что бессознательно уже давно стали частью его самого». В этот момент я точно вспомнила, каким-то внутренним чутьем, что я почувствовала тогда, когда только начала принимать литий: я скучала по своему дому, своему разуму, своей жизни с книгами и всеми «дружелюбными предметами», по своему миру, в котором все было на своих местах, и ничто не могло вторгнуться и разрушить его. А теперь у меня не было иного выбора, кроме как жить в разрушенном мире. Я скучала по тем дням до болезни и лечения, которые затронули каждый аспект моего существования. Как с благодарностью принять литий в свою жизнь 1. Уберите лекарства с полочки, если вы ждете гостей на ужин или любовника на ночь. 2. Не забудьте вернуть их на место на следующий день. 3. Не расстраивайтесь из-за плохой координации движений и неспособности заниматься теми видами спорта, которые вы раньше любили. 4. Научитесь смеяться над разлитым кофе, своей кривой стариковской подписью и тем, что на застегивание пуговиц требуется не меньше десяти минут. 5. Смейтесь над шутками знакомых о том, что им стоило бы принимать литий. 6. Кивайте с умным видом и убежденностью, когда врач объясняет вам, как литий помогает справиться с хаосом в вашей жизни. 7. Наберитесь терпения и дождитесь, пока лекарства начнут действовать. Очень много терпения. Перечитайте Книгу Иова. Проявите еще немного терпения. 8. Не позволяйте себе расстраиваться из-за того, что больше не можете читать. Отнеситесь к этому философски. Ведь даже если бы могли, то все равно не сумели бы запомнить прочитанное. 9. Смиритесь с недостатком воодушевления и бодрости, что у вас были раньше. Постарайтесь не думать о безумных ночах в прошлом. Возможно, было бы лучше, если бы их и вовсе не было. 10. Всегда помните о том, насколько вам сейчас лучше. Окружающие будут вам об этом напоминать регулярно, и приходится признать, что они правы. 11. Будьте благодарны за все. Даже не думайте бросать принимать литий. 12. Но если вы все-таки это сделаете и как результат снова впадете в манию, а затем в депрессию, то будьте готовы выслушивать рассуждения близких и врачей на две темы: «Не понимаю, в чем дело! Тебе же было лучше» и «Мы же предупреждали!». 13. Запаситесь медикаментами. Как выяснилось, психологические факторы сыграли куда большую роль в моем сопротивлении лечению, чем побочные эффекты. Я просто отказывалась верить, что мне нужно лечение. Я была зависима от своих эйфорических настроений. Я была зависима от силы, уверенности, эйфории, которые они приносили, от того, как я заражала окружающих своим воодушевлением. Как игроки, готовые пожертвовать всем ради экстаза выигрыша, или кокаиновые наркоманы, рискующие своей семьей, карьерой и жизнью ради кратких моментов полета, я цеплялась за легкую манию, которая давала мне пьянящую свободу и энергию. Я не могла от нее отказаться. Где-то в глубине души – из-за чопорного военного воспитания, требовательности родителей и собственного упрямства – я продолжала верить, что должна самостоятельно преодолевать любые трудности на своем пути, без костылей вроде лекарств. Не одна я так думала. Когда я заболела, сестра настаивала, что мне не нужен литий. Она была во мне разочарована. Несмотря на ее собственный бунт против пуританского воспитания, она была уверена, что я должна пройти все депрессии и мании, а лекарства лишат меня боли и глубины переживаний, необходимых для духовного развития. Мне было очень трудно поддерживать с ней отношения из-за наших общих депрессий и соблазнительной опасности ее взглядов на лечение. Однажды вечером она высказала мне все: что я «капитулировала перед медицинской мафией», что я «подавила литием свои чувства». Что моя душа очерствела, мой огонь потух и осталась лишь оболочка меня прежней. Она ударила меня по больному месту и, полагаю, об этом знала. Это привело в бешенство мужчину, с которым я тогда встречалась. Он видел меня в действительно плохом состоянии и не находил ничего привлекательного в безумии. Он попытался отшутиться: «Возможно, твоя сестра – лишь тень себя прежней, – сказал он ей, – но и этого более чем достаточно». Это не помогло. Сестра ушла, оставив меня в болезненных сомнениях, верно ли мое решение принимать лекарства. Я не могла больше находиться рядом с человеком, который так травил мне душу. Она будила во мне голоса воспитателей, убеждавших, что я должна справляться со всеми трудностями самостоятельно; она взывала к моей нездоровой части сознания, которая, подобно наркозависимому, требовала новой дозы эйфории. Все-таки я уже начинала осознавать (пока только начинала), что на кону не только разум, но и вся моя жизнь. Но не так я воспитана, чтобы сдаться без боя. Я ведь действительно верила в то, чему меня учили: нужно пережить, справиться, не отягощать своими проблемами окружающих. Оглядываясь назад на все то разрушение, что принесло это глупое упрямство, мне уже трудно понять, чем я тогда думала. Почему не подвергала сомнению эти косные, нелепые концепции? Почему не понимала, насколько они абсурдны? Несколько месяцев назад я попросила у своего психиатра копию моей медицинской книжки. Это было обескураживающее чтение. В марте 1975 года, через шесть месяцев после назначения лития, я перестала его принимать. Через считаные недели у меня началась мания, после – тяжелая депрессия. В том же году я возобновила прием медикаментов. Читая заметки врача, я пришла в ужас от того, сколько раз повторялся этот цикл. 17.07.75. Пациентка решила возобновить прием лития из-за тяжести депрессивного эпизода. Начнем с 300 мг дважды в день. 25.07.75. Рвота. 05.08.75. Адаптация к литию. Пациентка чувствует себя подавленно, думает о том, что во время гипомании ей было лучше. 30.09.75. Пациентка снова прекратила прием лития. Утверждает, что ей важно доказать, что она может справляться со стрессом самостоятельно. 02.10.75. По-прежнему отказывается от лития. Началась гипомания, и пациентка это отлично понимает. 7.10.75. Возобновляет прием лития из-за возросшей раздражительности, бессонницы и неспособности сконцентрироваться. Отчасти мое упрямство можно списать на человеческую природу. Любому хронически больному трудно привыкнуть принимать препараты четко по расписанию. А когда наступает улучшение и симптомы исчезают, это становится еще труднее. В моем случае, как только приходило облегчение, у меня не оставалось ни желания, ни мотивации продолжать лечение. Начать с того, что я вообще не хотела принимать медикаменты. Было трудно смириться с побочными эффектами, и я скучала по прежним полетам. А когда я снова приходила в норму, проще всего было отрицать, что я вообще больна, что депрессия вернется. Каким-то образом я верила, что представляю собой исключение из правил и на меня не распространяются научные исследования, которые недвусмысленно показывают, что маниакально- депрессивное заболевание всегда возвращается в еще более суровой форме. Дело даже не в том, что я сомневалась в эффективности лития, вовсе нет. Доказательства его воздействия были весьма убедительны. И я знала, что именно мне он помогает. Не было у меня и никаких этических предубеждений против медикаментов. Напротив, я не переношу людей, выступающих против использования препаратов в лечении психических расстройств. В особенности если они – профессиональные психиатры или психологи. Тех медиков, которые почему-то проводят черту между «медицинскими», поддающимися медикаментозному лечению заболеваниями и психиатрическими – депрессией, маниакально-депрессивным психозом, шизофренией. Я убеждена, что маниакально-депрессивное заболевание – точно такая же медицинская проблема. Я также убеждена, что за редчайшим исключением лечить ее без медикаментов непрофессионально. Но вопреки всем этим убеждениям, тогда я продолжала думать, что должна идти своим путем, справляясь без таблеток. Психиатр со всей серьезностью относился к моим жалобам на побочные эффекты, экзистенциальные сомнения и противоречие моим жизненным ценностям. Но он ни разу не поколебался в своем убеждении, что мне нужно принимать литий. Он категорически отказался попадаться в мою хитро сплетенную сеть аргументов за то, что я, еще хотя бы один раз, должна попытаться выжить без лекарств. Он никогда не забывал, какой передо мной стоял выбор. Дело было не в том, что литий имел побочные эффекты, и не в том, что я тосковала по прежним полетам разума. И даже не в том, что прием лекарств не вписывался в мои идеализированные представления о себе. Вопрос был в том, продолжу ли я по-прежнему принимать литий лишь эпизодически, тем самым гарантируя себе новые мании и депрессии. А выбор был (и он всегда это держал в голове) – выбор между здоровьем и безумием, между жизнью и смертью. Мании случались все чаще, становились все более смешанными. То есть эйфорические эпизоды, которые я называла «светлыми маниями», все чаще перекрывались тревожными депрессиями. А депрессии становились только хуже. Мысли о самоубийстве преследовали меня постоянно. Почти у каждого лекарства есть те или иные побочные эффекты. И если задуматься, у лития они не худшие. Не говоря о том, насколько это мягкое средство по сравнению с тем, что применяли в таких случаях раньше: кровопускание, приковывание, влажные обертывания, заключение в сумасшедшем доме. И хотя современные противосудорожные средства очень действенны и часто лишены серьезных побочных эффектов, для многих больных литий и по сей день остается самым эффективным препаратом. Я знала это и тогда, хоть и с меньшей уверенностью, чем сегодня. В глубине души я до ужаса боялась, что литий не сработает. Что, если я продолжу его принимать и по-прежнему останусь больной? Если же я откажусь от лекарства, то и мой худший кошмар не сбудется. Мой врач довольно быстро увидел этот страх и сделал в своих записях заметку, которая точно передала его парализующую силу: «Пациентка смотрит на медикаменты одновременно как на надежду на исцеление и на приговор к самоубийству – если они не сработают. Она боится потерять последнюю надежду». Годы спустя я оказалась в зале, заполненном почти тысячей психиатров, многие из них были увлечены кормежкой. Бесплатной едой и напитками в больших количествах легко выманить докторов из их кабинетов. Журналисты часто пишут об августовской миграции психиатров, но в мае им присущ другой тип стайного поведения. В месяц, на который приходится пик самоубийств, пятнадцать тысяч врачей собираются на ежегодную встречу Американской психиатрической ассоциации. Я вместе с несколькими коллегами должна была выступить там с лекцией о новых достижениях в диагностике, патопсихологии и лечении маниакально-депрессивного психоза. Я, конечно, была рада, что мое собственное заболевание оказалось в центре внимания. Это были его «золотые годы». Но я также знала, что вскоре это почетное место неизбежно займет обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное или, может быть, паническое. Или какое-то еще, которое попадет в тренд благодаря тому, что обещает научный прорыв, дает особенно яркие картинки на позитронно-эмиссионной томографии, оказалось в центре особенно скандального судебного дела или же его стали с большей готовностью покрывать страховые компании. Я должна была рассказать о психологических и медицинских аспектах лечения литием и, как это часто делала, начала выступление цитатой «пациента с маниакально-депрессивным психозом». Я прочла ее так, будто автор – кто-то другой, хотя наблюдение было основано на моем собственном опыте. Наконец поток вопросов иссяк. Мой психиатр взглянул на меня и уверенно сказал: «Маниакально-депрессивный психоз». Я была восхищена его прямотой. Я мысленно пожелала ему нашествия чумы и саранчи. В его глазах сияла тихая ярость. Я мягко улыбнулась. Он улыбнулся в ответ. Война только начиналась. Эта горькая правда нашла благодарную аудиторию, потому что редкий психиатр не имел дела со скрытым (а то и очень явным) сопротивлением лечению со стороны пациентов с маниакальнодепрессивным заболеванием. Моя последняя фраза: «Война только начиналась» – вызвала взрыв смеха. Но главная ирония была все же не в том, чтобы это сказать, а в том, чтобы это пережить. К сожалению, это сопротивление годами продолжается в жизнях десятков тысяч больных. Почти всегда оно приводит к рецидивам болезни, нередко завершается трагично. Спустя несколько лет я наблюдала эту борьбу в одном из своих пациентов. Он стал для меня самым болезненным напоминанием о том, какова цена упрямства. В отделении экстренной помощи при Калифорнийском университете бурлила жизнь: сновали интерны, стажеры, студенты. Одновременно оно дышало болезнью и смертью. Люди двигались быстро, с той бойкой уверенностью, которую дают хорошее образование, интеллект и экстремальная ситуация. Несмотря на то, что меня вызвали в отделение по неприятному поводу – у моего пациента был острый приступ психоза, – вскоре я тоже была захвачена бодрящим темпом работы. Раздался душераздирающий вопль из одной из палат – крик ужаса и безумия. Я спустилась бегом по коридору: мимо медсестер, мимо врача, диктовавшего заметки в медицинскую карту, мимо хирурга-ординатора, склонившегося над справочником лекарственных средств с чашкой кофе в руке, стетоскопом на шее и гемостатом, прицепленным к короткому рукаву его зеленого халата. Я распахнула двери палаты, из которой доносился крик, и мое сердце упало. Сперва я увидела знакомого психиатра, он сочувственно мне улыбнулся. Потом – своего пациента. Он был зафиксирован на каталке четырьмя ремнями. Тело было распростерто на каталке, колени и запястья в кожаных ремнях, дополнительный ремень через грудь. Мне стало не по себе. Несмотря на надежную фиксацию, я испугалась. Год назад этот самый пациент на сеансе психотерапии держал нож у моего горла. Тогда я позвонила в полицию, и его отправили на принудительное лечение в одно из закрытых отделений Института нейропсихиатрии при Калифорнийском университете. Семьдесят два часа спустя, милостью американской судебной системы, он был возвращен обратно в общество. И под мою опеку. Трое полицейских, которые стояли у каталки, держа руки на оружии, явно были уверены, что он представлял «угрозу для себя и окружающих». Даже если судья придерживался иного мнения. Мужчина снова закричал. Это был дикий и пугающий вопль, отчасти оттого, что сам он был до смерти напуган, отчасти потому, что это был очень крупный и сильный мужчина в состоянии полного безумия. Я положила руку ему на плечо и почувствовала, как его тело бьет дрожь. Я никогда раньше не видела в глазах столько ужаса, столько боли и смятения. Мания с бредом может быть разной, но она всегда страшна. Врач сделал ему внушительную инъекцию антипсихотика, но тот пока не подействовал. У пациента был приступ паранойи, бред, слуховые и зрительные галлюцинации. Глядя на него, я вспомнила кадры из фильмов, когда лошадь попадает в пожар и в ее глазах отражается дикий ужас, а тело сковано страхом. Я мягко потрепала мужчину по плечу и сказала: «Я доктор Джеймисон. Вам ввели галдол, и теперь мы отвезем вас в палату. Вам станет лучше». Мне удалось поймать его взгляд на секунду. Потом он снова закричал. «Вам станет лучше. Я знаю, сейчас вы в это не верите, но вы снова будете в порядке». Я взглянула на три увесистых тома истории болезни, которые лежали на столике рядом. Вспомнила бесчисленные госпитализации и задумалась о том, могла ли я что-то ему обещать. Я не сомневалась, что ему станет лучше. Другой вопрос, как долго это продлится. Литий ему отлично помогал, но как только галлюцинации и панические атаки проходили, он просто прекращал его принимать. Ни мне, ни ординатору не нужно было смотреть на анализ его крови. Лития в ней не было. И результатом была мания. Затем последует суицидальная депрессия, а с ней боль и разрушение в его жизни и в жизни его семьи. Тяжесть депрессии, как в черном зеркале, отражала буйство его мании. У мужчины была особенно тяжелая, хоть и не редкая, форма болезни. Литий помогал, но пациент отказывался его принимать. Тогда, стоя рядом с ним в реанимационном отделении, я думала, что все то время и душевные силы, что я и мои коллеги вложили в его лечение, были бессмысленны. Галдол постепенно начал действовать. Крики затихли, как и попытки вырваться. Пациент уже не выглядел так напуганно и столь пугающе. Спустя какое-то время он неуверенно попросил: «Доктор, не оставляйте меня. Пожалуйста, не оставляйте». Я твердо сказала его, что буду рядом, пока его не направят в больницу. Я знала, что была единственной константой в череде его госпитализаций, судебных разбирательств, депрессий, семейных собраний. Как своему многолетнему психотерапевту, он доверял мне страхи и мечты, вдохновляющие и разрушенные отношения, грандиозные, а затем проваленные планы на будущее. Я видела его удивительную силу воли, смелость и ум. Этот человек вызывал во мне симпатию и уважение. Но я все больше разочаровывалась из-за его отказа принимать лекарства. Я могла понять его тревоги, но лишь до определенного предела. Со временем мне становилось все труднее смотреть, как он продолжает идти по предсказуемому и болезненному кругу рецидивов. Ни психотерапия, ни убеждение, ни просвещение, ни принуждение не работали. Никакие соглашения с врачами и медсестрами не действовали. Семейная терапия тоже не помогала. Вся круговерть госпитализаций, разбитых отношений, финансовых катастроф, потерянных должностей, арестов и прочих растрат этого сильного, образованного и творческого ума ничего не изменили. Что бы мы ни предпринимали, ничего не помогало. За годы я просила нескольких коллег проконсультировать его, но и они не смогли достучаться, не смогли пробить толстую броню его сопротивления. Я потратила часы на обсуждение его поведения со своим психиатром, отчасти чтобы получить совет, отчасти чтобы убедиться, что на какомто подсознательном уровне на пациента не оказывает влияния мой собственный опыт сопротивления лечению. Его мании и депрессии становились все более частыми и тяжелыми. Хеппи-энда не случилось. Медицина и психология оказались бессильны – ничто не смогло заставить его принимать препараты достаточно долго, чтобы оставаться в форме. Литий ему помогал, но он отказывался его принимать; психотерапия работала, но, видимо, недостаточно хорошо. Его болезнь была очень тяжелой и в конечном итоге стоила ему жизни. Как и тысячам других людей по всему миру. Я понимала, что мои возможности не безграничны, и это меня терзало. Нам всем непросто в пределах своих ограничений. Морг Я дорого заплатила за свое нежелание принимать литий регулярно. Буйная мания с психозом неизбежно сменялась долгой, черной, суицидальной депрессией. Она длилась больше полутора лет. Все долгие дни, с самого утра и до ночи, я чувствовала себя измученной. Казалось, никакие радости и увлечения мне недоступны. Все – каждое слово, мысль, движение – давалось мне с трудом. Все, что раньше сияло, потускнело. Я казалась себе глупой, скучной, холодной, неживой, обескровленной. Я сомневалась, что способна делать хоть что-то хорошо. Как будто мой разум замедлился, выгорел до такой степени, что стал совершенно бесполезным. Бессмысленная, отупевшая масса серого вещества все еще шевелилась – лишь для того, чтобы мучить меня бесконечными мыслями о собственных недостатках и несуразностях, чувством абсолютной, отчаянной безнадежности. «Какой во всем этом смысл?» – спрашивала я себя. Окружающие отвечали: это лишь временно, все пройдет, тебе станет лучше. Но они понятия не имели, до какой степени мне было плохо, хотя и считали, что понимают. Снова и снова я повторяла: если я не могу чувствовать, не могу двигаться, думать, если мне все безразлично, какой вообще смысл жить? Мой ум притягивала смерть, она всегда была рядом. Я видела ее во всем. Перед моими глазами появлялись холодный саван, бирки на ногах, мешки для трупов. Все вокруг служило лишь напоминанием того, что конец неизбежен. Память послушно следовала разуму, выдавая самые болезненные моменты из прошлого. Каждый новый день казался хуже предыдущего. Все требовало огромных усилий. Чтобы просто помыть волосы, требовались часы, и потом я еще долго чувствовала себя измотанной. Сделать кубики льда было слишком трудно. Иногда я спала в уличной одежде, не находя сил ее снять. В этот период я общалась со своим психиатром по два-три раза в неделю. Я снова вернулась к приему лития. Врач вел учет медикаментов, которые я принимала, – в частности антидепрессантов, которые делали меня еще более взвинченной. В его записях сквозят безнадежность, отчаяние и стыд, так присущие депрессии. «Пациентка возвращается к мыслям о самоубийстве. Говорит о желании спрыгнуть с крыши больницы… По-прежнему высок риск самоубийства. Она категорически против госпитализации, и, по моему мнению, ее нельзя отправлять в больницу принудительно. Страх перед будущим. Страх перед рецидивами и необходимостью признать свое состояние». «Пациентка растеряна, считает, что, какой бы тяжелой ни была депрессия, она не будет с ней мириться. Стремится держаться подальше от людей во время депрессии, потому что "обременяет их своим невыносимым присутствием". Боится выйти из моего кабинета. Не спала несколько дней. В отчаянии». Затем моя депрессия взяла небольшую паузу, но лишь для того, чтобы вернуться в еще более жуткой форме: «Пациентка чувствует себя разбитой. Безнадежность и подавленность возвращаются». Врач не раз пытался убедить меня лечь в больницу, но я отказывалась. Меня ужасала мысль о том, что я буду заперта, окажусь вдали от привычного окружения. Меня пугала перспектива групповой терапии и унизительных вмешательств в мое личное пространство, которые в психиатрической больнице неизбежны. В тот период я работала в закрытом отделении, и мне категорически не нравилась перспектива остаться без ключа в кармане. Но больше всего меня беспокоили последствия для карьеры. Ведь если о госпитализации узнают, моя лицензия на медицинскую практику будет в лучшем случае приостановлена, в худшем – отозвана навсегда. Я продолжала сопротивляться добровольному лечению. И поскольку законодательство Калифорнии больше нацелено на благополучие юристов, чем пациентов, избежать принудительной госпитализации было относительно несложно. Даже если бы меня заперли, не было никаких гарантий, что я не предприму попытку самоубийства в больнице. Подобное случается в психиатрических клиниках не так уж и редко. После всего этого я договорилась с психиатром и семьей, что в случае глубокой депрессии они отправят меня в больницу или на электрошоковую терапию (многим она помогает при тяжелой депрессии) даже против моей воли. Но тогда казалось, ничего не помогает. Несмотря на самый бережный уход, я желала только все прекратить и умереть. Я решила, что убью себя. Я хладнокровно решила никому не показывать своего намерения, и мне это удалось. Единственная запись, которую сделал мой врач за день до попытки самоубийства, такова: «В глубокой депрессии. Очень тиха». В ярости я стащила со стены ванной лампу, чувствуя волну разрушительной силы во всем теле. «Ради Бога», – проговорил он, вламываясь в ванную, и замер. Я прочитала в глазах моего мужчины жуткую смесь тревоги, страха, раздражения и отказа принимать происходящее: «Господи, почему я?» «Ты цела?» – спросил он. Повернув голову, я увидела в зеркало, как кровь течет по моим рукам, пропитывая кружево соблазнительной сорочки, которая всего час назад участвовала в совсем другом, гораздо более приятном действе. «Я так больше не могу, не могу», – шептала я себе, не в силах произнести это вслух. Слова застревали в горле, а мысли проносились слишком быстро. Я начала стучать головой о дверь. «Боже, прекрати все это, я больше не могу терпеть, я знаю, что схожу с ума». Спустя минуты он тоже кричал, его взгляд сиял диким безумием, которым, казалось, я его заразила. «Я не могу тебя здесь оставить» …Но я наговорила ему ужасных вещей, а потом буквально вцепилась в горло. И он все же оставил меня, исчерпав все терпение, не в силах больше видеть это отчаяние. Я не способна передать это словами. Ничего уже не поделать. Я не могу думать, я не могу унять эту смертельную лихорадку. Грандиозные идеи, которые захватывали меня всего час назад, теперь кажутся жалкими и абсурдными. Моя жизнь разрушена, и хуже того, она разрушительна для близких. В моем теле больше невозможно жить. Оно стонет в ярости, переполненное энергией разрушения, его неудержимо влечет к смерти. В зеркале я вижу незнакомое существо, с которым я почему-то должна делить свою жизнь. Я понимаю, почему доктор Джекил убил себя прежде, чем Хайд полностью завладел им. Я проглатываю убийственную дозу лития без всяких сожалений. Если тебе удастся покончить с собой, психиатры назовут эту попытку «успешной». Без такого успеха вполне можно обойтись. В разгар моей неописуемо жуткой полуторагодовой депрессии я решила, что с помощью самоубийств Бог спасает мир от безумцев. Это работает. Страшная подавленность изо дня в день, каждую ночь, непрекращающаяся агония. Это безжалостная, неумолимая боль, не оставляющая ни единого просвета для надежды, никакого спасения от леденящих душу мыслей и чувств, которые не дают покоя ночами. Ничего, кроме унылого и безрадостного существования. Используя такие пуританские понятия, как «успех» и «неуспех», по отношению к страшному, непоправимому акту самоубийства, мы подразумеваем, что те, кто не сумел убить себя, не только слабы, но и бестолковы, раз они не могут даже покончить с собой как следует. Самоубийство почти всегда иррационально. Крайне редко человек решается на него в здравом уме, каким он обладает в лучшие дни. Это импульсивный шаг, и чаще всего все выходит не так, как планировалось. Я была уверена, что исчерпала все ресурсы. Я больше не могла терпеть боль, не могла выносить того измученного и утомительного человека, которым стала, не могла больше нести ответственность за хаос, который привносила в жизнь друзей и родных. В помутненном сознании я представляла, что я, как пилот из моего детства, пожертвовавший жизнью, чтобы спасти других, принимала единственно верное решение ради людей, которых любила. Казалось, это единственный разумный выход и для меня самой. Ведь иногда загнанную лошадь пристреливают, чтобы спасти от мучений. Однажды я купила ружье, но в момент прояснения сознания рассказала об этом психиатру. Не без сожаления, но мне пришлось от него избавиться. Затем, месяц за месяцем я поднималась по лестнице на восьмой этаж больницы при Калифорнийском университете и раз за разом едва удерживала себя, чтобы не броситься вниз. Суицидальная депрессия – не то состояние, в котором ты думаешь о других, но каким-то чудом мысль о том, что родным придется опознавать мое переломанное тело, удержала меня от падения. Так я остановилась на решении, которое казалось мне даже поэтичным в своей завершенности. Литий, хотя и спас мне жизнь, теперь лишь продлевал мои мучения. Я решила умереть от передозировки. Чтобы организм не смог избавиться от яда, я позаботилась о рецепте на противорвотное средство. Затем дождалась перерыва в дежурствах, которые организовали мои близкие при содействии врачей. Я унесла телефон из спальни, чтобы не отвечать на несвоевременные звонки, – я не могла убрать его совсем, это бы встревожило моих стражей. И после внезапного скандала, в яростном и отчаянном порыве, проглотила целую горсть таблеток. Потом свернулась на кровати и стала ждать смерти. Я не учла тот факт, что отравленный медикаментами мозг работает не так, как здоровый. Когда телефон зазвонил, я инстинктивно решила ответить и в полуобморочном состоянии добралась до гостиной. Мой несвязный ответ насторожил брата, который звонил из Парижа, чтобы узнать о моем самочувствии. Он немедленно связался с психиатром. Я выбрала не самый приятный способ убить себя. Литий иногда используют, чтобы отвадить койотов от стада овец. Однажды съеденного мяса с добавлением лития бывает достаточно, чтобы у койота навсегда пропал аппетит к овцам. Хоть я и приняла противорвотные препараты, мне было намного хуже, чем тому койоту – чем кому бы то ни было. Несколько дней я попеременно впадала в кому и приходила в себя. И до, и после попытки самоубийства обо мне заботился близкий человек – он стал для меня воплощением настоящей дружбы. Он тоже был психиатром, а также приятным, остроумным и требовательным человеком, мозг которого напоминал захламленный чердак. Его увлекали разнообразные странные явления, в числе которых была и я. Он писал блестящие статьи на такие темы, как психоз, вызванный злоупотреблением мускатным орехом, и привычки Шерлока Холмса. Он был бесконечно добр ко мне и проводил вечера рядом, как-то умудряясь выносить мои холерические задвиги. Он не жалел ни времени, ни средств, и продолжал упрямо верить, что я переживу депрессию и в конце концов приду к успеху. Порой, когда я просила его дать мне побыть одной, он перезванивал в час или два ночи, чтобы убедиться, что я в порядке. По голосу он определял, в каком я состоянии. И, несмотря на требования оставить меня в покое, продолжал приходить. Иногда – под предлогом бессонницы: «Не могу уснуть. Ты же не откажешься составить другу компанию?» Зная, что так он меня проверяет, я отвечала: «Поверь мне, могу и отказаться. Оставь меня одну. У меня ужасное настроение». Но он перезванивал через считаные минуты и настаивал: «Умоляю, мне очень нужна компания. Мы можем куда-нибудь сходить и съесть мороженого». Мы выбирались из дома в поздний час, и я была ему благодарна. А он всегда умел сделать так, что я не чувствовала себя обузой. Эта дружба была редким даром. К счастью, он еще и работал по выходным в реанимационном отделении. После моей попытки самоубийства он вместе с врачом разработал план надзора за мной. Мой друг постоянно присматривал за мной. Он брал анализы крови на уровень лития и электролитов, регулярно вытаскивал меня, слегка отупевшую, на прогулки, как заставляют плыть больную акулу, чтобы вода освежала ее жабры. Он был единственным человеком, который заставлял меня смеяться от души в самые тяжелые моменты. Как и мой муж, с которым я и после развода сохраняла хорошие отношения, он действовал на меня успокаивающе даже в самом тревожном или раздражительном (и раздражающем) состоянии. Он нянчил меня в самые ужасные дни моей жизни, и именно ему наравне с родными и врачами я обязана своей жизнью. Моя благодарность психиатру безмерна. Помню сотни моментов, когда я сидела в его кабинете в свои тяжкие времена и каждый раз думала: «Неужели он может сказать что-то, что меня приободрит? Вернет желание жить?» Но ему и не нужно было ничего говорить. Мне не помогли бы пустые, отчаянно бодрые или снисходительные речи. Но я чувствовала теплоту и сочувствие, которые не передать словами; его ум, компетентность и силы, которые он в меня вложил, его твердую, как камень, уверенность, что моя жизнь стоит того, чтобы жить. Он был ужасно прямолинеен, и это было очень важно, и при этом всегда готов признать пределы своих возможностей или неправоту. Самую суть труднее всего облечь в слова: он научил меня, что дорога от смерти к жизни тяжела, тяжела бесконечно. Но благодаря железной воле, божьей помощи и просветлению, которое неизбежно настанет, я ее осилю. Моя мама тоже была чудесной. В периоды депрессий она день за днем готовила мне обеды, помогала со стиркой и оплатой счетов за лекарства. Она терпела мою раздражительность и угрюмость, отвозила к врачу и в аптеку, водила за покупками. Как заботливая мама-кошка, которая берет потерявшегося котенка за шкирку и уносит домой, она приглядывала за мной нежным материнским взглядом. А если я забредала слишком далеко, возвращала туда, где комфортно и безопасно, где есть еда и защита. Эта бесконечная забота со временем нашла дорогу к моему опустошенному сердцу. И вместе с лекарствами для мозга и психотерапией для души помогала преодолевать очередной невыносимо тяжелый день. Без мамы я бы не выжила. Бывали дни, когда я пыталась подготовить лекцию, не в силах понять, есть ли в моих записях хоть какой-нибудь смысл, и отдавала текст декану, сгорая со стыда. Часто меня заставляла двигаться вперед только вера, которую еще в детстве привила мне мама. Вера в то, что человеку природой даны воля, упорство и ответственность. В какие бы передряги я ни попадала, материнская любовь и моральные ориентиры оставались моей поддержкой и попутным ветром. Трудности, с которыми мы сталкиваемся в жизни, бывают огромны и непостижимы. Как будто мой темпераментный отец подарил мне дикого необъезженного черного коня. Безымянного коня, который не привык ходить в узде. Мама научила меня его укрощать: она воспитала во мне дисциплину и страсть к езде. И как Александр Македонский интуитивно знал, как обращаться с Буцефалом, она знала (и научила этому меня), что вернее всего – повернуть зверя мордой к солнцу. И мании, и депрессии порой оборачиваются насилием. Об этом нелегко говорить. В особенности, если ты – женщина. Когда ты полностью теряешь самоконтроль, дико кричишь во всю мощь своих легких, бросаешься на окружающих, исступленно бежишь без всякой цели, в порыве безумия пытаешься выпрыгнуть из машины – это шок не только для других, но и для тебя самой. В приступах слепой маниакальной ярости я делала все это, и не однажды. Я со всей ясностью осознаю, как трудно управлять таким поведением или хотя бы его объяснить. В своих внезапных психотических приступах, в разгар черных тревожных маний я разрушала то, что мне дорого, доводила до ручки людей, которых любила, а опомнившись, не могла оправиться от стыда. Чтобы усмирить меня, в ход шла безжалостная грубая сила – меня бросали на пол лицом вниз и связывали руки за спиной; мне кололи транквилизаторы против моей воли. Я с трудом понимаю, как после всего этого выздоровела. Мне трудно поверить, что отношения с друзьями и любимыми выдержали подобное испытание яростной, темной, изнуряющей силой разрушения. Последствия психоза, как и последствия попытки самоубийства, глубоко травматичны для всех, кого они коснулись. Нелегко жить дальше и продолжать верить в себя, зная, на какое насилие ты способен. После попытки самоубийства мне пришлось примирять представление о себе как о юном создании, полном воодушевления, возвышенных надежд и больших ожиданий, мечтаний и любви к жизни, с образом той истерзанной болью женщины, которая приняла смертельную дозу лития, мечтая лишь о том, чтобы все закончилось. После каждого приступа психоза мне приходилось из руин восстанавливать представление о себе как о спокойном, дисциплинированном человеке, заботящемся о чувствах окружающих. Это было особенно трудно после того, как я вдруг становилась агрессивной и совершенно неконтролируемой, бесповоротно теряла связь с реальностью. Эти невообразимые противоречия между требованиями к себе, воспитанными с детства, представлениями о том, как следует себя держать, и тем, что происходит на самом деле во время буйных маний и смешанных эпизодов, способны свести с ума. Особенно женщину, которая выросла в крайне консервативном и традиционном обществе. Как же все это далеко от мягкости и изящества моей мамы, от степенных балов с элегантными перчатками выше локтя с перламутровыми пуговицами на запястьях, платьями из шелка и тафты. От мира, в котором у тебя нет иных забот, кроме как убедиться, что чулки сидят гладко, прежде чем спуститься на воскресный ужин в клубе офицеров. Самые важные годы своей жизни я провела в благочинном обществе, которое научило меня быть внимательной к окружающим, осмотрительной и сдержанной в своих действиях. Каждое воскресенье мы всей семьей ходили в церковь, и каждый свой вопрос к взрослым я начинала с «мэм» или «сэр». Независимость, которую поддерживали мои родители, была интеллигентской, но никак не бунтарской. Затем, неожиданно для всех, я стала непредсказуемой и деструктивной. И это было невозможно исправить с помощью правил этикета. Военные балы, добровольная работа в больнице и уроки этикета для подростков не могли, да и не должны были, подготовить меня к борьбе с безумием. Неконтролируемые гнев и насилие чудовищно далеки от такого логичного и предсказуемого цивилизованного мира. Сколько себя помню, я всегда была склонна к сильным и бурным эмоциям, жила и любила с высоты восторга, как писал Делмор Шварц. Но обратная сторона восторженности – вспыльчивость. Пылкость и страстность (по крайней мере поначалу) не казались чем-то ужасным. Они здорово помогли мне в карьере, не говоря уже о том, что добавляли пикантности в мою личную жизнь. Эти стороны моего характера вдохновляли, побуждали меня писать, исследовать, выступать. Благодаря им я стремилась сделать мир лучше. Из-за них мне было мало того, что есть вокруг, я неугомонно стремилась к большему. Но тревожность со временем нарастала, и нетерпеливость и воодушевление, хлеща через край, вскипали в гнев. Я не умещалась в рамки, предписанные благовоспитанной женщине из хорошей семьи, не соответствовала образу, которым меня приучили восхищаться – и которым я восхищаюсь до сих пор. Почему-то депрессия вполне вписывается в общепринятые представления о женской природе: женщине простительно быть пассивной, чувствительной, подавленной, беспомощной, зависимой, жертвенной, не слишком амбициозной и довольно скучной. Мания, напротив, кажется более подходящей мужчине: деятельному, энергичному, пылкому, агрессивному, рискованному, самоуверенному – мечтателю, не согласному стоять на месте. Люди более склонны понимать и прощать гнев и раздражительность в мужчинах. Бурный темперамент к лицу лидерам и первооткрывателям. Нетрудно понять, почему журналисты и писатели чаще говорят о женщинах и депрессии, чем о женщинах и мании. Это неудивительно: женщины страдают от депрессий в два раза чаще мужчин. Но оба пола в равной степени подвержены маниакально-депрессивному психозу. И поскольку это довольно распространенное заболевание, мания у женщин не редкость. При этом им часто ставят неверный диагноз и не дают адекватной психиатрической поддержки, что увеличивает риск самоубийства, зависимости от алкоголя и наркотиков, а также насильственного поведения. В то же время маниакально-депрессивные женщины наравне с мужчинами привносят в мир свою энергию, страсть, воодушевление и воображение. Ведь маниакально-депрессивный психоз – это заболевание, которое не только убивает, но и созидает. Как пламя, которое по своей природе создает и разрушает. «Сила, дающая жизнь цветку, юность мою питает, – писал Дилан Томас. – Сила, что вырывает корни деревьев, смерти моей подобна». Мания – это одновременно движущая сила и разрушитель, это огонь в крови. К счастью, огонь в крови несет свои преимущества в мире академической науки, особенно в стремлении получить постоянную штатную должность. Постоянная штатная должность Путь к получению постоянной штатной должности – самая кровавая из забав, что могут предложить вам лучшие университеты. Эта гонка в высшей степени конкурентна, стремительна, всепоглощающа, увлекательна, довольно брутальна и рассчитана на мужчин. Получить штатную должность на медицинском факультете, где врачебные обязанности приходится сочетать с исследованиями и преподаванием, еще сложнее. Так что быть женщиной, да еще и маниакально-депрессивной, которая вовсе не медик, – не лучший старт для полного препятствий пути. Получить штатную должность было для меня не только вопросом научной и финансовой безопасности. Спустя месяцы после начала работы доцентом со мной случился первый приступ психотической мании. Трудности, с которыми я столкнулась на семилетнем пути к желанному посту (с 1974 по 1981 год), превосходили обычную конкурентную борьбу в агрессивной среде академической медицины. Для меня они усугублялись непрестанным сражением за то, чтобы выстоять, научиться жить с болезнью и остаться в здравом уме. С годами я была все более решительно настроена на то, чтобы извлечь из своего болезненного опыта что-то полезное. Штатное место обещало мне новые возможности; также оно было символом стабильности, которой я жаждала, и знаком признания, которое я заслужила тем, что удержалась на плаву в мире нормальных. Вскоре после того, как я получила свое первое место в стационаре для взрослых пациентов, во мне стала нарастать тревожность. Мне было все труднее держать лицо, расшифровывая результаты психологических тестов больных. Пытаясь вникнуть в смысл тестов Роршаха, я порой чувствовала себя так, будто гадаю на картах Таро или составляю астрологический прогноз. Разве для того я защитила диссертацию? Я начинала понимать смысл строк из песни Боба Дилана: «Двадцать лет школы – и тебя назначат на дневную смену». Только в моем случае учеба длилась двадцать три года, и у меня бывали и ночные смены. В первые годы работы на факультете мои научные интересы были разнообразны до абсурда. В числе прочего я начала исследование о даманах, слонах и насилии (небольшой пережиток ректорской вечеринки в саду); дописывала статьи о воздействии ЛСД, марихуаны и опиатов, начатые в университете; размышляла о совместном с моим братом изучении особенностей строения дамб бобрами; вела исследование о фантомных болях в груди после мастэктомии с коллегами-анестезиологами; была соавтором учебника для студентов по психопатологии; участвовала в исследовании влияния марихуаны на тошноту и рвоту при химиотерапии раковых больных; пыталась выкроить время, чтобы заняться изучением поведения животных в зоопарке Лос-Анджелеса. Мои устремления были слишком многочисленны и слишком разбросанны. Но личные трудности вскоре вынудили меня сфокусироваться, сузив работу до исследования и лечения аффективных расстройств. А точнее, маниакально-депрессивного заболевания, что неудивительно. Я была решительно настроена на то, чтобы изменить отношение общества к этой болезни и взгляды на ее лечение. Вместе с двумя коллегами, которые вели обширную клиническую и исследовательскую работу по той же теме, я решила основать профильную клинику при Калифорнийском университете, которая специализировалась бы на диагностике и лечении депрессий и маниакально-депрессивного заболевания. Мы получили начальное финансирование от больницы, и его вполне хватило, чтобы нанять медсестру и купить шкафчики для картотеки. Мы с медицинским директором потратили недели на разработку диагностических и исследовательских карт, а затем создали учебную программу, что-то вроде практики для интернов-психологов и третьекурсников кафедры психиатрии. Не все были согласны с тем, что я, не будучи медиком, займу должность директора клиники. Но большинство коллег, в первую очередь медицинский директор, заведующий кафедрой психиатрии и руководитель персонала Института нейропсихиатрии, меня поддержали. За несколько лет Клиника аффективных расстройств при Калифорнийском университете стала крупным центром исследований и обучения. Мы обследовали и лечили тысячи пациентов, проводили множество клинических и психологических исследований, обучали клинических интернов-психологов и ординаторов-психиатров диагностировать и вести пациентов с аффективными расстройствами. Клиника стала популярным вариантом ротационного обучения. Она кипела жизнью. И хотя острота и тяжесть аффективных расстройств накладывали свой отпечаток, клиника отличалась теплой и дружелюбной атмосферой. Мы с медицинским директором поощряли не только усердную работу, но и социальную жизнь коллектива. Стресс от постоянной работы с суицидальными, психотическими и склонными к насилию пациентами был высок, и мы всегда старались как можно лучше поддерживать наших интернов и ординаторов. Редко, но все же случались трагедии. Однажды очень талантливый молодой юрист отверг все попытки отправить его в больницу и вскоре выстрелил себе в голову. После этого весь факультет и практиканты собирались в малых и больших группах, чтобы разобраться, почему это случилось, и поддержать обескураженных родственников и врачей, отвечавших за этого пациента. В случае с юристом доктор сделала все возможное и даже больше. Она была совершенно потрясена смертью своего пациента. Компетентные и ответственные врачи тяжелее всех переживают неудачи. В клинике мы делали ставку на сочетание медикаментов и психотерапии, а не только на медикаменты, и работали над просвещением пациентов и их родных, рассказывая им о болезни и особенностях ее лечения. Благодаря собственному опыту я отлично понимала, насколько важна бывает психотерапия. Она помогает обрести смысл среди страдания, дожить до улучшения и преодолеть сопротивление принятию лекарств, когда осознаешь последствия отказа от них. Помимо обучения основам дифференциальной диагностики, психофармакологии и другим аспектам лечения аффективных расстройств, моя работа в преподавании, исследованиях и лечебной практике развивалась в пределах нескольких основных тем – почему пациенты отказываются от приема лекарств; какие клинические состояния приводят к самоубийствам и как с ними работать; роль психотерапии в долгосрочных результатах лечения маниакально-депрессивного заболевания; наконец, позитивный эффект заболевания в его мягкой форме: подъем энергии и настроения, обострение восприятия, вдохновение, гибкость и оригинальность мышления, амбициозность, позитивный настрой, общительность, повышенная сексуальность. Я старалась убедить других врачей в том, что эта болезнь может создавать не только проблемы, но и преимущества и что для многих этот пьянящий опыт подобен наркотику, от которого непросто отказаться. Чтобы практиканты получили ясное представление о самоощущении во время маний и депрессий, мы давали им читать записи писателей и обычных пациентов, страдавших аффективными расстройствами. Кроме того, я начала читать лекции для персонала, посвященные музыке, созданной композиторами, пережившими тяжелые депрессии или имевшими маниакально-депрессивное расстройство. Эти неформальные лекции позже вылились в концерт в филармонии Лос-Анджелеса, который в 1985 году мы организовали вместе с другом – профессором музыки Калифорнийского университета. Стремясь просвещать общество о психических расстройствах, мы предложили директору филармонии программу, основанную на жизни и творчестве композиторов, страдавших маниакально-депрессивным психозом: Роберта Шумана, Гектора Берлиоза и Хуго Вольфа. Директор с воодушевлением откликнулся и пошел нам навстречу в вопросах оплаты. К сожалению, через несколько дней после подписания контракта Калифорнийский университет объявил о новой финансовой политике, которая не позволяла членам факультета получать финансирование от частных жертвователей. И я осталась со счетом на двадцать пять тысяч долларов на руках, что, как заметил один из моих друзей, было дороговато для билета на концерт. Но все же концерт удался. Просторный главный зал университета был переполнен. Это мероприятие положило начало серии концертов по всей стране, кульминацией чего стало выступление Национального симфонического оркестра в Центре сценических искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Кроме того, концерт стал основой первого из серии спецвыпусков на ТВ, который мы посвятили взаимосвязи аффективных расстройств и искусства. Мне повезло заручиться поддержкой завкафедры в создании клиники и управлении ею. Он поддержал мое назначение директором, даже несмотря на то, что я не была медиком. И он знал, что я страдаю маниакально-депрессивным заболеванием. Вместо того чтобы ограничить мой рост из-за болезни, он поощрил мое стремление использовать собственный опыт при совершенствовании методов лечения и для того, чтобы изменить отношение общества к этой проблеме. Конечно, сперва убедившись в том, что я получаю адекватное лечение и медицинский директор в курсе моих особенностей. Хотя он никогда и не говорил об этом, я уверена, что заведующий кафедрой узнал о моей болезни после первого же приступа маниакального психоза. Глава отделения, где я проходила лечение, безусловно, все знал. И, подозреваю, информация об этом довольно быстро просочилась. Как бы то ни было, завкафедрой отнесся к этому как к строго медицинской проблеме. Впервые он поднял этот вопрос, подойдя ко мне на одной из встреч. Он положил руку мне на плечо и произнес: «Я понимаю, что у тебя сложности с настроением, и я тебе сочувствую. Ради бога, продолжай принимать литий». Затем время от времени он спрашивал меня о самочувствии и проверял, принимаю ли я препараты. Он был прям, но никогда не сомневался, что я должна продолжать лечебную работу. Но я безумно опасалась обсуждать свою болезнь открыто. Первый приступ психоза случился задолго до того, как я получила лицензию на медицинскую практику в Калифорнийской медицинской комиссии. И в период между началом приема лития до аттестации я наблюдала множество случаев, когда студентам-медикам, интернам-психологам и ординаторам отказывали в праве продолжать учебу и практику по причине психиатрического диагноза. Сегодня такие случаи стали реже. Медицинские школы, как правило, поощряют заболевших студентов пройти лечение и по возможности вернуться к работе. Но мои первые годы на факультете были омрачены ужасом разоблачения. Я боялась, что о болезни узнают, что о ней сообщат в ту или иную лицензионную комиссию и от меня потребуют оставить медицинскую практику и преподавание. Работа была напряженной, но она мне нравилась. Академическая медицина дает множество привилегий: интересную и насыщенную жизнь, путешествия, прекрасных коллег – ярких, бодрых, умеющих получать удовольствие от тройного стресса (практики, преподавания и научной работы). Для меня к этим стрессам прибавлялись перепады настроения, которые продолжались, хотя и были несколько сглажены литием. Понадобилось несколько лет, чтобы настроение выровнялось. Когда я чувствовала себя хорошо, это была чудесная возможность писать, думать, общаться с пациентами, преподавать. Но когда я болела, это становилось невыносимо: дни и недели напролет я вывешивала на двери кабинета табличку «Не беспокоить» и бессмысленно глядела в окно, дремала, размышляла о самоубийстве или просто наблюдала, как моя морская свинка (импульсивная покупка в одну из маний) яростно копается в клетке. В такие периоды я не могла даже подумать о том, чтобы написать статью. И не понимала ни слова в научных журналах. Преподавание и научное руководство становились мучением. Как море, я жила от прилива к отливу. Когда я была в депрессии, мир не мог до меня достучаться и я ничего не приносила в этот мир. Когда приходила мания, даже относительно мягкая, я писала по статье в день, меня переполняли идеи, я придумывала новые проекты, разгребала почту и картотеку, моментально расчищала бюрократические завалы, которые были неотъемлемой частью работы директора клиники. Как и со всем в моей жизни, тьма всегда сменялась светом, а свет раз за разом поглощала тьма. Это была безумная, но насыщенная жизнь: чудесная, страшная, невыносимо трудная и головокружительно простая, сплошное удовольствие и непрекращающийся кошмар. Мои друзья, к счастью, тоже были со своими причудами. Они были невероятно терпимы к эмоциональному хаосу, из которого складывалась моя жизнь. В годы работы доцентом я проводила с ними массу времени. Я часто путешествовала – и по работе, и для удовольствия. Еще я играла в сквош с интернами, друзьями и коллегами. Спорт, к сожалению, был хорош лишь до определенного предела: литий ухудшил мою координацию движений. Это касалось не только сквоша, но и езды верхом. В конце концов мне пришлось оставить это увлечение на несколько лет, после того как я несколько раз упала с лошади. Оглядываясь назад, я понимаю, что все было не так уж и плохо. Но каждый раз, когда мне приходилось отказываться от спорта, я расставалась не просто с удовольствием, но и с частью себя, ведь я всегда считала себя спортсменкой. Маниакально-депрессивное заболевание вынуждает нас мириться с преждевременным старением. С физической и умственной слабостью за годы, даже десятилетия до положенного возраста. Тем временем жизнь с ее быстрым течением, борьбой за штатную должность на факультете и признание коллегами продолжалась с бешеной скоростью. Когда я была в мании, этот темп казался мне слишком медленным, в норме все было отлично, но в депрессии темп становился непереносим. Я ни с кем, кроме психиатра, не могла обсудить реальный масштаб своих трудностей. Вероятно, такие люди были рядом, но дело в том, что я даже не пыталась. В отделении взрослой психиатрии практически не было женщин. Те, которые появлялись в этом медицинском сообществе, группировались вокруг отделения детской психиатрии. Они вряд ли были способны меня защитить, да и сами не всегда были дружны. Хотя большинство моих коллег-мужчин были справедливы и многие из них были готовы протянуть руку помощи, некоторые все же продолжали придерживаться невероятно косных взглядов на женщин. Одним из таких людей был Глист, старший научный сотрудник. Он получил свое прозвище за скользкий и скрытный нрав. Высокомерный, чопорный, он был наделен интеллектом и эмоциональностью простейшего. Он думал о женщинах как об обладательницах бюста, а не ума, и его раздражало, что у большинства из нас было и то и другое. Он был убежден, что женщины, выбравшие путь академической медицины, от природы ущербны. А поскольку я не собиралась перед ним пресмыкаться, то особенно его раздражала. Мы работали вместе в факультетской комиссии по назначениям и продвижению, где я была единственной женщиной из восемнадцати человек. В тех редких случаях, когда Глист появлялся на собраниях (а он славился тем, что получал максимальный оклад за минимальное время, проводимое в больнице), я садилась прямо напротив него и наблюдала неуклюжие попытки быть безупречно вежливым. У меня всегда было ощущение, что он считал меня чем-то вроде мутанта, но не безнадежного, ведь благодаря не самой худшей внешности я еще могла спастись, удачно выйдя замуж. Я, в свою очередь, время от времени благодарила его за старания по продвижению женщин на факультете. Недостаток мозгов у Глиста дополнялся отсутствием чувства юмора. Конечно, он не предпринял ни единого движения в этом направлении, но все же отвечал на мои поздравления подозрительным взглядом и недоуменной улыбкой. Он был бы просто милым чудаком, если бы не обладал реальной властью на факультете и не делился своими взглядами на женщин при каждом удобном случае. Его сексистские шутки были глубоко оскорбительны, а снисходительная манера общения с девушками-интернами и ординаторами обескураживала. Это, конечно, был карикатурный персонаж, но быть женщиной в его подчинении означало терять десять секунд в километровом забеге. К счастью, процесс получения штатной должности сбалансирован множеством противовесов. По крайней мере в двух университетах, которые мне хорошо знакомы, – Калифорнийском и Университете Джонса Хопкинса, – система совершенно справедлива. Хотя особи вроде Глиста и не делают жизнь проще. В конце концов, после долгих блужданий по лабиринту карьеры я получила письмо Государственной дипломной комиссии. Меня уведомляли, что я получила допуск на новый уровень квеста: в режим ожидания места доцента. Я праздновала это событие несколько недель. Лучшая подруга собрала праздничный ужин на три десятка гостей. Это была прекрасная южная ночь, террасы сада были заполнены цветами и свечами. Лучше и представить нельзя! Родные привезли шампанское и подарили мне стильные очки, и все мы чудесно провели время. Они-то знали, что я праздную победу, заслуженную годами борьбы с тяжелой болезнью. Кроме того, праздник был и ритуалом посвящения в академические круги. Я это осознала, когда ко мне подошел коллега, представитель исключительного мужского Богемного клуба, преподнес мне бутылку вина от имени клуба и произнес: «Поздравляю, профессор. Добро пожаловать в элитный мужской клуб». Часть III Еще таблеточку, дорогая Офицер и джентльмен Бывали моменты, когда я думала, что в жизни есть предел боли, через которую нужно пройти. Поскольку маниакально-депрессивное заболевание принесло мне столько несчастий, я полагала, что для равновесия жизнь должна быть ко мне добрее в других областях. Но в то же время я верила, что могу летать сквозь созвездия, скользя по кольцам Сатурна. Наверное, мой здравый смысл оставлял желать лучшего. Роберт Лоуэлл, который часто бывал безумен, но никогда глуп, лучше разбирался в таких вопросах. Если мы видим свет в конце туннеля, говорил он, то это свет приближающегося поезда. В какой-то момент благодаря литию, времени, которое лечит, и любви одного красивого высокого англичанина я вообразила, что вижу этот свет. Я несмело думала, что мой прежний уютный и безопасный мир возвращается. Я узнала, как чудесно лечит разум, даря надежду, и как можно склеить осколки разбитого мира терпением и нежностью. То, что Бог разрушил, способны восстановить соль щелочного металла, первоклассный психиатр и любовь прекрасного мужчины. Я познакомилась с Дэвидом в свой первый год на факультете. Это было в начале 1975 года, спустя шесть месяцев после моей первой мании. Разум в ту пору постепенно восстанавливал хрупкое подобие прежнего равновесия. Мои мысли скользили по кромке тонкого льда, нервы были измотаны, жизнь ютилась в тесной и темной клетке. Но моя публичная жизнь почти укладывалась в консервативные рамки так называемого нормального человека, и по крайней мере в профессиональной сфере все казалось в порядке. В тот день я открыла дверь стационара с привычным чувством раздражения – не из-за пациентов, а из-за предстоящего собрания персонала. А это значило, что медсестры будут выплескивать свою коллективную хандру на врачей-психиатров, а те, в свою очередь, станут раздраженно демонстрировать уверенность в своем непререкаемом авторитете. Глава отделения, безнадежно неэффективный, отдаст правление собранием личной неприязни, внутренним стычкам и зависти. Забота о пациентах в том конкретном отделении часто бывала задвинута на задний план коллективными неврозами, личными стычками и самолюбием. Едва справившись с прокрастинацией, я вошла в конференц-зал, выбрала место подальше от линии огня и приготовилась пережить неизбежное. К моему удивлению, психиатр отделения вошел вместе с высоким красивым мужчиной, который взглянул на меня с открытой улыбкой. Он оказался профессором-консультантом, психиатром медицинской службы сухопутных войск Великобритании. И мы сразу же друг другу понравились. В тот вечер мы выпили вместе кофе в больничном кафетерии, и я поймала себя на том, что открываюсь перед ним, чего со мной не случалось уже давно. Он был тихим, спокойным и вдумчивым, и мне не приходилось проверять на прочность свои все еще хрупкие нервы. Мы оба любили музыку и поэзию, оба выросли в семьях военных, и, поскольку я училась в Англии и Шотландии, нам было легко говорить о знакомых городах, пригородах и клиниках. Его интересовала разница между британским и американским подходами в психиатрии. Я попросила его помощи с одним из самых трудных своих пациентов – девушкой с шизофренией, которая считала себя ведьмой. Он был с ней невероятно добр, не теряя при этом врачебной твердости. Девушка почувствовала, что может ему безоговорочно доверять. Его обращение было сдержанным, но теплым, и мне нравилось наблюдать, как он мягко формулировал вопросы и переспрашивал, чтобы завоевать доверие пациентки, пробившись через ее паранойю. Мы с Дэвидом часто обедали вместе в месяцы его работы в Калифорнийским университете, нередко в ботанических садах. Он не однажды приглашал меня на ужин, но я настойчиво отказывалась, поскольку все еще была замужем и недавно снова вернулась к мужу после разлуки. Когда Дэвид вернулся в Лондон, мы изредка друг другу писали, но я была загружена преподаванием, управлением клиникой, борьбой за штатную должность, трудностями в браке, новым приступом мании и последовавшей за ней изнуряющей депрессией. С мужем мы в ту пору решили, что, хотя наши отношения можно назвать дружбой и мы общаемся, брак уже не спасти. Думаю, точка невозврата была пройдена, еще когда я ушла от него во время своей первой мании. Но мы оба пытались. Мы много разговаривали, обсуждали наши ошибки и возможности за многочисленными ужинами и посиделками с вином. Он был добр и заботлив, но после того, что я натворила в болезни, уже ничего не могло быть как прежде. В какой-то момент я написала Дэвиду, что снова и окончательно разошлась с мужем. Жизнь продолжалась: круговерть встреч, статей, пациентов, лекций, студентов, интернов, ординаторов. Я жила в страхе перед тем, что кто-то узнает, насколько я больна, насколько я ранима. Но, как это ни странно, профессиональным психиатрам порой не свойственны наблюдательность и тонкость чувств. Однажды, спустя восемнадцать месяцев после отъезда Дэвида, я вошла в кабинет и увидела его в своем кресле. Он широко улыбался. Дэвид сказал: «Теперь-то ты точно со мной поужинаешь. Я долго ждал и проделал немалый путь». Конечно, я согласилась, и мы провели чудесные дни в Лос-Анджелесе. Он пригласил меня навестить его в Лондоне. Хотя я все еще восстанавливалась после затяжной суицидальной депрессии, а мысли и чувства оставались невыносимо блеклыми и спутанными, я откуда-то знала, что рядом с ним мне станет лучше. И это была правда. Той поздней весной мы подолгу гуляли в парке Сент-Джеймс, ужинали с видом на Темзу, устраивали пикники в Гайд-парке, который находился всего через улицу от квартиры Дэвида. Постепенно пелена опустошенности и черной безнадежности спала. Я снова наслаждалась музыкой и искусством, могла смеяться и писать стихи. Долгие страстные ночи снова заставили меня поверить – ну или вспомнить, – насколько важно наслаждаться жизнью для любви и любовью для жизни. Днем Дэвид работал в больнице, и у меня была масса времени, чтобы снова раствориться в Лондоне, который я когда-то так любила. Я ходила на прогулки в парки, снова и снова навещала галерею Тейт, рассеянно бродила по музеям естественной истории и Виктории и Альберта. Однажды с подачи Дэвида я села на паром от причала Вестминстер до Гринвича. Затем съездила на поезде в Кентербери. Я не бывала там уже несколько лет, и город, увиденный впервые в кривом зеркале мании, оставил незабываемые впечатления. У меня остались мистические воспоминания о восхитительных темных витражах, холодных отзвуках, о мрачном месте убийства Томаса Бекета, о ярких пятнах света на полу Кентерберийского собора. Но в этот раз я опускалась на колени без воодушевления, молилась без веры, чувствовала себя здесь чужой. Мои впечатления от города были спокойнее и тише. В соборе я внезапно вспомнила, что накануне вечером забыла принять литий. Я потянулась к сумочке, открыла баночку и нечаянно рассыпала все таблетки. Пол в соборе был грязным, вокруг полно народу, и я была слишком смущена, чтобы наклоняться и собирать их. Это был момент не только смущения, но и непростых размышлений. Ведь это значило, что теперь мне придется просить Дэвида выписать мне рецепт, а значит, и признаться ему в своем состоянии. Я не могла удержаться от горьких мыслей о том, что Бог редко открывает перед нами двери, не закрывая других. Но я не могла оставаться без лекарства: в прошлый раз, когда я забросила литий, мания наступила почти мгновенно. И я бы просто не пережила еще один такой раз. В тот вечер я рассказала Дэвиду о своей болезни. Я страшно боялась его реакции и упреков в том, что не говорила ему об этом раньше. Он очень долго молчал, и я понимала, что он думает о последствиях, медицинских и личных. Я не сомневалась в его любви, но он не хуже меня понимал, как непредсказуемо маниакальнодепрессивное заболевание. Он был офицером, из крайне консервативной семьи и очень мечтал о детях, а ведь эта болезнь передается по наследству. Прогнозировать ее течение невозможно, и заканчивается она нередко фатально. Я успела пожалеть, что все рассказала. Я успела пожалеть, что не родилась нормальной, что нахожусь здесь и сейчас. Я думала о том, как глупо рассчитывать, что тебя поймут и примут, и уже настраивалась вежливо распрощаться. В конце концов, мы не были женаты, и отношения были не такими уж длительными и серьезными. Наконец, после целой вечности молчания, Дэвид повернулся ко мне, обнял и мягко сказал: «Что ж, бывает невезение». Меня захлестнуло облегчение. Я была поражена абсолютной правдивостью этого замечания – мне действительно просто не повезло, и наконец кто-то это понял. Чувство юмора потихоньку начало просыпаться, и я подумала, что ответ Дэвида прозвучал в точности как строчка из романа Вудхауса. Я сказала ему об этом и напомнила о герое Вудхауса, который жаловался, что он вовсе не был в дурном расположении духа, но при этом не был и в хорошем. Мы оба рассмеялись – немного нервно, но лед все же был разбит. Дэвид проявил невероятную доброту и готовность меня поддержать. Он задавал вопросы о том, что мне довелось пережить, что было самым трудным, что меня пугало и что он мог сделать, чтобы помочь, когда мне будет хуже. После этого разговора многое стало проще. Впервые я почувствовала, что не одна в противостоянии боли и неизвестности. Дэвид дал понять, что готов обо мне заботиться. Я объяснила ему, что из-за довольно редкого побочного эффекта лития мое зрение и концентрация внимания ослабли настолько, что я не могу прочитать зараз больше пары абзацев. И он читал мне стихи, Уилки Коллинза, Томаса Гарди – лежа в кровати, обняв меня одной рукой и гладя меня по голове будто я ребенок. Шаг за шагом его нежность, такт и бесконечное терпение, вера в меня и в мою здоровую суть рассеяли мои кошмары и страхи. Я призналась Дэвиду, что боюсь уже никогда не стать собой прежней, и он поставил себе цель сделать все возможное, чтобы убедить меня в обратном. На следующий вечер, когда мы пришли домой, он объявил, что получил приглашение на ужин от двух старших офицеров британской армии, которые также страдали маниакальнодепрессивным заболеванием. Мы провели в компании этих мужчин и их жен незабываемый вечер. Младший офицер был элегантен, умен и обаятелен. Ясность его ума была вне всякого сомнения. На любом из оксфордских ужинов он бы ничем не отличался от тех живых, интересных и уверенных джентльменов, что там обычно собираются. Его выдавали лишь беспокойность, изредка вспыхивающая во взгляде, и несколько меланхоличные, хоть и с оттенком иронии, нотки в голосе. Другой офицер был удивительно остроумен, говорил со звонким аристократическим акцентом. В его взгляде тоже порой проскальзывала грусть, но он оказался чудесной компанией и стал мне другом на многие годы. За теми встречами никто не обсуждал маниакально-депрессивное заболевание. Но для меня гораздо важнее была сама нормальность таких вечеров. Со стороны Дэвида это было чудесным проявлением заботы – познакомить меня с совершенно «нормальными» людьми из близкого мне общества. «Только наша доброта делает этот мир выносимым, – писал Роберт Луис Стивенсон. – Если бы не она, не воздействие добрых слов, добрых взглядов, добрых писем… Я бы склонился к мысли, что наша жизнь – лишь дурная насмешка». После знакомства с Дэвидом жизнь больше никогда не казалась мне дурной насмешкой. Когда я покидала Лондон, меня переполняли плохие предчувствия. Но Дэвид часто писал и звонил мне. Поздней осенью мы снова встретились в Вашингтоне. Я вновь была в хорошей форме и поэтому наслаждалась жизнью, чего со мной давно уже не было. Те ноябрьские дни останутся в моей памяти романтическим круговоротом долгих прогулок по холоду, среди старых домов и еще более старых церквей, легких снегопадов в исторических садах Аннаполиса, холодных ветров из Чесапикского залива. Вечерами, попивая сухой херес, мы вели неспешные беседы обо всем на свете. Ночи были наполнены любовью и наконец-то здоровым спокойным сном. Дэвид вернулся в Лондон, а я – в Лос-Анджелес. Мы погрузились в работу и тосковали друг по другу. Я снова приехала в Англию только в мае, и у нас были две весенние недели в Лондоне, Дорсете и Девоне. Однажды воскресным утром после церкви мы поднялись на холм, чтобы послушать звон колоколов, и я заметила, что Дэвид внезапно остановился, тяжело дыша. Он отшутился на тему слишком интенсивной физической нагрузки ночью, мы оба рассмеялись, и на том разговор закончился. Потом Дэвида отправили в британский военный госпиталь в Гонконге, и мы стали строить планы, как мне навестить его там. Он подробно писал мне о встречах, на которые меня пригласит, людях, с которыми познакомит, о пикниках на островах, куда мы отправимся. Я не могла дождаться нашей встречи. Однажды вечером, незадолго до планируемой поездки, я работала дома над главой для учебника, когда услышала стук в дверь. Было поздно, я никого не ждала и почему-то внезапно вспомнила слова матери о том, что жены пилотов боятся неожиданного стука в дверь, ведь это может быть священник. Я открыла дверь и увидела курьера с письмом от командира части. В нем говорилось, что Дэвид, будучи на службе в Катманду, внезапно скончался от тяжелого сердечного приступа. Ему было всего сорок четыре, а мне тридцать два. Я не в силах была это понять. Помню, как снова села за работу, писала некоторое время, потом позвонила маме. Я поговорила с родителями Дэвида и командиром его части. Даже когда мы обсуждали предстоящие похороны, которые были сильно отложены из-за необходимости делать вскрытие, прежде чем вернуть тело в Лондон, его смерть по-прежнему казалась мне нереальной. Я выполнила все положенные действия в состоянии полного шока: купила билеты, провела семинар на следующее утро, потом встречу персонала клиники, упаковала вещи и заботливо собрала все письма Дэвида. Во время полета я методично разложила их по датам отправления, решив перечитать, когда доберусь до Лондона. На следующий день я села на скамейку в Гайд-парке и обнаружила, что способна осилить лишь первую страницу первого письма. Я разрыдалась в голос. И по сей день я не открывала и не перечитывала этих писем. Я купила черную шляпу для похорон и отправилась на обед в клуб с командиром части Дэвида. Он был главным психиатром британской армии. А по характеру – добрым, прямым и понимающим человеком. Ему и раньше приходилось общаться с женщинами, чьи мужчины внезапно погибли. Он понимал мой отчаянный отказ принимать реальность, видел, что я пока даже не начала осознавать смерть Дэвида. Мы говорили с ним довольно долго о всех тех годах, что они с Дэвидом работали вместе. О том, каким прекрасным врачом и человеком был Дэвид. Он предложил зачитать мне выдержки из протокола вскрытия, согласившись, что это будет «крайне трудно, но полезно». Таким образом он хотел показать мне, что обширность сердечного приступа не давала ему шанса и никакие реанимационные меры не помогли бы. Он, конечно, знал, что холодная ясность медицинского отчета поможет мне смириться с тем, что все кончено. Это действительно помогло, хотя к реальности меня вернули вовсе не ужасные медицинские подробности. Меня отрезвила запись бригадного генерала о том, что «младший офицер сопроводил тело полковника Лори на самолете Королевских военно-воздушных сил из Гонконга до аэропорта Брайз-Нортон». Дэвид больше не был полковником Лори. Не был и доктором Лори. Осталось только тело. Британская армия была чрезвычайно добра ко мне. В армии смерть обыденна по определению, особенно внезапная смерть, но с ней помогают совладать армейские традиции. Ритуал военных похорон глубоко религиозен, благороден и совершенно окончателен. Друзья и сослуживцы Дэвида были прямы, спокойны и очень мне сочувствовали. Они дали понять, что рассчитывают на мою способность взять себя в руки, но в то же время делали все возможное, чтобы облегчить мне эту задачу. Они никогда не оставляли меня одну, но и не стояли над душой. Они подносили мне херес и виски, предложили помощь юриста. Часто со всей открытостью и юмором они обсуждали Дэвида. Они не оставили мне шансов на уход от реальности. Во время похорон бригадный генерал настоял, чтобы я пела вместе с ними гимн, и обнимал меня за плечи в трудные моменты. Он смеялся, когда во время затянутых надгробных речей я пыталась шутить, что предпочла бы похвалить Дэвида за его способности в постели. Я не могла смириться с тем гротескным фактом, что мужчина 190 сантиметров ростом обратился в жалкий ящик праха, и чувствовала непреодолимое желание убежать с кладбища. Но генерал настоял, чтобы я осталась, участвовала, все это приняла. Оставшиеся дни в Лондоне я провела с друзьями, потихоньку осознавая, что у меня больше нет любви и поддержки, к которым я так привыкла, и нет будущего, о котором мы вместе мечтали. Я вспоминала тысячи моментов из жизни с Дэвидом, оплакивала упущенные возможности, излишние ссоры и свое бессилие что-либо изменить. Столько было потеряно, все наши мечты о доме, полном детей, все было потеряно. Но горе, к счастью, – не то же самое, что депрессия: мне было грустно, тяжело, но я не потеряла надежду. Смерть Дэвида не погрузила меня в беспросветную темноту, и я ни разу не подумала о самоубийстве. Доброта друзей, родных и даже незнакомцев стала большим утешением. Например, в день моего отъезда из Англии кассир Британских авиалиний спросил, еду ли я по работе или в отпуск. Тут мое самообладание, которое крепко держало меня две недели, дало трещину. Сквозь потоки слез я объяснила причину поездки. Агент немедленно подобрал мне место, где бы меня как можно меньше беспокоили. Наверное, он объяснил ситуацию и экипажу, поскольку всю дорогу стюардессы были со мной невероятно внимательны и предусмотрительны. С того дня я всегда при случае выбираю Британские авиалинии и вспоминаю о важности малых добрых дел. Дома меня ждал огромный объем работы, что было полезно, и несколько писем от Дэвида, которые пришли в мое отсутствие, что было обескураживающе. Спустя несколько дней я получила еще два безбожно задержанных письма, а потом они прекратились. Шок от смерти Дэвида постепенно проходил. Но тоска по нему осталась. Спустя несколько лет меня попросили рассказать об этом, и я завершила свою речь стихотворением Эдны Сент-Винсент Миллей: Не лечит время ничего, и лгут Друзья мои, забвенье мне суля. Хочу его под аккомпанемент дождя. Bce жду его прибытья на углу. Растают вековечные снега, И листья прошлогодние сожгут, Но прошлогодняя любовь моя Еще со мной, еще горчит во рту. Я избегаю из последних сил Tой сотни мест, где он со мною был, Когда же набреду на уголок, Где не сияло милое лицо, Спешу сказать: «Здесь не было его!», Впустив невольно память на порог[3]. В конце концов время вылечило и эту рану. Но это было очень долго и непросто. Мне говорили, идет дождь В последующие несколько лет боль и неопределенность после смерти Дэвида, как и отголоски болезни, сильно снизили мои ожидания от жизни. Я погрузилась в себя, стараясь защититься от внешних воздействий. Много работала. Управление клиникой, преподавание, исследования не могли заменить любовь, но были интересны и придавали моей исковерканной жизни смысл. Наконец-то осознав разрушительные последствия отказа от лития, я стала старательно его принимать и обнаружила, что жизнь может быть гораздо стабильнее, чем я смела рассчитывать. Мое настроение все еще скакало, я порой вскипала, но с гораздо большей уверенностью строила планы на будущее, а депрессивные периоды были уже не так сильны. Но душа моя по-прежнему была переполнена болью. За все восемь лет с начала работы на факультете, несмотря на месяцы маний и депрессий, попытку самоубийства и смерть Дэвида, я ни разу не оставляла работу на сколь-нибудь длительное время. Я даже не уезжала надолго из Лос-Анджелеса, чтобы отдохнуть и залечить свои раны. Так что, пользуясь прекрасной профессиональной привилегией, я решила взять год творческого отпуска, чтобы пожить в Англии. Как и Сент-Эндрюс годы назад, это дало мне чудесную передышку. Много времени наедине с собой, удивительная жизнь Лондона и Оксфорда – все это дало моим уму и сердцу шанс постепенно восстановить большую часть того, что было разрушено. У меня была и профессиональная причина: я хотела провести исследование аффективных расстройств у известных британских писателей и художников и поработать над медицинскими текстами, которые писала вместе с коллегами. Я распределила свое время между работой в Оксфорде и Медицинской школе Сент-Джордж в Лондоне. Трудно представить себе более разные учреждения, каждое из которых по-своему замечательно. Сент-Джордж, большая клиническая больница при университете, расположенная посреди одного из бедных районов Лондона, место оживленное и полное движения. Заведению было две с половиной сотни лет, в нем обучались Эдвард Дженнер, великий хирург Джон Хантер и многие другие выдающиеся медики и ученые. При больнице также похоронили Блоссом – корову, которую Дженнер использовал для испытаний своей вакцины от оспы. Ее слегка побитая молью шкура хранилась под стеклом в библиотеке медицинской школы. Когда я впервые увидела ее (с некоторого расстояния), то приняла за странную абстрактную картину. И была впечатлена, выяснив, что это шкура коровы, и не обычной, а столь знаменитой в медицинском мире. Было что-то особенно уютное в том, чтобы работать рядом с Блоссом, и я провела много счастливых часов в ее компании, размышляя и время от времени поднимая взгляд на ее пятнистую шкуру. Оксфорд был совершенно другим. Я получила место старшего научного сотрудника в Колледже Мертон – одном из трех первых в Оксфорде, основанном еще в XIII веке. Часовня Мертона была построена в ту же эпоху; она сохранила часть потрясающе красивых древних витражей. Библиотека, одна из первых в средневековой Англии, была возведена на век позже. В ней впервые придумали хранить книги на полках стоя, а не складывая одна на другую обложкой вверх. Рассказывают, что здешняя коллекция ранних печатных книг пострадала из-за убежденности руководства колледжа, что мода на печатные издания преходяща и они никогда не заменят настоящие манускрипты. Оксфордские колледжи до сих пор дышат этой удивительной уверенностью, которую не в силах поколебать реальность современности и приближающегося будущего. И она порождает множество забавных или досадных явлений, в зависимости от вашего настроения. У меня были очаровательные апартаменты в Мертоне, с видом на площадку для спортивных игр. Я могла писать в полной тишине, с перерывами лишь на кофе и чай, которые утром и к полудню приносил мне сотрудник колледжа. Ланч проходил в обществе коллег – потрясающе интересной, хотя и не без своих странностей, группы профессоров и старших преподавателей всех областей знаний, представленных в университете. Это были историки, математики, философы, литературоведы. При всякой возможности я занимала место рядом с сэром Алистером Харди, морским биологом. Он был удивительным человеком и выдающимся рассказчиком. Я была готова часами слушать повествования о его давних исследованиях в Антарктике и разговоры о новых исследованиях о природе религиозных переживаний. Мы разделяли интерес к работам Уильяма Джеймса и исследованиям природы экстатических состояний; он перепрыгивал с темы на тему, от литературы к биологии и теологии, без всяких усилий и пауз. Мертон – это не только один из старейших и процветающих колледжей Оксфорда, еще он славится прекрасной едой и богатыми винными погребами. По этой причине я нередко появлялась на ужинах. Те вечера казались путешествием в далекое прошлое: беседовать с господами, потягивая херес, перед началом ужина; затем степенно следовать в старинный обеденный зал; увлеченно наблюдать, как студенты в помятых черных одеждах вскакивают на ноги, когда входят преподаватели (в этом почтительном ритуале действительно что-то есть… может быть, и реверанс – не такая уж плохая штука). Головы склонены; быстрая молитва на латыни; и студенты, и преподаватели ждут, пока сядут ректоры. Внезапно начинается шумная суета – студенты пододвигают стулья, смеются, громко перекрикиваются через длинные столы. За столом преподавателей атмосфера более сдержанная, в разгаре типичные оксфордские беседы – обычно умные, часто увлекательные, иногда занудные. Прекрасные блюда и изысканные вина перечислены в каллиграфически оформленном меню с гербом. Затем вместе с коллегами мы удаляемся в небольшие гостиные, где пьем бренди и портвейн, лакомимся фруктами и засахаренным имбирем. Я не могу себе представить, как кто-то после таких ужинов мог заниматься работой. Но, поскольку каждый из известных мне преподавателей умудрялся написать как минимум четыре книги на ту или иную малопонятную тему, они должны были воспитать в себе (или унаследовать) какое-то особенное устройство мозга и печени. Я же под действием вина и портвейна была способна только сесть в последний поезд до Лондона и смотреть в окно на ночное небо – погруженная в мысли о других веках, затерянная в мирах и эпохах. Хотя я и ездила в Оксфорд по нескольку раз в неделю, в основном моя жизнь протекала в Лондоне. Я провела немало прекрасных часов, бродя по паркам и музеям. На выходные уезжала к друзьям из Восточного Сассекса, чтобы бродить на закате вдоль Ла-Манша. Снова начала заниматься верховой ездой. Я наслаждалась возвращением жизненной силы, прогуливаясь туманными осенними утрами на лошади по Гайд-парку или несясь во всю прыть по полям Сомерсета, мимо садов и березовых рощ. Я успела забыть, каково это – быть настолько открытой ветрам, дождям и красоте, и чувствовала, что жизнь снова наполняет мои жилы. Год в Англии помог мне осознать, как долго я была занята лишь выживанием и побегом от боли, вместо того чтобы наслаждаться жизнью, участвовать в ней. Шанс убежать от травматичных осколков болезни и смерти, от лихорадочной деятельности, от больничных и учебных обязанностей был подобен тому, что я получила в студенческие годы в Сент-Эндрюсе. Лондон подарил мне подобие мира, который раньше ускользал от меня. Безопасное место, чтобы размышлять и, что еще важнее, залечить раны. Англия не обладала магической кельтской атмосферой Сент-Эндрюса, такого больше не было нигде, но она вернула мне меня саму, вернула мне мечты и надежды. А еще – веру в любовь. Я в какой-то мере примирилась со смертью Дэвида. Навещая его могилу в Дорсете одним прохладным солнечным днем, я была ошеломлена очарованием церковного кладбища. Я не запомнила этого во время скорбной церемонии, не заметила тогда его умиротворяющей красоты. Мертвая тишина, возможно, давала утешение, но не то, к которому я тогда стремилась. Я оставила букет фиалок с длинными стебельками на могиле Дэвида и стала рассматривать буквы его имени в граните, вспоминая наши с ним дни в Англии, Вашингтоне, ЛосАнджелесе. Казалось, это было так давно, но Дэвид до сих пор стоял перед моими глазами – высокий, красивый, со скрещенными на груди руками. Он стоял на вершине холма и смеялся, как во время одной из наших прогулок по пригородам. Я до сих пор ощущала его присутствие. Помнила, как в странной интимности мы вместе склонились в молитве в соборе Святого Павла. Я все еще с невероятной отчетливостью чувствовала силу его объятий, которые давали мне тихий приют, покой и безопасность посреди полного опустошения. Больше всего на свете я желала, чтобы он увидел, что я здорова, что я могу отблагодарить его за доброту и веру в мои силы. Сидя у могилы, я думала обо всем, чего Дэвид лишился, умерев молодым. После часа блужданий в своих мыслях я вдруг осознала, что впервые думала о том, чего лишился Дэвид, а не о том, чего лишились мы. Дэвид был необычайно понимающим и любящим. Его доброта и уравновешенность спасли меня, но этого человека больше нет. Жизнь, благодаря ему и вопреки его смерти, продолжалась. Спустя четыре года я обрела совсем другую любовь и новую веру в жизнь. Она пришла ко мне в образе элегантного, меланхоличного и очень харизматичного джентльмена, которого я встретила в Англии. Мы оба понимали, что по личным и профессиональным обстоятельствам наш роман закончится вместе с концом года. Но вопреки (или даже благодаря) этому наши отношения наконец-то возродили в моем замкнутом и холодном сердце любовь, страсть и смех. Мы познакомились на ужине в Лондоне во время одной из моих первых поездок в Англию. И это была, без всякого сомнения, любовь с первого взгляда. В тот вечер мы не замечали никого вокруг, и, как выяснилось позже, никто из нас еще не бывал так безоглядно и безрассудно увлечен. Спустя несколько месяцев, когда я приехала в Лондон в свой творческий отпуск, он позвонил и пригласил меня на ужин. Я тогда снимала старый домик в Южном Кенсингтоне, и мы отправились в ресторан неподалеку. Это свидание стало продолжением того шквала эмоций, что захлестнул нас при первой встрече. Я была очарована легкостью, с которой он меня понимал, и покорена силой его характера. Еще до того, как вино было выпито, мы оба понимали, что назад пути нет. Когда мы вышли из ресторана, начался дождь. Этот мужчина обнимал меня за талию, пока мы сломя голову неслись домой. Там он прижал меня к себе со всей силой и долго-долго не отпускал. Я вдыхала запах дождя на его пальто, чувствовала силу его рук и с радостью вспоминала, как прекрасны могут быть дождь, жизнь и любовь. Я довольно давно не встречалась ни с одним мужчиной, и, понимая это, он был со мной очень нежен. Потом мы виделись при каждой возможности. Будучи одинаково склонны к сильным чувствам и переменчивым настроениям, мы легко могли утешить друг друга или отойти в сторону, если это было необходимо. Мы говорили обо всем на свете. Он обладал поразительной интуицией, был умен, страстен, а временами глубоко меланхоличен. И он понимал меня лучше, чем ктолибо другой. Его не пугали мои эмоциональные перепады, ведь собственный характер научил его понимать и уважать бурное воодушевление, парадоксальность и противоречия. Мы разделяли любовь к поэзии, музыке, традициям и бунтарству, равно как и осознание темной стороны всего, что кажется светом, и светлой стороны того, что выглядит мрачным и болезненным. С ним мы создали свой особый мир, состоящий из бесед и любви, который жил шампанским, розами, снегом и дождями. Этакий личный остров возрожденной жизни для двоих. Я даже не сомневалась, рассказывая ему о себе всё. И он, как и Дэвид, продемонстрировал удивительное понимание маниакально-депрессивного заболевания. Сразу после признания он взял мое лицо обеими руками, поцеловал нежно в обе щеки и проговорил: «Я думал, любить тебя еще сильнее невозможно». И после короткого молчания добавил: «Это меня не удивляет, но это действительно объясняет, как в тебе уживаются дерзость и ранимость. Я очень рад, что ты мне все рассказала». Это были не просто слова, сказанные для преодоления неловкости. Он действительно был искренен. Все, что он делал и говорил после нашей беседы, убеждало меня в этом. Он видел мои слабые стороны и всегда помнил о них – так же как и о сильных. Он понимал обе мои стороны, защищал от боли и ран, которые приносила болезнь, и в то же время ценил во мне страсть к жизни, любви, работе и людям. Я рассказала о своих трудностях с приемом лития и о том, что моя жизнь зависит от лекарств. Я рассказала, что обсуждала с психиатром возможность уменьшить дозу в надежде снизить неприятные побочные эффекты. Я очень хотела это сделать, но не менее сильно боялась, что меня снова захлестнет мания. Он убеждал меня в том, что в моей жизни может и не быть более безопасного и стабильного периода, чтобы попробовать, причем под его присмотром. После обсуждений с психиатром в Лос-Анджелесе и врачом в Лондоне я стала очень постепенно сокращать дозу лития. Результат был впечатляющим. Будто с моих глаз после многих лет сняли шоры. Через несколько дней после уменьшения дозы я гуляла в Гайд-парке вдоль галереи Серпентайн и вдруг осознала, что мои шаги стали упругими, я услышала и увидела все то, что раньше не пробивалось сквозь густой туман, обволакивающий мое сознание. Даже кряканье уток казалось звонче и громче, а неровности тропы – заметнее. Я почувствовала себя более живой и энергичной. И, что особенно важно, я снова могла читать без особых усилий. Это было потрясающе! Тем вечером я ожидала моего меланхоличного англичанина за вязанием, слушая Шопена и Элгара, наблюдая за снегопадом, и была поражена, каким чистым и проникновенным стал звук, как красивы и меланхоличны снегопад и мое ожидание. Я сильнее стала чувствовать красоту, но и грусть тоже. Когда он приехал – элегантный, только с официального обеда, в черном галстуке и белом шелковом шарфе, небрежно обернутом вокруг шеи, с бутылкой шампанского в руках – я как раз поставила сонату Шуберта си-бемоль мажор для фортепиано. Ее изящный, вкрадчивый эротизм переполнил меня эмоциями, и я почти расплакалась. Я оплакивала ту яркость и силу впечатлений, что незаметно для себя самой потеряла, я плакала от радости обрести ее снова. До сих пор не могу слушать это произведение, не погружаясь в прекрасную печаль того вечера, любовь, которую мне посчастливилось узнать, и мысли о шатком равновесии между здоровой чувствительностью и пугающей приглушенностью чувств. Однажды, после нескольких дней наедине друг с другом вдали от всего мира, он принес мне сборник рассказов о любви. В ней он пометил один отрывок, который передавал всю суть тех восхитительных дней и всего года в Англии: Спасибо за чудесные выходные. Мне говорили, идет дождь. Как на безумие глядит любовь Я боялась покидать Англию. Мое настроение никогда раньше не было уравновешенным так долго. Сердце ожило, а разум пребывал в отличной форме. Я бродила, гуляла и бегала вприпрыжку по Оксфорду и Сент-Джорджу. Мне было все труднее думать о том, чтобы оставить неспешный ход лондонских дней, а еще труднее – потерять близость и понимание, которые наполняли мои ночи здесь. Англия положила конец моим непрестанным тревогам о всех «если бы», «почему» и «что могло бы быть». Более того, она положила конец беспощадной войне с литием, которая оказалась не чем иным, как тщетным сражением с устройством собственного мозга. Эта война уже стоила мне массы потерянного времени, и, снова чувствуя себя в порядке, я не могла позволить себе выбросить на ветер еще больше времени. Теперь жизнь стоила того, чтобы за нее держаться. Год неизбежно закончился: снегопады и согревающий бренди зимних вечеров сменились освежающими дождями и белыми винами раннего лета. В Гайд-парке снова появились лошади и розы. Восхитительно прозрачный яблоневый цвет окутал черные ветви деревьев в парке Сент-Джеймса. Долгие и тихие дневные часы подарили умиротворенный оттенок моим последним дням в Англии. Я уже с трудом вспоминала жизнь в Лос-Анджелесе, а еще труднее было представлять возвращение к десяткам новых пациентов, суете и хаосу управления большой университетской клиникой, переполненной тяжелобольными. Я даже начала сомневаться, смогу ли вспомнить, как проводить психиатрическое обследование, и тем более обучать других, как это делать. Мне не хотелось оставлять Англию. Но еще меньше хотелось возвращаться в город, который для меня был связан не столько с изматывающей научной карьерой, сколько с нервными срывами, следовавшим за ними холодным и обескровленным существованием, с изнурительным притворством, что у меня все в порядке, с необходимостью быть милой, когда чувствовала я себя чудовищно. Однако я сильно ошибалась в своих предчувствиях. Год в Англии не просто дал мне передышку. Он позволил мне восстановиться. Преподавание снова стало увлекательным. Ведение интернов приносило удовольствие, как в давние времена, а общение с пациентами дало мне шанс использовать на практике знания, полученные из собственного опыта. Душевное истощение дорого мне обошлось, но, как ни странно, только чувствуя себя здоровой, энергичной и в отличном расположении духа, я смогла это понастоящему осознать. Работа шла хорошо и довольно гладко. Большую часть времени я проводила за написанием в качестве соавтора учебного пособия по маниакально-депрессивному заболеванию. Я наслаждалась тем, насколько легче мне стало читать, анализировать и запоминать медицинскую литературу, ведь до недавних пор это требовало невероятных усилий. Работа над главами книги представляла собой приятное сочетание науки, клинической медицины и личного опыта. Поначалу я беспокоилась, что этот опыт может исказить содержание. Но соавтор был хорошо осведомлен о моей болезни, и текст проверили несколько других врачей и ученых. И все же довольно часто я подробно останавливалась на том, что испытала сама, чтобы подчеркнуть тот или иной аспект классификации или лечебной практики. Многие главы, в частности о самоубийстве, принятии медикаментов, детстве и подростковом возрасте, психотерапии, клиническом описании, творчестве и межличностных отношениях, расстройствах процессов мышления, восприятия и познания, я написала, исходя из собственного убеждения, что эти аспекты раньше были обделены вниманием науки. Другие главы – об эпидемиологии, наркотической и алкогольной зависимости, об оценке маниакальных и депрессивных состояний – были по большей части обзором уже существующей психиатрической литературы. При подготовке главы о клиническом описании, в которой приводились основные характеристики маниакального, гипоманиакального, депрессивного и смешанного состояний, а также циклотимических черт, соответствующих этим клиническим состояниям, я опиралась не только на классические труды, например профессора Крепелина, но и на свидетельства самих пациентов. Многие из них были написаны художниками и литераторами – они создали крайне точные и живые описания собственных маний, депрессий и смешанных фаз. Остальные свидетельства я взяла у своих пациентов или из трудов других психиатров. В нескольких случаях я использовала и собственный опыт – заметки, которые собрала за годы подготовки университетских лекций. Таким образом, текст, состоящий из клинических исследований, описаний симптомов, классических клинических описаний из европейской и британской литературы, был удачно дополнен отрывками из стихов, романов и дневниковых записей людей, страдавших маниакально-депрессивным заболеванием. По личным и профессиональным причинам я сделала сильный акцент на смертельной опасности этой болезни, на невыносимом беспокойстве, свойственном смешанной мании, и на необходимости работать с сопротивлением приему медикаментов. Мне эта книга дала возможность дистанцироваться от собственных переживаний и посмотреть на заболевание со стороны, через призму холодного научного ума. Для этого мне потребовалось структурировать хаос, через который я прошла сама. Наука часто оказывалась не только увлекательной, но и обнадеживающей. Временами было непросто наблюдать, как сильные и непростые эмоции и поступки выкристаллизовываются в бесцветные научные фразы. Но нельзя было не увлечься изучением открытий и новейших методов этой быстроразвивающейся отрасли медицины. В конце концов я даже полюбила дисциплину и одержимость, необходимые для создания бесчисленных графиков и таблиц. В составлении колонок цифр и подсчете процентов было что-то успокаивающее. Так же, как и в критическом изучении методов, использованных в различных исследованиях, попытках найти общие закономерности в огромном количестве разных статей и книг. Я поняла, что самый верный способ прийти от беспокойства к пониманию – это задавать вопросы, отыскивать ответы со всей тщательностью, задавать новые вопросы – так же, как я делала в детстве, когда бывала расстроена или напугана. Снижение дозы лития позволило мне не только яснее мыслить, но сильнее и ярче чувствовать. Эти способности были основой моего характера, и их отсутствие оставило зияющую дыру в моем восприятии мира. Слишком сильное подавление настроения и характера, которое вызвала высокая дозировка лития, сделало меня менее устойчивой к стрессу. Так что, как только доза уменьшилась, мой характер, подобно каркасу калифорнийской высотки, специально созданному, чтобы выдерживать землетрясения, позволил моей психике стать гибче, пусть и слегка раскачиваясь. Удивительно, но мысли и эмоции приобрели новую надежность. Я начала смотреть по сторонам и поняла, что подобную стабильность и предсказуемость большинство обычных людей принимают как данность. Будучи студенткой, я помогала одному слепому однокурснику со статистикой. Каждую неделю он приходил вместе со своей собакойповодырем в маленький кабинет на первом этаже факультета психологии. Общение с ним произвело на меня очень сильное впечатление. Я видела, с каким трудом ему даются обыденные для меня вещи; как трогательна его дружба с колли, которая, проводив его до кабинета, немедленно сворачивалась у ног и засыпала до конца занятия. Со временем мне стало проще спрашивать его о том, каково это – быть слепым студентом в Калифорнийском университете, так сильно зависеть в жизни и учебе от помощи других. Через несколько месяцев я была уверена, что составила какое-то представление о его жизни. Пока однажды он не попросил меня провести занятие не в кабинете, а в читальном зале библиотеки для слепых. Я не сразу нашла этот зал. И когда открыла дверь, с ужасом обнаружила, что в нем царят абсолютная темнота и мертвая тишина: ни одной лампы; пять-шесть студентов сидят, склонившись над книгами или прослушивая аудиозаписи лекций. По моей коже пробежали мурашки от суеверного ужаса, который внушала эта сцена. Мой подопечный услышал шаги, поднялся и включил свет. Это был один из тех моментов ясности, когда ты осознаешь, как мало знаешь о мире другого человека. Когда я сама постепенно вернулась в мир стабильных настроений и предсказуемости, я начала понимать, что почти ничего не знала о нем и даже не представляла, каково в нем жить. Я оказалась чужестранкой в нормальном мире. Это была отрезвляющая мысль, и в этом были как плюсы, так и минусы. Мои настроения по-прежнему колебались достаточно часто и сильно, чтобы обеспечить мне головокружительные моменты на грани. Такие мании были замешены на экстремальном эмоциональном изобилии, абсолютной уверенности в своих силах, на полете идей, изза которых мне и было так трудно заставить себя принимать литий. Но затем неизбежно следовала черная опустошенность, снова вынуждавшая признать тяжесть болезни, которая убивает радость и надежду, лишает всяких сил. В такие моменты я жаждала стабильности, которая была почти у всех моих знакомых. Я начинала понимать, как трудно и утомительно просто держать свой разум в равновесии. Я действительно успевала многое за дни и недели высоких полетов, но также успевала начать проекты и взять обязательства, которые необходимо было выполнять и в более тяжкие времена. Я бегала наперегонки с собственным разумом, восстанавливаясь после провалов или погружаясь в них. Все новое было лишено блеска новизны, и простое накопление опыта казалось куда менее осмысленным, чем я ожидала. Крайности моих настроений были выражены гораздо слабее, чем раньше, но становилось ясно, что ненадежная импульсивная нестабильность – неотъемлемая часть меня. Теперь, спустя многие годы, я убедила себя, что некоторое равновесие ума не только желательно, но и необходимо. Глубоко в душе я продолжала верить, что истинная любовь может процветать только в страстях и бурях. Потому я считала, что моя судьба – быть с мужчиной со схожим темпераментом. Я довольно поздно осознала, что хаос и сила чувств не заменят постоянства любви и не обязательно делают жизнь лучше. Нормальные люди далеко не всегда занудны. Напротив. Страсть и переменчивость, хотя и кажутся романтически привлекательными, по сути ничем не лучше равновесия и уверенности в надежности чувств (хотя иногда эти качества могут и сочетаться). Каждый понимает это, когда речь идет о семье и дружбе. Но логика становится не так очевидна, когда ты захвачен увлечением, которое отражает, усиливает и укрепляет твое собственное непостоянство. С удовольствием и легкой болью я узнала о постоянстве любви, которая становится только сильнее с годами, от своего мужа – человека, с которым прожила почти десять лет. Я познакомилась с Ричардом Уайеттом на рождественской вечеринке в Вашингтоне, и он оказался совсем не таким, каким я его представляла. Я слышала о нем как об известном исследователе шизофрении, руководителе направления нейропсихиатрии в Национальном институте психического здоровья, авторе более семи сотен научных публикаций и нескольких книг. Но я не ожидала увидеть тогда, у гигантской рождественской елки, красивого скромного мужчину, тихого и обаятельного. Он был не только привлекателен, но и прост в общении, и мы часто разговаривали в последующие месяцы. Спустя почти год после первой встречи я приехала в Лондон, взяв еще один творческий отпуск на шесть месяцев, а затем снова вернулась в Лос-Анджелес – достаточно надолго, чтобы разобраться с накопившимися обязательствами и подготовиться к переезду в Вашингтон. Со стороны Ричарда это были короткие, но очень убедительные ухаживания. Мне нравилось быть с ним. Он оказался не только невероятно умен, но и не лишен воображения и дружеского любопытства. Он был очень открытым и удивительно легким в общении. Уже в самом начале наших отношений я не представляла жизни без него. Я оставила работу в медицинской школе Калифорнийского университета, которую так любила, с глубоким сожалением и не без тревоги за свое финансовое благополучие без постоянной штатной должности. После этого началась длинная череда прощальных вечеринок, которые устраивали для меня коллеги, друзья и студенты. Но в конце концов я уехала из Лос-Анджелеса без особых сожалений. Он никогда не был для меня «городом ангелов», и я была даже счастлива оставить его в тысячах миль позади. Для меня Лос-Анджелес ассоциировался с близостью смерти, утраченным разумом, разбитой жизнью. Хотя сама по себе жизнь в Калифорнии и была для меня неплоха, а иногда даже замечательна, но в тот момент, готовясь к переезду в Вашингтон, я не могла этого оценить. Обманчивый, ускользающий и бесконечно сложный город «земли обетованной» так и остался для меня городом невыполненных обещаний. Вместе с Ричардом мы переехали в домик в Джорджтауне, чтобы моментально убедиться в том, что было интуитивно понятно с самого начала: более разных людей нельзя и представить. Он был скромен, я была яркой. То, что задевало меня за живое, он часто даже не замечал. Он был спокоен, я вспыльчива; он вникал в суть вещей постепенно, в то время как я остро и мгновенно реагировала и на боль, и на удовольствие. Во всем и всегда он был человеком умеренным, я же была скора и на обиды, и на примирения. Концерты и опера, без которых я не представляла жизни, для него были пыткой, равно как слишком длинные разговоры и отпуск дольше трех дней кряду. Мы были полными противоположностями. Я была переполнена то воодушевлением, то отчаянием, а Ричард, большую часть времени пребывавший в спокойном настроении, не знал, как со мной совладать. Или, еще хуже, воспринимал всерьез мои переменчивые настроения. Он просто не понимал, что со мной делать. Когда я спрашивала, о чем он думает, он никогда не начинал говорить об отношениях, смерти или о нас – вместо этого он рассуждал о какой-нибудь научной проблеме либо же (изредка) о своем пациенте. Ричард относился к науке и медицинской практике с той же страстью, с какой я – ко всем прочим аспектам жизни. Было очевидно, что не в его характере смотреть в глаза за долгими ужинами и винами и беседовать о музыке и литературе за кофе в ночи. Он вообще не был способен подолгу усидеть на месте, почти не пил, не любил кофе и не интересовался ни хитросплетениями отношений, ни произведениями искусства. Ричард не выносил стихов и не переставал удивляться, как я могу проводить столько времени за бессмысленными прогулками – на выставки, в зоопарк, с собакой (моим милым застенчивым бассет-хаундом по кличке Тыковка), посиделками с друзьями за завтраками и обедами. Но при этом я ни разу не усомнилась в его любви ко мне, как и в своей – к нему. Любовь, как и жизнь, гораздо сложнее и страннее, чем мы способны себе представить. Наши общие профессиональные интересы в медицине, науке и психиатрии были очень сильны, а различия в образе жизни и внутреннем устройстве давали обоим больше независимости, что оказалось чрезвычайно важно и помогало нам оставаться близкими людьми. Жизнь с Ричардом стала для меня тихой гаванью: прекрасным местом, наполненным любовью и теплотой и притом всегда открытым внешним водам. Но, как и до любого убежища, в котором можно найти не только красоту, но и безопасность, до него было непросто добраться. Когда я – вскоре после знакомства – впервые рассказала Ричарду о своей болезни, он выглядел ошеломленным. Мы сидели в большой гостиной отеля Del Coronado в Сан-Диего. Ричард медленно отложил гамбургер, посмотрел мне в глаза и сказал довольно сдержанно: «Это многое объясняет». Он был удивительно добр. Как и Дэвид когда-то, Ричард стал расспрашивать, как протекает болезнь и как она влияет на мою жизнь. Поскольку он тоже был врачом, то задал много вопросов медицинского толка: каковы мои симптомы при мании, насколько сильны депрессии, были ли у меня попытки суицида, какие препараты я принимала раньше и принимаю сейчас, каковы их побочные эффекты. Как и всегда, он оставался спокойным и понимающим. Какие бы сомнения его ни терзали, ему хватало такта держать их при себе. Но я хорошо знала, что теоретическое понимание необязательно означает взаимопонимание в повседневной жизни. Я очень сомневалась, что кто-либо, не страдающий таким расстройством, может по-настоящему его понять. В конце концов, это наивно – рассчитывать, что другой человек примет тебя со всеми проблемами, как ты об этом мечтаешь. Такое заболевание вовсе не способствует пробуждению эмпатии. Когда беспокойство выплескивалось в гнев, психоз или даже насилие, Ричарду, как и любому человеку, было трудно видеть во мне болезнь, а не жестокость, неадекватность и тяжесть характера. То, что я была не в силах контролировать, для окружающих выглядело пугающе. В такие моменты я не способна адекватно выразить свою боль и отчаяние, а прийти в себя после разрушительных вспышек и жестоких слов еще труднее. Мне было трудно объяснить, а Ричарду – понять эти страшные черные мании с их взвинченными, яростными, дикими настроениями. Никакое количество любви не способно излечить безумие и победить мрак. Любовь помогает утешить боль, но полагаться на нее – все равно что быть зависимым от лекарства, которое может помочь, а может и нет. Безумие же почти наверняка сумеет убить любовь, особенно когда рука об руку с ним идут недоверчивость, пессимизм, недовольство, абсурдные поступки, а в особенности агрессивность. Грустные, сонные, замедленные депрессии более предсказуемы, их интуитивно легче понять и принять. Тихая тоска не кажется опасной и недоступной для понимания, в отличие от жестокого взрывоопасного отчаяния. С годами опыт и любовь научили нас обоих справляться с маниакально-депрессивным заболеванием. Иногда я со смехом замечала, что невозмутимость Ричарда стоит мне трехсот миллиграммов лития в сутки, и это правда так. Иногда в разгар жутких разрушительных приступов я чувствовала близость и спокойствие Ричарда и вспоминала удивительные слова Байрона о радуге, которая возникает «надеждой подле смертного одра», и, «над этим мутным бешенством сияя», она остается спокойной: В мильонах шумных брызг отражена, Как на Безумие – Любовь, глядит она. Но любовь если и не панацея, то очень сильное лекарство. Как писал Джон Донн, она не так чиста и абстрактна, как мы представляем, но она терпит, и она растет. Часть IV Беспокойный ум Говоря о безумии Незадолго до того, как переехать из Лос-Анджелеса в Вашингтон, я получила одно из самых неприятных писем в своей жизни. Оно пришло не от коллеги или пациента, а от женщины, которая, увидев объявление о моей лекции, была возмущена, что в ее названии я употребляю слово «безумие». Я, по ее мнению, была глупа и бесчувственна и, очевидно, даже не представляла, каково жить с таким ужасным заболеванием, как маниакально-депрессивный психоз. Она писала, что я очередной медик, готовый карабкаться на вершину карьеры по головам больных. Я была потрясена яростью этого письма и потом долго размышляла о словах, обозначающих безумие. В языке, который используют для описания и обсуждения душевных расстройств, многое – описательность, банальность, научная точность, стигма – порождает непонимание, смущение, путаницу и постепенное обесценивание привычных слов и фраз. В конце концов, уже невозможно понять, что стоит за словами вроде «сумасшедший», «поехавший», «чокнутый», «помешанный» и стоит ли их вообще использовать в обществе, все более беспокоящемся о чувствах и правах душевнобольных. Нужно ли лишать язык экспрессивных и забавных фраз в духе «выжить из ума», «сдвинуться по фазе», «с печи свалиться», «с дуба рухнуть», «без царя в голове», «крыша поехала» в угоду корректности? Один из моих друзей попал в психиатрическую больницу после острого приступа мании. Его отправили на групповую терапию, которая была разработана специально для просвещения пациентов, готовящихся к выписке. Там их учили не употреблять выражений вроде «лунатик», «с приветом», «псих», «шизик», «куку» и не позволять этого делать окружающим. Выбор таких слов, говорили им, способствует самостигматизации и бьет по самооценке. Мой друг считал, что такой подход смешон и снисходителен. Но так ли это? С одной стороны, это был достаточно корректный профессиональный совет: подобные выражения, сказанные не с той интонацией и не в том контексте, действительно могут больно задеть. Предрассудки и бесчувственность болезненны. Их использование без всяких ограничений не только ранит, но и усиливает прямую или непрямую дискриминацию больных на работе и в целом в обществе. Но, с другой стороны, нет смысла рассчитывать, что банальный отказ от выражений, которые существовали в языке столетиями, сильно изменит отношение общества к самому явлению. Это лишь иллюзия простого решения невероятно сложной проблемы, которое, кроме всего прочего, игнорирует важную позитивную роль иронии и юмора. Очевидно, язык для обсуждения душевных расстройств и поведения больных должен быть свободен, разнообразен, умен и достаточно прям. Также очевидно, что назрела необходимость глубоких перемен в том, как общество воспринимает психические заболевания. Дьявол, как всегда, кроется в деталях – в контексте и акцентах. Наука, к примеру, требует предельно точного языка. Слишком часто страхи и непонимание со стороны публики, запросы науки, обобщения популярной психологии и действия правозащитников порождают полную путаницу. Один из ярчайших примеров – споры вокруг популярного современного термина «биполярное расстройство». Его внесли в номенклатуру четвертого издания «Руководства по диагностике и статистике психических расстройств» (DSM-IV), авторитетную систему Американской психиатрической ассоциации, вместо изначального термина «маниакально-депрессивный психоз». Хотя я всегда называю свое состояние маниакально-депрессивным заболеванием, мой официальный диагноз – «биполярное расстройство первого типа, рекуррентное, осложненное психотическими чертами; полная ремиссия между эпизодами» (один из моих любимейших симптомов по DSM – «чрезмерная склонность к приятной деятельности»). Как врач и исследователь, я убеждена, что для обеспечения должной корректности и надежности исследования должны базироваться на точных и ясных диагностических критериях, на которых и строится DSM-IV. Ни одному пациенту или его родственнику не пойдут на пользу экспрессивные красивые слова, если они неточны и субъективны. Как эксперт и пациент, я считаю термин «биполярный» довольно оскорбительным. Он невнятен и, на мой взгляд, приуменьшает серьезность заболевания. «Маниакальнодепрессивный», напротив, отражает истинную природу и серьезность моего диагноза, он не пытается приукрасить непростую реальность. Большинство медиков и многие пациенты считают, что новый термин меньше стигматизирует проблему. Возможно, это так, но не факт. Конечно, пациенты должны иметь право выбора, что для них более комфортно. Но неизбежно возникает два вопроса: является ли термин БАР медицински точным? И действительно ли смена названия способствует лучшему принятию заболевания в обществе? Отвечая на первый вопрос, я скажу, что термин достаточно точен, поскольку обозначает человека, который страдает от двух крайностей – и мании, и депрессии, в отличие от тех, у кого случаются только депрессии. Но разделение аффективных расстройств на биполярные и униполярные подразумевает принципиальное различие между депрессией и маниакально-депрессивным заболеванием, которое ни клинически, ни этиологически не очевидно. Также это название подразумевает, что депрессия и мания существуют отдельно друг от друга, никак не пересекаясь. Эта поляризация клинических состояний вступает в противоречие со всем, что мы знаем о переменчивой, лихорадочной природе маниакально-депрессивного психоза. Она игнорирует важный вопрос – является ли мания лишь экстремальной формой депрессии – и приуменьшает значимость смешанных состояний, которые довольно распространены, крайне важны для лечения заболевания и лежат в основе многих теоретических аспектов его изучения. Также возникает вопрос: что необходимо для борьбы со стигматизацией – просто смена названия или масштабная просветительская деятельность? Которая включит в себя успешные методы лечения с применением лития, антипсихотиков, антидепрессантов и противосудорожных препаратов. Такие методы лечения, которые не просто успешны, но и интересны широкой публике и прессе (вспомним о влиянии прозака на общественное мнение о депрессии). Не менее важно выявление генетических и других биологических причин душевных расстройств, а также технологии исследования мозга, например магнитно-резонансная томография и позитронно-эмиссионная томография, визуально отображающие существование этих расстройств. Не стоит забывать и о совершенствовании анализов, которые по составу крови смогут дать медицински точное объяснение психиатрических проблем. Разумеется, важны и законодательные инициативы, например Закон о гражданах Америки с ограниченными физическими возможностями. В целом необходимо достижение равенства с другими медицинскими проблемами при развитии системы здравоохранения. Отношение к психическим расстройствам меняется, хотя и не без труда. Это результат взаимодействия всех перечисленных факторов: успешного лечения, защиты прав и законодательства. Крупнейшие правозащитные группы созданы преимущественно пациентами, членами их семей и специалистами по психическим заболеваниям. Они эффективны в просвещении публики, прессы и правительства. Хотя у каждой общественной организации разные методы работы и цели, вместе они дают поддержку десяткам тысяч больных и их близких, помогают повысить уровень медицинского обслуживания, требуя компетентности и уважения и фактически бойкотируя тех врачей, которые не готовы это обеспечить. Они уговаривают, склоняют и вынуждают членов конгресса (некоторые из которых также страдают от аффективных расстройств) улучшать финансирование исследований, развивать законодательство против дискриминации и делать многие другие вещи, чтобы люди с психическими расстройствами пользовались равными со всеми правами. Эти организации вместе с врачами и учеными, создающими основу для лечения, сделали многое для облегчения жизни всех нас – равно тех, кто называет себя безумным, и тех, кто пишет письма, протестуя против этого. Благодаря им мы можем себе позволить роскошь лингвистических споров о нашем состоянии или же о положении дел в обществе. Беспокойная спираль Джим Уотсон сидел в кресле, недалеко от двери конференц-зала, в которую мог улизнуть в любой момент. Он что-то рассматривал, тряс ногой, щурился и зевал, нетерпеливо постукивал пальцами по затылку. Периодически он проявлял жадное, но мимолетное внимание к представляемым ему данным, затем скользил взглядом по номеру The New York Times и снова уходил в свои космические блуждания. Джиму не слишком дается заинтересованный вид, когда ему скучно. Было невозможно узнать, действительно ли он думает о науке – генетике, молекулярной биологии, маниакально-депрессивном заболевании, – или же погружен в размышления о политике, сплетнях, любовных историях, спонсорах лаборатории в Колд-Спринг-Харбор, архитектуре, теннисе. С тем же успехом его ум могло занимать какое-то другое страстное увлечение. Яркий и чрезмерно резкий человек, он не из тех, кто оставит вас равнодушным. Я считаю его удивительным. Джим крайне независим. По своей природе он – зебра в стаде лошадей. Можно поспорить, что нетрудно быть независимым и непредсказуемым, когда ты получил Нобелевскую премию за свой вклад в открытие структуры жизни. Но очевидно, что именно такой характер – страстный, соревновательный, богоборческий, с богатым воображением – и помог ему открыть структуру ДНК. Энергия этого человека впечатляет. Его темп (и физический, и интеллектуальный) подчас утомителен для других. Поспеть за ним – в спорах ли за обеденным столом или во время прогулок по городу – задача не из легких. Жена Уотсона утверждает, что может сказать, дома ли Джим, по ощущению энергии, разлитой в воздухе. Но как бы ни был он неординарен как личность, в первую очередь и прежде всего он – ведущий ученый: до самых недавних пор – директор одной из передовых лабораторий молекулярной биологии и первый директор Национального центра исследований генома человека. В последние несколько лет он посвятил себя исследованию генов, ответственных за развитие маниакально-депрессивного заболевания. Поскольку научное понимание этого состояния всецело зависит от успехов молекулярной биологии, я провела немало времени, изучая ее. Этот экзотический мир строится вокруг странного набора растений и животных – кукурузы, дрозофил, иглобрюхов, червей, мышей, людей. Он создает необычный, быстро развивающийся язык, который может звучать весьма поэтично, с загадочными словами вроде «плазмида», «космида», «тройные спирали», «свободные молекулы», «клеткикамикадзе», «прогулки по хромосоме» и «генетические карты». Эта отрасль науки нацелена на самые фундаментальные основы познания, поиск биологического эквивалента лептонов и кварков. Встреча, на которой Уотсон глазел по сторонам и зевал, была посвящена именно генетическим основам маниакально-депрессивного заболевания. Это была попытка собрать вместе клинических психиатров, генетиков и молекулярных биологов, каждый из которых тем или иным образом занят поиском генов, отвечающих за маниакально-депрессивное заболевание, чтобы поделиться методиками, открытиями и родословными семей, ставших предметом исследований. На экране одна родословная сменяла другую. В некоторых из них больных было всего несколько, в других изображено множество черных кругов и квадратов, обозначающих женщин и мужчин, страдавших этой болезнью. Полузакрашенные круги и квадраты изображали больных депрессией, крест или черта отмечали совершивших самоубийство. За каждым из этих маленьких значков стояла жизнь, наполненная страданием. Ирония была в том, что чем больше черных значков в конкретной семье, тем лучше, то есть тем информативнее она для исследования. Я обвела взглядом зал и подумала, что кто-то из этих ученых в какой-то из родословных установит место расположения генов маниакально-депрессивного заболевания. Это была захватывающая мысль, поскольку, как только ген удастся определить, можно будет ставить более точные и ранние диагнозы, а значит, сделать лечение успешнее и эффективнее. Слайды закончились, шторы подняли, и я пошла искать Уотсона среди яблоневого сада. Я вспомнила о своем прошлогоднем путешествии по Миссисипи. Мы с Могенсом Шу, датским психиатром, которого следует благодарить за введение лития в лечение маниакально-депрессивного заболевания, решили пропустить дневную сессию Американской психиатрической ассоциации и воспользоваться преимуществами жизни в Нью-Орлеане. Лучший способ это сделать – прокатиться на лодке вниз по Миссисипи. Был чудесный день, и после обсуждения самых разных тем Могенс обратился ко мне с прямым вопросом: почему я выбрала именно аффективные расстройства? Он поймал меня врасплох, и, наверное, это было написано на моем лице. Тогда Могенс переформулировал: «Давай сперва я отвечу». Он рассказал мне обо всех случаях депрессии и маниакальнодепрессивной психоза в своей семье, о том, как они были разрушительны и как много лет назад он взялся за отчаянный поиск медицинской литературы, которая предложила бы новые, экспериментальные методы лечения. Когда в 1949 году в малоизвестном австралийском журнале была впервые опубликована статья Джона Кейда о роли лития в лечении острой мании, Могенс ухватился за эту идею и немедленно начал клинические испытания, чтобы определить эффективность и безопасность этого препарата. Он с легкостью говорил об истории психических расстройств в своей семье и подчеркивал, что у него была сильнейшая личная мотивация для исследований. Он дал понять, что подозревал у меня схожие причины. Я была ловко поймана, но в то же время почувствовала облегчение. И решила честно рассказать о своей семье. Вскоре мы вместе рисовали наши родословные на бумажных салфетках. Я была впечатлена, сколько в моем рисунке черных значков (и тех, которые вполне могли быть черными). К примеру, я знала, что двоюродный дед провел почти все взрослые годы в психбольнице, но не знала его точного диагноза. Маниакально-депрессивное заболевание проявлялось время от времени во всех известных мне трех поколениях по отцовской линии. Лист был испещрен звездочками, отмечающими попытки самоубийства. Материнская линия, напротив, была образцово чиста. Не нужно быть большим знатоком человеческих душ, чтобы заметить, какими разными были мои родители, но это было очень яркое доказательство – в прямом смысле черным по белому. Могенс, рисовавший собственное семейное древо, заглянул мне через плечо и был впечатлен количеством больных. Смеясь, он признал себя проигравшим в этом соревновании. Он заметил, что кружок, которым я отметила себя, был черным со звездочкой – как это удивительно, свести личную трагедию к банальному значку! Мы долго говорили о болезни, литии, побочных эффектах медикаментов, моей попытке самоубийства. Беседа с Могенсом была для меня очень полезной, ведь он активно убеждал меня использовать собственный опыт в исследованиях, преподавании и написании статей. Кроме того, крайне важно было обсудить проблему со старшим коллегой, который не только понимал, через что я прошла, но и использовал собственный опыт, чтобы изменить к лучшему жизни тысяч людей и мою в том числе. Сколько бы я ни пыталась бороться с литием, было очевидно, что без него я бы давно погибла или попала в государственную больницу на долгие годы. Я – одна из многих, обязанных жизнью черным кружкам и квадратикам в семейном древе Могенса Шу. Тот факт, что маниакально-депрессивное заболевание передается по наследству, влечет за собой целый комплекс непростых переживаний. С одной стороны, это ужасный стыд и вина. Еще давно, во время жизни в Лос-Анджелесе, я обратилась к врачу, рекомендованному мне коллегой. Осмотрев меня и выяснив, что я много лет принимаю литий, он задал мне ряд развернутых вопросов по истории моей болезни. В числе прочего он спросил, планирую ли я иметь детей. Я привыкла к уважительному и сочувственному отношению со стороны врачей и не видела причин что-то скрывать. Я откровенно рассказала о своих маниях и депрессиях, о том, что в целом хорошо отзываюсь на лечение. Я сказала, что мечтаю о детях, и он немедленно спросил, намерена ли я продолжать принимать литий во время беременности. Я отвечала, что, очевидно, угрозы болезни превосходят возможный ущерб для плода и поэтому я предпочитаю продолжать прием. Прежде чем я закончила свою речь, он вмешался с вопросом: знаю ли я, что это заболевание передается по наследству? «Естественно», – ответила я, борясь с желанием напомнить ему, что вообще-то потратила годы на изучение этой болезни и совсем не похожа на тупицу. Тогда он произнес ледяным и не терпящим возражений тоном, который до сих пор звучит в своей голове: «Вам не стоит рожать детей. У вас маниакально-депрессивный психоз». Он сказал это так, будто это истина в последней инстанции. Я почувствовала себя плохо, невероятно плохо и униженно. Решив не поддаваться на провокацию и не проявлять того, что бы он немедленно счел неадекватным поведением, я уточнила, беспокоится ли он о том, что я не смогу стать адекватной матерью, или же считает, что лучше не производить на свет еще одного маниакальнодепрессивного бедолагу. Проигнорировав мой сарказм, он произнес: «И то и другое». Я попросила его выйти из комнаты, накинула пальто, хлопнула дверью и крикнула, что он может убираться к черту. Я перешла улицу, забралась в машину и сидела там, плача, пока слезы не закончились. Грубость может проявляться по-разному. То, что сказал этот врач, было не только грубо, но и непрофессионально. Его слова оставили в моем сердце глубокую рану. Кому-то это может показаться странным, но я никогда не думала отказываться от рождения детей изза своей болезни. Даже в самых черных из своих депрессий я не жалела, что появилась на свет. Да, были моменты, когда мне хотелось умереть, но это совершенно другое. Большую часть своей жизни я была рада ей и безмерно благодарна и даже не представляла, как можно не хотеть подарить жизнь новому человеку. В конце концов, у меня была удивительная жизнь, пусть и очень бурная. Конечно, у меня были сомнения. Смогу ли я достаточно хорошо заботиться о детях? Что будет с ними, если у меня начнется серьезная депрессия? И, что еще тревожнее, как они воспримут мою манию, если я потеряю рассудок, буду агрессивна и неадекватна? Каково это – видеть, как твой собственный ребенок, если он тоже заболеет, борется с депрессией, отчаянием, безнадежностью, безумием? Буду ли я с пристрастием искать в детях симптомы и принимать нормальные поступки за тревожные сигналы? Я обдумывала эти вопросы тысячи раз, но никогда не ставила под вопрос саму перспективу родительства. И, вопреки хладнокровному приговору того врача, я была бы счастлива иметь большую семью, полный дом ребятишек, как мы мечтали с Дэвидом. Но жизнь распорядилась иначе. Дэвид погиб. Ричард, единственный мужчина, с которым я бы хотела растить детей, уже имел троих от прежнего брака. Отсутствие детей – пожалуй, единственное по-настоящему большое сожаление в моей жизни. К счастью, у меня трое племянников, и каждый из них по-своему очарователен. Я обожаю общаться с ними. Быть тетей – замечательно, особенно когда твои племянники милы и разумны, независимы, остроумны, забавны и изобретательны. Невозможно не радоваться их компании. Двое племянников, как и мой отец, увлеклись математикой и экономикой. Это спокойные, остроумные, свободолюбивые, мягкосердечные и очаровательные молодые люди. Племянница – самая младшая, ей сейчас одиннадцать, но она уже выиграла национальный конкурс рассказов и намерена стать писателем. Я часто наблюдаю, как она, свернувшись в своем кресле, что-то пишет в блокноте, задает бесконечные вопросы о словах и людях, возится со своими питомцами или встревает в семейные беседы, чтобы отстоять свою точку зрения. Она удивительная, оригинальная, восприимчивая и решительно настроена быть независимой от шумных старших братьев, родителей и любых других взрослых. Я не могу представить свою жизнь без этих ребят. Несмотря на всю свою приверженность исследованиям генетических корней маниакально-депрессивного заболевания, меня беспокоит, чем оно может обернуться на практике. Очевидно, что чем раньше и точнее поставлен диагноз, чем эффективнее лечение, тем лучше больным, их семьям и обществу в целом. Вопрос времени, когда эти открытия войдут в практику. Но перинатальное тестирование несет и свои угрозы. Решатся ли родители на аборт, выявив у эмбриона гены маниакально-депрессивного заболевания (даже несмотря на то, что заболевание поддается лечению)? Примечательно, что в недавнем опросе пациентов в клинике Джонса Хопкинса о том, отказались бы они от рождения ребенка с такими генами, лишь несколько ответили положительно. Если человечество захочет избавиться от генов маниакально-депрессивного заболевания, станет ли мир менее ярким и разнообразным? Какими будут потери от этого для науки, бизнеса, политики, искусства, движимых в том числе неугомонными маниакально-депрессивными талантами? Станут ли люди с подобной особенностью исчезающим видом, как дымчатый леопард или пятнистая сова? Это трудные этические вопросы, ведь болезнь дает преимущества не только отдельному человеку, но и обществу. Маниакальнодепрессивное заболевание, в своей мягкой и тяжелой формах, может стимулировать развитие творческих способностей, воображения, способствовать успехам великих ученых, бизнесменов, политических, религиозных и военных лидеров. Это довольно распространенное и крайне разнообразное в своих проявлениях заболевание, потому менее очевидное его влияние – на формирование личности, образ мышления, уровень энергии – тоже важно для общества. Ситуацию еще более усложняет тот факт, что генетические, биохимические и средовые факторы – например, уровень освещения, сокращение сна, рождение ребенка, употребление наркотиков или алкоголя, – могут быть лишь отчасти ответственны за развитие болезни и ее творческие проявления. Это реальные научные и этические вопросы. К счастью, их с вниманием рассматривает государственная программа «Геном человека», многочисленные ученые и этики. Но это непростые и болезненные темы, которые останутся таковыми на многие годы. Наука удивляет свей способностью порождать новые проблемы, даже решая старые. Она продвигается стремительно и несет с собой большие ожидания. Сидя на твердом и неудобном стуле (как это типично для медицинских конференций!), я витала в облаках. Мерное щелканье слайдов погрузило мой разум в состояние, близкое к гипнотическому. Глаза были открыты, но разум мирно дремал. В зале было темно и душно, а за окном красиво падал снег. Мы были в горах Колорадо, и все приличные люди ушли кататься на лыжах. В зале все же собралось более сотни докторов, и слайды сменялись быстро: щелк-щелк-щелк. Я в который раз ловила себя на мысли, что пусть я и ненормальная, но все же не дура, и какого черта я делаю здесь в такую чудесную погоду? Внезапно что-то зацепило мой слух. Ровный, бесстрастный голос пробормотал что-то о «нововыявленных аномалиях в структуре мозга при маниакально-депрессивном психозе». Мой структурно аномальный мозг насторожился. Бормотание продолжилось: «У изученных нами пациентов наблюдались в мозгу очаги повышенной концентрации жидкости, что подразумевает нарушения в нервной ткани. Неврологи иногда называют их НЯО – неопознанные яркие объекты». Зал рассмеялся. Я же смеялась без особого воодушевления. Вряд ли я могла позволить себе потерять еще больше нервной ткани – только Богу известно, сколько комочков серого вещества переплыли Стикс после передозировки лития. Спикер продолжил: «Медицинское значение этих объектов неясно, но мы знаем, что они связаны с другими психическими заболеваниями – болезнью Альцгеймера, рассеянным склерозом, сосудистой деменцией». Лучше бы я действительно ушла кататься на лыжах! Я повернулась к экрану и была впечатлена невероятной точностью изображения структуры мозга, сделанного с помощью новейшей техники. В сканировании мозга есть особая красота, особенно в снимках высокого разрешения магнитнорезонансной томографии и разноцветных сканах эмиссионного томографа. К примеру, на снимке ПЭТ депрессивный мозг будет отображен в холодных тонах – темно-синих, темно-пурпурных, зеленых. Мозг того же человека в гипомании будет сиять, как рождественская елка, бодрыми пятнами красного, желтого и оранжевого. Никогда еще наука не передавала так точно холодное омертвение депрессии и вибрирующее оживление мании. Современная нейронаука потрясающе увлекательна, даже романтична. Ты чувствуешь себя первооткрывателем новых рубежей – совсем как человек на Луне. Современная наука изящна, ученые – обескураживающе молоды, а темп открытий поражает воображение. Как и молекулярные биологи, специалисты, сканирующие мозг, осознают, что они находятся на передовой. Нужно обладать каменным сердцем, чтобы не заразиться их увлеченностью и воодушевлением. Я, против своей воли, погрузилась в размышления, были ли эти аномалии причиной или следствием болезни, могут ли они с годами увеличиваться, в каких именно отделах мозга возникают. Могут ли они быть виновны в проблемах с узнаванием лиц и ориентированием в пространстве, которые испытываю я и многие другие больные? Будут ли такие нарушения в мозге у детей, чьи родители страдали маниакально-депрессивным психозом? Научная часть моего мозга начала размышлять о преимуществах новых техник визуализации для убеждения моих самых скептических пациентов в том, что: 1) все дело в мозге; 2) их настроения зависят от состояния мозга и 3) отказ от лекарств может привести к его повреждению. Эти рассуждения занимали меня какое-то время, переключив мой мозг из режима личного интереса о здоровье в научно-исследовательский. Но личный интерес все же возобладал. Вернувшись к преподаванию в Университете Джонса Хопкинса, я атаковала вопросами коллег-неврологов, особенно тех специалистов, которые занимались исследованиями с использованием магнитнорезонансной томографии. Я спешила в библиотеку, чтобы изучить все, что было известно: теоретически знать, что заболевание гнездится в головном мозгу, – это одно дело, а буквально увидеть его там – совсем другое. Даже заголовки статей звучали как прорыв: «Объем подкорковых ядер и гиперинтенсивность белого вещества головного мозга у пациентов, страдающих биполярным расстройством», «Структурные аномалии головного мозга при биполярном аффективном расстройстве: вертикальная гипертрофия и фокальные зоны повышенной интенсивности сигнала», «Подкорковые аномалии, обнаруженные при биполярном аффективном расстройстве с использованием магнитно-резонансной томографии». Эти слова повторялись снова и снова, и я продолжала читать. Одно исследование установило, что «из 32 изображений, полученных в результате томографии пациентов, страдающих биполярным расстройством, 11 (34,4 %) показали гиперинтенсивность. Из контрольной группы нормальных людей такую гиперинтенсивность показало только одно изображение (3,2 %)». Фыркнув насчет «нормальных», я продолжила изучение и обнаружила, что здесь, как и всегда бывает в новых областях медицины, вопросов гораздо больше, чем ответов. Оставалось невыясненным, что на самом деле означали эти находки – они могли быть результатом ошибок в измерении, их можно было объяснить рационом питания пациентов, особенностями лечения… Наконец, они могли вообще не иметь никакого отношения к маниакальнодепрессивному психозу – можно найти массу разных объяснений. Но труднее всего было объяснить, какую роль играли «неопознанные яркие объекты». Странно, но, перелопатив целую гору исследований, я успокоилась и стала тревожиться чуть меньше. Сам факт того, что наука быстро продвигается, давал надежду, а если изменения в структуре мозга и правда значительны, то просто замечательно, что их изучением занимаются высококлассные исследователи. Если бы не наука, не было бы и надежды. Совсем никакой. Как и все остальное, это давало новое значение фразе «лишиться разума». Врачебные привилегии Не существует простого способа рассказать о том, что вы страдаете маниакально-депрессивным заболеванием. Если таковой и есть, то мне он неизвестен. Хотя большинство людей, узнавая мой диагноз, демонстрировали понимание, все же порой отклик был снисходительным, недоброжелательным, без всякой эмпатии. Забыть такую реакцию нелегко. До последнего времени откровенный разговор о болезни казался мне почти немыслимым, отчасти – по профессиональным соображениям, а отчасти – из-за того, что я снова и снова сталкивалась с жестокостью, намеренной или невольной, со стороны коллег и друзей, которым решалась открыться. Не без горечи я окрестила это явление «реакцией Маусхарта». В Лос-Анджелесе Маусхарт был когда-то моим коллегой и, как мне казалось, другом. Психоаналитик с вкрадчивым голосом, он был тем, с кем приятно выпить кофе. Не часто, но к обоюдному удовольствию мы выбирались на обед обсудить работу и жизнь. В какой-то момент в этом общении появился тот дискомфорт, который я всегда ощущала, дойдя до определенной стадии дружбы или близости, но умалчивая о своем недуге. В конце концов, это же не просто болезнь – это то, что влияет на каждый аспект моей жизни: на настроение, темперамент, работу, на восприятие практически всего, с чем я имею дело. Умалчивать о маниакально-депрессивном заболевании – значит обрекать дружбу на поверхностность. Втайне выдохнув, я отважилась сделать шаг навстречу и открылась Маусхарту. Мы сидели в ресторане в Малибу с видом на океан. После короткого обзора моих маний, депрессий и попытки суицида, я уставилась на отдаленную гряду скал посреди прибоя и стала ждать его реакции. Повисло долгое ледяное молчание. В конце концов я увидела слезы на его лице. Помню, тогда мне показалось, что собеседник крайне озадачен – в особенности тем, что я попыталась преподнести свои мании с самым непринужденным видом, а о депрессиях говорила с изрядной бесстрастностью. Мне показалось очень трогательным, что он принял столь близко к сердцу рассказ о том, через что мне довелось пройти. Затем Маусхарт, смахнув слезы, сообщил мне, что не может во все это поверить. Он «глубоко разочарован» – таковы были его слова. Это я-то, такая прекрасная, такая сильная – как же я могла пытаться убить себя? О чем я думала? Это просто малодушие с моей стороны, это очень эгоистично. К своему ужасу, я осознала, что он говорит всерьез. Я была совершенно ошеломлена. Значит, это не я мучительно страдала от маниакально-депрессивного заболевания. Это ему было больно слышать о моей болезни – куда больнее, чем мне. На несколько минут я почувствовала себя прокаженной. Затем – преданной, совершенно растерянной и беззащитной. Его обеспокоенность, разумеется, превосходила все пределы. Была ли я и вправду психотиком? Если это так, вопрошал он вкрадчиво, с бесконечной заботой, уж не думаю ли я, что мне по силам выдержать стрессы академической жизни? Сжав зубы, я указала ему, что фактически имею дело с подобными стрессами много лет и, если уж говорить всю правду, я значительно моложе его, а публикаций у меня куда больше. Я не помню, чем завершился обед, кроме того, что он превратился в пытку. С сарказмом, который помог мне не обращать внимания на вопросы Маусхарта, я сообщила, что беспокоиться ему не о чем – ведь маниакально-депрессивное заболевание не заразно. Что ему с его угрюмой картиной мира, в которой нет места чувству юмора, но торжествуют навязчивые идеи, мания пошла бы на пользу. Он поерзал на стуле и отвел взгляд. Букет красных роз прибыл в мою клинику следующим утром, в нем красовалась жалкая записка с извинениями. Мне это показалось милым, но это не могло исцелить рану, нанесенную тем, что я знала: его реакция была искренней. Маусхарт был нормальным, а я – нет, и еще он был именно таким, как эти болезненные, жалящие слова – «глубоко разочарованным». Есть много причин, по которым я не спешила откровенничать о своем недуге. Часть из них – личные, но большинство – профессиональные. Личные причины главным образом вертятся вокруг жизни семьи, особенно с учетом того, что эта болезнь считается генетически обусловленной. Принято считать, что частное должно оставаться частным. К тому же меня очень сильно (иногда даже слишком сильно) беспокоило, как знание о моем состоянии изменит мнение людей о том, что я собой представляю и чем занимаюсь. Грань между тем, чтобы по-настоящему быть эксцентричным, и только производить такое впечатление, очень хрупка. Слово «неадекватный» не просто отвратительно, оно еще и уничижительно. Граница между человеком, которого считают чувствительным или впечатлительным, и тем, на кого ставят клеймо «душевнобольной», едва уловима. Меня ужасало, что кто-то назовет мои депрессии и попытку суицида следствием слабости или «истеричности». Я соглашалась на звание человека, который время от времени страдает от психозов, – лишь бы не прослыть слабой истеричкой. В конце концов, я очень боялась, что публичное обсуждение глубоко личных сторон моей жизни приведет к тому, что в один прекрасный день я взгляну на них и найду их выхолощенными, лишенными смысла и чувства. Боялась, что слишком частые и откровенные рассказы о личном опыте постепенно отдалят его от меня, превратят в отрешенный чужой опыт – уже не мой, а чейто еще. Но возможное обсуждение болезни сильнее всего меня беспокоило по профессиональным причинам. В начале моей карьеры эта тревога подогревалась опасением, что Калифорнийская медицинская экзаменационная комиссия откажет мне в лицензии, узнав о заболевании. Время шло, и возможные административные меры беспокоили меня все меньше. Я выработала обстоятельную систему мер предосторожности, рассказала обо всем коллегам и часами обсуждала с психиатром каждую возможную случайность и как смягчить ее последствия. Но меня все больше пугало, что мой профессионализм в преподавании и исследованиях будет поставлен под сомнение. В Калифорнийском университете, например, я читала лекции и руководила большим числом ординаторов-психиатров и интернов-психологов. В Университете Джонса Хопкинса обучала ординаторов в стационаре и в амбулаторном отделении клиники аффективных расстройств. Я морщилась от досады при мысли, что эти ординаторы и интерны не станут говорить, что на самом деле думают, или спрашивать, что важно спросить, лишь из уважения к тому, что они считают моими чувствами. Эти тревоги распространялись на мои статьи и исследования. Я много писала о маниакально-депрессивном заболевании для медицинских и научных журналов. Но не сочтут ли коллеги эти работы предвзятыми из-за моего собственного недуга? Эта мысль тревожила меня, хотя я и понимала, что одно из преимуществ науки – в том, что ваша работа в конце концов либо попадет в точку, либо нет. С течением времени предубеждения имеют обыкновение сходить на нет. Но реакция коллег беспокоила меня именно потому, что я открыто говорю о своем здоровье. Вот, например, на научной конференции я задаю вопрос или спорю с докладчиком. Будет ли это воспринято как позиция специалиста, который изучал и лечил душевные расстройства много лет? Или напротив – как взгляд в высшей степени субъективный, болезненный, присущий человеку, следующему своим личным интересам? Расстаться с мантией академической объективности – ужасающая перспектива. Вне всякого сомнения, моя работа несла на себе ясную и отчетливую печать полученного опыта и испытанных мною эмоций. Они сильно влияли на то, как я преподавала, как вела клиническую практику, на мою просветительскую деятельность. Личные эмоции и жизненный опыт определили для меня выбор научных интересов. Из всех составляющих проблемы маниакально-депрессивного расстройства меня более всего интересовали суициды, психозы, психологические аспекты болезни, сложности ее лечения, включая сопротивление приему препаратов, а также позитивные стороны мании и циклотимии и, наконец, важность психотерапии. Однако самым важным для меня, как для практикующего врача, оставался вопрос, который Маусхарт столь изящно преподнес мне за обедом в Малибу: неужели я и правда думаю, что доктору, страдающему от душевного расстройства, можно доверять пациентов? Когда зимой 1986 года я покинула Калифорнийский университет ради Вашингтона, я была одержима желанием получить преподавательский пост в медицинской школе и продолжать обучать студентов. Ричард, поступивший на работу в медицинскую школу при Университете Джонса Хопкинса, решил, что мне она тоже понравится. Следуя его совету, я подала заявку на преподавательскую должность на кафедре психиатрии и начала работу в этом университете уже через несколько месяцев после переезда. Ричард оказался прав: я сразу полюбила Хопкинс. Как Ричард и предполагал, одной из многих радостей работы в этом университете было то, что здесь относятся к преподавательским обязанностям со всей серьезностью. В восторг приводило меня и то, до какого совершенства здесь доведена забота о пациентах. Вопрос о праве на медицинскую практику неизбежно должен был возникнуть, это было лишь дело времени. С привычным ощущением глубокого беспокойства, которое каждый раз возникает у меня при чтении документов о приеме на работу, я уставилась на лежащую передо мной кипу бумаг. «Больница Джонса Хопкинса» – было написано вверху каждой из страниц внушительными заглавными буквами. Скользя взглядом вниз, я увидела то, что и ожидала: форму заявления о праве на медицинскую практику. Надеясь на лучшее, но ожидая худшего, я решила в первую очередь разобраться с рутинными разделами документа. Я быстро поставила галочки в графе «нет» после длинной серии вопросов о профессиональной ответственности, страховании рисков и профессиональных санкциях. Привлекалась ли я к разбирательствам о врачебных ошибках и пренебрежении профессиональной ответственностью на прежнем месте работы? Были ли какие-то ограничения в моем страховом покрытии врачебных ошибок? Накладывались ли когда-либо ограничения на мою медицинскую лицензию? Вводился ли по отношению к ней испытательный срок с условиями, приостанавливалась ли она, не продлевалась, отзывалась, имею ли я замечания и нарекания, формальные и неформальные? Была ли я когда-либо объектом дисциплинарных взысканий каких-либо медицинских организаций? Имеются ли у меня какие-либо действующие дисциплинарные взыскания? На все эти вопросы, слава Богу, ответить было легко. Вплоть до этого дня в нашу до нелепого сутяжническую эпоху мне удавалось избежать вызовов в суд за медицинские ошибки. Но в форме был и другой раздел – «Персональные данные», который заставил мое сердце трепетать. Я быстро нашла вопрос, требовавший гораздо больших усилий, чем просто чиркнуть галочку в клеточке «нет». Страдаете ли вы либо лечитесь от какого-либо заболевания, включая злоупотребление алкоголем или наркотиками, которое может нанести ущерб выполнению вашей работы и обязанностей в больнице? Пятью строчками ниже была убийственная оговорка: Я полностью осознаю, что любое значительное искажение информации, ее сокрытие или неточность в этом заявлении может повлечь за собой отказ в приеме на работу или исключение из числа сотрудников клиники. Я вновь перечитала вопрос «страдаете ли вы…» – и довольно долго размышляла над ним. Наконец написала в соответствующей графе: «Подлежит обсуждению с деканом факультета психиатрии». Затем, превозмогая тошноту, позвонила руководителю факультета и пригласила его пообедать. Спустя неделю или может чуть позже мы встретились в кафе при больнице. Декан, как обычно, был разговорчив и весел, и несколько приятных минут мы провели, обсуждая работу факультета, преподавание, гранты на исследования и новости психиатрии. После чего, вцепившись руками в колени и с комком в горле, я рассказала ему о своих сомнениях, маниакально-депрессивном заболевании и его лечении. Мой ближайший коллега по Университету Джонса Хопкинса уже был в курсе этих проблем, как и врачи, с которыми я вела практику. В Калифорнийском университете, например, я обсудила в деталях свою болезнь с доктором, который вместе со мной основал клинику аффективных расстройств. А после того – с человеком, который был медицинским директором этой клиники практически все те годы, что я ею руководила. Декан моего факультета в Калифорнийском университете тоже был в курсе, что я прохожу лечение от маниакально-депрессивного заболевания. И тогда, и сейчас я прекрасно понимала, что должна подстраховаться на случай, если мои суждения и оценки пострадают из-за мании или серьезной депрессии. Если бы я не предупреждала своих коллег о болезни, то не только поставила бы под угрозу лечение пациентов, но и создала бы для них серьезные профессиональные и юридические риски. Каждому из врачей, с которыми я работала в одной команде, я четко проговаривала, что нахожусь под наблюдением психиатра высочайшего класса, принимаю препараты и у меня нет проблем с алкоголем или наркотиками. Я также просила коллег задавать моему психиатру любые вопросы, на которые они считали необходимым получить ответ, как о моей болезни, так и о способности работать с пациентами. Если же у психиатра возникали сомнения в моей способности давать верные медицинские оценки, он должен был обсудить это как со мной, так и с теми, с кем считал необходимым. С коллегами же у меня была договоренность, что, если у них появляются какие-либо сомнения в моей адекватности, они должны сказать об этом прямо, немедленно приостановить мою рабочую деятельность и предупредить лечащего врача. Думаю, что все мои коллеги в то или иное время побеседовали с моим психиатром, чтобы выяснить особенности заболевания и лечения. К счастью, ни разу поводом для таких разговоров не стало беспокойство о моем профессионализме. Да и мне самой ни разу не приходилось отказываться от медицинских обязанностей, хотя порой была вынуждена отменять визиты пациентов или переносить их, когда понимала, что так будет лучше для самих больных. Мне посчастливилось быть и удачливой, и старательной одновременно. Всегда остается риск, что твоя болезнь – как и болезнь любого врача – помешает работе. Вопросы о разрешении на практику не могут быть неправильными или неуместными. Я не в восторге от необходимости отвечать, но это совершенно оправданное требование. Привилегия вести медицинскую практику – это в точности то, что означает слово «привилегия», а не право по умолчанию. И, конечно, настоящая угроза исходит от тех врачей (а также политиков, летчиков, бизнесменов и всех, кто отвечает за здоровье и жизнь других), которые не решаются идти на прием к психиатру из-за стигмы или страха лишиться своих полномочий, быть исключенными из медицинской школы или ординатуры. Те, кто отказывается от лечения или остается без наблюдения, в конце концов становятся тяжелобольными и ставят под угрозу не только свои жизни, но и жизни других. Часто, пытаясь избавиться от перепадов настроения, врачи попадают в зависимость от алкоголя или наркотиков. Нередко медики, страдая от депрессии, сами себе выписывают антидепрессанты. Последствия этого могут оказаться катастрофическими. Больницы и профессиональные организации должны признать ту опасностью, которую представляют для своих пациентов оставшиеся без лечения врачи, медсестры и психотерапевты. Клиникам и профессиональным объединениям также необходимо обеспечить этим людям эффективное лечение, выработав нормы и требования для безопасной, разумной и уважительной супервизии. Если аффективные расстройства остаются без лечения, под угрозой оказываются не только пациенты, но и сами доктора. Слишком много врачей, зачастую первоклассных, совершают самоубийство. Недавнее исследование обнаружило, что Соединенные Штаты ежегодно теряют среднего размера класс медицинской школы только по вине суицидов. Большая часть самоубийств врачей происходит из-за депрессии или маниакально-депрессивного психоза – болезней, которые вполне успешно поддаются лечению. К несчастью, врачи не только чаще других страдают аффективными расстройствами, но еще у них есть доступ к очень эффективным способам самоубийства. Доктора, разумеется, в первую очередь должны исцелять себя, но им необходимо качественное и доступное лечение. Медицинская и административная системы должны побуждать врачей к лечению и предлагать разумные правила для надзора за их работой, но не потакать поведению, которое ухудшает их состояние. Как любит подчеркнуть декан моего факультета, задача докторов – лечить больных, которые никогда не должны платить, буквально или в медицинском смысле, за их проблемы. Я горячо с ним согласна, а потому не без страха ждала его реакции на мой откровенный рассказ. По выражению его лица я пыталась понять, что он думает. Внезапно он перегнулся через стол, коснулся моей руки и улыбнулся. «Кэй, дорогая. Я знаю, что ты страдаешь от маниакально-депрессивного заболевания». Он сделал паузу и рассмеялся: «Если бы мы на факультете избавились от всех, у кого есть аффективные расстройства, он бы не просто стал крошечным – он бы превратился в страшно унылое заведение». Жизнь и настроения Все мы, как писал Байрон, устроены по-разному. Все мы – заложники ограничений нашего темперамента, а из данных нам возможностей реализуем лишь малую часть. Тридцать лет жизни с маниакально-депрессивным заболеванием помогли мне обрести знания о том, каких ограничений требует болезнь и какие она дает возможности. Ощущения зловещей природы, темноты и смертельной опасности, которые просыпались во мне, когда ребенком я вглядывалась в бездонное ясное небо, полное дыма и пламени, остались со мной навсегда. Порой они разрушают все живое и прекрасное вокруг. Темнота стала естественной частью меня. Мне не нужно напрягать воображение, чтобы вспомнить месяцы изнеможения и безжалостной неослабевающей тьмы. Мне никогда не забыть чудовищных усилий, которые требовались, чтобы преподавать, читать, писать, принимать пациентов, поддерживать общение. Еще глубже спрятаны (хотя в любой момент они готовы подняться на поверхность) воспоминания о насилии, диком настроении, полном безумия, шокирующем поведении, о ранах, которые все это нанесло близким мне людям. Однако, как бы ни были ужасны эти состояния и воспоминания, они всегда сменялись периодами душевного подъема и избытка жизненных сил. И когда меня снова накрывает ласковая волна восхитительного маниакального воодушевления, ее восторг влечет меня со всей силой, подобно тому, как сильный запах внезапно распахивает дверь в мир глубоких воспоминаний. Мания привносит в жизнь яркость и насыщенность, моменты, которые потом хочется с удовольствием прокручивать в памяти. Они запоминаются сильнее, чем войны, чем любовь, чем детские впечатления. И поэтому я с горькой радостью осознаю, что променяла свое беспокойное, но насыщенное вчера на уравновешенное и благополучное сегодня. Иногда, хотя и все реже, это прошлое отзывается в настоящем, соблазняя мечтой вернуть экстаз и жар прежних лет. Оглядываясь назад, я чувствую рядом с собой сумасбродную молодую девушку, потом – неуравновешенную и взбудораженную молодую женщину. Они беспокойны, исполнены высоких мечтаний и романтических стремлений. Следует ли снова поддаться соблазну? Возможно ли это? Возможно ли снова испытать восхитительные подъемы, танцы до утра, парение через сонмы звезд, пляски на кольцах Сатурна, чумовое маниакальное воодушевление? А бесконечные летние дни, полные страсти и восторга? Куда деть воспоминания о благоухании сирени, о том, как искрится и льется джин вперемешку с восторгом, а раскаты буйного смеха не смолкают, пока не взойдет солнце или пока не явится полиция? Вот что намешано в мой коктейль воспоминаний о канувшем в Лету времени. Возможно, ностальгия по минувшему неизбежна для любой судьбы, но есть особенный излом в почти болезненной тоске по жизни, проведенной в невероятных перепадах настроения. Сложно оставить такое прошлое позади, и жизнь мало-помалу превращается в элегию утраченным настроениям. Я скучаю по потерянной глубине и напряженности бытия и иногда тайком, неосознанно, пытаюсь вновь найти к ним тропинку, подобно тому, как все еще пытаюсь нащупать и откинуть назад тяжелый каскад длинных густых волос, которых у меня больше нет. Осталась только фантомная тяжесть, отпечатки буйств настроений в душе. Однако тоска по прошлому – это просто тоска. Я вовсе не чувствую, что у меня нет иного пути, кроме как вновь и вновь вызывать духов былого безумия. Ведь они несут последствия чересчур фатальные и разрушительные и могут стать для меня последней каплей. Все же притягательность этих необузданных и диких настроений еще сильна, а древний спор между разумом и чувствами почти всегда хочется решить в пользу чувств, ведь это намного интереснее и так вдохновляюще. Легкие мании знают свое дело и обещают ненадолго превратить зиму в весну, даруя невероятные жизненные силы. Хорошо, что при холодном свете дня реальность и разрушительность снова разгоревшейся болезни сдерживают эти опасные порывы. Неверность этих предельно насыщенных моментов, избирательно освещенных памятью, которые кажутся такими хрупкими, вызывает смутную меланхолию. Искушение бросить лекарства, чтобы вернуть к жизни столь интенсивные переживания, быстро снимается холодным пониманием, что насыщенность жизни вскоре сменится сначала исступлением, а в конце концов – неконтролируемым безумием. Мне очень страшно от мысли о том, что я снова впаду в тяжелую депрессию или в жестокую манию. Знание того, что неверный выбор может разнести в клочья любую важную и значимую часть моей жизни – от отношений до работы, заставляет меня очень серьезно относиться к любым изменениям в лечении. Хотя я с большой долей оптимизма смотрю на перспективу оставаться в хорошем состоянии многие годы, тем не менее я достаточно хорошо изучила свою болезнь, чтобы сохранять и некоторый фатализм. Я хорошо понимаю, что интерес, с которым я слушаю лекции о новых методах лечения маниакально-депрессивного психоза, далек от чисто профессионального. А когда провожу медицинские конференции в других больницах, то часто посещаю их психиатрические отделения, знакомлюсь с изоляторами и палатами электрошоковой терапии, брожу по больничным дворикам. В уме я составляю свой собственный рейтинг заведений, куда бы я согласилась отправиться, если мне не удастся избежать госпитализации. Во мне всегда живет частичка, которая готовится к худшему, – но с ней соседствует и другая, которая верит, что если хорошо подготовиться к самой злой беде, то она не придет. Годы и годы жизни с регулярными приступами маниакальнодепрессивного заболевания приучили меня смотреть на вещи философски. Сражаясь с недугом, я поневоле нарастила броню и научилась обращаться с постоянными перепадами настроения и энергии. В конце концов, я позволила себе принимать пониженные дозы лития. Я совершенно согласна с екклезиастовым убеждением Элиота о том, что всему свое время – время строить и «время ветру трясти расхлябанное окно». И это значит, что теперь я увереннее пробираюсь через бурлящие потоки энергии, идей и воодушевления, которые не оставляют меня в покое. Мой разум снова и снова озаряется многоголосьем шумов и смеха, превращаясь в целый карнавал вспышек и возможностей. В такие минуты меня наполняют непринужденность, хохот, восторги, все это выплескивается наружу, затапливает окружающих, несется вокруг меня. Эти вспышки, эти восхитительные часы остаются со мной недолго, но рано или поздно они исчезают. Мое несущееся без тормозов настроение и раздутые надежды, молниеносно прогарцевав на самой верхушке чертова колеса, сгинут и обернутся серо-черным увядшим прахом так же мгновенно, как и пришли. Пройдет время, и эти страсти тоже меня оставят. Мало-помалу я снова стану собой. И мне не дано знать, спустя сколько дней или месяцев электрический фейерверк этого карнавала вновь осветит мой разум. Со временем эти приливы и отливы – то Божье дуновение, то безбожие – настолько вросли в мою сущность, что ураган ярких цветных вспышек и звуков уже утратил долю своего могущества, перестал быть чужеродным. И точно так же все серое и черное, от чего мне не избавиться, что неизбежно ползет мне вслед, стало уже не столь мрачным и пугающим. «Вселенная под этими звездами полна порхающих монстров», – писал Герман Мелвилл. Время лечит: тот, кто уже видел сонмы чудовищ, меньше боится новых кошмаров. И хотя я по-прежнему продолжаю готовиться к хорошо знакомым летним приступам мании, с годами выцвели и они. Не только их ужас и тревоги, но и прежняя неописуемая красота и великолепие этих приливов увяли. Подточенные неумолимым временем, укрощенные вереницей изнурительных испытаний, наконец, поставленные на колени лекарствами, больше они не бунтуют каждый июль. Они научились объединять черную тоску и проблески воодушевления в короткие и иногда опасные атаки. Но и те уходят в свой черед. Из таких испытаний каждый человек выходит наполненный не только более обостренным чувством смерти, но и более глубоким переживанием жизни. Каждый, кто слышал, как часто и как ясно звучит колокол Джона Донна, протяжно говорящий «ты должен умереть», порывисто обращается к жизни и наполняется благодарностью – ведь ему могло выпасть и вовсе не существовать на этом свете. Море, которое плещется внутри нас, мы огораживаем стенамиволноломами, надеясь удержать в тихой гавани грусть жизни. Часто это позволяет справляться с волнениями ума. Но что бы мы ни делали: заняты ли работой, любовью, семьей, друзьями, имеем ли мы дело с верой, отвержением, алкоголем, наркотиками или медицинскими препаратами, – мы строим стены, которые должны нас уберечь. Камень за камнем мы кладем эту кладку всю жизнь. Один из самых главных вызовов – научиться сооружать эти волноломы такой высоты и толщины, чтобы у каждого была безопасная гавань, убежище от калечащего смятения и боли. И в то же время эти стены должны быть достаточно низкие и проницаемые, чтобы в наше убежище текла чистая морская вода, которая защитит от погружения во мрак. Для людей с такими же, как у меня, метаниями ума и настроения, лекарства – естественная основа такой ограды: если бы не препараты, всесокрушающая стихия внутреннего бурного моря поглотила бы меня. Без лечения я бы потеряла рассудок или вовсе погибла – тут не о чем спорить. Но у меня есть несравненно более важная опора этой спасительной стены – любовь. Она помогает отогнать ужас, избыть мрак, в то же самое время наполняя бытие красотой и жизненной силой. Когда я впервые размышляла о написании этой книги, я задумала ее как историю настроений в контексте частной жизни. Когда я поставила точку, выяснилось, что во многом книга получилась о любви – любви, которая поддерживает, обновляет, защищает. Всякий раз, когда в глубинах моего разума и сердца тянуло запахом мертвечины, любовь приходила снова, чтобы воссоздать надежду и возвратить жизнь. Любовь сделала все, что в ее силах, чтобы печаль, родимое пятно жизни, стала выносимой, а красота бытия – очевидной. Необъяснимым и спасительным образом любовь подарила не только плащ, но и фонарь, чтобы было с чем брести через ненастье, сквозь мрачные времена. Давным-давно я бросила мечтать, что жизнь может быть без потрясений, а мир – без неудачных сезонов, от бесчувственных до фатальных. Жизнь мало того, что слишком сложно устроена, так еще и норовит беспрерывно меняться. И другой она быть не может. А я по природе своей слишком подвижна и непостоянна, чтобы перестать мучиться ощущением неестественности любых попыток контролировать неподвластные мне стихии. С нами всегда будут бешено вращающиеся, разрушительные силы. Они навсегда останутся рядом – по крайней мере пока часы тикают на запястье, как писал Лоуэлл. В конце концов, существуют личностные особенности – неугомонность, безрадостность, напористая убедительность, безумное воодушевление. Они наполняют нашу жизнь, они меняют нашу сущность и род деятельности, они придают смысл нашим любовям и дружбам. Эпилог Я постоянно спрашивала себя: будь у меня выбор, согласилась бы я на судьбу человека, страдающего маниакально-депрессивным заболеванием? Если бы литий мне не подходил или не действовал, ответ прост – нет, и это был бы ответ, переполненный ужасом. Но литий мне помогает, а значит, как мне кажется, я могу позволить себе поставить такой вопрос. Это может звучать очень странно, но я бы выбрала жизнь с болезнью. Это сложно объяснить. Как ужасна депрессия, нельзя передать ни словами, ни музыкой, ни красками. Я бы ни за что не согласилась вновь иметь дело с затяжной депрессией. Она подтачивает любую близость подозрительностью, недостатком доверия и самоуважения. Депрессия – это утрата способности наслаждаться жизнью, невозможность нормально гулять, болтать, думать. Это изнуренность, ночные кошмары, дневные кошмары. Про нее нельзя сказать ничего хорошего, за единственным исключением – депрессия дает тебе на собственной шкуре узнать, каково это: жить без блеска и гармонии, быть старым, быть тяжелобольным. Опыт депрессии ужасен, это опыт человека, который уже умирал, а пока был жив – существовал с помутненным рассудком, без божьей искры, когда все вокруг было отвратительным. Этот недуг лишает веры в возможности, которые дарует жизнь, отнимает восторги секса, волшебство музыки, способность смеяться и заражать смехом других. Люди полагают, что знают, что значить страдать от депрессии, если они прошли через расставание, развод, потерю работы. Но все эти испытания у них сопровождаются чувствами. Депрессия же – это отсутствие чувств, гулкая, невыносимая пустота. А еще она скучна, она утомляет до изнурения. Люди будут вас сторониться. Иногда они могут решить, что это их долг – выносить вас и в таком состоянии. Они могут даже пытаться с вами взаимодействовать, но все равно и они, и вы знаете, что вы скучны и утомительны вне всякой меры. Вы раздражительны, склонны к паранойе и критике всего и всех, вас оставило чувство юмора, вы безжизненны, вы требовательны, и никакого утешения вам недостаточно. Вы всего боитесь, да и глядя на вас можно испугаться. Вы твердите, что это сейчас вы не в своей тарелке, но скоро поправитесь. Но вы и сами знаете – нет, не скоро и не поправитесь. Так почему же я хочу иметь дело с таким недугом? Потому что я истово верю, что болезнь расширила мою палитру чувств и чувства эти стали сильнее. Болезнь дала мне больше опыта, и очень насыщенного. Я больше любила – и больше любили меня, я чаще смеялась, потому что плакала тоже чаще. Я сильнее радовалась приходам весны, после всего, что происходило со мною зимой. Когда ты обряжаешься в смерть, словно в платье, то проникаешься ее ценностью – и учишься высоко ценить жизнь. И в других людях я видела больше как чудесных, так и чудовищных сторон, мало-помалу принимая новые ценности: заботу, верность, умение зреть в корень. Я познала самые глубокие пропасти и самые дальние закоулки своего рассудка и сердца и поняла, как они хрупки, как бесконечны, необъятны – и непознаваемы. Когда депрессия настигает, даже из одного угла комнаты в другой нет сил перебраться иначе как ползком – и этот ужас длится месяцы и месяцы. Но что в нормальном состоянии, что в маниакальной фазе я действовала, думала, любила куда быстрее, сильнее, чем большинство тех, кого я знаю. Я думаю, это связано с моей болезнью – она добавляет яркости и насыщенности в мир, который я вижу в совершенно ином ракурсе. Я думаю, именно это заставляло меня проверять возможности своего рассудка, испытывать на прочность границы воспитания, образования, семьи, дружбы. Бессчетные гипомании и настоящие мании – все они обогащали мою жизнь новыми способами чувствовать, ощущать и думать. Даже в пору самого острого психоза, когда в состоянии крайнего возбуждения я исступленно погружалась в галлюцинации, жила иллюзиями, я не сомневалась, что нащупываю новые закоулки в своем сердце и рассудке. От некоторых находок перехватывало дыхание – такими они были прекрасными. Мне казалось, что в такой момент не страшно умереть. Другие же картинки, мелькавшие в моей голове во время маний, оказывались столь отвратительным гротеском, что я мечтала бы их вовсе не знать и никогда впредь не видеть. Но всегда я находила внутри себя новые потайные комнаты и всегда понимала, что моя истинная сущность обязана двум вещам – любви и лекарствам. Чего я не могу – так это представить себя утомленной жизнью, потому что знаю, что в моем разуме все новые и новые лабиринты ждут моих шагов, как ждут открытия бесчисленные окна в безграничные миры. Благодарности Я бы не написала эту книгу без поддержки и советов друзей, семьи и коллег. Само собой, это было бы невозможно без выдающейся медицинской помощи, которую год за годом я получаю от доктора Дэниела Ауэрбаха. Всегда и во всем он проявлял себя как исключительный и глубоко сопереживающий специалист. Он не только спас мне жизнь, но и внес гигантскую лепту в мое образование. На мое решение говорить о болезни открыто никто не повлиял сильнее, чем Фрэнсис Лир, давняя подруга, искренне поддерживавшая мою работу. Именно она всячески побуждала меня заниматься просветительской деятельностью, рассказывать о психических расстройствах. Во многом благодаря ей я приняла решение написать эту книгу. Ее поддержка и вера в мои силы помогли мне сделать все то, что я смогла за последние восемь лет. Этим не ограничивается перечень друзей, сыгравших большую роль в написании этой книги. Я глубоко обязана Дэвиду Махони за его поддержку, а также за множество бесконечных и очень нужных мне разговоров, за восхитительную дружбу. Доктор Энтони Сторр стал одним из самых важных людей в моей жизни, и я очень признательна ему за все то, что нас связало. Мои друзья на протяжении многих лет Люси Брайант и доктор Джереми Валетски поддерживали меня с невообразимой щедростью и добротой. Джон Джулиус Норвич посвятил значительное время тому, чтобы убедить меня открыто говорить о моем маниакально-депрессивном заболевании. Он часто повторял, что такая книга принесет немало пользы. А все мои аргументы о тайне частной жизни он парировал еще более сильными доводами в пользу прямоты и открытости. Он превосходный друг, и я в долгу перед ним за его талант убеждать. Питер Сакс, поэт и преподаватель английского языка в Университете Джонса Хопкинса, прочитав все мои наброски и черновики, делился своими бесценными наблюдениями и предложениями и давал мне именно то, что было необходимо, – ободрение и поддержку. Я не знаю, как в должной мере благодарить его за потраченное время и всю эту заботу. За годы немало людей подарили мне свою дружбу и многие были столь добры, что прочитали черновики моей рукописи. Это доктор и миссис Джеймс Белленджер, доктор Сэмюел Барондс, Роберт Бурстин, доктор Харриет Брайкер, доктор Реймонд Ди Пауло, Антонелло и Кристина Фанна, доктор Эллен Франк, доктор и миссис Роберт Галло, доктор Роберт Гернер, доктор Майкл Гитлин, миссис Кэтрин Грэхем, конгрессмен и миссис Стени Хойер, Чарльз и Гвенда Хаймен, Эрл и Хелен Киндл, доктор Асанасио Коукопоулос, доктор Дэвид Купфер, Алан и Ханна Пакула, доктор Барбара Пэрри, доктор и миссис Роберт Пост, Виктор и Харриет Потик, доктор Норман Розенталь, Уильям Сафир, Стивен Смит, доктор Пола Штоссель, доктор Пер Вестергаард, доктор и миссис Джеймс Уотсон, а также профессор Роберт Винтер. В мои самые тяжелые дни в Лос-Анджелесе доктор Роберт Фаге проявил свою исключительную дружбу – во всеоружии милосердия и мудрости он заботился обо мне, когда вокруг сгущалась тьма. В то ужасное время мой бывший муж Ален Моро был также невероятно добр и заботлив, я признательна ему за то, что наша близкая дружба прошла испытание временем. Пережить те длинные, страшные месяцы помогли мне доктора Фредерик Силверс, Гэбриел Карлсон и Регина Пэлли, каждый по-своему, но все вместе они сделали очень многое. В те дни, когда умер Дэвид Лори, несколько человек в Англии проявили ко мне особенную доброту, и спустя годы мы остались друзьями: полковник и миссис Энтони Дарлингтон, полковник Джеймс Хендерсон, командир части Дональд Стюарт и его жена Маргарет, наконец Ян и Кристин Милл. Необыкновенную поддержку мне давал декан моего факультета в Университете Джонса Хопкинса доктор Пол Макхью, равно как и до него – доктор Луис Джолион Вест, возглавлявший направление психиатрии в бытность мою в медицинской школе Калифорнийского университета. Перед двумя учеными, бывшими моими наставниками до и после окончания университета, я всегда останусь в неоплатном личном и интеллектуальном долгу: перед профессором Эндрю Комри и Уильямом Эйчем Макглотлином. Больше, чем я могу выразить и даже осознать, я узнала как от моих студентов, так и от пациентов. Как и многие, я была совершенно опустошена смертью издателя Эрвина Глайкса в 1994 году. Это был не просто замечательный интеллектуал и светлый ум, он был мне близким другом. Он издал мою книгу «Опаленные огнем», и я не могла представить, кому еще, кроме него, можно было бы доверить эти глубоко личные мемуары. К счастью, мне довелось работать с Кэрол Джейнвей в издательстве Knopf. Она оказалась редактором, о котором можно только мечтать. Ей присущи безупречная интуиция, огромная образованность, ум и неутомимость в намерении сделать книгу совершенной. Работать с ней было огромным удовольствием. Дэн Франк, выдающийся редактор «Хаоса» (Chaos: Making a new science), на сей раз испытал свои внушительные редакторские способности на новой разновидности хаоса, придавая структуру этой книге. Работать с коллективом Knopf было большой радостью. Максим Гроффски оказался волшебным литературным агентом: сопереживающим, живым, вовлеченным, воспринимающим, поддерживающим. Я признательна Oxford University Press за то, что они любезно позволили мне использовать материалы, которые я прежде писала в преподавательских целях, но потом решила включить в книгу «Маниакально-депрессивное заболевание», которую писала вместе с доктором Фредериком Гудвином. Мистер Уильям Колинз, набиравший мой манускрипт, проявил бесценную аккуратность, надежность и понимание. В этой книге мне пришлось рассказывать о семье. Все близкие отношения непросты, но я даже представить не могу рядом со мной другую семью, кроме той, что у меня есть. Это моя мама Делл Темпл Джеймисон, мой отец доктор Маршалл Джеймисон, мой брат доктор Дин Джеймисон, сестры Филлис, Даника и Келда, невестка доктор Джоанна Лесли, племянники Джулиан, Элиот и Лесли Джеймисоны. Не передать словами, сколь велика заслуга моего мужа доктора Ричарда Уайетта. Он призывал и вдохновлял меня писать эту книгу, не прекращал поддерживать, когда меня одолевали сомнения и тревоги, читал каждый черновик и предлагал крайне полезные поправки, которые я принимала всем сердцем. Я благодарна ему за любовь, которая смогла все перетерпеть, которая растет и остается волшебной. Об авторе Кэй Джеймисон – профессор психиатрии в медицинской школе Университета Джонса Хопкинса. Автор книг «Опаленные огнем: Маниакально-депрессивное заболевание и творческий темперамент» (Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament), «Ночь приходит быстро: Как понять суицид» (Night Falls Fast: Understanding Suicide), а также «Восторженность: Страсть к жизни» (Exuberance: The Passion for Life). Соавтор классического медицинского учебника о маниакально-депрессивном заболевании, которую Ассоциация американских издателей в 1990 году назвала «самой выдающейся книгой в области биологических и медицинских наук». Ее перу принадлежат более 80 научных работ, в частности по вопросам аффективных расстройств, суицидов, психотерапии и действия лития. Доктор Джеймисон, бывший директор клиники аффективных расстройств в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, была признана «женщиной науки» и включена в список лучших медиков США. Она получала награду Американского фонда исследования суицидов, гуманитарную премию Fawcett от Национальной ассоциации изучения депрессии и маниакально-депрессивного расстройства, а также награду Уильяма Стирона от Национальной ассоциации психического здоровья. Кэй Джеймисон – член национального наблюдательного совета программы «Геном человека». Она также является медицинским директором консорциума Dana по генетическим основам маниакально-депрессивного заболевания. Кроме того. Кэй Джеймисон – исполнительный продюсер и автор серии удостоенных ряда наград телевизионных программ о маниакально-депрессивном заболевании и искусстве. Она жила в Вашингтоне со своим мужем Ричардом Уайеттом, терапевтом и ученым, работавшим в Национальном институте здоровья, до его смерти в 2002 году. В 2010 году вышла замуж за доктора Томаса Трэйла, кардиолога в Университете Джонса Хопкинса. notes Сноски 1 Белые англосаксонские протестанты (англ. White Anglo-Saxon Protestant, WASP) – популярное клише в середине XX века, термин, обозначавший привилегированное происхождение. Аббревиатура расшифровывается как представитель европеоидной расы, протестант англосаксонского происхождения. До изменения демографической ситуации в связи с иммиграцией был аналогичен понятию «стопроцентный американец» – то есть представители зажиточных слоев общества США, ранее игравшие доминирующую роль в формировании элиты американской политической и экономической жизни. – Прим. ред. 2 Aффект (лат. affectus – страсть, душевное волнение) – понятие в психиатрии, обозначающее внешнее выражение и внутреннее переживание настроения. – Прим. ред. 3 Перевод Галины Ицкович. – Прим. ред.