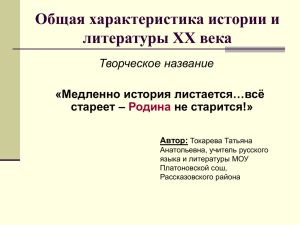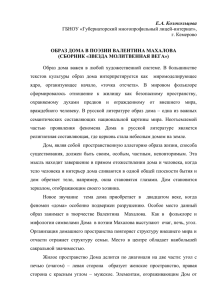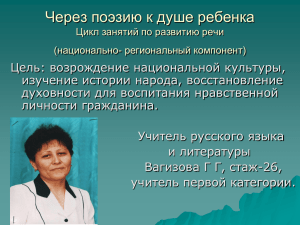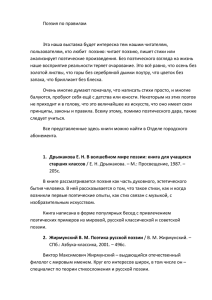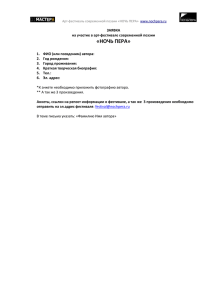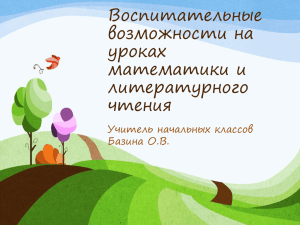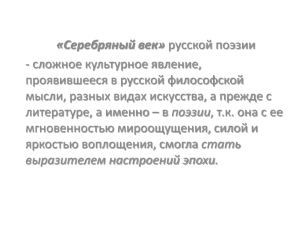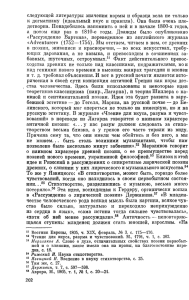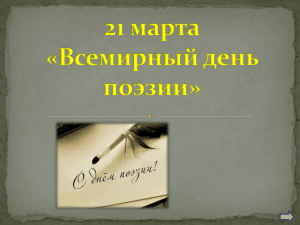Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина УДК [821.161.3.09+821.1.09]–1'06(043.5) Садко Людмила Михайловна БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКА И НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЙ КОНКРЕТИЗМ Брест, 2018 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................. ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО КОНКРЕТИЗМА .............................................. 1.1 Конкретная поэзия в историко-культурной парадигме послевоенного периода ...................................................................... 1.2 Аналитический обзор литературы по теме исследования ....... 1.3 Конкретная поэзия и авангардистская литература ХХ в. ........ 1.4 Немецкоязычный конкретизм: эстетика, поэтика, типология (Э. Яндль, О. Гомрингер, Ф. Мон, Г. Рюм, Х. Хайссенбюттель, Р. Доль, Т. Ульрихс, М. Бензе) ......................................................... ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БЕЛОРУССКИХ ПОЭТОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI В. ..................................... 2.1 Лингвокреативный эксперимент в белорусской поэзии 1960–1970-х гг. ................................................................................... 2.1.1 Языковые конвертации в поэзии П. Макаля, А. Навроцкого, Р. Бородулина .................................................... 2.1.2 Поэзия А. Рязанова и традиции немецкоязычного конкретизма .................................................................................. 2.2 Художественная система белорусской экспериментальной поэзии второй половины ХХ – начала ХХI в.: формально-типологическая классификация в контексте немецкоязычной конкретной поэзии ........................... 2.2.1 Графические эксперименты ............................................... 2.2.2 Акустические эксперименты ............................................. 2.2.3 Речевые стихи ...................................................................... 2.2.4 Языковая игра ...................................................................... ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................... СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................. ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... Приложение 1. Эрнст Яндль. Автобиографические заметки ........ Приложение 2. Эрнст Яндль. Предпосылки, примеры и цели одного из способов поэтического письма ....................................... Приложение 3. Ойген Гомрингер. Определения конкретной поэзии .................................................................................................. 3 4 13 13 22 26 34 60 60 60 73 81 81 103 114 137 150 155 173 173 177 182 ВВЕДЕНИЕ Современный литературный процесс характеризуется ситуацией, когда стандартные универсалистские трактовки утрачивают свои объяснительные и прогностические функции. Необычайно распространѐнными становятся стратегии письма, направленные на эксперимент и новаторство. Происходит актуализация позитивности непонимания, генерация нового языка описания культурных феноменов. Своеобразным принципом смысло- и жанрообразования в новейшей литературе становится тенденция проблематизации языка. Для европейской литературы последних десятилетий особенно важна реальность культуры: мир воспринимается сквозь призму текста. Перенесение внимания с универсального, рационализированного языка на язык естественный задаѐт совершенно иные координаты литературоведческим исследованиям. Теоретики постмодернизма акцентируют внимание на уникальности языка художественного произведения (Р. Барт), субъекта (Ж. Лакан), исторической эпохи (М. Фуко), практически не упоминая о языке «вообще». Период детерминированных знаний и терминологической определѐнности уже не распространяется на этап развития литературы второй половины ХХ – начала ХХI в. Анализ художественного текста вообще, а современного литературного произведения особенно, может потребовать, по мнению известного российского лингвиста В. А. Лукина, «привлечения данных самых разных наук – от психологии, этнографии, истории, мифологии, библиологии и т. п. до теории информации и теории чисел» [120, с. 4]. Мировоззренческую, эстетическую и поэтическую основу подобных современных тенденций во многом сформировали литературнофилософские направления середины ХХ в., объединяемые в понятие «неоавангард», экспериментальная литература в целом. Явление поэтического эксперимента рассматривается в работах российского филолога и семиотика В. В. Фещенко: «Разница между классическим и неклассическим (экспериментальным, авангардным) произведением искусства обнаруживается в том, что первое создается по определенному извне (традицией, нормативной грамматикой, стилевыми маркерами) канону, тогда как последнее учреждает некий внутренний закон» (курсив В. В. Фещенко. – Л. С.) [182, с. 63], а сам «эксперимент как метод представляет собой системное явление, основанное на качественном изменении исходного языкового материала, на смещении языковых пропорций в его структуре, с целью его преобразования» [182, с. 5]. На сложность устройства художественного текста обращали пристальное внимание ещѐ русские формалисты, отмечая, что поэтический код и есть нарушение правил обычного языка. Как отмечает Ю. Кристева, «представление 4 о поэтическом языке как об отклонении от языка нормального («новизна», «растормаживание», «выведение из автоматизма») пришло на смену натуралистической концепции литературы как отражения (выражения) реальности» [104, с. 196], а сам поэтический язык является «диадой, неразрывно связанной как с законом, так и с его нарушением» [104, с. 197]. Одним из наиболее ярких и влиятельных явлений в европейском неоавангардизме этого периода стала немецкоязычная конкретная поэзия. В ней не только фиксируются самые характерные, значимые черты неоавангарда, но и одновременно предвосхищается появление многих определяющих направлений современности. Демифологизация реальности, обнажение еѐ истинных механизмов, которые закамуфлированы официальными идеологическими и эстетическими представлениями, идеи спонтанности, адогматичности творчества, господство эксперимента являются ключевыми и для конкретизма как неоавангардистского явления, и для литературы постмодернизма. Разграничение понятий «произведение» и «текст», предложенное Р. Бартом, опирается на практику неоавангардизма, где распространено представление о художественном произведении как о тексте, открытом для самых разных интерпретаций и импровизации. Европейская культура и литература 50–60-х гг. ХХ в. отмечены формированием значительного количества новаторских, экспериментаторских по духу течений и направлений. В частности, для немецкоязычных стран годы после Второй мировой войны – это время бурных изменений в социальной, политической, культурной жизни. Для белорусской и русской литератур – это период активных поисков новых, «недискредитированных» тем, средств и способов письма. Генезис многих современных знаковых явлений начинается именно в тот период, в том числе и современная экспериментальная поэзия – одно из самых доминантных и дискуссионных явлений в литературе последних десятилетий . Всѐ сказанное выше делает актуальным обращение к исследованию белорусской экспериментальной поэзии второй половины ХХ – начала ХХI в. в контексте европейской, и прежде всего немецкоязычной, конкретной поэзии. Конкретная поэзия – направление, сложившееся в начале 1950-х гг. в ряде европейских (Швейцария, Швеция, Австрия, позже ФРГ) и латиноамериканских (Бразилия) стран. По поводу возникновения и формирования конкретизма в современных белорусских и российских работах по истории и теории литературы содержится минимальное количество сведений, несмотря на популярность в последнее время конкретной поэзии во многих европейских странах и странах Латинской Америки и большое 5 количество немецко-, англо-, испаноязычных исследований данного явления. Примечательно, что изучение явления конкретной поэзии включено в программу школ Германии, а стихи многих авторов-конкретистов являются весьма известными и цитируемыми и во взрослой, и в детской аудитории. В работах, посвящѐнных исследованию конкретной поэзии, закономерным является обращение авторов к творческому наследию Эрнста Яндля (Ernst Jandl, 1925–2000) – одного из самых известных и оригинальных поэтов современной немецкоязычной и мировой литературы, лауреата литературных премий Австрии, ФРГ, Англии, Италии, поэта, чьи книги становились бестселлерами. Он был также талантливым исполнителем собственных стихотворений, собирал огромные аудитории слушателей. Большой интерес у исследователей вызывает и творчество Хельмута Хайссенбюттеля (Helmut Heißenbüttel, 1921–1996), Ойгена Гомрингера (Eugen Gomringer, 1925), Франца Мона (Franz Mon, 1926), Герхарда Рюма (Gerhard Rühm, 1930), Фридриха Ахляйтнера (Friedrich Achleitner, 1930), Ханса Карла Артманна (Hans Carl Artmann, 1921–2000), Райнхарда Доля (Reinchard Döhl, 1934), Макса Бензе (Max Bense, 1910–1990), Тимма Ульрихса (Timm Ulrichs, 1940) и др. При этом советскому и постсоветскому читателю известно только очень небольшое количество стихотворений Э. Яндля и других поэтовконкретистов (Ф. Мона, Х. Хайссенбюттеля, О. Гомрингера, Г. Рюма) 52, теоретические статьи Э. Яндля «предпосылки, примеры и цели одного из способов поэтического письма» 201 и Х. К. Артманна «прокламация поэтического акта в восьми пунктах» 13. Вообще первые опыты создания экспериментальных стихов относятся ещѐ к античности: александрийский поэт Симмий (III в. до н. э.) написал стихотворения «Крылья Эрота», «Яйцо», «Секира», в которых расположение строк складывается в очертания названных предметов. Раннехристианский поэт Порфирий Оптациан (IV в. н. э.) – автор серии акростихов и месостихов, в которых выделенные буквы создают абрис алтаря, свирели, органа, пальмы, других предметов, переданных с мельчайшими деталями. Традиции создания таких текстов продолжались в поэзии средних веков («Трактат о восхвалении креста» аббата Фульда, IХ в.), Возрождения (молитва к Божественной бутылке и стакану в конце романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль») и барокко («Папоротник» Й. Карста, 1667). Симеон Полоцкий создал стихи «От избытка сердца уста глаголят» в форме сердца, «Благоприветствие царю Алексею Михайловичу по случаю рождения царевича Симеона» (1665) в форме звезды, некоторые другие. Русские Здесь и далее сохранена традиция письма конкретистов без заглавных букв и знаков препинания 6 поэты XVIII в. также основывали свои произведения на оптических экспериментах: А. Сумарокову принадлежит стихотворение в виде креста, Г. Державину – в форме пирамиды. Звуковая сторона слова также привлекала внимание ещѐ на заре существования человечества – в языческих культах, шаманских обрядах огромную роль играет определѐнным образом произнесѐнное слово и текст. В древних артефактах содержатся неоднократные указания на магическую природу слова, буквы, звука. Показательными в этой связи могут служить кельтские орнаменты, руническое письмо, арабский алфавит, Каббала, некоторые раннехристианские учения. В трудах античных мыслителей – Аристотеля, Платона – много места отдано анализу Звука и в сакральном, и в прикладном аспекте как части риторической системы. Дионисий Галикарнасский (ок. 55 – ок. 8 г. до н. э.) в трактате «О соединении слов» обращает внимание на следующие аспекты: «Буквы действуют на слух неодинаково. λ ласкает слух: из всех полугласных она самая сладостная. ρ раздражает слух: из однородных ей букв она самая крепкая. Среднее действие на слух производят произносимые через нос μ и ν, похожие на звучание рога. Некрасива и неприятна σ: слышимая в большом количестве, она раздражает ухо, еѐ свист кажется ближе бессмысленному звериному рѐву, чем осмысленной речи» [65, с. 168]. А. Ф. Лосев точно отмечает особенности учения Дионисия Галикарнасского: «В сочинении “О соединении слов” сказалась старинная, исторически сложившаяся традиция единства слова и музыкального сопровождения, столь характерная для греческой поэзии. Сочетание слов невозможно понять без учета музыкальности речи. Именно музыкальность с еѐ мелодикой, эвритмией, сменой разнообразных моментов (metabole) и согласованностью изображаемого с его образцом лежат в основе науки соединения слов» [117, с. 517]. Необходимо отметить, что данные замечания исчерпывающе характеризуют место и роль фонетической составляющей поэтического текста. Фигурные стихи и звуковая поэзия, саунд-поэзия в художественной практике ХХ в. становятся весьма распространѐнными. Текст, слова и буквы используются в качестве элементов живописных и графических произведений в творчестве французских кубистов, итальянских футуристов, русских кубофутуристов, артистов движения «дада» – это «каллиграммы» Г. Аполлинера, «тѐмные стихи» С. Малларме. Интересными представляются и саунд-поэтические поиски К. Моргенштерна, Х. Балля, Г. Арпа, Р. Хаусманна, Т. Маринетти, а также «синтетические» эксперименты, сочетающие в себе упражнения как с визуальной составляющей, так и со звуковой оболочкой слова в творчестве А. Белого, В. Маяковского, В. Каменского, Г. Стайн, Э. Паунда и др. 7 Расцвет собственно русского конкретизма, или «лианозовской школы», «барачной поэзии», также пришѐлся на 50–60-е гг. ХХ в. «Лианозовская группа» стала одним из первых неформальных творческих объединений художников и поэтов послесталинской эпохи. В эту группу входили Е. Кропивницкий, И. Холин, Г. Сапгир, Я. Сатуновский, Вс. Некрасов, О. Рабин. Русский конкретизм формировался независимо от западного: «До конкретности и до кому чего надо доходили больше порознь и никак не в подражание немцам, а в свой черѐд по схожим причинам» [71, c. 300. Язык, дискредитировавший себя в годы диктатуры, в творчестве русскоязычных и немецкоязычных конкретистов подвергается серьѐзнейшему переосмыслению и реконструкции. Поэты-лианозовцы создают своеобразный «фундаментальный лексикон» советской жизни с прочно вросшим в него соц-артом. В творчестве немецкоязычных конкретистов также звучит «лающий» язык команд, разноголосица провинции, диалекты, речь гастарбайтеров. Кроме того, важной художественной установкой для русскои немецкоязычных конкретистов становится интерес к контекстуальным возможностям слова, «говорной» интонации стиха, пафос прямого, «нелитературного» взгляда на социальную и метафизическую действительность. В белорусской литературе также появляются тексты, по направленности, смелому экспериментаторскому духу схожие с явлениями конкретизма. Основы литературной комбинаторики, языковой игры были заложены ещѐ в наследии Рыгора Крушины (1907–1979), в поэзии Петруся Макаля (1932–1996), Рыгора Бородулина (1935–2015), Николая Купреева (1937–2004), Алеся Навроцкого (1937–2012). В программном стихотворении «Лірычная кантата» Р. Крушина вступает в горячую полемику со своеобразной «модой» на прозу в поэзии: «Ня трэба ні вобразаў сьмелых, / Ні вершаў з рыфмоўкай, ні белых... / Навошта? Мазгоў ня сушы! / Звычайны артыкул пішы». Он призывает авторов к смелым экспериментам: «Рандо, трыялеты, актавы, санэты, / Газэлі, туюгі складайце, паэты! / Прыгожыя формы бярэце, / Багатыя і дасканалыя. / Я з вамі ў раскошнай карэце, / Я і ламаная анамалія» 105. В последней строке автор заодно демонстрирует виртуозное владение техникой палиндрома, а в самом тексте широко обращается к лингвокреативным ресурсам октавы, сонета, триолета, туюга. Исследование возможностей языка, предпринятое в поэзии авангардистов и неоавангардистов, в частности поэтов-конкретистов, приводит к трансформации конвенциального языка художественной литературы, к усилению интеллектуализации поэзии и выведению слова на качественно новый уровень. Схожий вектор деятельности обнаруживается и в произведениях целого ряда белорусских поэтов 60–70-х гг. ХХ в., в частности П. Макаля, 8 А. Навроцкого, Р. Бородулина. Творчество этих авторов, а также плеяды представителей белорусского «филологического поколения» на фоне идеологического пафоса социалистического реализма возвращает в поэтический обиход отечественной литературы подчѐркнутый лиризм, богатое эмоционально-стилевое разнообразие, а также новаторскую инструментовку текста, что формирует предпосылки для дальнейшего реформирования белорусского стиха. Зачастую тектообразующим началом произведений П. Макаля, А. Навроцкого, Р. Бородулина данного периода становятся игровые приѐмы, эксперименты со звуковой инструментовкой поэтического текста, повышенное внимание к ритмическим возможностям свободного и акцентного стиха, необычные варианты рифмовки, пробуждение внутренних созвучий слова, тяготение к гротеску. Вследствие такого подхода авторы добиваются, в том числе, деавтоматизации акустического восприятия слова, высвобождают его из рутинных и шаблонных представлений о поэтическом. Оригинальные находки на уровне поэтики пробуждают в текстах П. Макаля, А. Навроцкого, Р. Бородулина глубинную алхимию родного слова, заставляют по-новому взглянуть на арсенал возможностей и типологию современного белорусского искусства поэзии. Традиции и эстетика конкретизма особенно зримо присутствуют в белорусском литературном процессе второй половины ХХ в. – начала ХХI в. Но уже начиная с 70-х гг. ХХ в. наиболее яркое влияние конкретистской традиции в белорусской литературе нашло отражение в поэзии Алеся Рязанова (1947). Авторская манера раннего, а потом и зрелого творчества этого автора демонстрирует, по нашему убеждению, характерную именно конкретизму идею простейших, атомарных элементов, из которых комбинируется текст. Многие произведения А. Рязанова основываются на поиске абсолютно начальных, «атомарных» и безусловно истинных компонентов, что явственно перекликается с идеями аналитической философии Л. Витгенштейна. Цель подобной работы с языком – отыскать и высвободить в словах и символах понимание их конструкции и смыслового потенциала. По поводу творчества А. Рязанова белорусский критик Е. А. Леонова справедливо отмечает: «Это своеобразные стихи-монтажи (иногда даже с элементами рисунка), изощрѐнное манипулирование звуком, фразой, словом, их графикой, с помощью чего углубляются и расширяются смыслы как стихотворения в целом, так и его отдельных составляющих» 123, с. 6. Творчество А. Рязанова, несомненно, лингвоцентрично, и родной белорусский язык в его стихах выступает своеобразной формой идеологии. Главные черты произведений автора – творческий интерес к истории слова, его «родоводу», неисчислимым валентностям, умелое обращение 9 к аутентичности белорусского языка, его богатым семантическим, ассоциативным и акустическим возможностям. Подобный интерес к живому функциональному языку лежит и в основе творчества немецкоязычного конкретизма. Целое поколение современных белорусских поэтов: Михаил Анемподистов (1964), Михаил Башура (1975), Дмитрий Вишнѐв (1973), Адам Глобус (1958), Всеволод Горячка (1968), Юрий Гуменюк (1969–2013), Джети (Вера Бурлак) (1977), Дмитрий Дмитриев (1978), Виктор Жибуль (1978), Артѐм Ковалевский (1979), Мария Мартысевич (1982), Серж Минскевич (1969), Дмитрий Плакс (1970), Юрий Потюпа (1969), Василий Сахарчук (1953–2003), Людка Сильнова (1957), Оксана Спринчан (1973), Сергей Прилуцкий (1980), Анна Тихонова (1977), Александр Турович (1978) – обратилось в своѐм творчестве к приѐмам проблематизации языка, к попыткам превратить литературный текст в реальную, зримую и чувственную вещь, доступную человеческому восприятию на уровне и эмпирическом (через особую метрику, оригинальную акустическую организацию, систему ассонансов и консонансов, визуальную структуру стиха), и умозрительном (через семантику, прагматику, метафорику). Таким образом, стихи подобного типа отражают тенденцию и к интеллектуализации, философичности, и к мотивированности высказывания. Художественные поиски этих авторов, несомненно, тяготеют к эстетике конкретизма, к выходу за пределы таких норм литературного языка, как типичность, распространѐнность, устойчивость, соответствие узусу и возможностям системы языка, общеобязательность и предпочтительность, к преодолению «образца». По этому поводу российский философ В. А. Подорога пишет: «Для литературы образца на первом месте остаѐтся критерий реалистичности, т. е. поддержание у читателя “сильной” референциальной иллюзии. Для литературы другой, экспериментирующей, определяющую роль начинает играть внутрипроизведенческий мимесис … указывающий на то, что литературное произведение самодостаточно и не сводимо к достоверности внешнего, якобы реального мира» [143, с. 11]. В последние десятилетия в белорусском литературоведении отмечается повышение интереса к экспериментам писателей нереалистических направлений*. * Кондаков, Д. А. Творчество Э. Ионеско в контексте идейно-творческих исканий европейской литературы ХХ века : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.03 / Д. А. Кондаков ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2005. – 21 с.; Поваляева, Н. С. Полифоническая проза В. Вулф : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.03 / Н. С. Поваляева ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2003. – 21 с.; Верына, У. Ю. Беларуская авангардная паэзія 80–90 гадоў : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.01 / У. Ю. Верына ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2000. – 18 с.; Ламеко, Н. В. Художественный универсум Д. Джойса : структура, концепция человека, типологический аспект : автореф. дис. … канд. фил. наук : 10.01.03 / Н. В. Ламеко ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2005. – 21 с. 10 Актуальность данного исследования определяется недостаточностью теоретико-критических работ, посвящѐнных новейшей белорусской экспериментальной поэзии, необходимостью анализа и типологии сложной панорамы современного белорусского литературного процесса, определения специфики художественных средств, характеризующих поэзию последних десятилетий в контексте экспериментов европейской литературы, и прежде всего немецкоязычной конкретной поэзии. Актуальность заявленной темы обусловлена также отсутствием полных и системных компаративистских исследований о национальных типологических особенностях и межнациональных взаимосвязях белорусской поэзии современности, в том числе работ, посвящѐнных белорусской экспериментальной поэзии второй половины ХХ – начала ХХI в. в контексте европейского, и прежде всего немецкоязычного, конкретизма. Литературный процесс Беларуси данного периода чрезвычайно многообразен, требует научного изучения, описания и классификации. Многие концепции, подходы к типологии стиха, получившие разработку в теории и практике немецкоязычной конкретной поэзии, находят, по нашему мнению, творческую реализацию и в белорусской поэзии современности. Назрела необходимость в научной систематизации и типологии сложного и многомерного современного белорусского литературного процесса последних десятилетий. Белорусская экспериментальная поэзия второй половины ХХ – начала ХХI в., по нашим наблюдениям, творчески осваивает смелые формально-поэтические эксперименты европейских поэтовконкретистов. Об этом свидетельствуют произведения белорусских поэтов с визуальной, акустической, речевой (иначе – «говорной») природой, а также тексты с ярко выраженным игровым началом. Художественные поиски представителей конкретной поэзии, продолженные в творчестве молодого поколения белорусских поэтов-экспериментаторов, в определѐнном смысле задают направление всему литературному процессу Беларуси, вписываются в панораму не только белорусской, но и европейской литературы. Исследование этих экспериментальных поэтических фактов необходимо для понимания динамики развития современной литературы, закономерностей функционирования и реализации поэтического мышления в современных социокультурных условиях. Однако к настоящему времени экспериментальная белорусская поэзия не получила достаточно аргументированного теоретического и практического рассмотрения, не определѐн еѐ генезис, специфика, место в многообразной картине литературной жизни ХХ–ХХI вв. Творчество таких поэтов, как М. Анемподистов, М. Башура, Д. Вишнѐв, А. Глобус, В. Горячка, Ю. Гуменюк, Джети (В. Бурлак), Д. Дмитриев, В. Жибуль, А. Ковалевский, М. Мартысевич, С. Минскевич, Д. Плакс, Ю. Потюпа, В. Сахарчук, Л. Сильнова, 11 О. Спринчан, С. Прилуцкий, А. Тихонова, А. Турович, не стало предметом всестороннего филологического анализа. Данное исследование является первой в белорусском литературоведении попыткой системного научного исследования экспериментальных жанрово-стилевых, формальных, идейно-философских поисков современной белорусской поэзии в контексте европейского конкретизма. Впервые в белорусском литературоведении представлена целостная картина белорусской новейшей поэзии, впервые предпринята попытка еѐ типологической классификации, за основу взяты традиции немецкоязычного конкретизма, который презентует доминантные черты всего европейского авангарда. С сожалением приходится констатировать, что практически не доступны массовому белорусско- и русскоязычному читателю произведения европейских конкретистов; например, всѐ внимание к лирике немецкоязычных авторов-конкретистов ограничивается переводом на русский язык их нескольких стихотворений [52; 202]. Соответственно, не проводились и сопоставительные исследования. Научная новизна данной работы усиливается и тем, что автор предлагает собственные подстрочные переводы текстов немецкоязычных поэтов-конкретистов для дальнейшей филологической адаптации и осмысления этих произведений в отечественном литературном процессе. Полученные результаты исследования, несомненно, будут способствовать формированию объективных представлений о современном литературном процессе Беларуси второй половины ХХ – начала ХХI в. в его национальной специфике, о месте белорусской литературы в современном европейском и мировом литературно-художественном пространстве. 12 ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО КОНКРЕТИЗМА 1.1 Конкретная поэзия в историко-культурной парадигме послевоенного периода В немецкоязычной литературе 50−60-х гг. ХХ в. происходит активизация деятельности литераторов-экспериментаторов, направляющих свой социальный критицизм на поиски недискредитированного языка, на преодоление привычных лингвистических форм, обслуживающих скомпрометировавшую себя действительность. Интерес к специфике функционирования языка в творчестве Х. Хайссенбюттеля, О. Гомрингера, Ф. Мона, Э. Ю. Борхерс, Г. Рюма и Э. Яндля сочетается с исследованием проблемы отчуждения, выступлениями против диктатуры унификации, создания культурной индустрии; размышлениями о традиционных формах развития западной культуры, близкими Франкфуртской школе неомарксизма. Анархистским бунтом против устоявшихся канонов в художественном творчестве отмечены произведения П. О. Хотьевитца, П. Хандке, Р. Бринкмана, Г. Ахтенбуша, В. Бауэра, по-своему развивающих идею недоверия традиционным эстетическим идеалам. Термин «конкретная поэзия», или «конкретизм», «конкретдвижение», стал условным наименованием целого ряда разнородных явлений в австрийской, бразильской, немецкой, чешской, швейцарской, итальянской, американской литературах. В творчестве поэтов-конкретистов наблюдается доминантная тенденция – через эксперименты с языком освободить энергию конкретного слова, не зависящего от грамматики и пунктуации. Теоретик и практик конкретизма Ф. Мон подчѐркивает, что «первичным элементом конкретной поэзии является слово, а не предложение, как это свойственно всякой другой литературе, будь она традиционная или же современная» [131, с. 95]. «Эстетическое обоснование конкретной поэзии, – как справедливо отмечает известный филолог А. А. Гугнин, – выводится из предпосылки, что звуковая и графическая оболочка слов, их расположение на листе бумаги заключают в себе серьѐзный смысловой и символический подтекст, не совпадающий полностью с лексическими значениями отдельных слов и словосочетаний, а порой и вступающий с ними в явное противоречие» [133, с. 594]. В Бразилии в 1952 г. была образована группа «Нойграндес» («Noigrandes»), в которую вошли дизайнеры, печатники, художники, архитекторы, занимающиеся экспериментами по комбинированию букв и слов для 13 достижения зрительного эффекта, по совершенствованию рекламы путем выработки метода краткой и броской информации. В 1955 г. в Швейцарии состоялась встреча О. Гомрингера с одним из инициаторов группы «Нойграндес» Д. Пигнатари, занимавшимся проблемами теории коммуникации. В 1958 г. появляется программный документ «План-путеводитель по конкретной поэзии» («Plano-piloto para poesia concreta»), ставший результатом совместного творчества О. Гомрингера и членов группы «Нойграндес» (Д. Пигнатари, Арольдо и Аугусто де Кампос, Ж. Л. Грюневальд). В данной работе подчѐркивается роль в конкретной поэзии идеограммы, т. е. письменного знака, условно обозначающего понятие: «…идеограмма: призыв к внесловесной коммуникации, конкретное стихотворение осуществляет коммуникацию своей собственной структуры: структура-содержание, конкретное стихотворение – это предмет, который имеет значение сам по себе и не является истолкователем внешних предметов и более или менее субъективных чувств. его материал: слово (звук, визуальная форма, семантический заряд). его проблема: проблема функций-отношений этого материала, конкретному стихотворению свойственна метакоммуникация: совпадение и одновременность словесных и несловесных коммуникаций; однако – следует заметить – это коммуникация формы, структуры-содержания, а не обычная коммуникация идеи» 69, c. 295. Характерным в этом своеобразном манифесте является утверждение, что конкретное стихотворение – это предмет, взятый сам по себе, что оно не призвано объяснять действительность или передавать суждения, мысли и чувства автора. Параллельно, с марта 1951 г., когда появился журнал «публикации», («publikationen») заявили о своѐм существовании литераторы так называемой «Венской группы» (Wiener Gruppe) во главе с Х. К. Артманном. Это неформальное объединение поэтов и писателей, существовавшее в австрийской столице в 1952–1964 гг. В группу входили Ф. Ахляйтнер, Х. К. Артманн, К. Байер, Г. Рюм и О. Винер. Под влиянием идей, высказанных Г. Стайн, А. Штраммом, Л. Витгенштейном, представители Венской группы разрабатывают авангардистскую, сознательно провокационную концепцию литературы, объявляя своей целью непрестанное изобретение новых художественных форм и создание единого фронта против косности, «привыкания к слову». Общими для творчества этих литераторов стали антибуржуазно-анархистские настроения, мотивы «чѐрного юмора» с его шутовской издѐвкой, экспериментирование, широкое использование метода монтажа. В 1953 г. был опубликован первый документ группы – «восемь провозглашений поэтической деятельности» («acht-punkt-proklamation des poetischen actes»), в котором Х. К. Артманн настаивает «на непрофессиона14 лизме художественных упражнений, расширении эстетических возможностей, пропаганде чистой, негерметичной поэзии, отказе от художественного производства» («auf Unprofessionalität der Kunstübung, Erweiterung ästhetischer Spielräume, Propagierung einer reinen, nicht hermetischen Poesie, Absage an den Kulturbetrieb») 257, с. 267–268. Разрушение привычных образцов, антиакадемизм, скепсис по отношению к языку, устремлѐнность к созданию новаторских экспериментальных текстов определяют характер публикаций К. Байера, Г. Рюма, Э. Кайна, Х. К. Артманна, Э. Яндля. Позиция последнего, не входящего формально в Венскую группу, по замечанию Х. Корте, «разрешала ему несравненно более критический взгляд за пределы “центра”» («gestattete ihm um so mehr einen kritischen Blick auf das “Zentrum”») 241, с. 75, однако автор разделяет общую установку эстетики и поэтики Венской группы. Одновременно с этими явлениями во Франции вокруг П. Гарнье, опубликовавшего в 1968 г. манифест «Спациализм и конкретная поэзия» («Spatialisme et poésie concrete»), оформляется «спациалистическое» («spatialisme», от фр. «spatiale» – космический, пространственный) движение. Его представители «разлагают ткань стихотворения на слова, буквы и, варьируя эти элементы, переставляют их вручную или при помощи машин по правилам математики или по собственной прихоти» 156, с. 61. В Англии, Норвегии, Чехословакии появляются многочисленные варианты буквенных, звуковых, объектных стихов, которые называют «конкретной», «фонетической», «объективной», «фонической», «кибернетической» поэзией. Схожие тенденции обозначились и в литературном процессе Беларуси. Необходимо констатировать, что 50–60-е гг. ХХ в. для белорусской литературы были весьма неоднозначными. С одной стороны, данный период ознаменован формированием «оттепельной» ситуации, некоторой демократизацией общественной жизни, что позволило ряду деятелей искусства и литературы Беларуси заявить о себе. С другой стороны, сохранение строгой регламентированности творчества, принципы социализма, сужение сферы функционирования белорусского языка и национальной культуры не позволяют говорить о формировании аутентичной и свободной культурной ситуации. Предпочтение отдавалось темам коммунистических свершений, строительства светлого будущего. Из дозволенных партийной цензурой тем преобладали темы осмысления военного прошлого, изображения социалистической реальности. Однако в данных условиях формируется целое движение писателей «филологического поколения», в творчестве которых доминируют интенсивные поиски гуманистических идеалов, ожидание перемен, неприятие демагогии, партократии, фальши. Приход в литературу таких поэтов и прозаиков, как Р. Бородулин, А. Вертинский, 15 Г. Буравкин, В. Недведский, Н. Гилевич, В. Короткевич, П. Макаль, Б. Саченко, ознаменовал в своѐм роде оппозиционное движение против официальной художественной системы, за которой закрепилось название «искусство соцреализма». Поэзия «филологического поколения» вернула в литературу традиционные, вечные темы – поэтизацию родного края и его истории, рефлексию художника, обращение к мифопоэтической стихии. Всѐ это на фоне пафосных тем комсомола, ленинианы и прочих идеологических штампов стало важным идейно-художественным открытием. В этой связи очень точно характеризует ситуацию В. В. Гниломѐдов, в форме парадокса отмечая, что «настоящими новаторами нередко оказываются не экспериментаторы – впрочем, слово это совсем не позорное, – а “традиционалисты”» [51, с. 76]. В том же ключе высказывается и теоретик и практик конкретизма Х. Хайссенбюттель о существовании «странного стереотипа, что “модерн” и “традиции” себя взаимно исключают» («merkwürdiges Klischee, nach welchem “Moderne” und “Tradition” sich gegenseitig ausschließen») 224, с. 156. Возвращѐнные в поэтический обиход белорусской литературы подчѐркнутый лиризм, богатое эмоциональностилевое разнообразие и новаторская инструментовка текста в поэзии шестидесятников сформировали предпосылки для дальнейшего реформирования белорусского стиха. Подобный «идеологический» критицизм, свойственный творчеству белорусских писателей-шестидесятников, соответствует общеевропейским и мировым социокультурным тенденциям послевоенного периода. Литература и в целом культура 50–60-х гг. ХХ в. формируются «на обломках иллюзий», пронизаны мотивами разочарования, – достаточно вспомнить знаменитый тезис Т. Адорно о культуре «после Аушвица». Известный белорусский учѐный Н. Арочко, размышляя о своеобразии творчества «филологического поколения», отмечает: «Подняться на новый этап и удержаться можно было через бескомпромиссное самоочищение, человеческое и творческое. Прилив сил добавляло решительное отречение от всего недостойного и непростительного не только в других, но и в себе. Точнее – через отречение и явлений общественного порядка» [10, c. 235]. Так, в СССР после Сталина, в Германии после Гитлера тоталитарное прошлое, породившее не только социальные проблемы, но и чувство эстетической катастрофы, привело к параллельному возникновению в таких различных национальных литературах схожего явления – эстетики и поэтики конкретной поэзии. Элементы лингвистического критицизма, деструкция привычных представлений о канонических заповедях письма, новаторские и оригинальные находки в области рифмовки, пробуждения внутренних созвучий слова, возможностей алхимии звукописи в творчестве П. Макаля, 16 Р. Бородулина; обращение к возможностям гротеска и абсурдизации, к принципам свободной поэтики в произведениях А. Навроцкого, выразительно проявившие себя в наследии этих поэтов 1960–1970-е гг., дают основания проводить параллели с творческими поисками европейского и мирового неоавангарда. К сожалению, романтический взлѐт ренессансного поколения шестидесятников сменился периодом так называемого «застоя», остановки движения общества и культуры «развитого социализма». Очевидно, что многие достижения европейской и мировой культуры оказались по ту сторону «железного занавеса», что не позволило литературному процессу Беларуси в полной мере стать составной частью глобальных процессов того времени. По замечанию белорусского филолога А. И. Бельского, в литературном процессе «наблюдалась тематическая ограниченность, трафаретность, художественная слабость слова. Попав под идеологическое влияние, литература не могла не породить конъюнктурные (на потребу идеологии) и схематичные произведения с идеализированными образами, упрощѐнными коллизиями жизни» [23, с. 4]. Однако вместе с тем, как отмечает П. В. Васюченко, «литературный официоз в это время (1970–1980-е гг.) выглядел не больше чем ритуалом, выполнив который художник спешил высказать сокровенное, своѐ» [35, с. 5]. С середины 80-х гг., на которые выпали важные общественные реформы, начинается новый период развития литературы и культуры в целом. В творчестве писателей старшего поколения – Р. Бородулина, П. Макаля, Н. Гилевича, В. Зуѐнка, О. Лойко, Ю. Свирского, Д. Бичель – выразительно проявил себя тематический полифонизм, интенсивные поиски новых средств национального поэтического языка. В белорусской поэзии этого времени, по точному замечанию А. И. Бельского, «присутствует духовно значимая проблематика, поэтизация вечных и благородных чувств, глубокая изобразительная эстетика слова» [21, с. 199–200]. Ярким событием в белорусской литературе данного периода стала деятельность одного из самобытных поэтов и мыслителей современной Беларуси А. Рязанова. Интеллектуально-философская интенция его произведений позволяет говорить об абсолютной включѐнности рязановской новаторской поэзии в мировой контекст, о своеобразной «текстуальной революции», предпринятой в национальной белорусской литературе. Как раз в творчестве А. Рязанова достаточно полно и системно проявили себя эстетические и поэтические находки европейского конкретизма. Распространѐнная в постмодернистском обиходе мысль о телесности текста, о том, что поэтическое высказывание служит не обозначению предмета, но зримо представляет саму «вещность» вещи, получила практическую разработку в экспериментах конкретной поэзии. «Новая крити17 ка», или представители формального метода в литературоведении, уже во многом вслед за художественными находками современных авторов постулирует мысль о таком предназначении поэзии, как расширение границ перцепции (perceptio), чувствительности (sensibilia). Подобный же радикальный подход к подчѐркнутой звуковой, зрительной мотивированности текста, интенсификации восприятия выделяет произведения А. Рязанова, в которых поэту удаѐтся в духе конкретистской эстетики единичное изобразить универсальным, а опыт каждодневных наблюдений и зарисовок обобщить до макрокосмической модели существования. Особенных успехов в этой связи автор достигает в книгах «Каардынаты быцця» (1976), «Шлях-360» (1981), «Вастрыѐ стралы» (1988), «У горадзе валадарыць Рагвалод» (1992), «Паляванне ў райскай даліне» (1995). Как отмечает И. Ф. Штейнер, исследователь творчества А. Рязанова, «по-новому реализует белорусский поэт соотношение рационального и эмоционального в лирике, которое отнюдь не представляет собой примитивное механическое сочетание унция чувств плюс унция мысли (курсив И. Ф. Штейнера. – Л. С.). Он подразумевает сплав их крайностей в таинственном самовосхождении… в котором чувство становится мыслью, а последняя – чувством» [194, с. 11]. Размышляя о творческом пространстве А. Рязанова, М. А. Тычино отмечает схожее парадоксальное переплетение противоположных начал. Учѐный справедливо пишет: «Его интеллект небезосновательно представляется “чистым”, почти лишѐнным какой-нибудь индивидуальности. … Эмоциональная энергия закладывается внутрь строки, внутрь слова, в фоносемантику» [177, с. 75]. Необходимо подчеркнуть, что такие характерные для европейского стиха ХХ в. тенденции новаторских трансформаций поэтического синтаксиса, как использование нелинейных моделей повествования, своеобразная архитектоника стиха, нашли воплощение и в творчестве С. Понизника, Р. Боровиковой, В. Некляева, Р. Крушины, Я. Юхновца, Н. Артимович. В конце 80-х, в 90-е гг. в Беларуси появилось большое количество радикально новаторских литературных объединений, творчески продолживших и переосмысливших движение модернизма, авангардизма, неоавангардизма, отчасти постмодернизма зарубежных стран. Поэтические поиски белорусских авторов именно в эти годы оказались вписанными в контекст экспериментальной литературы, в значительной степени – европейской конкретной поэзии. То, что так долго вызревало в атмосфере идеологических запретов, в данный период проявило себя в деятельности таких неординарных объединений «новой волны», как «Тутэйшыя», «Крыніцы», «Узьлѐт», «Таварыства Вольных Літаратараў», «Табала-Sтэт», «Бум-Бам-Літ», «Schmerzwerk» и др. «Белорусская литература вместо 18 прежней “магистральной” схемы приобретает “веерный”, разнонаправленный вид», – замечает П. В. Васюченко [35, с. 7]. Принципиальным является лингвоцентризм стратегий деятельности упомянутых объединений художников слова, аналогичный поискам европейской и мировой культуры современности. В творчестве белорусских литераторов последних десятилетий ХХ в. отчѐтливо наблюдается, хотя и с разных позиций – национальной идентификации, фундирования отечественного языка, утверждения позитивности хаоса, преодоления логоцентризма, – тенденция открыть целые области языка, ранее табуированные, исключѐнные из словесного бытия в подцензурной литературе. Размышляя о поэзии Д. Вишнѐва, оригинального художника слова белорусской литературы последних лет, белорусский культуролог и философ В. В. Акудович отмечает важный аспект: «Кстати, в связи с нелинейной поэтикой Д. Вишнѐва меня достаточно долго беспокоил, пожалуй, только один вопрос: она изначально присуща его творческой экзистенции или сознательно выстроена под влиянием традиции негативноконструктивистского поэтического движения, так плодотворно когда-то начатой “дадаистами”, а сегодня тотально доминирующей во всей европейской литературе» [3, с. 52]. В творчестве белорусских поэтов-экспериментаторов «новой волны» отмечаются принципиально нелинейные способы организации поэтического высказывания, постоянно происходит перевод словесного описания в зрительный образ, и наоборот: графическому образу даѐтся вербальная интерпретация. Свидетельством этого могут стать, к примеру, бум-бамлитовские «друкапісы» [68, как их называют сами авторы, генетически родственные произведениям конкретной поэзии, которая синкретична по своей природе. В текстах поэтов-конкретистов наблюдается стремление к единству вербального и визуального, образного и абстрактного, к синтезу разных семиотических систем. Поиски «недискредитированного» в художественной практике европейских стран и в белорусской литературной ситуации вынуждают писателей обратиться либо к молчанию, чреватому речью, либо к реальности языка. Первоначально конкретистские авторы деструктурируют язык, лишая его связи с понятием или отождествления с предметом, и уже только из такого материала, очищенного от компроментирующих черт, поэт-конкретист считает возможным создавать тексты. «Конкретная поэзия – это стиль материальной поэзии, если это понимать как вид литературы, которая подразумевает лингвистические структуры (такие, как звуки, слоги, слова, последовательности слов, парадигмы слов) в первую очередь как представления мира лингвистики. Кроме того, язык материальной поэзии не является предметом конвенциональных правил грамматики и синтаксиса обычной речи, но подчиняется правилам уни19 кальных визуальных и структурно ориентированных моделей», – отмечает М. Бензе, один из самых известных теоретиков конкретной поэзии, немецкий философ, профессор кибернетики, в статье «Конкретная поэзия» Цит. по: 14, c. 172. Подобный подход сближает явление конкретизма с идеями аналитической философии, причѐм в особенности сильное влияние на формирование творческого кредо конкретистских авторов оказала доктрина австрийского философа Л. Витгенштейна, основоположника логического и лингвистического аналитизма. Произведения философа известны читателю с 1921 г., когда вышла первая работа Л. Витгенштейна «Логико-философский трактат». Размышления философа, которые так привлекли конкретистов, – это исследование простейших, примитивных форм языка, раскрывающих способ употребления слов, в то время как концептуальные высказывания скрывают или искажают обыденное применение языка. По сути, поэты-конкретисты занимаются поисками «минимальных дискретных единиц, исходя из которых и строится знаковая система языка» 202, с. 20. «Применение» – это то понятие, которое предлагает Л. Витгенштейн, а вслед за ним и конкретисты, в качестве замены понятию «значение». Л. Витгенштейн задаѐт принципиальное для конкретизма противопоставление этического и логического, т. е. того, что может быть показано, и того, о чѐм можно говорить. В статье «План-путеводитель по конкретной поэзии» подчѐркиваются схожие аспекты проблемы языка: «Поэзия повернулась от искусства к действию, от декламации к констелляции, от фразы к структуре, от песни к энергетическому центру <...> Конкретная поэзия – это работа с материалом языка, создание с помощью него структур и передача информации с помощью новых способов» 43. Л. Витгенштейну принадлежит и обоснование такой категории, как «языковая игра», по правилам которой и создаются тексты конкретизма. «Языковая игра – это определѐнная модель коммуникации или конституция текста, выход за пределы которой ведѐт к разрушению данной коммуникационной системы» 17, с. 175. Праздности или пустой созерцательности конкретизм противопоставляет активное употребление языка, в котором и заключѐн его смысл. Отсюда такое количество конкретистских текстов, основанных на игровых, нелинейных способах построения поэтического высказывания, ориентирующих читателя на активное восприятие текста, прояснение значения слова через употребление его в акте чтения-разгадывания. По мысли Л. Витгенштейна, философские проблемы возникают тогда, когда язык пребывает в праздности. В этой связи высказывание М. Бензе о том, что конкретизм – это «возможность очистить литературу от случайных рифм, фраз, слов ... косной традиции, обременяющей творца своими императивами» Цит. по: 14, c. 172, выглядит особенно актуально. Утратив веру в мо20 ральную силу искусства, разочаровавшись в идеалах, эта «литература подчас втайне скорбит об утрате», она «безыдеальна с отчаяния», писатели начинают мстить за обман, «жечь всѐ, чему поклонялись» 83, c. 446. Как можно убедиться, язык в европейской конкретной поэзии и в художественной практике белорусской литературы последних десятилетий ХХ – начала ХХI в. перестаѐт трактоваться в виде универсальной грамматики и словаря, абстрактной лингвистической системы правил. В конкретизме акценты смещаются на уникальность языка субъекта, неповторимость языка художественного произведения. Конкретистское понимание слова как «звукового жеста» соотносится с особым миметическим слоем языка. С традиционных позиций такие слова существуют в маргинализированных областях дискурса: в детском словотворчестве, в культовых глоссолалиях, поэтической зауми. Несомненно, что эстетика конкретизма соотносится с такими современными социально-политическими и культурными тенденциями зарубежных стран и Беларуси, как, в частности, разрушение чѐткой оппозициональной общественной структуры, отказ от универсалистского идеологического мышления, смешение групповых и индивидуальных идентификаций. Определяющей чертой европейской и белорусской литературы данного периода становится лингвоцентризм, интенция к обновлению, ориентация на эксперимент, поиск новых форм и методов литературного творчества в сочетании с пристальным интересом к социальным и личностным проблемам бытия. 21 1.2 Аналитический обзор литературы по теме исследования Русскоязычному читателю конкретная поэзия впервые была представлена на страницах журнала «Иностранная литература» за 1964 г. в разгромной статье Е. Головина «Лирика “модерн”» 52. Впрочем, тон статьи не может вызывать нареканий, поскольку в советское время новаторский, эпатажный характер конкретизма никак не соотносился с установленными идеологическими канонами. Необходимо отметить, что автор статьи предпринимает попытку хотя бы в назывном порядке вспомнить предшественников, «вдохновителей» конкретной поэзии: С. Малларме, Т. Тцара, Т. Маринетти. Кроме того, Е. Головин приводит достаточно полный перечень представителей немецкоязычной конкретной поэзии, упоминая К. Леонгарда, Д. Рота, Ф. Мона, Х. Хайссенбюттеля, О. Гомрингера, Г. Рюма, Э. Яндля. Сборник статей «Неоавангардистские течения в зарубежной литературе 1950–60 гг.», вышедший в 1972 г., более обстоятельно знакомит читателей с немецкоязычным конкретизмом 14 и англоязычной конкретной поэзией 69. Некоторая идеологическая тенденциозность этих работ тем не менее сочетается с разносторонним анализом практики конкретной поэзии, разбором особенностей поэтики произведений. В исследовании Л. В. Млечиной с говорящим названием «Литература и “общество потребления”» содержится упоминание об одном из ярчайших авторов-конкретистов Х. Хайссенбюттеле как писателе, «сатирически изображающем современную “культурную индустрию”» 130, с. 193. Представители конкретной поэзии упоминаются и в книге В. С. Стеженского, Л. Б. Чѐрной, где авторы подчѐркивают близость эстетики конкретизма постулатам философии Л. Витгенштейна, а также важность «игровой» концепции для понимания текстов конкретной поэзии 168, с. 193; с. 280. Наиболее корректную и объективную оценку находит явление конкретизма в обзорной статье А. А. Гугнина «Пути западногерманской поэзии», помещѐнной в фундаментальном исследовании «История литературы ФРГ» 88, с. 416–417. М. Л. Гаспаров, автор монографии «Очерк истории европейского стиха», анализируя пути развития современного стиха, отмечает наличие «двух нетрадиционных стихотворных форм: стихов для слуха и стихов для глаза» 42, с. 262. Далее автор подчѐркивает особое теоретическое значение конкретной поэзии: «Она напоминает, что в ХХ в. поэзия из искусства слышимого слова стала искусством читаемого слова и что как при своѐм начале поэзия смыкалась с пением и музыкой, так и теперь смыкается с графическим искусством» 42, с. 265. 22 Одна из наиболее актуальных публикаций, посвящѐнных конкретизму, помещена в журнале «Иностранная литература» за 1999 г. Исследование включает в себя вступительную статью В. Куприянова, а также сделанные им переводы некоторых стихов Э. Яндля. Надо сказать, что изменившиеся идеологические условия позволили этому литературоведу высказаться о конкретной поэзии и творчестве Э. Яндля как о ярком и оригинальном поэтическом явлении: «Старые вопросы: “Что есть человек?”, “Что есть мир и я?” в конкретной поэзии зазвучали по-новому лаконично и свежо» 202, с. 16. Необходимо отметить и появление книг В. Г. Кулакова 107, А. И. Журавлѐвой и В. Н. Некрасова 71, посвящѐнных исследованию творчества «русских конкретистов» – поэтов-лианозовцев. В данных публикациях неоднократно подчѐркивается интернациональный характер явления конкретизма, его значимость для различных национальных литератур, что даѐт основания для поисков параллелей эстетики и поэтики европейского, русского конкретизма и экспериментов современных белорусских поэтов. Западному читателю творчество поэтов-конкретистов известно по антологиям текстов, которые стали регулярно появляться, к примеру в ФРГ, с 1972 г. Подборки стихов и манифестационных статей теоретиков конкретизма в таких изданиях традиционно сопровождаются краткими комментариями к текстам, достаточно подробными биографическими сведениями об авторах 240. В Англии антология под редакцией теоретика и практика английского конкретизма С. Банна была издана ещѐ в 1967 г. 210. В этой антологии исследователь уделяет значительное внимание поэтам бразильской группы конкретистов и немецкоязычным авторам: О. Гомрингеру, Х. Хайссенбюттелю, Э. Яндлю. Кроме того, книга содержит сведения об истории становления конкретизма, манифестационные документы. Последние выходили и отдельной публикацией в ФРГ. Издание включает основные программные статьи теоретиков и практиков конкретизма: Д. Пигнатари, О. Гомрингера, Х.К. Артманна, Э. Яндля, Д. Фарнивала 259. Многие статьи «Паэтычнага слоўніка» В. П. Рагойши 147 («Акраверш», «Бумбамлітызм», «Каламбур», «Макаранічны верш», «Трасянка», «Туюг», «Тэлеверш», «Фігурны верш», «Фонасемантыка», «Цэнтон», «Шарада» и др.) стали необходимой теоретической основой для осмысления явлений белорусской экспериментальной поэзии второй половины ХХ – начала ХХI в., еѐ средств и приѐмов письма в контексте немецкоязычной конкретной поэзии как одного из явлений неоавангардизма. Авторитетный литературовед В. В. Гниломѐдов, знакомя читателя с феноменами «новаторство» и «эксперимент» в современной белорусской 23 литературе, очень точно подмечает, что «художественный эксперимент необходим в поэзии. Он подготавливает новаторство, охраняя искусство поэзии от измельчания и дегенерации» 51, с. 53. Изучению современной белорусской поэзии, еѐ духовно-образному миру, актуальным темам и проблемам посвящѐн целый ряд работ А. И. Бельского 21–23. Исследуя «зов времени» 72, с. 66, учѐный-литературовед В. П. Журавлѐв отмечает, что художественному слову совсем не запрещено «выходить в сферы так называемого чистого искусства, стремясь таким образом к обновлению определѐнных аспектов художественной системы, средств и приѐмов» 72, с. 80. «Такая направленность целиком оправдана», – верно отмечает автор 72, с. 80, определяя дальнейшие аспекты осмысления и изучения «экспериментально-поискового течения современной литературы» 72, с. 80. Публикации последних лет И. С. Скоропановой обращают внимание на творческие поиски поэтов, представляющих, как отмечает автор, «“поколение next”, пришедшее в литературу в конце ХХ – начале XXI в.» 161: Д. Вишнѐва, А. Хадановича, Ю. Борисевича, В. Бурлак, В. Ыванова. Их поэтические эксперименты исследователь рассматривает как реализацию «задачи преодоления стагнации» 162, предлагая концептуальные подходы к классификации и систематизации сложных и многомерных современных процессов в белорусской литературе. Появление книги А. Н. Кислициной «Новая літаратурная сітуацыя: змена культурнай парадыгмы» 99 – ещѐ одна попытка восполнить существующую потребность в диахроническом обзоре литературы последних десятилетий: еѐ генезиса, становления, функционирования литературных группировок и объединений, отдельных творческих индивидуальностей. Исследователь обращается не только к теоретическим аспектам современного литературного процесса, но и к практике экспериментальной литературы Беларуси, специфике еѐ эстетики и поэтики. Особенно ценными представляются публикации литературоведа Е. А. Леоновой, которая явления современной литературной жизни Беларуси зачастую рассматривает сквозь призму мирового и общеевропейского контекстов, пользуясь инструментарием компаративистики 121–124. Так, в работе «Алесь Разанаў і нямецкая літаратура» 121 предлагается обзор фактов межкультурного диалога между творчеством современного белорусского поэта и немецкоязычными авторами. Изучение фактов самобытной национальной литературы, языка и культуры в сопоставлении и сравнении, бесспорно, способствует самопознанию и культурному взаимообогащению. Однако, несмотря на определѐнные наработки, целостного и системного рассмотрения развития и функционирования современной белорусской экспериментальной поэзии, попыток еѐ классифицирования в послед24 ние годы не предпринималось. Более того, по нашему мнению, белорусская экспериментальная поэзия второй половины ХХ – начала ХХI в. вписывается в сложившийся контекст общемировых и европейских новейших эстетических и поэтических тенденций и должна рассматриваться в неразрывном единстве с ними, с учѐтом закономерностей и специфики. Основу методологии исследования составили труды белорусских и зарубежных учѐных-литературоведов. Использование методологии и методов компаративизма (А. Веселовский, В. Жирмунский) позволило выявить сходства и различия, связи и взаимовлияния литератур разных стран и народов в синхроническом и диахроническом аспектах, провести типологические аналогии в развитии современной белорусской и немецкоязычной поэзии, вызванные схожестью некоторых объективных условий социокультурного развития; установить характер влияния и связей при контактах различных литератур. В связи с тем что в центре нашего исследования – творчество поэтов-экспериментаторов, востребованными оказались также методы русской формальной школы, разработанные в трудах Ю. Тынянова, В. Шкловского, Б. Эйхенбаума, Р. Якобсона. Методы русской формальной школы позволяют исследовать особенности формальной организации стиха, выявить взаимосвязи традиционного и новаторского, экспериментального. В работе использовались также элементы структурного анализа текста, в частности идеи Ф. де Соссюра о знаке как некоем целом, являющемся результатом ассоциации означающего (акустического образа слова) и означаемого (понятия). Важную роль при разработке методики исследования поэтических текстов сыграли также труды по стиховедению, истории стиха, проблемам поэтики художественного текста Ю. Лотмана, М. Гаспарова, Ю. Борева, В. Рагойши, И. Шпаковского, А. Яскевича, И. Ралько. 25 1.3 Конкретная поэзия и авангардистская литература ХХ в. Конкретная поэзия как явление авангардистской литературы ХХ в. основывается на экспериментах предшествующих направлений и генетически взаимосвязана со многими современными литературными и культурными явлениями. Авангардистская литература, частью которой является и конкретная поэзия, – пѐстрое, противоречивое, многовекторное явление. В ней сосуществуют в непримиримой борьбе и в постоянном взаимодействии течения и направления, как утверждающие те или иные тезисы и открытия во всех сферах культурно-цивилизационного поля своего времени, так и резко отрицающие их. В контексте европейского и мирового авангарда конкретная поэзия связана с такими направлениями и течениями современной литературы, как дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм. В некоторых аспектах конкретизм переплетается с футуризмом, движением УЛИПО, ОБЭРИУ, эстетикой поп-арта. В основе художественной стратегии данных направлений лежит «текстуальная революция», признание приоритетности хаоса, двусмысленности, игры в процессах смыслопорождения. Очевидным образом эстетика конкретной поэзии в парадигме авангарда ХХ в. противопоставлена понятию упорядоченности и иерархичности. Истоки формальной стратегии конкретной поэзии достаточно явственно артикулированы ещѐ в творчестве немецких романтиков. В частности, Новалис высказывается о книгах как о мире независимых художественных сущностей, где важны «только манера письма, внешность, мелодия стиля» 136, c. 132. Данная проблема получила разработку и в осмыслении модернистов начала ХХ в. Так, множество теоретических исследований А. Белого посвящено проблеме эстетики и литературы как «точных» наук, где различные арифметические расчѐты призваны выявить математические зависимости в лирике. Таким образом, отстаивается идея двойного подхода к поэтическому слову. Важно выделить и описать исходно данное в литературном произведении (стиль, ритм, «словесная инструментовка»), абстрагируясь от другой стороны – содержательной (переживаний автора, идей, общественной среды). Необходимо отметить, что в литературе авангарда ХХ в., к которой принадлежит и конкретизм, большое распространение имеет приѐм «остранения». Данное понятие было введено в научный обиход В. Б. Шкловским, видным теоретиком русской формальной школы, для обозначения искусственного затруднения, нарушения автоматизмов восприятия, это – «общее определение совокупности способов увеличения ощущения вещи» 191, с. 61. «Остранение, – по мысли американского представителя «новой критики» Р. Стейси, – общехудожественное явле26 ние, заключающееся в расчистке “адамического” языка самих вещей от конвенциональных имѐн-ярлыков» Цит. по: 54, с. 73. В учении швейцарского языковеда Ф. де Соссюра, сильнейшим образом повлиявшего на формирование филологического мировоззрения ХХ в., одно из основных мест занимает принцип лингвистической артикуляции. Шумовые, «заумные» произведения многих авангардных направлений могут служить своеобразной иллюстрацией к соссюрианской доктрине. Для Ф. де Соссюра фонетический поток артикулируется не на чисто физиологическом уровне движений гортани и не исключительно в слуховом восприятии. В фундаментальном лингвистическом принципе артикуляции конституируется феноменологическая область «непосредственно данного», воплощѐнного и в «двигательных образах органов речи». По этой причине в экспериментальных текстах дадаистских, заумистских авторов, поэтов ОБЭРИУ, УЛИПО, конкретизма важнейшим для изучения является фонематический аспект, где «фонема – это сумма акустических впечатлений и артикуляционных движений» 59, с. 75–76. Само происхождение термина «конкретная поэзия» некоторым образом связано с футуризмом. «Железобетонные поэмы» русского футуриста В. Каменского в самом деле построены по схеме изготовления железобетона, где есть каркас, линии – арматура, буквы и слова – наполнитель. Нельзя не отметить игру слов при переводе слова «железобетонный» на европейские языки, поскольку оно звучит как «конкрет» («concrete»). Следует констатировать, что В. Каменский был своего рода предтечей конкрет-поэзии. «Железобетонные» поэмы отвечали известному авангардистскому лозунгу: «Чтоб читалось и смотрелось в одно мгновение». Конечно, автора-конкретиста волнует проблема фактурности, «железобетонности» высказывания, но не заумного, онемевшего выражения, что близко в большей степени футуризму, а сама фактура речевых связей этого слова, его интонационная поливалентность. Рассматривая слово сквозь призму графемы, или идеограммы, конкретисты в отличие от футуристов стремятся не уйти из речи, а, наоборот, вернуться в речь, пристально рассмотрев на еѐ микроуровне самые фундаментальные элементы, еѐ первооснову. Начиная с середины 50-х гг. в искусстве и литературе наблюдается своеобразное «переоткрытие» дада и сюрреализма. Так, в 1958 г. появляется термин «неодада», характеризующий творчество новых французских реалистов, группы «Флаксус» («Fluxus»), деятельность Э. Уорхола, Р. Раушенберга, Д. Джонса и др. Интерес к дадаизму и сюрреализму в тот период проявился и в искусстве слова. Среди унаследованных другими направлениями авангарда творческих находок сюрреалистов и дадаистов можно отметить принцип неопределѐнности, случайности в организации произведений, метод «психического автоматизма», активное использова27 ние такого приѐма, как коллаж. Для произведений дада и сюрреализма характерны также эксперименты с вербальными элементами (буква, слово, текст) с визуальной и акустической точек зрения. Требование визуализировать высказывание, сделать его акустически мотивированным – одно из принципиально важных в конкретной поэзии. Такие распространѐнные формы конкретистского письма, как фигурные стихи (идеограммы, констелляции, пиктограммы), эксперименты с вариантами шрифтов, саундпоэмы (партитуры), схемы и структуры, восходят к практике дадаизма. Как образно заметил О. Гомрингер, почти дословно воспроизводя манифесты дадаистского и сюрреалистского искусства, «… переход границ и сокращение – между этими полюсами конкретная поэзия развивает весьма разноплановый спектр поэтических возможностей. Сокращение может означать разрушение синтаксиса, сложившейся семантики, концентрацию на элементарных языковых структурах, упразднение образности и метафор, отказ от рифмы, стопы, стиха. Переход границ: визуализация текста (идеограмма), живопись текстом (типограмма), полиграфические эксперименты (пиктограмма), акустическое разграничение и интерпретация (звуковые стихи), текстуальные внутренние корреспонденции (палиндромы)» («… grenzüberschreitung und Reduktion – zwischen diesen beiden Polen entwickelt die Konkrete Poesie ein sehr breitgefächertes Spektrum an poetischen Möglichkeiten. Reduktion, das kann bedeuten: Zerstörung der Syntax, Unterlaufen der Semantik, Konzentration auf elementare Sprachstrukturen, Suspendierung von Bild und Metapher, Preisgabe von Reim, Metrum, Vers. Grenzüberschreitung kann heißen: Visualisierung des Textes (Ideogramme), Veränderung von Textbildern (Typogramme), typographische Auflösung von Textzusammenhängen (Piktogramme). akustische Entgrenzung und Interpretation (Lautgedichte), textuelle Binnenkorrespondenzen (Palindrome)») [257, s. 266]. Следуя в некоторой степени по проторѐнному пути дадаизма с его «автоматическим письмом», хаотичной записью первых пришедших в голову слов и обрывков речи, конкретизм выделяет несколько другие аспекты. Взамен зрелищности и причудливой неожиданности стиха дадаизма конкретизм предлагает зрелое, вдумчивое рассматривание слова, возвращение ему смысла. Ничего спонтанного, незаданного нет в поэзии Э. Яндля, даже когда он обращается к самому свободному – речевому – уровню языка. Поэт постоянно помнит о плотной и неразрывной взаимосвязи смысла и звука, игра в конкретизме – это не дадаистская «ein Narrenspiel aus dem Nichts» («дурашливая игра в Ничто») (Х. Балль) [207, с. 98], а пристальное рассматривание сущего, «конкретного». В процесс коммуникации с читателем конкретистское стихотворение вступает путѐм сообщения структуры произведения, которая приравнивается к со28 держанию. Немаловажным следует признать тот факт, что некоторые из традиций дадаизма были восприняты конкретистами через практику леттризма, за основу принявшего букву, чистый звук. В 1942 г. в леттризме было постулировано осознание буквы и звука в качестве атомов поэтического языка, «принятие материи букв, сведѐнных к минимуму и ставших самими собой» (И. Изу) [114, стб. 441]. Но если леттристы предпринимают попытки лишить слово утилитарной функции, освободить его от заданного значения, то конкретисты движимы в большей степени противоположными целями – вернуть совпадение означаемого и означающего, прояснить значение функционального слова. Кроме того, конкретизм творчески воспринимает и кинетические эксперименты футуристов, с помощью особых цветов и форм передающих динамику движения. В творчестве конкретистов значительное количество произведений основывается на визуальных экспериментах, призванных передать кинетику предмета, идею движения как такового. Интересны конкретистским авторам и футуристские поиски эквивалентов лингвистических знаков в радикальной форме вплоть до создания новых языков. Надо отметить, что идентичны и эстетические воззрения поэтовконкретистов и обэриутов, но их методы реализации установки и объект поэтического рассмотрения различаются. Обэриуты обращаются к «заумной семантике», что предполагает замену семантического согласования на рассогласование, но с сохранением грамматики. Программным требованием становится движение к бессмыслице, алогичным сочетаниям. Конкретисты же полностью сосредоточиваются на визуальной, физической природе слова, возвращении слову значения. Х. Хайссенбюттель в этой связи декларирует: «Человеческое сознание попало в ситуацию, в которой впечатления и внутренние импульсы не покрываются больше системой синтаксических и грамматических связей, каковую представляет собой исторически сложившийся язык. При разрушении этой системы высвобождается энергия отдельных поименований и отдельное слово становится более конкретным, чем в любой синтаксической связи» [Цит. по: 14, с. 172]. Явление конкретной поэзии генетически связано и с таким направлением авангарда, как экспрессионизм. Программные черты экспрессионизма – чувства глубокой неудовлетворѐнности, тревоги, опустошѐнности, убеждѐнность в исчерпанности традиционных средств художественного языка – целиком проецируются и на эстетику конкретизма. Под воздействием экспрессионистского музыкального языка в творчестве конкретистов, и в особенности Э. Яндля, проявляет себя повышенное внимание к диссонансным гармониям, неожиданным созвучиям, изломанной мелодике, эмоциональной речитации. Стихи Э. Яндля зачастую оформлены как 29 партитуры, инструментальная трактовка вокальных партий, в которых переплетаются пение с разговорной речью, используются возгласы и крики. Э. Яндль известен тем, что выступал перед публикой с концертами, основанными на авторской декламации, именно поэтому современники называли поэта «человек-оркестр». Партитурные стихи Э. Яндля, безусловно, связаны с музыкальным языком. Однако в творчестве поэта партитура получила осмысление как способ трансляции немузыкальных художественных форм, как целая система их кодировки, записывания и передачи, игнорирующая границы между музыкой, театром, повседневной жизнью и визуальным искусством. Достаточно удобным в этой связи является определение «интермедиальность», или взаимодействие искусств. Существенным для творческой манеры Э. Яндля является открытая визуальная, звуковая, вербальная энергетика «жизненного порыва» (А. Бергсон) вплоть до создания выступления-перформанса. В поэзии конкретистов «рисование словом по бумаге», использование геометрически выверенных композиционных построений демонстрируют характерное стремление отыскать «универсальное уравнение», ввести универсальные знаки, понятные без объяснений и перевода, что характерно также для установок абстракционистов, обратившихся к творчеству на основе комбинаций геометрических объѐмов и плоскостей. Такой подход обеспечивает произведение большой долей логичности и конструктивности, присущей чистым геометричесим формам. Концепция неопластицизма абстракционистов была в осмыслении конкретистов значительно расширена за счѐт философской доктрины Л. Витгенштейна. «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, о том же, что сказать невозможно, следует молчать», – постулирует философ [165, с. 344]. Для того чтобы язык «не переодевал» мысль, за исходное поэтами-конкретистами берѐтся понятие «элементарного», или «атомарного», высказывания, неразложимого на более простое высказывание. Из таких простейших компонентов с помощью различных логических операций и строятся поэтические высказывания Э. Яндля (сложные, или «молекулярные»). Созданные в результате подобных операций тексты тяготеют к совпадению визуального, акустического и семантического плана повествования, попадая под определение «семиотические стихи». «Семиотический стих, – отмечает уругвайский поэтконкретист К. Падин, – такой стих, в котором слова подкрепляются фигурами-символами, расположенными таким образом, что они способны создавать значение посредством толкового кода» [Цит. по: 156, c. 41]. Конструктивистское понимание «конструкции» в качестве главного принципа организации произведения в некоторых аспектах совпадает с конкретистскими представлениями о предназначении стиха. Согласно 30 мнению теоретиков этого литературного направления, конкретистское произведение – это «проблема функций-отношений между элементами, составляющими его материал: таким образом, на первый план выдвигается структура, а коммуникация между автором и читателями осуществляется именно путѐм сообщения им структуры стихотворения, которая приравнивается к содержанию» [69, c. 300]. Под «конструкцией» конструктивизма и «структурой» конкретизма в самом общем смысле понимается некий рационалистически обоснованный принцип композиционной организации произведения, в котором на первое место выдвигаются такие качества поэтического текста, как функциональность, рациональность, практичность, тектоничность, фактурность. По сути, такой подход к слову роднит конструктивизм и конкретизм с дизайнерским искусством, а бразильская ветвь конкретизма (группа «Нойграндес») – это и есть объединение печатников, дизайнеров, ратующих за выработку способа мгновенно и без искажений доносить информацию. Ю. Борев делает следующий вывод о генетическом родстве данных явлений: «Предшественником концептуализма как художественного направления было и творчество конкретистов (поэтов бразильской группы «Нойграндес», сформировавшейся в 50-е гг., европейских поэтов О. Гомрингера, А. Финли, Э. Моргана, С. Банна, Д. Фарнивала, а также поэтов интернациональной группы “Флаксус”, возникшей в 1962 г.)» [26, с. 382]. Если продолжить разговор о синхронических связях конкретизма, то необходимо отметить деятельность группы французских поэтов УЛИПО (мастерская потенциальной литературы). С самого начала они связывают литературное творчество с математическими законами и теориями. Изучение и применение в литературной практике работ Н. Бурбаки («Математические элементы», «Теория множеств»), Фибоначчи («Теория чисел»), Д. Хилберта («Основы геометрии») приводит к алгебраизации фразо- и текстообразования с помощью матриц и алгоритмов; сочиняются иррациональные сонеты, поэмы по математическим законам Дж. Буля. Поэт и теоретик УЛИПО Ж. Рубо призывает относиться к языку так, как если бы он был математикой. Таким образом, сознательно заданное ограничение представляется аксиомой текста, а сам текст, составленный в рамках этого ограничения, оказывается эквивалентом теоремы. УЛИПО становится группой, которая придаѐт первостепенное значение автономности, конкретности формы и выбору литературных приѐмов. При внешнем сходстве и общности радикалистских установок конкретизм расходится с улипистами исходя уже из представления о задачах поэтического творчества. Улиписты представляют себе текст «потенциальным», не исчерпывающимся своей обманчивой внешностью; внутри он таит скрытые смыслы, доступ31 ные не каждому: «Любая фраза содержит в себе бесконечное множество слов, из которых мы замечаем лишь очень ограниченное количество; другие же так и остаются в своей бесконечности или в нашем воображении» (Р. Кено) [100, с. 170]. Причѐм потенциальность не является случайной, поскольку математическая теория вероятности постулирует случайность как нераскрытую закономерность. Конкретная поэзия демонстрирует негативизм по отношению к рациональному мышлению и нормированному языку. Сам по себе конкретизм призван возвращать высказыванию совпадение предмета и наименования, содержания и смысла. Для этого в поэзии конкретизма «во весь голос» заявил о себе повседневный язык: с неправильной грамматикой, плохим произношением, язык детей, гастарбайтеров, косноязычие провинции – живое функциональное слово, невозможное в математических текстах УЛИПО. Авангардистская литература во многом упразднила принципиальную для искусства прошлого грань между искусством и не-искусством. Конкретисты наряду с артистами поп-арта зачатую обращаются не к созданию произведений, а к организации «фона», контекста, благодаря которым любой предмет превращается в артефакт. В конкретистских вербально-визуальных экспериментах наблюдается схожая тенденция: особую роль в произведениях играет пространство между единицами текста. В своѐ время Ю. Тынянов выдвинул теорию «эквивалентов текста»: «Эквивалентом поэтического текста я называю все так или иначе заменяющие его вне-словесные элементы, прежде всего частичные пропуски его, затем частичную замену элементами графическими и т. д. … Момент такой частичной неизвестности заполняется как бы максимальным напряжением недостающих элементов, данных в потенции, и сильнее всего динамизирует развивающуюся форму … При этом ясно отличие эквивалента текста от паузы – гомогенного элемента речи, ничьего места, кроме своего, не заступающего, между тем как в эквиваленте мы имеем дело с эквивалентом гетерогенным, отличающимся по своим функциям от элементов, в которые он внедрѐн. Эквивалент акустически непередаваем; передаваема только пауза» [173, с. 298]. В творчестве конкретистов весьма важной является идея предметной организации пространства, но если для представителей поп-арта идеальным потребителем представляется «нетворческая» личность, лишѐнная самостоятельности мышления, то поэтконкретист подталкивает читателя к глубокому, оригинальному осмыслению того или иного явления без излишней идеализации и фетишизации вещи. Конкретная поэзия как важное эстетическое явление 50–60-х гг. ХХ в. присутствует в литературном и культурном контексте данного периода, заметно влияет на него. В. Краус по этому поводу отмечает: «Многие видели в том времени лишь страстное отрицание всех и вся. Но с ростом временной дистанции всѐ яснее становилось, что речь шла не о маниакаль32 ном демонтаже или фанатичном сносе, но о необходимом вскрытии фундамента, на котором снова можно будет строить» 103, c. 231. Общим для обозначенных течений и направлений авангардизма и неоаванградизма является антидогматизм, доминирование нетрадиционности и новизны художественного языка. Искусство авангарда отличается подвижностью границ и весьма критическим отношением к таким категориям, как «новаторство» и «традиция». Для конкретной поэзии и других явлений авангарда органичной представляется идея открытости художественного текста, допускающего самые разные интерпретации, вовлекающего читателя в процесс смыслопорождения. Распространѐнная в современном постмодернистском искусстве практика разграничения понятий «произведение» и «текст» опирается во многом на эстетику произведений авангарда. Необходимо отметить, что в поэзии конкретизма нашли отражение зачастую противоположные, но характерные для современной общекультурной и литературной ситуации установки. Эстетика «бунта», провокации сочетается в произведениях конкретных поэтов с политической и социальной ангажированностью; обращение к диалектам и обиходноразговорному языку не противоречит интернациональному характеру конкретизма; за формальными экспериментами зачастую проступают серьѐзные вопросы современности: проблема отчуждения личности, исчерпанности средств коммуникации. 33 1.4 Немецкоязычный конкретизм: эстетика, поэтика, типология (Э. Яндль, О. Гомрингер, Ф. Мон, Г. Рюм, Х. Хайссенбюттель, Р. Доль, Т. Ульрихс, М. Бензе) Новый подход к пониманию поэзии как явления метаязыкового, оформившийся в творчестве немецкоязычных конкретистов и Венской группы поэтов, нашѐл выражение в экспериментальных произведениях О. Гомрингера, Ф. Мона, Г. Рюма, Х. Хайссенбюттеля, Э. Яндля. Становление данных художественных направлений происходило в 50–60-е гг. ХХ в., когда уже остро прозвучал вопрос о «возможности стихов после Аушвица», когда литература, философия, практически все отрасли человеческого знания стали искать выход из инерционной, запятнавшей свою репутацию системы ценностей «старого» образа мыслей. Наиболее адекватное выражение, с точки зрения конкретистов, действительность, как социальная, так и метафизическая, получает в процессе функционирования языка. Проблема значения, тесно связанная с изучением человеческого общения и различных форм участия людей в духовной жизни общества, вызывает у конкретистов большой интерес. Поиски нового поэтического языка О. Гомрингером, Ф. Моном, Г. Рюмом, Х. Хайссенбюттелем, Э. Яндлем ведутся в русле рассмотрения значения знака как его употребления в рамках некоей языковой системы. Период 50–60-х гг. прошлого века в Европе и Америке стал апогеем развития интереса к провокациям лингвистических поэтов и их экспериментальным стихам, особенно в ФРГ, Австрии, Швейцарии. Проблемам соответствия языка и действительности, форм и методов письма, понимания лирического были посвящены многие публикации, литературные дебаты на страницах прессы, на радио и телевидении того времени. В Берлине 17 ноября 1960 г. прошло рабочее совещание немецких литераторов, темой которого стала «Литература сегодня». Обсуждение на заседании велось вокруг спора методов экспериментального письма и «большого» традиционного стиля, понимаемого как реалистичный. К. Кролов, один из литераторов традиционного толка, достаточно метафорично, но однозначно отзывался о «новой» литературе Х. Хайссенбюттеля, Ф. Мона и Э. Яндля как о произведениях «угрожающе-суицидальных… отставке лирического текста» («als suizidgefährdet… Abdankung des lyrischen Textes») Цит по: 225, с. 33. Вторя ему, на страницах журнала «Акценты» («Akzente») появляется статья ещѐ одного признанного авторитета литературной критики В. Хѐллерера – «Тезисы к длинному стихотворению» («Thesen zum langen Gedicht») (1965), где в связи с творчеством конкретистов обсуждается ситуация «кризиса лирических форм» («eine Krise der lyrischen Formen») 225, с. 33. 34 Поворотной точкой в оценке официальной критики творчества литераторов-экспериментаторов можно считать 1966 г., когда Г. Цюрхер и Ю. Теобайди включают в работу «Изменения в лирике. Западно-немецкая поэзия с 1965 г.» («Veränderung der Lyrik. Über westdeutsche Gedichte seit 1965») большую подборку экспериментальной лирики молодых авторов. Особенно плодотворным стал 1967 г. Кроме успешного сборника Э. Яндля «Звук и Луиза» («Laut und Luise») (1966), в этом году появился следующий его сборник «Речевые пузыри» («Sprechblasen»), а также сборники Ф. Ахлейтера, К. Бремера, О. Гомрингера, Х. Хайссенбюттеля, Ф. Мона, Д. Рота, Г. Рюма. После этого и в журнале «Каракатица» («Tintenfisch»), и в академическом «Литературном журнале» («Literaturmagazin») как само собой разумеющиеся публикуются произведения авторов конкрет-движения. Поэты-конкретисты предпринимают попытку создать поэзию на основе «языка как шума тела» («Sprache als Körpergeräusch»), отвергают «идею конструктивного» («die Idee des Konstruktiven») и «занимательного в лирике» («das Possierliche aus der Dichtung») 225, с. 31. В такой ситуации традиционные «смысл», «красота», «лиричность» перестают быть эстетическим образцом, границы языка и речевых возможностей беспредельно расширяются. Одно из ключевых понятий философии Л. Витгенштейна – языковая игра – в лирике конкретистов получает оригинальную разработку и становится, как указывает немецкий литературовед В. Хиндерер, «понятием с расплывчатыми краями» («ein Begriff mit verschwommenen Rändern») 225, с. 31, а сами стихи – выступлениями «против заблуждений нашего рассудка средствами нашего языка» («gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache») 225, с. 31. В связи с кардинальным пересмотром эстетических и поэтических установок, предпринятым поэтами-конкретистами, следует говорить о появлении новых средств формальной организации стихов. Авторы экспериментальной лирики, вслед за новинками лингвистической теории, называют свои тексты «демонстрациями», «констелляциями», «построениями», «артикуляциями», «языковыми упражнениями», а Ф. Мон, один из представителей этого направления, формулирует идею новых форм стихов как «инновацию, отрицание, упразднение укреплѐнного стандарта» («innovation, die Verneinung, die Aufhebung des verfestigten Standards») 245, с. 92. Подобные формы стихов дарят словам своеобразную автономность, освобождают их от навязанных «извне» законов, возвращая функциональность. Такие принципиально важные аспекты поэтических произведений конкретизма, как усиление визуальной мотивированности высказывания, обыгрывание разных вариантов написания букв, расположения строк 35 на бумаге, тяготеют к переходу искусства письма из протяжѐнности во времени к протяжѐнности в пространстве. Тексты конкретистов оформлены зачастую в причудливые фигуры со сложной архитектоникой. Один из самых известных конкретистских текстов принадлежит теоретику и практику движения О. Гомрингеру, который в 1953 г. выпустил сборник произведений под названием «констелляции» («konstellationen»). В программном для конкретизма тексте «от стихотворения к констелляции» («vom vers zur konstellation») (1954) заявлена мысль, что «констелляция – это простейшая возможность построения стихотворения, основанного на слове. Она охватывает группу слов, как будто охватывает группу звѐзд и становится звѐздной картиной, созвездием» («die konstellation ist die einfachste gestaltungsmöglichkeit der auf dem wort beruhenden dichtung. sie umfaßt eine gruppe von Worten – wie sie eine gruppe von Sternen umfaßt und zum Sternbild wird») [240, с. 159]. Под констелляцией следует понимать взаимное расположение и взаимодействие различных объектов от астрономических тел до знаков на бумаге. Сравнение указывает на то, что, по мнению Гомрингера, стихотворение – это абсолютное расположение слов, как россыпи звѐзд – абсолютные созвездия. Стихотворение О. Гомрингера «чѐрная тайна» («das schwarze geheimnis») 240, с. 77 буквально воспроизводит на странице очертания некоего ларца, который, согласно тексту, содержит в себе «чѐрную тайну». Так зрительному образу даѐтся вербальная характеристика, а семантика в свою очередь предельно визуализируется. Поскольку сам предмет разговора достаточно загадочен и информация о нѐм может быть только расшифрована, текст приглашает к декодированию, работе ассоциативных возможностей рецепиента: чѐрная тайна есть здесь здесь есть чѐрная тайна das schwarze geheimnis ist hier hier ist das schwarze geheimnis Пустоты, оформленные в стихотворении, не являются обозначением отсутствия знака или признака, но семантически и намеренно структурно обозначены. Ф. Мон, вспоминая о достижениях С. Малларме, рассуждает о средствах визуализации поэзии и предлагает включать в структуру стиха плоскость, пространство, всѐ ту же пустоту, чреватую речью, воспринимая это «как конститутивный элемент текста» («als konstitutives element des textes») 240, с. 169. Распространена в практике конкретизма и форма стихотворения-идеограммы – высказывания, обыгрывающего собственную семантику и на акустическом, и на визуальном уровнях, уже своей формой 36 подсказывающего прочтение идеи. Стихи-идеограммы в некоторых чертах развивают такую разновидность литературной загадки, как шарада, где слово членится на отрезки, которые могут быть осмыслены как самостоятельные слова, омонимичные вычленяемой части загаданного, зашифрованного слова. Общая идея такого произведения может быть постигнута лишь в процессе игры со звучащим или написанным словом. В стихотворении-идеограмме «фламинго» («flamingo») 230, с. 72 Э. Яндля условно воссоздаѐтся внешний вид некоего существа с длинными ногами, клювом, раскинутыми крыльями, и происходит шарадная игра с частями «заданного» слова «фламинго», со взаиморасположением его компонентов: flam men in go home men only go home in flam men Стихотворение жонглирует английскими словами «пламя», «идти», «в», «мужчина», «дом», «только», которые являются омофонами к отрезкам слова фламинго. Они на определѐнном уровне передают идею романтики, темпераментности, экзотики чувств. В пояснении к своему произведению Э. Яндль указывает, что оно «обман, трюк, ложь; нонсенс, вид цветистого выражения» («sham, deceitful trick, lie; nonsense, kind of flourish on drum») 230, с. 72. Рисование словом по бумаге буквально воплотил в своих текстах поэт-конкретист Р. Доль. В его произведениях происходит своеобразное упразднение слогового и буквенного письма, слову возвращается способность служить визуальной формой выражения. Одно из произведений автора достаточно «аскетично», лишено привычных синтаксических связей, сконструировано из многократно повторѐнного слова «apfel» («яблоко») и одного слова «wurm» («червяк») 240, с. 38. Вместо герметической языковой рефлексии о яблоке, его особенностях, размерах, форме и т. д. Р. Доль непосредственно продемонстрировал материал, создав ощутимый образ, а однократная вставка слова «Wurm» подталкивает читателя к размышлениям о «ложке дѐгтя в бочке мѐда», червяке, испортившем плод: 37 Идею постоянства, неизменности Т. Ульрих, один из современных последователей конкретизма, воплотил в стихотворении-идеограмме 240, с. 143, имеющей форму круга, а последний, как известно, являет собой представление о «единстве и бесконечности, абсолюте и совершенстве» [160, с. 252]. В. Кандинский в своѐм исследовании «Точка и линия на плоскости» (1926) отмечает, что «наименее и одновременно наиболее стабильная форма плоскости – круг» [97, с. 136]. Кроме того, правильным отклонением от круга является спираль, которая и возникает как равномерно смещѐнный круг. Все эти визуальные образы нашли воплощение в тексте Т. Ульриха с минимальным количеством знаков – буквах «s», «t», «e», составляющих немецкое слово «stets» («всегда», «постоянно»): Прочтение этого слова внутри магического круга возможно в любом направлении: сверху, снизу, справа, слева, по диагонали и т. д. – благодаря анаграмматическим возможностям самого слова и визуальной форме круга, не имеющей ни начала, ни конца. В итоге семантика постоянства находит абсолютное воплощение в зрительном образе идеограммы. Такая традиционная для немецкоязычной европейской поэзии поэтическая форма, как Schüttelreime, получает распространение в произведениях конкретистов. Это вид жанра скороговорки, основанный на акрофонической перестановке, игровом приѐме, подразумевающем, что несколько слов, входящих в один малый контекст, как бы обмениваются звуками или слогами, производя новые слова. В немецком фольклоре такие произведения принято объединять жанром «Schüttelreime» (от «schutteln» – трясти, перетряхивать и «Reim» – стих), где языковая «ошибка», «оговорка» составляет всѐ содержание стихотворения. Необходимо подчеркнуть, что пе38 рестановка слогов или букв в словах произведений подобного типа не создаѐт текстов-абсурдов, а именно создаѐт новые слова, в неожиданном свете представляющие семантический сценарий произведения. В фольклорной традиции Schüttelreime – это живые, комические миниатюры. В литературной форме конкретной поэзии такие стихи звучат скорее серьѐзно, за счѐт приѐма перестановки получая новые средства для выработки краткой, броской информации, где в процесс коммуникации вступает и форма, структура произведения. В текстах Э. Яндля зачастую представлены уснувшие созвучия, те словечки и фразы, которые таят в себе шутку, каламбур, но они настолько примелькались, что мы перестаѐм их замечать. В стихотворении «lichtung» («озаление») 229, с. 171 подменой звуков «р» («r») и «л» («l») фразе возвращается острота, а событию смысл: многие думают плаво и рево нельзя пелепутать. какое-то недолазумение! manche meinen lechts und rinks kann man nicht velwechsern. werch ein illtum! За скромным объѐмом произведения скрывается достаточно большое количество возможностей и для ассоциаций, и для додумывания, поскольку уже само название может быть понято различными способами: как «озарение», если брать за основу чтение/слушание через звук/букву «l», и как «направление», если учесть замену «r» и «l» в оригинальном тексте. Даже самые незыблемые истины, чѐткие ориентиры в определѐнной ситуации могут быть постигнуты по-новому, с неожиданной стороны. Уже в первом экспериментальном сборнике «Laut und Luise» (1966) Э. Яндль предпринимает несколько попыток объединить принципиальный конкретизм своего творческого метода с такими понятиями, как «Бог», «Адам и Ева», «крестное знамение», «Иисус». Религиозный аспект теологических стихов из этого сборника выступает у автора в качестве основы внутренней веры, личностного нравственного и эстетического кодекса. Одними из основополагающих идей таких произведений являются идеи христианского смирения и страдания. В стихах Э. Яндля органически переплетается осознание ограниченности человеческих способностей и возможностей, готовность принять трудные, иногда безысходные условия существования, а также даѐтся высокая оценка умению личности справиться с мучительными психологическими коллизиями, жизненными неурядицами. Одновременно с этим необходимо отметить усиление индивидуализированного отношения автора к религии в целом и ее отдельным 39 аспектам, оно становится более динамичным и личностно окрашенным, в некотором роде более свободным. Стихотворение Э. Яндля «Jeeeeeeeee» 229, с. 67, имея традиционную форму риторического обращения, призыва, одновременно обыгрывает этот призыв и на семантическом, и на эмоциональном, и на ассоциативном уровне. Это стихотворение – стон, хрип, захлѐбывающаяся попытка «докричаться до небес», практически не требующая перевода, кроме комментариев, что вторая часть имени Иисус для носителя немецкого языка созвучна слову süß – «сладкий», обращение Heer общепринятое для выражения уважения, кроме того, her – наречие «сюда», а kommen – глагол «приходить, прибывать». Поэтому, транслируя семантическую сторону текста, мы получаем просьбу к сладчайшему Иисусу, господину Иисусу снизойти, приблизиться «сюда». Звукопись текста раскрывает эмоции стона, плача лирического героя, так напряжѐнно ожидающего появления высшего существа. Пользуясь созвучиями Jesus – süß, Heer – her, автор подталкивает читателя к сотворчеству, напряжению мысли, а также по-конкретистски лишает высказывание сакральности и излишней метафизичности: Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ––––– suss g g kc –––––––––– h ommmmm h––––––––––––h Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee suss kommmm kommmmmmmm hrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr herrrrrrrrrrrrrrrr jeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeee suss В поздний период своего творчества поэт достаточно много произведений посвятил теме страха перед физической болью, смертью и распадом. Исследователи творчества Э. Яндля настаивают на том, чтобы подобные тексты рассматривались в рамках феномена «лирики возраста». Мотив разоча40 рования и тяжѐлого старения проявляется и в стихотворении «die bitte» («просьба») 235, с. 16. Как и предыдущее произведение, оно оформлено в виде обращения-призыва: боже милый, сделай меня сызнова что я снова счастлив будь то мальчиком или девочкой будь то мужчиной или женщиной мне все равно только не слишком старым переделай меня пожалуйста liber got, mach mich neu daß ich mich wieder freu ob bub oder mädel ob mann oder frau ist mir egal nur nicht zu alt mach mich halt bitte По тональности стихотворение – это смесь детской наивности и старческого разочарования, в любом случае авторитет господа предстаѐт непререкаемым. Текст содержит прямое обращение к Богу как к единственной инстанции, могущей помочь лирическому герою стихотворения преодолеть его ужас перед старостью и немощью. Подобное сочетание «земного» и «небесного» присутствует и в стихотворении «die kirche» («церковь»). Поэт традиционно подчѐркивает особое положение духовного института церкви, помещая еѐ в своѐм тексте «высоко на гору». А вот судьба людская – тяжѐлый труд по восхождению на эту высокую гору, тяжѐлый труд, чтобы «донести» «слово господа»: die kirche auf dem berge hoch steht oben. der pfarrer geht ein und aus dort. und vertritt gottes wort mit seinen beiden nimmermüden füßen церковь на высоких горах стоит на верху. пастор ходит туда-сюда. и представляет божье слово своими двумя усталыми ногами В стихотворении «zweierlei handzeichen» («два жеста») 229, с. 170 Э. Яндль, используя теософскую лексику и семантику, наполняет их новым, функциональным значением. Те слова и выражения, жесты, которые за долгие столетия использования стали инерционными, в стихотворении австрийского конкретиста вновь наполняются смыслом. Христианская тематика стихотворения тесно переплетается с языческими взглядами, что обеспечивает лирическому герою определѐнную свободу самовыражения. Такой синкретизм воспроизводит огромный арсенал магических приемов, заклинаний, заговоров обожествлѐнным силам природы, еѐ жи41 вотворящему началу. При этом герой, отдавая дань установленным традициям, общественным догмам, оставляет за собой право быть оригинальным, иметь свой взгляд на мир: ich bekreuzige mich vor jeder kirche ich bezwetschkige mich vor jedem obstgarten я крещусь перед каждой церковью я молюсь перед каждым садом wie ich ersteres tue weiß jeder katholik wie ich letzteres tue ich allein как я делаю первое каждый католик знает как я делаю последнее я один В стихотворении «die seele» («душа») 235, с. 100 Э. Яндль в свойственной ему несколько ироничной манере продолжает рассматривать традиционную тему телесного и духовного, извечной дихотомии человеческой природы. Этот небольшой по объѐму текст целиком состоит из описания двух жестов некоего мальчика: одной рукой мальчик указывает вверх а другою на свежий могильный холм mit der einen hand der knabe zeigt nach oben mit der anderen auf den frischen grabhügel Эти разнонаправленные жесты в контексте становятся семантическими носителями противоположных смыслов: небеса и земля, духовное и бренное, вечное и преходящее. Однако эти противоположные жесты совершает один и тот же герой – der Knabe, т. е. человек, в котором сочетаются оба начала. Следующая строфа стихотворения описывает амбивалентный смех героя: и смеѐтся если дедушка там внизу находится как он должен потом быть там вверху und lacht wenn der großvater da unten ist wie soll er dann da oben sein 42 Такая реакция – смесь недоверия и растерянности. Выходом из этой дилеммы «там – здесь» становится последняя строка стихотворения, которая выделена автором особым шрифтом и визуально помещена несколько отдельно: ach ja die seele (ах ведь душа) Это последнее восклицание призвано объяснить все недоумения героя и привнести смысл и в душу героя, и в душу читателя. Мысль о божественном происхождении человека, по мнению Э. Яндля, дискредитирована физиологической природой, поэтому стихи поэта религиозной тематики зачастую посвящены обсуждению вопроса о дилетантизме творца, создавшего человека столь несовершенным. Кроме того, стихи религиозной тематики – попытки парадоксального осмысления христианских догматов, взгляд снизу, изнутри, из грязного и телесного на высокое и божественное. Лирический герой подобных произведений в большинстве случаев так и не в силах осмыслить всѐ величие религиозных идей, а потому останавливается только на доступных, приземлѐнных деталях. Текст «karwoche ein turm» («страстная неделя башня») Э. Яндля представляет собой перечень банальностей, фиксирующих процесс типичного, инерционного мышления. Каждая единица стихотворения – сложное образование: слова, находящиеся внизу, у основания «башни», самые длинные и многосложные; по мере продвижения вверх по странице они всѐ укорачиваются, образуя изображение устремлѐнной вверх башни. Необходимо отметить, что и общий замысел, и каждая строка в отдельности построены на основе особого вида антитезы – на оксюмороне. При ближайшем рассмотрении любое величественное строение оказывается состоящим из маленьких, зачастую невыразительных элементов, «вздора», по образному замечанию поэта. На микроуровне каждая из строк-этажей башни сама по себе – соединение контрастных величин, создающих новое понятие: «слепой телескоп», «целомудренный бордель», «тихий взрыв», «бодрое кладбище», «кругло-квадратный», «молодоморщинистый», «стально-нежный», «медово-кислый», «облачно-жѐсткий». Однако среди подобных выражений, обладающих различным уровнем семантического заряда, встречаются обороты, поясняющие, что из подобного хлама строятся и «памятники глупости», и «камни ясности»: gabeleben löwenzahm stahlsanft wolkenhart 43 В сборнике «künstliche baum» («искусственное дерево») Э. Яндля в раздел «тексты для чтения» помещено достаточно большое по объѐму произведение, состоящее из множества фрагментов, объединѐнных своеобразной темой. Данный текст, озаглавленный «villgratener texte» («многогранный текст») 231, с. 51, основан на принципе коллажа, содержит в себе тексты, заимствованные с могильных памятников «одного тирольского кладбища». Горестные и претенциозные, скорбные и равнодушные – эти надписи перемежаются рекламными слоганами, текстом расписания движения автобусов, объявлениями о народном гулянии, вывесками магазинчиков. Жизнь и смерть переплетаются воедино, а своеобразная пунктуация – отсутствие знаков препинания в текстах и их чрезмерное количество в датах – создаѐт иллюзию калейдоскопа, одинаковой нереальности и бытия, и вечности. Достаточно сложно говорить о жанре данного произведения, его художественных особенностях, однако своеобразная, протокольная, предельно фактографичная манера письма позволила Э. Яндлю воссоздать повествование-эпос о нескольких поколениях людей, об их жизни, наполненной болью, радостью, мелочами и величием; рассказать об эпохе счастливых смертей на руках у близких, с «принятием святых даров» и смертей на поле брани, в России, Италии, Югославии, когда даже смерть – суета, а от имени, для экономии времени и места, живые оставили только инициалы. Последний фрагмент текста, будучи надписью с чьей-то солдатской анонимной могильной плиты, является риторическим обращением, вопросом, проливающим свет на общую идею произведения: Я делал это для Тебя. Что делаешь Ты для Меня? Das tat ich für Dich. Was tust Du für Mich? Текст подталкивает к рассуждению о всеединстве времѐн, моральной ответственности за совершающееся вокруг. Трагическая концепция мира и человека подчѐркнута гротескностью ситуации и повышенной контрастностью изображения, однако необходимо отметить, что автор не выходит за рамки правдоподобия, остаѐтся верным программному требованию конкретизма: границы существующего языка сами определяют границы мира. В другом произведении «время проходит» («die zeit vergeht») 229, с. 75 Э. Яндль демонстрирует возможности, как он сам характеризует, приѐма «открытого монтажа» 133, с. 395, порождения нового семантического поля при расчленении слова на составляющие и их дальнейшего перераспределения. Это стихотворение можно cчитать результатом и сознательного, и интуитивного творчества. В произведении тема раскрыва44 ется с помощью созданных автором лексоидов «lus» и «tig», на которые при внимательном рассмотрении распадается слово «lustig» («весѐлый», «забавный»). Лексоид «lus» ассоциируется с восклицанием «los» («давай», «быстрее», «вперѐд») и словом «Lust» («радость», «желание»), а лексоид «tig» напоминает междометие «тик», дарит созвучие с ходом часов. Как отмечает сам Э. Яндль, «слово ―lustig‖, которое симметрично делится на две составные части ―lus‖ и ―tig‖, стало наречием к предложению (заголовку) ―время проходит‖ как? – ―весело‖» 201, с. 395–396: lustig luslustigtig lusluslustigtigtig luslusluslustigtigtigtig lusluslusluslustigtigtigtigtig luslusluslusluslustigtigtigtigtigtig luslusluslusluslusluslustigtigtigtigtigtigtigtig Та же мысль о скоротечности времени решена в произведении «Bye» другого современного австрийского поэта и художника Анатоля Кнотека (1977) совершенно по-иному. Поэт, размышляя о философской максиме, приходит к выводу о пантрагизме человеческой судьбы. Визуальные средства «размывания» шрифта, изменения насыщенности цвета, пропуска букв, общая динамизация текста заставляют читателя буквально на сенсорном уровне почувствовать скоротечность отпущенного каждому человеку срока. Время истекло, пока мы были заняты чтением незатейливых строк, остаѐтся лишь меланхолически попрощаться последней, приращѐнной всего одной буквой строкой: В произведении «zaichen unser zeit» («символ нашего времени») А. Кнотек собрал, по его мнению, характерные приметы современности. Взамен банальных размышлений о явлениях и предметах, которые смогли бы стать эгидой времени, поэт предлагает буквально набор графических и параграфических интернациональных значков из разных областей соци45 альной жизни (от имитации письма в различных программахкоммуникаторах, где отсутствующие символы замещаются схожими по начертанию, до обозначений мировых валют, торговых марок, просто графической шелухи информационной эпохи). Взамен символа, глубокой метафоры, заявленной в заголовке, А. Кнотек приводит читателя к упразднению дифференциации мышления и чувства, заменяя абстракцию элементарными знаками: Лексически многие произведения конкретистов зачастую сведены к минимуму знаков, что демонстрирует крайнюю критичность представителей этого направления по отношению к языковому материалу. В стихотворении «o/i» 233, с. 7 Э. Яндля обыгрывается ситуация непосредственной «встречи» двух схожих слов, момент которой дарит читателю возможности для ассоциативной работы: o fr sch i Э. Яндль создаѐт целый ряд текстов в жанре «Schüttelreime» на основе единственного текстового компонента, буквально заглядывая внутрь слова. Так, в стихотворении «жесты: игра» («gesten: ein spiel») 230, с. 77 в прямом смысле внутри немецкого слова «kreisel» («волчок», «юла») «прячется» слово «reise» («путешествовать»), а слово «pendel» («маятник») скрывает компонент «ende» («конец») (цитируется лишь фрагмент стихотворения. – Л. С.): pendel p ende l p ende l p ende l p ende l 46 Для создания этого произведения поэт добавляет ещѐ и элементы кинетики, визуального воздействия: слова расположены так, чтобы имитировать механическое раскачивание маятника, амплитуду этого движения. Необходимо отметить, что процесс поэтического творчества воспринимается конкретистами как очищение слова от экстрапоэтических значений. Как заявляет Э. Яндль, «отпущенные на свободу буквы становятся музыкальными единицами, что могут наделить смыслом хрипение, языковой щебет, икание, кашель и громкий смех» («die in Freiheit gesetzten Buchstaben eine musikalische Einheit bilden sollen, die auch das Röcheln, das Zungenschnalzen, das Rülpsen, den Husten und das laute Lachen zur Geltung bringen kann») Цит. по: 225, с. 31. Микроанализ именно речевых единиц, акустических и визуальных возможностей живого функционального слова становится основным техническим приѐмом письма представителей конкретной поэзии. Мысль о слове в аспекте его функционирования была заимствована из учения Л. Витгенштейна, который связывает все характеристики языка с тем основным обстоятельством, что для его функционирования необходимо общество, социальная деятельность людей во всевозможных еѐ формах. Жизнь знака, заявляет Л. Витгенштейн, в его использовании. Поэты-конкретисты пытаются избегать в произведениях образцов сложных системных отношений семантического плана, сочетаний большого количества знаков, в силу чего достаточно много текстов тяготеет к состоянию уравнений-формул. Зачастую тексты конкретистов состоят лишь из одного слова или параграфического знака, оформленных графически. Однако произведения такого характера, при внешнем минимализме средств организации, тяготеют к предельной степени универсализма. Подобные тексты демонстрируют характерное стремление заменить слова абстрактными математическими значками понятий, развивают идею условного «алгебраического языка» (В. Жирмунский). В такой ситуации «логическое содержание остаѐтся неизменным, хотя психологическое течение мысли меняется с иной расстановкой и иным выбором слов» 70, с. 36–37. Показательным в этой связи является текст М. Бензе, состоящий из семикратно повторѐнного слова, перемежающегося предлогами. Содержание стихотворения, насколько вообще здесь можно говорить о его содержании, прекрасно иллюстрирует поэтическую установку конкретизма: работа с языковым поэтическим материалом должна проводиться по тем же принципиально точным законам, что и работа с материальными объектами. М. Бензе деклинирует оборот «Mauern und Mauern aus Mauern von Mauern aus Mauern von Mauern aus Mauern» 240, с. 143 («производить кладку (стены)», получая выражение, которое опосредованно переводится 47 как «кладка из кладки для кладки от кладки в кладку с кладкой о кладке», эквивалентное известной идиоме «огород городить». Сам вид текста на странице как раз и напоминает пресловутую «каменную стену». В рамках теории и практики конкретизма Г. Рюм делает попытки разработать программу «методического инвенционизма» (от англ. «invention» – изобретательство). Эти изыскания приводят Г. Рюма и его единомышленников к упражнениям на основе ограниченного количества слов. К примеру, стихотворение Г. Рюма «zart» («нежный») 240, с. 116 основано на многократном повторе слова «zart» («нежный», «хрупкий») и единичной вставке словаантонима «hart» («крепкий», «жѐсткий»), что сообщает высказыванию известный драматизм и экспрессию. Вид слов на бумаге в этом тексте подчѐркнуто однообразен, графичен, тем более «взрывным» представляется вкрапление «лишнего» слова, хотя и отличающегося всего одной буквой: zart zart zart zart zart hart zart В результате подобной деятельности в «венской группе» и в конкретизме вообще получила большое распространение техника «einwort-tafeln» – письмо одним-единственным словом, приѐм «облицовки» этим словом определѐнного рисунка на странице (см. приведѐнные тексты «яблоко» («apfel») Ф. Мона, «pendel» (маятник) Э. Яндля. – Л. С.). Подобные тексты демонстрируют различными способами приѐмы регистрационного письма, лаконичного, безоценочного, основанного на разрушении привычной системы синтаксических и грамматических связей, которые, по мнению художников-конкретистов, лишь «сковывают» слово, «лишают его энергетики» 14, c. 178. В качестве примера последовательного использования языка формул, регистрационного письма в духе реестра или каталога необходимо отметить стихотворение Э. Яндля «1944 1945». Приѐмы минимизации лексических средств, усечения любых возможных средств художественной выразительности задействованы в этом стихотворении максимально ярко 230, с. 15: 48 война война война война война война война война война май война война война война война война война (конец одного периода) krieg krieg krieg krieg krieg krieg krieg krieg krieg mai krieg krieg krieg krieg krieg krieg krieg (markierung einer wende) Произведение беспристрастно и объективно, с помощью приѐма повтора и нагнетания, доносит до читателя/слушателя информацию о войне, так долго длящейся, бесконечной, неотвратимой. Затем, введя новую переменную, Э. Яндль получает тождество, где «май» равен и победе, и прекращению войны, и появлению жизненного пространства для чего-либо помимо «войны». Данное стихотворение использует возможности и визуального текста, и речевого произведения, вступая в коммуникацию с читателем на различных уровнях сенсорного воздействия. В стихотворении «лето» («sommer») 230, с. 88 ритмичным повторением одних и тех же слов Э. Яндль закрепляет в сознании читателя определѐнную картину, «заговаривает» взгляд и слух. Данное произведение кристаллизует, очищает эмоцию путѐм упрощения. Наивный, детский взгляд на вещи помогает прояснить исходный замысел, убрать усложняющие, отвлекающие детали. В предельно лаконичной, назывной форме поэт сообщает достаточное количество слов «летней» тематики, чтобы разбудить в читателе воспоминание, подтолкнуть его к воссозданию собственной картины косовицы, наполненной и механическими движениями, и вечно новым, неожиданным сочетанием природных явлений: кузнечик коса трава коса кузнечик grille sense gras sense grille 49 Ещѐ одной из особенностей эстетики и поэтики конкретной поэзии является протест против традиционной элитарности художественного творчества и поэтического восприятия. Стихотворения фиксируют говорную интонацию, а объектом изображения становятся банальные, повседневные явления жизни, среди которых немало «низового», неприличного с точки зрения канонической лирики. Конкретисты, избегая классической поэтичности, рафинированности и соразмерности, обращаются к изображению намеренно брутальных ситуаций, где царят не столько абстрактные инстинкты, сколько материальные, физиологические желания и потребности человека из плоти и крови. В. Шмидт-Денглер отмечает, что «это всѐ более крепкий язык, который не боится называть даже самые вульгарные вещи» («ist es die immer derbere Sprache, die sich nicht scheut, die Dinge auch bei ihrem vulgärsten Namen zu nennen») [255, с. 52]. Эту же особенность подчѐркивает и Ю. П. Валман: «характерно-непристойные тексты, конечно, не имеют ничего общего с дешѐвой страстью шокировать читателя» («drastisch-obszöne Texte, die freilich nichts zu tun haben mit der billigen Sucht, den Leser zu schockieren») [255, с. 52]. Объясняя свою эстетическую позицию, поэт предлагает присмотреться к окружающему миру, жестокость которого рождает «повреждения языка, повреждения тела: одно отсылает к другому» («Beschädigung der Sprache, Beschädigung des Körpers: eines verweist aufs andre») 256, с. 101. Ситуация, когда от развитой, нормированной и истѐртой от долгого употребления языковой системы остаѐтся только минимальное количество прозрачных, обиходных, самых «нужных» для жизни слов, открывает перспективы для исследования возможностей этих лексем. Оказывается, что с помощью минимального набора слов и выражений, примитивных по своей сути, можно выразить и сложнейшую гамму переживаний, и абстрактно-метафизические умозаключения, непостижимо сохраняя за ними простоту, лаконизм и конкретность. Такая лирика, по мнению Б. фон Матт, «говорит железным ломом в этой партитуре художественно непригодных каракулей. Создаваясь из старых фигур речи и новых предметных наименований, она роскошно набухает странным пением о вынужденности существования» («spricht die Schrottsprache in dieser Partitur der kunstvoll unbeholfenen Kritzelei. Gebastelt aus alten Redefiguren und neuen Sachbezeichnungen schwillt sie in dem Gedicht üppig an zum verqueren Gesang über die Not des Daseins») 242, с. 115. К примеру, лирический герой стихотворения «переулок франца хохедлингера» («franz hochedlinger-gasse») 234, с. 126 Э. Яндля в сбивчивом аграмматичном монологе повествует о мире, который уродует и сковывает личность, заставляет еѐ совершать поступки от скуки, недомыслия, безысходности: 50 wo gehen ich liegen spucken wursten von hunden saufen kotz где идут я лежат плюют собачьи колбаски пьяная рвота ich denken müssen in mund nehmen aufschlecken schlucken denken müssen nicht wollen я должны думать в рот берут лизают глотают думать не должны хотеть Атмосфера трагизма сгущается в тексте и оттого, что абсурдная, неестественная ситуация, подчѐркнутая физиология не вызывает у еѐ участника никакого недоумения и протеста. Деформированная речь героя выполняет семиотическую функцию знака-признака, сигнализирующего о состоянии современного мира и человека. Вслед за Э. Яндлем, который, рассуждая о дифференциации произведений конкретизма, предлагает некоторые подходы к систематизации и пониманию экспериментальных речевых и звуковых стихотворений, представим некоторую классификацию конкретистских текстов. Одни из них – это «звуки и слоги к ―словоподобным‖ произведениям» («Laute und Silben zu wortähnlichen Gebilden»), другие работают «с возможностями голоса» («mit den Möglichkeiten der Stimme») 226, с. 54. Продолжая размышление, поэт группирует тексты в четыре основные разновидности: «стихи ―будничного языка‖ (по-другому ―язык гастарбайтера‖); ―громкие звуковые стихи‖, ―безмолвные звуковые стихи‖, ―визуальные стихи‖» («das Gedicht ―in nahezu Alltagssprache‖ (oder wie er es anderswo nennt: in ―Gastarbeiterdeutsch‖), ―das Stimme verlangende Sprechgedicht‖, ―das laute wortlose Lautgedicht‖ und ―das stille visuelle Gedicht‖») 225, с. 34. Образцы визуальных стихов презентованы нами в качестве примеров текстов-идеограмм и констелляций. Добавим, что данная группа стихов весьма обширна и разнообразно представлена в движении конкретизма. В звуковых стихах, по мнению другого представителя конкретизма Ф. Мона, важны первоэлементы речи – процесс артикуляции, еѐ физические параметры: тембр, высота в сочетании с мелодикой голоса, громкость звука в сочетании с динамической акцентуацией и темпом речи. Звуковое стихотворение Г. Рюма «Молитва» («Gebet»), которое сам поэт называет «фонетическим стихотворением» («phonetischen Gedichten») 192, в авторском исполнении звучит с особой протяжной интонацией литаний, и именно тональность, манера произношения реализуют в полной мере заявленную в заголовке идею. Формально же стихотворение построено из атомарных частиц речи, которые скомбинированы так, чтобы каждый гласный 51 встретился с каждым согласным, что напоминает таблички для обучения детей чтению по слогам: a a u e e o i a da hu e de bo i da ha u de e do bi ba ba u be be o ni na a bu a na nu ne he go gi wa da du we we o wi sa ha wu e se mo hi a sa hu me me wo i na na mu Стихи подобного типа предстают, по замечанию известного французского философа и семиотика Р. Барта, «лишѐнными неуклюжести и необузданности, напоминают математическое уравнение и становятся такими же вечными, как и алгебраические формулы перед лицом бездонности человеческого существования» 18, с. 365. Ещѐ один пример звуковой поэзии – стихотворение Э. Яндля «на природе» («auf dem land») 230, с. 143, в котором «сходятся как бы две стихии: словесная, смысловая и звукоподражательная, освобождѐнная от смысла» 133, c. 397. В тексте установлено равновесие, гармоничное единство между семантическим и фонетическим уровнями языка: кокококококоРОВЫ мымымымыммымыЧАТ свисвисвисвисвисвиНЬИ хрюхрюхрюхрюхрюКАЮТ собсобсобсобсобсобБАКИ гавгавгавгавгавгавгавКАЮТ кошкошкошкошкошкКИ мяумяумяумяумяуЧАТ коткоткоткоткоткотКОТЫ вьювьювьювьюТСЯ гусгусгусгусгусгусГУСИ гогогогогогоЧУТ <…> rininininininininDER brüllüllüllüllüllüllüllülLEN schweneeineineineineineineinE grununununununununZEN hununununununununDE bellellelleIlelIelleIlellEN katatatatatatatatZEN miauiauiauiauiauiauiauiauEN katatatatatatatatER schnurururururururururEN gänänänänänänänänänSE schnattattattattattattattERN <…> Более радикальные звуковые стихи Э. Яндля зачастую превращаются в партитуры, наполненные графическими знаками, обозначающими длительность, интенсивность, характер звучания элементов того или иного 52 высказывания. Звуки в таких текстах наделены самозначимостью, а также создают ситуацию для демонстрации возможностей произношения акустических компонентов: : ввввввввввввввв…… ввввв ввввввв (вввввввввв) в в в в (ввввввввввввввввв) 231, с. 127 В лекции «Открытие и закрытие рта» («Das Öffnen und Schließen des Mundes») (1985) Э. Яндль называет технику создания подобных произведений «открытием большого стиля!» («das ist eine Entdeckung großen Stils!») 250, с. 107. К. Риха указывает, что автору данного трактата удалось «обосновать соединение поэзии с языком тела» («begründet die Bindung der Poesie an die Körpersprache») 250, с. 107. Особая поэтическая форма «немых» речевых текстов демонстрируется автором в примечаниях к стихотворению «губы» («die lippen») 231, с. 96: «*) эту часть стиха нужно не произносить, а делать очевидной (diese version ist nicht zu sprechen, sondern sichtbar zu machen; die titel hingegen werden gesprochen) **) верхняя губа накрывает нижнюю таким образом, что становится необычно заметной (die Oberlippe wird so über die Unterlippe gestülpt, daß diese nicht, jene hingegen auffällig, sichtbar ist) ***) обе губы в слегка сомкнутом состоянии выдаются вперѐд в равной мере, становясь заметными (die Unterlippe wird so über die Oberlippe gestülpt, daß diese nicht, jene hingegen auffällig, sichtbar ist)». По поводу подобных произведений Э. Яндль говорит, что «тот, кто знает наизусть визуальные стихотворения губ, никогда больше полностью не ослепнет, визуальное стихотворение губ торжественно глухое, немое, глухонемое, только слепорождѐнному не доступно» («wer visuelle lippengedichte auswendig kann, wird nie mehr völlig erblinden, das visuelle lippenge53 dicht hebt taubheit, Stummheit und taub-stummheit auf, den blindgeborenen allein vermag es nicht zu erreichen») 250, с. 110. Подразумевается, что текст делает своѐ содержание оформленным не только на слуховом и зрительном уровнях, но и на уровне артикуляционном, будучи своеобразной презентацией немоты: лишь движения губ без звука, которые воспроизводятся зрителем либо читателем согласно комментариям, своеобразное чтение по губам. Стихотворение достаточно оригинально сочетает в себе и вербальную, и авербальную технику передачи информации. Э. Яндль отмечает: «Текст говорит кое-что, и это представлено одновременно слышным и видным. Требуется слышимый и видимый декламатор, а также публика … много меньше оно получает от чтения, однако для этого есть сноски» («Das Gedicht sagt etwas, und es stellt es zugleich hörbar und sichtbar dar. Es bedarf also eines hörbaren und sichtbaren Sprechers, und es bedarf eines Publikums … noch viel weniger auf der Buchseite, dafür aber die unerläßliche Sprechanweisung als Fußnote») 250, с. 111. Дифференциация способов формирования произведений конкретистов во многом зависит и от фонетической семантики, статуса звукобуквы, и от графического отражения звука, запечатлѐнного в письменной форме. Графическое оформление доязыковых, атомарных конкретистских текстов способствует прояснению фонетического строя произведения, а значит, и смыслового, т. к., по словам В. Жирмунского, «источником художественного впечатления является качественная сторона звука, особый выбор и расположение гласных и согласных – вопросы словесной инструментовки» 70, с. 42–43. В понимании данного аспекта эстетические установки творчества конкретистов близки идеям знаменитого философа-лингвиста Р. Якобсона, который обосновывает мысль о том, что «каждый языковой элемент превращается в поэзии в фигуру поэтического разговора» 199, с. 228. Вопрос наличия самостоятельных значений у «звуков стихотворного языка», которые в определѐнном стихотворном контексте владеют эмоциональным, ассоциативным, психологическим подтекстом и обостряют особое, чувственное восприятие, сочетая его со сложным комплексом ментальнопсихологических реакций, актуален и для современной науки. Л. П. Якубинский отмечает: «Явление обнажения фонетической стороны слова также очень часто сопровождается эмоциональным переживанием звуков, на которых сосредоточено внимание» 200, c. 142. Как раз с помощью возможностей звуковых стихотворений Э. Яндль в тексте «schtzngrmm» 230, с. 47 берѐтся за изображение непростой для немца темы войны, отгремевшего лихолетья, ужасов совсем недавнего прошлого: 54 schtzngrmm t-t-t-t t-t-t-t grrrmmmmm t-t-t-t s——c——h tzngrmm tzngrmm tzngrmm grrrmmmmm schtzn schtzn t-t-t-t t-t-t-t В этом звуковом произведении с помощью приѐма полной редукции гласных звуков из немецкого слова «schützengraben» («окоп, ров») остаѐтся лишь звукоподражание канонаде, перестрелке, пронзительным звукам войны. На подобную идею таким образом изобразить ужасы войны, по словам поэта, его навело стихотворение В. Клемма «На фронте»: «Разрушение рифмы – война сочиняет стихи на победе; разрушение ровной метрической стопы; отказ от так называемого торжественного языка (они передвигаются на животе, на локте и коленях ―ползая‖, сквозь поле битвы); предотвращение какого-либо блеска» («die Vermeidung des Reims – Krieg reimt auf Sieg; die Vermeidung des Gleichschritts eines regelmäßigen Metrums; die Vermeidung einer, wie man sagt, gehobenen Sprache (sie bewegen sich bäuchlings, auf Ellbogen und Knien ―robbend‖, über das Schlachtfeld); die Vermeidung von jeglichem Glanz») 226, с. 56–57. В стихотворении радикальным способом инсценируются звуки войны. Кроме того, текст при откровенном экспериментаторском духе обладает всеми признаками антивоенного стихотворения. Группа стихов «будничного языка», иными словами, обиходноразговорного, обыденного, «языка гастарбайтеров», стихов на диалекте – особый отклик на проблему современного состояния языка. Письмо традиционным языком, а не «живым» словом невозможно на современном этапе. Х. Хайссенбюттель по этому поводу отмечает: «Не говорящий решает, что он говорит, а объективное состояние языка, который использует говорящий, создаѐт сказанное» («Nicht der Sprechende entscheide, was er spricht, sondern der objektive Zustand der Sprache, die der Sprechende benutzt, präge sein Gesprochenes») 206, с. 79. Для преодоления этой порочной традиции конкретисты обращаются к обиходному языку, диалектам, заплетающемуся косноязычию малообразованных, но думающих людей. В некотором смысле стихи «будничного языка» считаются экспериментальными, новаторскими, но, по сути, являются скорее «возвратом к корням», т. к. основываются на сохранившихся издревле словоформах и традиционной манере говорения, иллюстрируя образ мыслей «среднего человека», большинства. Создавая стихи «будничного языка», поэт берѐт за основу функциональное слово, которое зависит от контекста, ситуации коммуникации, ре55 чевых особенностей говорящего, всей языковой парадигмы. Заметим, что слово из «будничного языка» лишается конкретистами особого статуса поэтической, рафинированной лексики. В некоторых аспектах язык таких стихов приближается к соц-арту (использование «военного» языка лающих команд, эксплуатация профессионализмов). Составной частью стихов на «будничном языке» является поэзия на диалектах, которую конкретисты и примыкающая к ним «венская группа» активно развивают. Диалектные произведения зачастую наполнены задушевностью, лиризмом, провинциальной неспешностью (в австрийской литературе это, к примеру, пейзажные, медитативные стихи Й. Вайнхебера. – Л. С.). Однако в диалектной поэзии конкретистов и представителей «венской группы» распространена, скорее, эстетика отрицания, интонация иронии и чѐрного юмора. Так, Х. К. Артманн буквально постулирует в заглавном стихотворении сборника «Чѐрными чернилами» («Mit schwarzer Tinte») (1958) Цит. по: 28, с. 415: Nua ka schmoez how e xogt! Nua ka schmoez ned … reis s ausse die heazz dei bluadex und han s owe iwa ra brukglanda Только никакого смальца я сказал! Только никакого смальца … вырви его своѐ сердце окровавленное и выброси его за перила моста Стихотворение заявляет отказ от тематики провинциальной идиллии и простодушия, правдивыми красками рисует картину жизни в послевоенной Вене. И в целом тексты Артманна, написанные на венском диалекте, созданы на контрасте между читательским ожиданием и авторским воплощением, насыщены персонажами садистских стишков, а фольклорные мотивы переосмыслены автором в духе сюрреализма. Даже колыбельные, детские песенки, считалки превращаются в тексты с ужасающими подробностями поедания непослушных детей оборотнями; катание на каруселях чревато соседством с кем-то зелѐноволосым, а сказочным Грете и Гензелю прямая дорога в ведьмин котѐл. О. Гомрингер отмечает: «Вопреки ожиданию, во многих случаях, они (диалектные стихи. – Л. С.) являются не только звуковыми стихами, но и, по сути, визуальными» («Еntgegen der erwartung sind sie in vielen fällen nicht nur sprechgedichte, sondern wesentlich visuelle dichtung») 216, с. 165. На самом деле, взгляд читателя «цепляется» за диалектные шероховатости, останавливается на них, давая возможность реципиенту додумать ситуацию, по-новому увидеть знакомую картинку, привычное слово. К примеру, странное пришепѐтывание, шепелявость говора в стихотворении «16 лет» («16 jahr») 230, с. 26 Э. Яндля возвращают образу свежесть и остроту, истраченную от долгого употребления. Этот текст 56 может быть и горькими воспоминаниями шамкающего старика о загубленной войной (северо-восточный вокзал) молодости, и впечатлениями необразованного юноши, который совершенно не знает, что делать со своими шестнадцатью годами, не знает, кому и что «должон парень»: шашнаццаць лет шеверо-вошточный вокзал шашнаццаць лет што должон што должон делать шеверо-вошточный вокзал шашнаццаць лет делать што должон парень што должон thechdthen jahr thüdothdbahnhof thechdthen jahr wath tholl wath tholl der machen thüdothdbahnhof thechdthen jahr wath tholl wath tholl der bursch wath tholl Голоса провинциальной улицы слышатся в стихотворении Э. Яндля «бэээ» «bäää» 230, с. 27, основанном на приѐме ономатопеи. Здесь автор использует и звукопись, воссоздающую «фон», шумы улицы захолустья, потревоженного происшествием, и имитацию говорения, судя по некоторым речевым ошибкам, глубинки: бэээ дааа вулитца бэээ дааа вуалитцааа изобью драной мальчышка изобью bäää daaa wuallitzaaa bäää daaa wuallitzaaa haun schünkint haun В русле стихов на «будничном языке» Э. Яндль делает ещѐ одно поэтическое открытие в живой речи – это речь иностранцев, инофонов, пользующихся неродным языком. Причѐм корректность автора выражается и в том, что иностранцем в его произведениях может стать как представитель «не-немецкой» национальности в немецком окружении, так и немецкоязычный персонаж в иной стране. Герой стихотворения «калипсо» («calypso») 230, с. 18 средствами неродного языка, который он знает, очевид57 но, слабо, пытается выразить впечатление от новой страны. Он по-детски, вопреки правилам, нанизывает все знакомые ему иностранные слова и этой мешаниной в конце концов передаѐт степень новизны и восторга, смешения чувств от новых впечатлений: я was not yet в бразилии да в бразилии вуд я лайк ту го <…> ich was not yet in brasilien nach brasilien wulld ich laik du go <…> Лирический герой поздних произведений Э. Яндля (периода 1975– 1996 гг.) вообще по преимуществу начинает говорить на «будничном языке», который сам поэт называет «Alltagssprache» («разговорный язык») или «heruntergekommenesprache» («опустившийся язык»). Герой не поддаѐтся однозначной характеристике: практически нет определяющих его возраста, пола, социального положения. В стихотворении «здесь только день» («hier sein ein tag») 234, с. 138 о герое сообщается, что он так мал, что «даже карлики пугают как великаны». Это может быть ребѐнок, взрослый с ограниченными умственными возможностями, иностранец, говорящий на чужом языке. Подобную скованность языка следует рассматривать не как грамматико-пунктуационный дефицит, ущербность, а как особую речь, чей смысл раскрывается лишь внимательному слушателю и читателю. Стихи на «будничном языке» воссоздают целую панораму мира, безжалостного к человеку, который не способен ни что-либо изменить, ни смириться: einen sprach ich ja haben der sich in mir drehen um und um und doch sein ich den meisten zeit stumm denn wo sein kein ohren dort sein auch kein mund außer für essen trinken rauchen я говорилку одну имеют себя во мне поворачивают туда сюда но в большинстве я безмолвно так как где никакие уши там можно находиться без рта кроме как для едят пьют курят Текст этого яндлевского стихотворения «без рта» («kein mund») 234, с. 191 сознательно выстроен на аграмматичном, презирающем все 58 нормы словоупотребления языке, чьѐ состояние передаѐт повреждѐнное, измученное сознание личности. Использование в этом тексте сниженной лексики, просторечий, особая интонационная организация стиха создают впечатление спонтанности, доверительности повествования, добавляют особую эмоциональную выразительность. По замечанию одного из исследователей творчества Э. Яндля, исходный пункт эстетики и поэтики подобных текстов – «языковая одержимость» («der Sprachbesessenheit»); новым языком становится «пустота, тишина, внутреннее молчание, паралич чувств и мышления» («die Leere, die Stille, das innere Verstummen, die Lähmung des Gefühls und Denkens») 218, с. 91. Распространены в арсенале конкретизма тенденции к созданию текстов с подчѐркнутой визуальной и акустической природой, к «уничтожению границы между стихосложением и стихопроизнесением… вплоть до состояния первобытного импровизационного синкретизма» [42, с. 263–264], что приближает тексты к «девербализованным» высказываниям. Необходимо отметить, что характерной особенностью лирики Э. Яндля, О. Гомрингера, Ф. Мона, Г. Рюма, Х. Хайссенбюттеля и других конкретистов является концепция homo ludens, игровое начало, лежащее в основе большого количества произведений. Оно проявляет себя в создании визуальных и акустических шарад, немых текстов, словесных шуток и каламбуров, пермутаций, выполненных в духе лингвистической экспериментальной эстетики и поэтики и в новом свете представляющих привычные слова и выражения. Бесспорно также, что в поэзии конкретизма выделяется группа произведений, в создании которых принципиальную роль играет искусство графики. Синтаксическая связность текста в подобных стихах ослабляется за счѐт упразднения знаков препинания, нелинейности письма, использования слов с затемнѐнной семантикой, создания авторских лексоидов, употребления аграмматичных форм слов. Взамен конкретисты предлагают особую «стиховую» связность, графическую и визуальную мотивировку высказывания. Отсутствие синтаксической связности компенсируется в таких стихах «теснотой стихового ряда» (Ю. Тынянов). «Физическая» природа слова актуализируется в текстах конкретистов, проявляя себя в различных речевых контекстах. Интересным представляется конкретистский арсенал текстов, демонстрирующих акустические возможности слова, звуко-буквы, немоты и жеста, наделѐнного смыслом. Произнесение текста для конкретистского автора становится важнейшим в процессе смыслопорождения. Своеобразной находкой становится децентрализация поэтического языка, функциональный подход к слову, обращение к просторечию, повседневному языку, диалектам и урбанолектам, что открывает новые возможности и ресурсы для экспериментов с поэтической лексикой. 59 ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БЕЛОРУССКИХ ПОЭТОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА ХХI В. 2.1 Лингвокреативный эксперимент в белорусской поэзии 1960–1970-х гг. 2.1.1 Языковые конвертации в поэзии П. Макаля, А. Навроцкого, Р. Бородулина Специфическая модель лингвокреативности, языковые конвертации и нововведения, проявляющие себя на различных уровнях организации текста, а также противопоставленность всему традиционному и каноническому, свойственные литературе и культуре неоавангарда середины ХХ в., ярко проявили себя в творчестве зарубежных поэтов-конкретистов 50–60-х гг. прошлого столетия. Подобные тенденции находят выражение, безусловно, в менее радикальной форме и в творчестве белорусских поэтов этих лет. Эксперименты с языковым материалом свойственны поэзии Петруся Макаля, белорусского поэта, драматурга, переводчика. В его сборниках 60-х гг. – «Круглы стол» (1964) и «Акно» (1967) – проявляет себя, как указывает В. Фещенко, «системное явление, основанное на качественном изменении исходного языкового материала, на смещении языковых пропорций в его структуре, с целью его преобразования» [182, с. 5]. Белорусский учѐный З. В. Дроздова справедливо отмечает, что «богатая ассоциативно-образная палитра, философичность, техническая виртуозность, а также разнообразие в жанровом отношении … дали основания критике говорить, что Макаль “начал писать иначе”» [67, с. 470]. Критические публикации тех лет, появившиеся на страницах газет и журналов, продемонстрировали большой интерес к экспериментам поэта: «Мнения критиков относительно “Акна” разошлись. Пафос выступлений одной стороны (С. Граховский, А. Вертинский) заключался в приветствии новаторства поэта. … Другая сторона (Г. Берѐзкин) отмечала ненатуральность поэта, злоупотребление техникой, неразумную эксплуатацию внутренних созвучий, восхищение словесно-звуковой игрой» [67, с. 470]. Публикации более поздних годов свидетельствуют об однозначном принятии поэтических находок П. Макаля, ранее так выбивавшихся из канонических представлений о поэтическом идеале письма. Так, Н. Гилевич отмечает: «Вообще, в смысле эвфонической слаженности, звонкости, благозвучности стихи Макаля в современной белорусской поэзии не так и много найдут себе несомненных соперников. Взять хотя бы его рифмы – богатые, пол60 ные, незатасканные, нередко – виртуозно подзакрученные и, как правило, смысловые» [44, с. 237]. Лингвокреативная направленность, игровые приѐмы, присущие стратегиям письма П. Макаля, становятся в большой степени текстообразующим фактором его стихов. Количество языковых аномалий в арсенале рифм сборников «Круглы стол» и «Акно» очень велико, недаром В. Гниломѐдов с полной уверенностью заявляет: «Что П. Макаль выдающийся мастер стиха – несомненно. Он, скажем, безукоризненно владеет самой разнообразной и богатой рифмой» [47, с. 68]. Безусловно, авторский почерк П. Макаля данного периода во многом определяется тотальным обращением поэта к возможностям родных точных рифм с полным совпадением клаузул, а зачастую и к арсеналу абсолютных рифм: «тварожнікі – спадарожнікі, лампадай-поўняй – мерай поўнай» («Круглы стол» [125, с. 85]), «пакрысе – красе, блѐсткамі – пялѐсткамі, рой – гарой» («Пчаліныя соты» [125, с. 86]), «палонік – паклоннік, абібокам – бокам» («Дом без гаспадара» [125, с. 108]); «рабінаю – рабыняю, пратэз – пратэст» («Рабы» [125, с. 117]), «як біяграфія болю – як геаграфія бою» («Здаецца, загоены раны» [125, с. 126]); «раніцай – абранніца, («Суседка мая» [125, с. 159]); «вішнямі – увішнымі» («Трэшчына зноў» [125, с. 106]) и др. В некоторых стихах мастерство использования подобных рифм разрастается до текстов с тройной – четверной рифмой. К примеру, в стихоторении П. Макаля «Поле, поле» [125, с. 130] встречается тройная рифма, к тому же основанная на языковой рефлексии, «вслушивании» в частично омонимичные слова «поле», «прыполе», «падполлі». Пробуждение внутренних созвучий слова, в некоторой степени родственности лексем, где образ создаѐтся уже на уровне звука, характерно этому стихотворению: Поле, поле У сваім прыполе Колькі цудаў ты прыносіш мне! Да пары, як змагары ў падполлі, Тояцца зярняты ў баразне. Тройная рифма в стихотворении «Хвала напятай хвалі, што пяе!» [125, с. 148] мастерски оформлена поэтом как реплики, что повторяет эхо: Зялѐны рай – Курортны край – Бывай! – 61 С толикой сожаления, благодарностью и желанием вернуться из «ляноты» отдыха к «будзѐнным справам і абавязкам» лирический герой этого стихотворения произносит слова прощания. Внутренние рифмы, сочетающие в себе черты новаторства и реактуализации фольклорной традиции, также нередки в поэзии П. Макаля. Весьма уместным в этой связи представляется употребление внутренней рифмы «фрэскі – трэскі» в стихотворении «Мера», где эта пара приобретает черты антиномической противопоставленности. В данной рифмованной паре на микроуровне зафиксирован авангардистский пафос стихотворения – процесс десакрализации авторитетов, «метраў і мэтраў», замещение их «безразмернымі шкарпэткамі», «трэскамі»: Дрэмле завязь у кветках – Не прагледзь, чалавек! У безразмерных шкарпэтках Скача атамны век. К д’яблу метры і мэтры! – Твой апошні дэвіз… <…> Толькі фрэскі, як трэскі, З эрмітажаў далоў. Толькі блісне ды трэсне Тры мільярды галоў [125, с. 140–141]. В другом стихотворении «Кажуць, даволі пра дальнія страхі» [125, с. 145] в строчке «Страхі – мінулага чорныя птахі» также встречается внутренняя рифма, которая сообщает высказыванию афористическую цельность и завершѐнность, характерную устойчивым фольклорным оборотам. Несколько другой аспект проявляет себя в этом стихотворении в использовании внутренней рифмы, где подчѐркнуто созвучие слов «ударам – тарана – беспакарана»: Грукай у сэрца ударам тарана, Покуль на нашай зямлі шматпакутнай Ходзяць забойцы беспакарана. Гражданский пафос этого произведения заявлен в том числе и обращением к возможностям внутренней рифмы, что стимулирует динамику создаваемого образа – суровой угрозы в адрес военных преступлений лихолетья 1940-х гг. Интонация гнева передана и на уровне звукописи, с помощью взрывных «д», «т» и вибранта «р». 62 Строки стихотворения «Рознакаляровы Брэст» [125, с. 133] также сочетают в себе возможности внутренней рифмы и звуковой инструментовки: Які ты блакітны, Брэст! Салдаты на золку з дазораў На хусткі нясуць для нявест Неба з узорамі зораў… Необходимо добавить, что заявленная мысль – о чистоте и «небесности» города над Бугом – получает подтверждение и на фоносемантическом уровне: слова «дазораў», «узорамі», «зораў» в авторском эксперименте сближаются, чтобы акустически передать читателю идею их родственности, генерировать дополнительные окказиональные смыслы. На грани технической виртуозности, но без искусственности и натянутости создано стихотворение «Хатні рай» [125, с. 113], где в первой строфе сосредоточено сразу четыре внутренние рифмы. Надо сказать, что общий тон этого произведения П. Макаля мягко-ироничный, рассказывает оно о «прелестях» дома, однако герой отмечает: «І каму паскардзішся, што ў пекла / Вельмі шмат пазычыў хатні рай». Именно для подчѐркнутого перечисления атрибутов «вольной», не домашней жизни поэт использовал возможности внутренней рифмы, добавив в арсенал и черты комического изображения действительности: Ад камандзіровак, ад сябровак – Хочацца развітвацца ці не, – Ад сталовак тлумных і вандровак Забірае хатні рай мяне. Стихотворения сборников П. Макаля зачастую основываются и на такой оригинальной и неординарной рифме, как составная, зачастую близкой каламбурной. Так, уже первая строфа заглавного стихотворения сборника «Акно», в некоторой степени демонстрируя кредо поэтавиртуоза, основывается на подобной рифме: «У пафасным уступе, / як у ступе / Ваду вядомых слоў таўчы штодня…» [125, с. 125]. В стихотворении «Круглы стол» [125, с. 85], одноименном сборнику, развѐртывание метафоры стола, равного по значению семье, родине, всему человечеству, автор завершает игровым введением составной рифмы, тем самым «подсвечивая» изнутри внутреннюю, сакральную форму слова, его скрытый смысл: 63 Сям’я людская, думай жа пра стол, Які прыбраць па-гаспадарску трэба. Няхай штодзень на стол, як на прастол, Каронаю ўзыходзіць бохан хлеба. Находки составных рифм встречаются и в стихотворении «Крыло і пяро» [125, с. 156]. В этом тексте рифма, основанная на перераспределении состава слова, завершает стихотворение, сообщая ему заострение, в своеобразной форме обращаясь к возможностям так называемого литературного «пуанта»: Хай туман у неба кане – Дайце лѐтную пагоду, Каб у залах пачакання Не заседжвацца па году. Ещѐ одно проявление лингвокретивности в творчестве П. Макаля – использование арсенала возможностей сквозной рифмы. Так, в стихотворении «Дайце, харэі і ямбы» [125, с. 132] из 24 строк пять строк заканчиваются формами слова «пад’ѐмны», а ещѐ шесть строк – созвучия к заданной сквозной рифме: «нястомнаму», «прыѐмныя», «аэрадромнае», «абсталѐўваю», «бяздомнаю», «сталѐвыя». Поэт создаѐт «трубныя дыфірамбы» «таварышу Крану пад’ѐмнаму», который воплощает всю мощь и материального, и духовного созидания. Отсюда и такое нагнетание повторяющихся созвучий, буквально на интонационном уровне, подсознательно передающих идею произведения: Паслухаеш – сэрца расчуліцца Ад гэтай песні пад’ѐмнае, Мне ў гуках яе чуецца Нешта аэрадромнае. Дык хто там яшчэ упарта, Хаваючы ў сейфы цѐмныя, Не выдае пад’ѐмныя Думам, што прагнуць старту? Жылпошчу нябѐс абсталѐўваю. Не быць вышыні бездомнаю, Бо мускулы мае сталѐвыя – Сіла мая пад’ѐмная! 64 Интересным представляются и приѐмы П. Макаля с использованием эхо-рифмы, двустишия, в котором вторая строка состоит всего из одного слова или короткой фразы, полностью повторяющих последний или два последних слога первой. В сборниках «Круглы стол» и «Акно» этот приѐм тяготеет к тотальной экспансии, абсолютный поэтический «слух» поэта позволяет ему с лѐгкостью подыскивать созвучия, находить звучные соответствия, при этом они не выглядят надуманными, а заставляют говорить об авторском почерке. В стихотворении «Малако» [125, с. 157] автор метко использует эхо-рифму «глыток – ток», которая и визуально, и акустически передаѐт пронзительность воспоминания, мгновенность действия: Малако… І адступала цемната начная, Запальваў зрэнкі твой глыток, Як ток… Ах, млечны шлях жыцця майго!.. Схожий подход отмечается и в стихотворении «Дайце, харэі і ямбы» [125, с. 132], где безапелляционность действий подчѐркнута динамическим приказом: А гэты сцяну зграбастае, прышпіліць да сонца – і баста. Рифмы, повторяющиеся эхом, использованы в стихотворении «Пад дажджом» [125, с. 176] совсем с иными целями. Они становятся лѐгкими и точными мазками в зарисовке-миниатюре о юноше, ожидающем под дождѐм любимую: Вечар. Вецер. Плошчу Палошча Дождж пранізлівы і густы. Напряжѐнные поиски собственного пути, отказ от эстетики социалистического реализма, интенсивное обновление и реформирование поэтического языка выразительно проявили себя в судьбе и творчестве 65 Алеся Навроцкого (1937–2012), белорусского поэта, прозаика, диссидента. Стихи сборников А. Навроцкого «Неба ўсміхаецца маланкаю» (1962), «Гарачы снег» (1968) прозвучали особенно эпатажно, новаторски, вызвав целую серию публикаций на страницах периодики. Свои «за» и «против» высказали Н. Арочко, Г. Берѐзкин, В. Короткевич, М. Лужанин, Г. Юрченко, И. Шпаковский, склоняясь к мнению об «оригинальности» и «крайностях» творческой манеры, особенном взгляде на мир. Вообще, протестный характер конкретизма во многом выказывает себя именно в радикальном недоверии общепринятому языку, обслуживающему порочную реальность с вросшим в неѐ тоталитаризмом. Лингвистический критицизм проявил себя и в поэзии А. Навроцкого, прозвучавшей в 60-е гг. ХХ в. вызывающе смело и свежо. Подлинно трагический гротеск звучит во многих текстах поэта, касаясь и социалистической действительности, и духовного нивелирования человека внутри тоталитарной системы, и рефлексии о современном состоянии языка и мышления. Необходимо отметить маргинальные настроения поэзии сборников «Неба ўсміхаецца маланкаю» и «Гарачы снег» А. Навроцкого в контексте общепринятой официальной литературы периода. Обращение к элементам абсурдистской поэтики, использование нарочито сниженной интонации, стремление воспроизвести образ языковой и ситуативной повседневности, лишѐнной какой бы то ни было героики, пафосности и показной лиризации, лежат в основе стратегии письма А. Навроцкого. Как отмечает белорусский литературовед А. Сѐмуха, «натуралистичность, гиперболизированные аллегории и необычные, часто болезненно-нервные образы его первых, ещѐ художественно не обработанных стихов, освежали поэтическую атмосферу того времени» [155, с. 8]. Так, традиционная тема одиночества, имеющая в литературе долгую историю осмысления, становится предметом особенного разговора и в стихотворении «Адзінота» [135, с. 35]. В этом произведении А. Навроцкий проявляет себя как мастер своеобразного комического, как поэт с «двойным зрением», позволяющим одновременно видеть разные стороны события: «кажимость» и сущность. Каждая строфа стихотворения, открываясь классическим, нарочито привычным зачином двух первых строк, в завершающей фразе получает неожиданную развязку, резко диссонирующую с представлениями о традиционной поэтике: Як быць? Куды пайсці сягоння? На прызбу сяду пад акном, а мухі будуць бзымкаць сонна за павуцінным мутным шклом. 66 Я камень шыбану у проса, што вераб’ямі зарасло. Па недакурках папяросных пайду сцяжынай за сяло. Тотальная неустроенность героя, его одиночество – порождение неладно организованного мира, тотально враждебного человеку. Принципиальная открытость слога А. Навроцкого прозе, изнанке жизни демонстрирует табуированные подцензурной литературой пласты действительности и быта. Самоценность разговорной речи, примитивистская, несколько гротескная поэтика проявляет себя и в стихотворении «Вясновыя думкі» [135, с. 32]. Текст представляет собой цикл из шести двустиший, только первое из которых соответствует собственно лирическому канону. Следующие двустишия служат антитезой, по-особенному развивающей заявленную в заголовке тему весенних раздумий. Стихотворение становится подтруниванием над обманутыми читательскими ожиданиями: I У бярэзніку, дзе заціхае вецер-узвей, Жыве на галінцы салавей. II На дрывотні – закінуты, заржавелы як след, Жыве нікому не патрэбны веласіпед. III У суседкі на твары жыве нос кірпаты, Я за ім назіраю з акна сваѐй хаты. IV І у душы маѐй, мне назло, Каханне да гэтага носу ажыло. V Эх, вясна, ты, вясна, адна прыгажосць! Усе элементы кахання ѐсць. VI Калі так, на веласіпедзе да салаўя Паедзем – мая суседка і я. Герой подобных стихов одновременно соединяет в себе черты бунтаря и шута, высказывающего правдивые замечания, которые никто не воспринимает всерьѐз, что добавляет образу трагичность, как это свойственно «чердачным» героям Гоголя и Достоевского. Образ маленького человека, деформированный системой до уровня ничтожного, находит выражение в поэзии А. Навроцкого. Даже тема любви представлена в произведениях поэта зачастую антипоэтично, из подручных средств неустроенного быта, как в стихотворении «Успамін» [134, с. 20]: 67 Цыбулі вязкі, печ, паўзмроку цень. Пячэ жывот мой соладка чарэнь, Пад галавою – нейкія бахілы. Марозны вецер надрывае жылы, Ніяк не надарваў за цэлы дзень. Ён ные ў коміне і барабаніць юшкай… Прыціхнуў я, накрыўшыся дзяружкай. Именно такой «низовой», неприбранный мир обыденности становится декорациями для игры фантазий влюблѐнного о своей избраннице. Несмотря на шаржированность ситуации, далѐкой от романтического антуража, чувства героя глубоки, полны нежности и свежести настоящего чувства, нисколько не скованного скромными условиями существования. Убогий антураж совсем не означает отсутствия наполненной внутренней жизни, скорее контрастно еѐ подчѐркивает. Предельно конкретизированно, с большим количеством деталей быта берѐтся А. Навроцкий и за описание советского образа жизни. Но стихи цикла «Элегіі» далеки от традиций «сурового реализма» эпохи, они в большинстве своѐм основаны на приѐмах абсурдизации, демонстрируют несоответствие причинно-следственных связей. Несмотря на это, «Элегіі» напоминают отчасти этнографические очерки, отчасти дневниковые записки человека, живущего под гнѐтом выморочного советского тоталитаризма: Я страшэнна мух не люблю. Перад тым, як легчы спаць, я іх лаўлю І запіхваю ў нос: усѐ роўна яны туда Залазяць, Дык я рашыў іх сам запіхваць. Падымаюся, калі сонца над галавой, І, каб памыцца халоднай вадой, Цѐплую ваду стаўлю ў халодны склеп: Хай астывае [135, с. 53]. В палитре поэта встречаются и стилизации под фольклорные стихинескладушки, распространѐнные также в детском творчестве. Немного наивный, примитивистский взгляд на действительность, оформленный как миниатюра, зарисовка с натуры, представлен в стихотворении А. Навроцкого «Абледзяніў мароз» [134, с. 24]: 68 Абледзяніў мароз заснежаныя кусты, Вылятае з рота белай ватай. Нічога не трэба мне – толькі ты І кажух з каўняром паднятым. Подобная спутанность сознания, нелогичность мышления, срывающегося к абсурдным умозаключениям, порождены косностью и жестокостью системы, в которой, по словам поэта, «трэба ж неяк выкручвацца» [135, с. 53], где человек изначально не свободен в своих желаниях и поступках, вынужден кривить душой и приспосабливаться. О масштабности происходящего говорит сам лирический герой, признаваясь: «вось так і жыву ўсѐ жыццѐ» [135, с. 53], а «кваканне жаб заглушае спеў салаўя» [135, с. 56]. О последнем тексте необходимо добавить, что это блестящий пример национального моностиха, или удетерона, минимального по размеру текста, обладающего особым выразительным потенциалом, мощной художественной содержательностью. Философско-содержательная интонация этого моностиха А. Навроцкого тяготеет к явлению паремии, текст имеет интенцию к «разворачиванию» этой текстуально-поэтической единицы до размышлений о тотальной несправедливости мироустройства. Надо отметить, что образцы удетерона как в белорусской, так и в русскоязычной литературе середины ХХ в. по преимуществу нашли воплощение в неподцензурной литературе андеграунда, диссидентов и писателей-эмигрантов за счѐт подчѐркнутого экспериментального характера моностиха. Своеобразным авторским кредо Рыгора Бородулина (1935–2014) уже с первых публикаций стали особая ритмическая организация стихов, внутренняя рифма, мастерство звукописи. В многочисленных сборниках Р. Бородулина 1960–1970 гг. («Рунець, красаваць, налівацца!» (1961), «Нагбом» (1963), «Красавік» (1965), «Неруш», (1966), «Адам і Ева» (1968), «Лінія перамены дат» (1969), «Свята пчалы» (1975), «Прынамсі…» (1977), полных автобиографических фактов, живых событийных зарисовок, эмоционально насыщенных текстов заявлена особенная бородулинская способность к воспроизведению непосредственно данного, материального во всей полноте явления. Необычайная «сенсорность» поэзии Р. Бородулина, мастерство цветовой, звуковой детали, богатство ольфакторики, кинестетических характеристик новаторски заявили о себе в литературном процессе Беларуси 60–70 гг. ХХ в. В. Гниломѐдов пишет: «У поэта воспитался вкус к художественному эксперименту, к смелым поискам в форме. Он владеет просто-таки чудесным умением “писать” звуком, рифмой, ритмикой» [48, с. 3]. 69 Звук как единица поэтического текста в произведениях Р. Бородулина становится выразителем семантики, особенной красоты и соразмерности родного белорусского слова, его духовных глубин. Так, просодические и акустические конвертации поэта нашли реализацию в известном стихотворении «Матылѐк» [16, с. 113]. Используя ассоциативный ореол плавного звука «л», Р. Бородулин лѐгкими акварельными мазками рисует поэтическую зарисовку тѐплого летнего дня и одновременно – картину душевных перипетий, наполненных и жарким томлением по несбыточному, и тонкой грустью, и небывалой лѐгкостью. Употребление звука «л» прослеживается практически в каждом слове стихотворения, создавая возможности для парономазии, сближения в одном стихотворном ряду близких по звучанию слов. Ассоциативно-образные возможности такого текста, уместно насыщенного звукописью, необычайно велики, способствуют прояснению эстетической информации: Лілею млявы плѐс люляе, З-пад злежаных аблок здалѐк Ляціць віхлясты і балявы, Пялѐстак лѐгкі – матылѐк. Ощущение воздушности, лѐгкости, волн ласки и тепла создаѐтся Р. Бородулиным в стихотворении «Мотылѐк» именно за счѐт экспериментов со звуковой инструментовкой поэтического текста. Мастерство стихосложения достаточно ярко проявилось в творчестве Р. Бородулина и в использовании возможностей тавтологического письма. К примеру, в стихотворении «Партызанскі край» [16, с. 139] есть строфы, построенные на аллитерации и приѐме тавтограммы: Паліць. Палын пасівеў, пасох. Здоўжылася дарога доўгая. Упіўся у перапрэлы пясок Дзяркучы дрот дзядоўніка. 70 На разные лады в произведении звучит мысль о тяжѐлой судьбе, выпавшей на долю земли и людей в годы войны, об испытаниях огнѐм, усталостью, болью. Многократное и подчѐркнутое использование звуков «п», «д», «дз» усиливает атмосферу напряжѐнности и трагичности. Также демонстрирует в своѐм творчестве Р. Бородулин отказ от регулярной метрической организации и рифмы, при этом не пользуясь и возможностями верлибра, тяготея к акцентному стиху. Такой «твѐрдый», даже жѐсткий характер поэтической интонации проявляет себя в стихотворении «Маралу зразаюць панты» [16, с. 156]. Об этом произведении у М. Стрельцова читаем: «Просто-таки какой-то триумф звуковой, ритмичной, графической, наконец, изобретательности, когда уже и рифма, внутренняя, ассоциативная, составная, демонстративно заняв как бы не своѐ традиционное место, припрятанная как будто, не может всѐ же спрятать себя» [168, с. 15]. На самом деле ситуация, описанная в тексте, весьма драматичная и напряжѐнная – это история свободолюбивого оленя, перенѐсшего обрезку своих пантов. Экспрессивный, нервический стих передаѐт состояние марала, его испуг, энергию, жажду свободы: Дрыжыкі па целе, Марал пацее У тры паты. Панты Зразаюць Нажоўкай. Капыты Б’юцца па жоўклай Траве… Трывае… Рэжце ж! Ці нажоўка тупая?! Нарэшце!.. Каждое слово в подобных текстах при использовании возможностей акцентного стиха звучит особенно веско, «полнозвучно», отчѐтливо выявляя внутренние возможности, обнажая тайные механизмы смыслопорождения. Можно говорить о некоторых чертах «декламационной» поэзии, ораторской речи с яркими рифмами-акцентами. Такая «сгущѐнность» интонации, внутреннего ритма, экспрессия звучания полно проявила себя в стихотворении Р. Бородулина «Ураджай» [16, с. 167]. Реформаторский, взрывной характер «оттепельной» эпохи воплотился в этом произведении и на уровне конвертаций в инструментовке, повышенного 71 внимания к возможностям акцентного стиха, к авангардным открытиям В. Маяковского, и на уровне тематики стихотворения, посвящѐнного событиям времени. Традиционная для белорусской поэзии тема «урожая», крестьянского труда прозвучала по-особенному, ново и свежо. Р. Бородулин рисует в стихотворении «урожай» рыболовецкого сейнера: «трал падымаюць са дна марскога». Мощными, зачастую натуралистическими мазками воспроизводит поэт картину, по сути, безвинного и немого страдания обитателей дна морского, которых люди общо именуют «улов»: Над палубай хмара парыпвае з ліўнем рыбным… Вока ў пулятага мінтая, нібыта планета жаху, сыходзіць з арбіты… Шчэлепамі разбітымі пакутліва кратае камбала бездапаможна пляскатая. Р. Бородулину удаѐтся создать некое подобие современного мира, так похожего на апокалипсис, где перемешано добро и зло, где урожай для одних оборачивается трагедией для других, где «чапляецца неба / за водарасці, карчы. Нема / рыба крычыць…». Бесспорно, подобная картина особенной пронзительностью обязана именно выходу к акцентоному стиху, за пределы классического общераспространѐнного стихосложения в стихию, освоенную в своѐ время футуристами. Обособленные автором слова, их особенная вескость притягивают в стихотворении Р. Бородулина не только ритмическое ударение, но и логическое. Таким образом, исследование границ языка, лингвистические конвертации, богатство интонации и палитра рифмовки, характерные для поэзии П. Макаля, А. Навроцкого, Р. Бородулина, ведут к обновлению и трансформации конвенциального языка художественной литературы, демонстрируют стремление расширить возможности функционирования лингвистических единиц, усилить выразительные возможности поэтической речи, что приводит к выходу за пределы функциональносемантических закономерностей, в пространство поэтического эксперимента. В произведениях П. Макаля, А. Навроцкого, Р. Бородулина заявленные языковые конвертации – эксперименты со звуковой инструментовкой, игровые приѐмы, мастерство в выявлении внутренних созвучий слова, 72 обыгрывание ситуации лингвистической и ситуативной повседневности – конструируют смысл текста наравне с его семантикой, усиливают экспрессивность произведения и формируют оригинальность индивидуальноавторских стилей заявленных авторов. 2.1.2 Поэзия А. Рязанова и традиции немецкоязычного конкретизма Несмотря на идеологическую регламентацию белорусского литературного процесса, в 60–70-е гг. ХХ в. европейский и мировой авангард всѐ же оказывает влияние: формируется тенденция интеллектуализации литературы, предпринимаются попытки противопоставления самого акта художественного творчества унифицированности советского общества. Можно говорить, что поэтические поиски эпохи «шестидесятничества», затем приход в литературу «филологического» поколения основываются на стремлении к отчуждению и от советской идеологии, и от мира серой обыденности. С появлением в белорусской литературе поэтических текстов А. Рязанова стало возможным говорить о чертах типологического сходства его творчества с некоторыми проявлениями европейского конкретизма. Уже в первых книгах – «Адраджэнне» (1970), «Назаўжды» (1974), «Каардынаты быцця» (1976) – появляются тексты с особой техникой письма, экспериментальной новационной поэтикой, которая позднее найдѐт широкое распространение. В ранних стихах А. Рязанова заявило о себе стремление к интонационному разнообразию, полифонизму, нашли воплощение новаторские попытки разрушить традиционную организацию стиха. Проблематизация языка, продемонстрированная в поэзии А. Рязанова, – попытка превратить литературный текст в реальную, зримую и чувственную вещь, доступную человеческому восприятию и на эмпирическом уровне – через особую метрику, оригинальную акустическую организацию, визуальную структуру стиха. Показательно в этой связи отношение автора к звуковой организации текста, о которой А. Кислицына пишет: «Значение придаѐтся не просто слову, которое само по себе создаѐт образ, но и корню, отдельным звукам, которые его составляют» [98, с. 98]. В вершаказах, как называет их сам автор, властвует тенденция к донесению слова буквально на уровне сенсорного восприятия, вплоть до идиосинкразии. К подобным произведениям следует именно прислушиваться, поскольку эвфоническая организация высказывания, звуковая инструментовка принципиально важны в произведениях А. Рязанова, как и в конкретистских текстах. 73 Вот как это происходит в вершаказе «Горад» [148, с. 369]: Горад горды і высакародны: ѐн стаіць на высокім месцы – на ўзгорку, на грудзе, і, адгароджваючыся ад навакольнага асяродка вежамі і сцяною, не адлучаецца ад яго, а вылучаецца з яго – як яго цэнтр, сярэдзіна, сарцавіна. С помощью аллитерации и ассонанса «энергичными», «напряжѐнными» звукосочетаниями «горд», «гор», «гру», «гарод», «род» А. Рязанов добивается эффекта прямой акустической передачи идеи, провоцирует возникновение чувственного, мотивированного образа определѐнного величия города, его особого положения, некоторой исключительности. С другой стороны, этот же текст, предельно насыщенный звукообразами, преподносится читателю/слушателю и на умозрительном уровне. Произведение доставляет удовольствие от работы и на уровне семантики, прагматики, метафорики, также при этом открывая возможности философского постижения проблемы. Заявленный выше фрагмент вершаказа может быть рассмотрен как размышление над одним из самых фундаментальных вопросов о дихотомии мира и человека. Топосы, обозначенные в тексте, амбивалентны («ўзгорак», «груда», «вежа», «сцяна», «цэнтр», «сярэдзіна», «сарцавіна»), могут служить одновременно маркерами как исключения, так и включения пространства. Таким образом, тексты подобного типа основываются на тенденции и к интеллектуализации, философичности, и к особой мотивированности высказывания. Аналитический подход к арт-презентации в текстах А. Рязанова проявляется в создании стихотворений с особой жанровой природой. Такие формы стихов дарят словам своеобразную автономность, освобождают их от навязанных «извне» законов, возвращая функциональность. Рязановские жанры пунктиров, вершаказов, версетов, квантем, зномов – результат долгой аналитической работы со средствами языка и речи, попытка абсолютизировать слово, сделать его единственной реальностью. Можно говорить о своеобразном влиянии сциентизма, веры в рациональное основание искусства. В этой связи необходимо вспомнить заявления конкретистов о «сделанности» их поэзии, способах деклинирующего, арифметического письма. Слово, как в рязановском тексте «Голас» [148, с. 366], – уравнение, носитель кода белорусской истории, народного быта и культуры, общечеловеческих ценностей: 74 Гукаю і чую свой голас. Ён займае і гул ракі, і водгул грамады, і цішу далѐкага лесу. І пакуль ѐн гучыць і, усюды прыняты і заахвочаны ўсюды, мае адвагу і моц гучаць, у гэтай краіне ѐн не чужы і не свой, а – сама, заснаваная мной, краіна. Наиболее близкими к конкретистской эстетике и поэтике в творчестве А. Рязанова являются вершаказы. По точному замечанию литературоведа В. Конона, «рязановские вершаказы представляются не только “слиянием” поэзии и прозы, но также синтезом более высокого порядка – единением искусства, мифологии, философии и, наконец, аналитической науки» 101, с. 251. Вершаказы основываются на языковой игре, пристальном «разглядывании» лексико-звуковых особенностей слова, поиске созвучных ему языковых единиц, объяснении внутренней семантики. От долгого употребления слова становятся привычными, а в поэтическом контексте вершаказа смыслы пробуждаются вновь, рождая неожиданные ассоциации. Необходимо говорить об оригинальной интонационной окраске вершаказов, которые демонстрируют особую, сказовую ритмикостилистическую организацию, напоминают саги о потаѐнном смысле вещей и слов: З усіх дрэў дуб самы дужы, самы векавечны, самы даўні і самы будучы – ѐн увасабляе сабою трыяду часу: даўніну, цяперашчыну і будучыню і сваім існаваннем сцвярджае: быў, ѐсць, буду [148, с. 370]. Говоря об интеллектуально-философской насыщенности этого произведения, надо подчеркнуть, что образ дуба, одного из самых почитаемых у славян деревьев, перекликается с образом генеалогического древа, прадрева истории, воплощѐнного в триединстве времѐн. Кроме того, текст содержит в себе большое количество единиц, созвучных слову «дуб» – это и самостоятельные слова, и омонимично звучащие отрезки слов: «дуб», «дужы», «даўні», «будучы», «будучыня», «будуецца», «падобны», «дубль», «буда». Многократный повтор одних и тех же звуковых компонентов особым образом действует на слух и душу 75 читателя, заставляя его воспринимать произведение и на смысловом, и на ассоциативном уровне. Даже намеренное использование А. Рязановым внутрифразовых фрагментов-палиндромов в этом вершаказе содействует постижению идеи времени, способном разворачиваться в мышлении человека одновременно и в сторону будущего, и в сторону прошлого. Чтение сочетания слов «дуб», «будучыня» привычным линейным способом подталкивает к восприятию движения времени «вперѐд» и «вверх» от корней к кроне. А вот поэтическая призма звукосмысла, конкретистская работа именно на уровне фоносемантики заставляет проникнуться идеей «палиндромного» течения времени «вспять», «вглубь», прикасаясь к архаическим праистокам слов и понятий. Причѐм размышления в данном направлении задаѐт сам поэт, называя дуб через оксюморон – «самы даўні і самы будучы». Подобный метод создания произведения перекликается с доктриной аналитической философии Л. Витгенштейна, идеей чистой зрительности философа-формалиста К. Фидлера. Метод последнего «учит нас, что, несмотря на всю экспансию научного познания, наше миропонимание было бы неполным, если бы действительность не открывалась глазу в качестве “зримости”» 9, с. 43. Тексты А. Рязанова – философские максимы, которые воспевают разумную чувственность, синтез зрительного, слухового и интеллектуального восприятия мира во всей его бесконечности. «Вершаказы могли бы послужить хорошим сценарием для сонатной музыки и документально-художественных фильмов о природе нашего края и народной культуре», – высказывает сходные мысли В. Конон 101, с. 252. Изобразительный потенциал рязановских вершаказов, пластичность образов соответствуют конкретистским установкам с их требованием вернуть слову «предметность», совпадение предмета и обозначающего его понятия. Стихотворение «Верас» [148, с. 407] насыщено конкретными существительными, весьма определѐнно обозначающими предмет речи. Слово, от которого идут своеобразные «круги» созвучий, как правило, выносится А. Рязановым в заголовок. В приведѐнном вершаказе им становится слово «верас». Чтобы наполнить его фактурностью, предметностью, поэтической ѐмкостью, А. Рязанову достаточно немногочисленных средств. В частности, данный текст основывается на ассоциативных возможностях слова, поэтических уподоблениях и богатстве омонимических созвучий родного языка, где семантическое поле охватывает сообразно звучащие слова «верас», «верасень», «ворс», «расліны», «версет», «вершы», «веравызнанні», «ерась», пробуждая ряд поэтических и аналитических ассоциаций, становясь, по точному замечанию белорусского лите76 ратуроведа Е.А. Леоновой, осмысления» [122, с. 34]: одновременно «объектом описания- У верасні, калі дацвітаюць апошнія кветкі, на лясных пагорках, выжарынах, расцяробах, усцілаючы дол каляровым ворсам, красуе верас. Сярод астатніх распазнаных раслін верас нібы версэт сярод вершаў: у параўнанні з дрэвамі ѐн – трава, у параўнанні з травою – дрэва, і ў параўнанні з іхнімі «веравызнаннямі» яго «веравызнанне» – ерась. А. Рязанова, как и европейских конкретистов, притягивает не идея заумного, онемевшего выражения, что близко в большей степени футуризму, а сама фактура речевых связей этого слова, его интонационная поливалентность. Рассматривая слово сквозь призму фоносемантики, графемы, идеограммы, конкретисты стремятся не уйти из речи, а, наоборот, вернуться в речь, пристально рассмотрев на микроуровне еѐ самые фундаментальные элементы, еѐ первооснову. Одной из разновидностей классических миниатюр в творчестве А. Рязанова становится жанр пунктиров, тяготеющий к сближению с живописными эскизами. Это максимально конденсированные, композиционно простые стихотворения, стремящиеся к афористичности. Эстетика минимализма, проявляющая себя в стихах-пунктирах, диктует особую стилистику: текст превращается в набросок, экспликацию «первичных структур», атомарных фрагментов мироздания: Здасца, што ўсѐ ўжо было: позірк, пяшчотны і чулы, сонца ў лісці і крыло, што ўвышыні мільганула [148, с. 68]. По поводу пунктиров А. Рязанова известный белорусский исследователь В. Колесник отмечал: «Тут поднимается шлагбаум познавательной недоступности явления, поэт демонстрирует читателю, что он всѐ же художник, которому дано выражать общие идеи в конкретных образах, открытых чувственному восприятию» [96, c. 31]. В пунктирах А. Рязанова сформировался новый тип речи, лишѐнный пространных пате77 тических рассуждений, разительно отличающийся от привычных стандартов «поэтического». Звук и смысл, голос и молчание, традиция и эксперимент взаимодействуют в произведениях-пунктирах поэта. Идея родства, человеческой близости, наполненности солнцем и окрылѐнности совершенно не нова для лирики. Однако взамен пространному и такому очевидному описанию чувств лирических героев предлагается восхитительная тишина и недоговорѐнность, чреватая смыслом. Тексты подобного «пунктирного» характера обладают подчѐркнутой плюральной организацией. Любой фрагмент поэтического высказывания А. Рязанова может быть соотнесѐн с бесчисленным количеством явлений реальности, рождая при этом различные ассоциативные цепочки. Конкретистская пунктирность сообщает тексту подвижность интерпретаций, нацеливает на метафорическое, чувственное восприятие. Конкретистский позитивизм, обращение к словам, обслуживающим повседневность, в стихах А. Рязанова тесно сопрягается с мистицизмом, сферой ассоциаций, потаѐнных духовных смыслов, за обыденностью «дышит» сакральный мир: Піць малако… Не ведаць млосці, не вандраваць па гарадах, быць маладым ў маладосці і памяркоўным у гадах. Піць малако [148, с. 73]. Квинтэссенция человеческой мудрости заявлена поэтом в этом пунктире в простых, обиходных выражениях: что может быть проще и естественне, чем глоток молока, бодрость молодых лет и сдержанность зрелости. А вот внутреннее напряжение текста как раз и связано с тем, что выполнить эти несложные рекомендации – титаническая задача. Таким образом намечается своеобразный конфликт, перенесѐнный в сферу ассоциаций читателя, между простотой формы и глубиной содержания текста. Фраза «піць малако», параболически обрамляющая стихотворение, повторѐнная несколько раз, – один из способов «заземлить» высказывание, добавить ему конкретности. Параболические возможности пунктиров, которые демонстрирует А. Рязанов, – органичное сочетание образности вещного мира и глубоких, опосредованных размышлений над сферой этического знания. Кроме того, стихи-пунктиры демонстрируют тонкую наблюдательность и лаконичность, фактурность и иллюстративность 78 каждого лексического компонента. Визуальная мотивированность в стихах этого жанра особенно поразительна и точна: Першыя кропли дажджу: на плитах азбука кропак [148, с. 107]. При этом зрительный образ становится первотолчком не для выявления причинно-следственных отношений, а для метафорического осмысления мира и человека в нѐм. На основе аналогии капли дождя сравниваются с азбукой точек, скорее с точечной азбукой Брайля, что создаѐт ауру ассоциаций тишины, одиночества, настроения созерцательности, погружѐнности в себя. Метафоризация поэтических пунктиров А. Рязанова не преследует прагматической функции украшательства, риторической изощрѐнности. Специфика высказывания, простота и аскетизм структуры, вещественность и верифицированность слов скорее вступают в конфликт с глубинной метафоричностью текста, разветвлѐнной системой ассоциаций, которые он вызывает: Каля зялѐнага дрэва скульптура з дрэва: маўклівая спрэчка пра дасканаласць [148, с. 112]. Говоря о пунктирах А. Рязанова, нельзя не упомянуть о поисках одного из течений логического позитивизма – физикализма. Наиболее разработанный опыт физикализма представил в своих трудах философ и логик Р. Карнап. Он утверждает, что идеалом должен стать унифицированный язык, близкий точному языку физики. «Вещный» язык Р. Карнапа – это язык, состоящий из слов, обозначающих непосредственно наблюдаемые свойства вещей, чувственно данный опыт. Стихи-пунктиры в этом смысле могут служить образцом подобного регистрационного письма: «Бульба цвіце. / У рамонкаў / круглыя вочы [148, с. 112]». Необходимо отметить, что молчание как эквивалент речи – один из самых распространѐнных приѐмов создания высказывания в конкретной поэзии. Эстетику пустоты, молчания, кристаллизации речи А. Рязанов в своих пунктирах поднял на высочайший уровень. Принципиальная краткость, минимализированность знаков в текстах А. Рязанова позволяют утверждать, что отдельное слово в его строке становится вспышкой истины, фокусом, в котором собирается глубинный смысл текста. Вершаказы и пунктиры поэта, жанры, наиболее близкие эстетическим и поэтическим установкам 79 конкретизма, по замечанию В. Конона, получились «на границе стихотворения, прозаической миниатюры и философского афоризма путѐм постепенного усиления ассоциативности и символичности, с одной стороны, и редукции поэтической напевности, с другой» 101, с. 5. Тексты А. Рязанова, несомненно, тяготеют к передаче и универсальной информации, и черт национальной самобытности, к переоткрытию сокровищ родной культуры. Зачастую происходит это благодаря арсеналу акустической и визуальной поэзии, усилению ассоциативности и одновременно обращению к речевой функциональности слова, его конкретному узусу. Творчество А. Рязанова – синкретическое явление, объединяющее в себе различные способы донесения поэтической информации. Внутренняя форма слова, в каждодневном языке привычно и надѐжно спрятанная, в текстах А. Рязанова, равно как и в произведениях европейских конкретистов, выходит на первый план посредством различных приѐмов мотивировки внутреннего содержания внешними признаками, налаживая крепкое единство означаемого и означающего. В определѐнном смысле творчество А. Рязанова – попытка гармонизировать явление и понятие, реальность и логику, акустическую и визуальную оболочку слова. В творчестве этого поэта основной способ создания поэтического текста – установка на полную прозрачность и однозначную ясность языка. Как можно убедиться, в произведениях А. Рязанова своеобразно реализуется конкретистская эстетика, которая подразумевает создание универсального слова, ѐмкого уравнения, что смогло бы выразить глубинную суть или идентифицироваться с квинтэссенцией бытия, обрести субстанциональную прочность. 80 2.2 Художественная система белорусской экспериментальной поэзии второй половины ХХ – начала ХХI в.: формальнотипологическая классификация в контексте немецкоязычной конкретной поэзии 2.2.1 Графические эксперименты В самой природе поэзии изначально заложен визуальный компонент. Конкретная поэзия как раз и сосредоточилась на «визуальной, физической природе слова» [114, стб. 388]. В произведениях конкретизма происходит обращение к слову и тексту как к материальному объекту, передающему нематериальный смысл. Материальной оболочке – слову – конкретизм пытается вернуть «вещественность», зачастую проявляя это в демонстрации визуальных возможностей лингвистического знака. С другой стороны, соблюдая приоритет естественного, живого языка каждодневного общения, конкретисты вынужденно обращаются к приѐмам визуализации, поскольку зачастую они становятся единственно возможным способом преодоления линейной организации текста и демонстрации поливалентной структуры естественного языка, приѐмом активизации образного и ассоциативного мышления. В этой связи Ю. М. Лотман отмечает: «Во всех случаях, когда мы улавливаем в графике преднамеренную организацию, можно говорить о поэтическом значении графики, поскольку всѐ организованное в поэзии делается значимым» [118, с. 81]. В современной экспериментальной поэзии Беларуси широкое распространение имеют аналогичные тенденции, когда белорусские литераторы графической форме текста придают особый семантический статус. В статье И. Курьян «Друкапісы. Вялікая імправізацыя», предваряющей издание произведений белорусского Бум-Бам-Лита, автор, размышляя об этимологии понятия «друкапіс», замечает характерную особенность: «тут возникает подобие слова “друкапіс” не со словом “рукапіс”, а со словом “жывапіс”» [68, с. 4]. В статье «Графічная форма верша» из «Паэтычнага слоўніка» В. П. Рагойши содержатся сведения о фигурных стихах, «строки которых расположены так, что образуют очертания какой-нибудь фигуры (треугольника, звезды, ромба и т. д.)» [147, с. 362]. Учѐный отмечает, что «графическая форма стиха лежит в основе так называемой зрительной поэзии, куда относятся акростих, телестих, месостих» [146, с. 50]. В некоторой степени метафорично, однако абсолютно точно и лаконично поиски формальной организации стиха в современной белорусской поэзии, подразумевая синтетический характер современного текста, обозначает В. В. Акудович: «Видит ушами, а глазами слышит» [3, с. 50]. Активизацию интереса к экспериментальным способам организации поэтического высказывания отмечает и В. Жибуль: «Так, на протяжении по81 следних десятилетий в отечественной поэзии, кроме относительно неусложнѐнных видов комбинаторной поэзии (циркемы, антиполиндромы, логогрифические, метаграмматические, “бесконечные” стихи С. Минскевича, “морские шпильки” А. Тихоновой, рапалические и анаграмматические стихи А. Ковалевского), появились также и художественные тексты, построенные на дополнительных усложнениях (акротелестих А. Кудлосевича и А. Брусевича, сонет-центон, сонет-брахиколон, сонет, состоящий из туюгов Ю. Потюпы, триолет-брахиколон В. Бурлак, венок триолетов В. Ыванова, поизведения, основанные на синтезе поэзии и графики – такие, как амбиграммы Д. Дмитриева)» [79, с. 26]. Как уже отмечалось, поиски конкретистов тесно связаны с лингвистической концепцией Ф. де Соссюра. Согласно соссюрианской доктрине, знаки-символы, напрямую соотносимые с естественным языком, не обладают связью между означаемым и означающим. Преодолеть это разъединение пытаются поэты-экспериментаторы, в форме произведений которых присутствует визуализация (рисунок), органически входящий в литерологический контекст и художественный текст. Таким образом, произведения с подчѐркнутой визуальной природой тяготеют к характеристикам знаков-икон, в которых материальная внешняя сторона (означающее), предопределяясь их идеальной внутренней стороной (означаемым), «подобна» означаемому. Фрагментарно визуальные стихи встречаются у целого ряда белорусских поэтов последних десятилетий. В цикле стихов «Гарадскія дрэвы» [40, с. 24–25] Вс. Горячки выделяется текст, зримо воссоздающий абрис дерева, «выписанного» буквами: Дрэва крывы ствол за лісцем х а в а е Данный цикл – это миниатюры, налаживающие крепкое единство между чувственным, непосредственно данным и рациональным, опосредованным. Особенно показательным в этой связи и является фигурное стихотворение Вс. Горячки «Дрэва». В сборнике А. Глобуса «Скрыжаванне» (1993) именно визуальное стихотворение «Жах» [46, с. 260] помещено первым, заявляя эстетическую и поэтическую тенденцию всех произведений сборника к содержательному 82 и стилистическому эксперименту и поддерживая на уровне знака-иконы семантику названия книги. Жизнь как крестный путь, судьба человека, полная испытаний и страданий, тяжѐлого выбора себя и своей дороги, мир, принципиально абсурдный, трагически не устроенный, страшный – именно такая коннотация закрепилась в сознании носителей языка за лексемой «крест» и «перекрѐсток», что и актуализировано в тексте А. Глобуса в минимальном количестве лингвистических средств. Отношения между вербальным и невербальным компонентом в этом тексте паритетные, однако роль графических, поликодовых средств для создания художественного целого данного произведения с осложненной семиотической природой несомненно велика: жах жах жах увесь свет у крыжах, увесь свет жах жах увесь свет у крыжах, увесь свет жах жах жах жах Именно изучение структуры языкового знака в духе конкретистской эстетики и поэтики, преодоление произвольности и условности связи понятия и предмета, стоящего за ним, стало творческим кредо Л. Сильновой – автора сборников экспериментальной поэзии «Рысасловы» (1994), «Агністыя дзьмухаўцы» (1997), а также сборников стихов «Ластаўка ляціць» (1993), «Зеленавокія воі і іх прыгажуні» (2001). А. Аркуш в послесловии к сборнику «Рысасловы» отмечает, что «поэтесса … сделала попытку соединить искусство слова с искусством линии» [6, с. 34]. В свою очередь О. Гомрингер, теоретик и практик конкретизма, в статье «Определения конкретной поэзии» предлагает свою дефиницию схожему понятию: «Поэтические идеограммы образуются из букв и слов в результате усиленной конкретики семантических и семиотических намерений. Идеограммы представляют собой целостное логическое построение, запечатлевающее увиденные предметы» [240, с. 165]. Можно отметить, что произведениям-«рысасловам» Л. Сильновой и идеограммам конкретистов присущи черты словесной головоломки, шарады, загадки, требующей определения какого-либо слова на основании его описания – не только звукового и смыслового, но и визуального. Такие 83 тексты реализуют подходы асемического письма без слов, но с выработанной авторской системой письменности-шифровки, отчасти напоминающей пиктограмму и идеограмму, начертание которых репрезентует собственную семантику. Характерной иллюстрацией приѐмов шарадного членения слова на компоненты с последующим их описанием может служить произведение Л. Сильновой «дарма» [159, с. 7]. В прямом смысле внутри слова «дарма» поэтесса выделяет слово «дар», а потом в духе детской глоссолалии восклицает: «Ма!» Художественный микроанализ короткого и с виду непроизводного слова «дарма» позволяет создать достаточно ѐмкий и визуально мотивированный образ. Приѐмы брахиграфии, сокращения обычного написания часто встречаются и в сборнике «Рысасловы» Л. Сильновой, и в текстах европейских конкретистов. Текст «год» [159, с. 6] представляет собой сочетание черт монограммы (замены полной надписи, слова целиком) и визуальной шарады. Естественно, изображение циферблата часов вызывает мотивированные ассоциации с течением времени, являясь его знаком-иконой, а вплетѐнные в рисунок буквы из слова «год» сообщают информацию и на уровне семантики. Формы иероглифического письма подразумевают более тесную связь знака со значением, чем это принято в европейской традиции письменности. Своеобразная графическая загадка, стимулирующая образное мышление, развивающая наблюдательность, умение сосредоточиться, заявлена в тексте Л. Сильновой «дз и дж» [159, с. 8]. Данное произведение, по словам А. Аркуша, «стихотворный проект, посвящѐнный белорусским буквам-звукам» [6, с. 34]. В самом деле, иконичность знаков (изображение насекомых), составляющих этот текст, проявляет себя в соответствии их внешней формы значению. Речь идѐт о фонетических чертах, характерных для белорусского языка, в котором произношение аффрикат «дз» и «дж» устойчиво ассоциируется с гудением насекомых. Знак-икона в этом поликодовом визуальном стихотворении моделирует обозначаемое, представляя графический образ звука, в каком-то смысле заявляя выход к паралингвистическим средствам коммуникации: 84 На подобном приѐме письма иероглифическими элементами основано произведение Э. Яндля «мученичество святого петра» («martyrium petri») [230, с. 24], которое ломает традиции пересказа библейской истории о гибели одного из апостолов Христа, из смирения попросившего быть распятым вниз головой. Традиционно заявлен лишь один заголовок произведения, сам же текст опосредованно, визуально, однако наглядно отражает целый процесс, душераздирающую историю распятия подвижника: fuß fuß knie knie mann linke rechte kinn auge auge стопа стопа нога нога муж левое правое борода глаз глаз Необходимо отметить, что реалии, изображѐнные в данном произведении, нельзя отнести к позитивно данным, однако они созданы сознанием из элементов реальности и в несколько новом виде образуют целостность означающего и означаемого. Схожие тенденции отмечаются и в произведении Л. Сильновой «Хрыстос» [159, с. 25], где буква «х» представляет собой абрис фигуры распятого Христа: Сама поэтесса в своей «Вялесаўскай лекцыі», произнесѐнной на церемонии вручения литературной премии «Гліняны Вялес» (1995), размышляя об особенностях «рысасловов», обращается к знаменитой фразе В. Ластовского из его предисловия к «Падручнаму расійска-крыўскаму 85 (беларускаму)»: «Слова, – гэта ня ўмоўны знак для выражэньня мысьлі, але мастацкі абраз, вызваны найжывейшымі пачуваньнямі, якія прырода й жыцьцѐ выклікалі ў первабытным чалавеку» [158, с. 127]. На самом деле, визуальные возможности слова, продемонстрированные в произведениях сборника, близки искусству каллиграфии, когда буквы или слова напрямую изображают то, что они значат, имеют вековые традиции. Своеобразная реактуализация каллиграфии становится достаточно распространѐнным явлением в современной белорусской литературе. Примечательно и то, что в немецкоязычной и белорусской литературах с разницей в несколько десятилетий появляются программные документы, эстетические и поэтические установки которых достаточно близки и буквально вторят друг другу. В 1997 г. молодой белорусский поэт А. Ковалевский заявляет о новом литературно-художественном методе – логоформизме, который «позволяет почувствовать и понять естественную, первородную субстанцию образа при помощи единственного и наиболее гармоничного сочетания слова и формы … Это значит, что слово (набор слов) диктует форму … а форма в свою очередь обусловливает размещение, порядок и общую звуковую оболочку словесного ряда, который, кстати, может быть не обязательно линейным, а изображать круг, квадрат, треугольник или какую-нибудь другую геометрическую фигуру» [93, с. 38]. Многие из произведений конкретизма и логоформизма превращаются в рисование словом по бумаге, становятся визуальными опытами, орнаментальным письмом. Текст стихотворения «Літарызацыя рукі» [93, c. 38] А. Ковалевского является своеобразной реализацией языковой метафоры «приложить руку» и позволяет в буквальном смысле увидеть руку автора: строчки текста вписаны в контур ладони. Строчки, плавно изгибаясь, имитируют папиллярные узоры, отпечатки пальцев, выпуклости и впадины ладони. Весь текст при нелинейном прочтении – многократно повторѐнные аксиоматические фразы «гэта мая рука», «гэта мае пальцы», «гэта мая далонь». Текст обыгрывает белорусскую языковую метафору «літаральна», т. е. «буквально», «дословно», воспроизводя буквами заявленную руку максимально точно и подробно. Такой минималистский арсенал отсылает к генологическим принципам жанра каталога, стихотворения-инвентаризации, где герой как таковой вытесняется предметом, естественной «вещностью», где взамен рифмы властвует единоначалие, синтаксическое однообразие, дескриптивность как ведущая тенденция и приѐм. Известно, что инвентаризация – это способ проверки соответствия фактического наличия предмета или явления, именно такой путь выбирает для создания своего текста «Літарызацыя рукі» А. Ковалевский: 86 Обращает на себя внимание ещѐ одно фигурное стихотворение А. Ковалевского – «Транскрыпцыя пакутаў арыштаванага ліхтара» [92, с. 64], внешними контурами воспроизводящее очертания уличного фонаря. Длина каждой строки в стихотворении отчасти предсказуема, поскольку «вписана» в абрис заданного в заголовке предмета, отчасти (в силу сложности геометрии фонаря) зависит от авторского произвола. Текст состоит из многократных повторов фрагментов слов «ліхтар» и «арыштант», кое-где подобранных по правилам буриме («штаны», «рэшта», «танны»), а в других строчках продиктованных графическим порядком. Семантически стихотворение обыгрывает «прикованность» фонаря к одному месту, отчасти реализуя метафору «остолбенеть», «застыть на месте», «замереть». Весь спектр значений может быть транслирован и через понятие «быть арестованным». Некоторое напряжение создаѐт в тексте опосредованный рассказ об известных страданиях фонаря-арестанта: кто-то его «хіліў», а кто-то «ліў» на «штаны ліхтароў», вызывая эмоции, переданные в тексте через глагол «роў». 87 Как отмечает сам поэт, с помощью метода логоформизма «атрымліваецца маналітная еднасць СЛОВА + ФОРМА, вынікам якой з’яўляецца ідэальнае адчуванне» [93, с. 38]: Ліхтар – арыштант Арыштантліхтар ТАР–ТАР–ТАР ліха ХАЛУЙ ХІЛІЎ ХА–ХА–ХА Ліў танны ТАН Штаны ліхта–роў РОЎ РОЎ І Рэшта зрэшты Хтарыў Хта Хта Хто Ліхтар? ТАР арышт? ТАР АРЫ? ТАР Ы? ТАРАРЫ! ЛАР–АРЫШ–Т?! І.ХТАР–ары–штант І.Хто–рарыш–тан І.Хтыра–рышт–ан Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т-Т Ліхтарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Л І Х Т А Р А Р Ы Ш Т А Н Т Арыштантліхтар Несколько с другой стороны подходит к созданию текста с подчѐркнутой визуальной структурой А. Ковалевский в стихотворении 88 «Імправізацыя#1», а также «Імправізацыя#2. Вясна ідзе». В архитектонике этих текстов важное место играет минус-приѐм (Ю. Лотман), обыгранный в композиции через подзаголовок: «Імправізуй, чытач! Запаўняй прабелы, дзіркі ды іншую прастору твора сваімі ўласнымі малюнкамі – словамі – тэкстамі!» [92, c. 93]. Текст стихотворения представляет собой своеобразные прописи, потенцию текста, где в заготовленные автором «окошечки» читатель вправе вписать интерпретации, основываясь на собственных представлениях о предмете речи. В этой связи актуальны слова белорусского литературоведа Н. Ламеко, которая отмечает, что «форма иногда становится содержанием, определяет семантику текста» [109, с. 13]. В стихотворении осуществляется трансляция логоформизма не только как метода письма, но и как «метода чтения, восприятия, интерпретации и даже театрализации» [93, с. 39]. Отметим также, что чтение стихотворения возможно и традиционным линейным способом, с соблюдением системы рифмовки, размера и семантического плана: калі сонца промнем чапляе вока недзе далѐка робіцца цѐмна і страх (не жах) Там пануе Ярко выраженная визуализация текста отмечается и в ряде произведений, и даже в целых циклах С. Минскевича, автора книг «Праз галеРэю» (1995), «Менскія санэты / Мінскія санэты» (2002), «Прыгоды Какоса Маракоса» (2006), «Я з Бум-бам-літа» (2008), «Сад замкнѐных гор» (2011), «Чароўная крыніца, ці Як навучыць дракона чысціць зубы» (2012). Отчасти поиски vers figures, визуальные эксперименты С. Минскевича основываются на теоретических выкладках, изложенных в документе 1994 г., – так называемом «маніфесце транслагізму», созданном в соавторстве с А. Туровичем. Необходимо отметить, что конкретистские установки достаточно последовательно укладываются в парадигму неоавангардистского искусства, в то время как теория транслогизма, сформулированная гораздо позднее, носит отпечатки и новейших явлений, к примеру постмодернизма. Однако, по нашим наблюдениям, практические упражнения транслогиста С. Минскевича имеют немало общего с теорией и практикой конкретной поэзии. Как отмечает А. Кислицина, «он (манифест транслогизма. – Л. С.), 89 по сути, попадает в оппозицию и к традиционному “добартовскому” литературоведению, и к постмодернистскому» [99, с. 100]. Одним из центральных понятий рассматриваемого манифеста является логема. Согласно манифесту, логема – это «определѐнная единица смысловой информации», «воспринимаемый бит, он может быть от фонемы до абзаца», «носитель туннельных переходов», «логема может “открываться” и выводить смысл на иной уровень, к иному логосу» [129, с. 108–109]. При всей известной метафоричности формулировок достаточно явственно зафиксирована идея подхода к словесному знаку и на уровне протяжѐнности во времени, и на уровне протяжѐнности в пространстве. Актуальным становится задействование в процессе транслогического текстопорождения всех возможностей слова как единицы многосингулярной структуры естественного языка, «передача всеми средствами текучести (пере-текаемости) форм, смыслов, ассоциаций, реальностей …» [129, с. 118]. Надо сказать, что в творчестве С. Минскевича возможности визуализации текста используются достаточно часто, демонстрируя транслогические переходы на различные уровни восприятия и новые способы трансляции информации. Удачным образцом «рисования словом по бумаге» может служить стихотворение «ві-» С. Минскевича из цикла «Візуаліі» [129, с. 59]. Произведение основывается на идее кинетической поэзии и решительно отказывается от классического представления о лирическом произведении с необходимой внешней статичностью, строгой соразмерностью стоп и строф. Внутреннее движение мысли, эмоции поддерживается в кинетическом стихотворении формальным движением букв, слов, слагающих «схему» движения, «сѐрфа» по тексту. В тексте создаѐтся пластический, зримый и непосредственно осязаемый образ, близкий паралингвизмам. Причудливое расположение строк произведения, нервично расползающихся по странице, создающих впечатление движения, воспроизводит ситуацию рассматривания собственного дробящегося отражения в витринах. В тексте вербальный и невербальный планы пересекаются, накладываются друг на друга, тем самым усиливая семантику произведения. Изломанное и искажѐнное, как в кривом зеркале, изображение становится ѐмкой метафорой эфемерности, кажимости самого человеческого существования. А уверенность в телесности при пристальном рассмотрении – не более чем фикция, говоря словами стихотворения, «тулава – чарвячынае», бессильное, не имеющее сил противостоять силе обстоятельств. В подобных вербально-визуальных поликодовых экспериментах особую роль играют приѐмы транслогического «туннельного» перехода из пространства поэзии в пространство графики: 90 вітрыны люструюць нашыя выявы і мяне расьпінае бязглузды сьмех – мы раптам згубілі ўсе пазванкі, намагаемся ўстояць, а тулава – ч а р в я чы на е. Постижение информации в творчестве С. Минскевича, в поликодовых текстах конкретной поэзии осуществляется несколько раз на различных уровнях. Сначала осуществляется визуальное восприятие, рассматривание рисунка, фигуры, абриса. После знакомства с вербальной составляющей, семантикой текста у читателя происходит наложение первоначального визуального образа и содержательного плана, в результате чего идея произведения, его символическое значение раскрывается более глубоко. Так, текст «Беларускім сібіракам» [129, с. 63] первоначально воспринимается как неопределѐнный абрис чего-то согнутого, горбатого. Знакомство с текстом становится своеобразным пояснением, изображение чего размещено на странице. Это, цитируя произведение, может быть «банальны банан», «рог у барана», «бок барабана», «сьпіна Байкала». Но двукратный повтор последней фразы, заостряя мысль, убеждает читателя, что речь идѐт о людях, которых «пазгінала» тяжѐлая жизнь, условия севера. Перво91 начальное впечатление дополняется, и фигура текста оказывается изображением согбенного человека, склонившегося под бременем судьбы: банальным бананам як рог у барана як бок барабана як сьпіну Байкала людзѐў пазгінала людзѐў пазгінала На основе семиотического знака-символа, сохраняющего структурное сходство с означенным, построено и поликодовое стихотворение «завтра/вчера» («morgen/abend») Э. Яндля [231, с. 16], которое уже первоначальным впечатлением – имитацией витков извечной спирали – настраивает на определѐнные раздумья: вчера завтра вчера завтра вчера завтра вчера завтра вчера завтра вчера завтра вчера завтра abend morgen abend morgen abend morgen abend morgen abend morgen abend morgen abend morgen Ещѐ один шаг для передачи движения в тексте осуществлѐн в творчестве Д. Дмитриева, автора книг стихов «Полое собрание сочине92 ний» (2002), «Избранное» (в обработке бук-артиста В. Шлюндина) (2004). Кинетические эксперименты автора оформились в серию текстовамбиграмм, где в одном визуальном объекте при повороте на 180° или 90° прочитывается разный текст. Такие начертания могут называться «листовертнями» (термин Г. Лукомникова), «перевѐртышами», «поворотнями», «опрокиднями», «буквооборотами», «словооборотами», а в белорусской практике – «аркушакрутами» (термин Ю. Борисевича. – Л. С.). При переворачивании у слова появляется неожиданный скрытый подтекст, в некотором смысле эпиграмматическое заострение, что позволяет разглядеть слово по-новому. В конкрет-практике распространѐнным явлением стали так называемые «devil trap» («чѐртовы ловушки») – нелинейные тексты, чтение которых возможно, если поворачивать произведение по определѐнной траектории в пространстве. Внутри одного слова в таких «ловушках» за шрифтовой или каллиграфической вязью может быть спрятано другое, а при повороте листа написанное может предстать ещѐ одним способом: Дж. Фарнивал «devil trap» («чѐртова ловушка») [231, с. 136] Амбиграммы Д. Дмитриева созданы на пересечении семантических, звуковых и визуальных возможностей слова. Подход автора близок искусству дизайна и демонстрирует отношение к слову как к материальному объекту, что в литературе соответствует конкретистскому подходу. Кроме того, амбиграммы Д. Дмитриева имеют принципиальную каллиграфическую природу, где, кроме визуального воздействия, важна именно полисемия начертания, когда один и тот же иероглиф, прочитанный разными способами, может обозначать несколько понятий. К тому же, по мнению известного литературоведа и критика Л. Зубовой, «основным свойством, определяющим новизну жанра, является установка на пространственную подвижность изображения, что не только расширяет возможности знаковой системы, но и активизирует зрительный канал восприятия» [86, с. 301]. Интересным представляется амбиграмма Д. Дмитриева, состоящая из параграфической оппозиции «Якуб – Янка» [62], на визуальном уровне 93 преподносящая идею «неразлучности», неразделимости двух классиков белорусской литературы и одновременно аутентичности, противопоставленности их творческой манеры: В некоторых текстах Д. Дмитриева представлены моральные сентенции: «Шэпча Каханьнне: марную ўсе мары», «Шэпча Сьмерць: людзі ўзвыюць» [62]. Здесь текст до двоеточия читается в одной плоскости, а после него – при повороте на 180°. Функцию пунктуационного оформления берѐт на себя читатель, оформляя интонационную паузу во время манипуляций с листом. Полнота, многозначность, драматизм и экспрессия художественного высказывания проявляют себя в экспериментальном визуальном стихе достаточно выразительно, а кинетические средства лишь усиливают впечатление: Книга «Трыццаць тэкстаў» (2009) Д. Плакса, белорусского переводчика, прозаика, поэта и журналиста, представляет собой эксперимент по соединению текста как единства звука, графики, дискурса и языка с иллюстрациями (фото- и шрифтовыми). По сути, каждый из текстов, расположенных на правых страницах книги, продублирован на левых в фотоиллюстрации или через шрифтовые эксперименты. Признак графичности поэтического текста ещѐ в творчестве европейских конкретистов был возведѐн в абсолют и стал источником неиссякаемого количества экспериментов с визуальной, материальной природой слова, зачастую самодовлеющей, радикально освобождѐнной от строфо- и текстостроительной функций. Схожий подход демонстрирует и Д. Плакс, дублируя каждый текст в своѐм сборнике визуальной репрезентацией. Одновременно необходимо отметить и речевую, акустическую составляющую поэтики этой книги, такое параллельное представление текста более всего напоминает речь и еѐ сурдоперевод, оформленный в пространстве. Поэтическая графика Д. Плакса зачастую становится своеобразным средством передачи особенностей авторской манеры исполнения, в том числе интонационного и кинетического ряда. Паралингвизмы как структурообразующие компоненты коммуникации вообще и как средства создания художественного образа в частности имеют большое значение в этой книге. 94 В рецензии А. Иващенко на книгу «Трыццаць тэкстаў» Д. Плакса отмечается, что «при наличии же опорного (исходного, первичного) текста – достаточно традиционного с графической точки зрения, – который собственно не требует никаких визуальных пояснений, иллюстрационная часть воспринимается исключительно как ... иллюстрационная часть» [87, c. 324]. Однако необходимо учитывать, что традиции европейского письма/чтения фиксируют начало восприятия текста слева, где как раз и помещены визуальные эксперименты со словом Д. Плакса, а потом уже взгляд перемещается вправо, позволяя заговорить текстовой семантике. Такая «траектория», очерѐдность знакомства с текстом соответствует всем нюансам работы психики с визуальными образами. В текстах Д. Плакса поэтическая графика – это, в первую очередь, неотъемлемая часть поэтического дискурса, кроме того, самостоятельное проявление материальной природы написанного слова. По мнению поэтов-конкретистов, функция поэзии – показать язык таким, какой он есть, то есть лишѐнным коммуникативной функции. Своеобразной деструкцией языка, которая открывает путь к первоэлементам речи – визуальным образам, процессу артикуляции, другим физическим параметрам слова, – обратился в своих текстах Д. Плакс. Чтение подобного текста традиционным способом искусственно затруднено, что заставляет читателя прибегать скорее к внимательному рассматриванию, дешифровке произведения: Этот текст продублирован несколько сомнамбулическими строками, где повествование разворачивается крайне неспешно, только намекая на динамику, вновь и вновь останавливаясь, то приоткрывая, то вновь пря95 ча цепочки ассоциаций, словно имитируя ленивые движения веера, изображение которого нанесено строками этого текста: Калі я ляжу я думаю што мне трэба падняцца калі я стаю я думаю што трэба пайсці прылегчы што лягчэй паўзці ў гару ці каціцца ўніз наляпляючы на сябе мокры рыхлы порысты з мінулагоднім лісцем камячкамі чорнай на белым незразумелай літаральна не НА але У друкаванай у паверхню ў скуру радкамі высакалобнага бязмесця выскамоўна друзлага цела глуздага гожага ПРЫ [141, с. 58–59]. Своеобразная манера речитации – а собственные тексты Д. Плакс в публикации журнала «Дзеяслоў» [140] озаглавил как «Рэчы та ці вы», акцентировав внимание на авторском произволе и визуального, и акустического порядка, – проявляет себя в создании «тѐмных», нечитабельных текстов, где мысли и их словесная оболочка, слова, буквы напластовываются друг на друга, перебивая плавное повествование, демонстрируя ситуацию сумятицы, спонтанности поэтического монолога: Семантика этого стихотворения вербализирована так: Усьмешка паўадкрытая трохі схіленая чорныя фарбаваныя але каму якая справа выглядае сукенка нічога тут больш не дадаць [141, с. 22–23]. По сути, текст передаѐт конфликт речевого усилия между физиологической и семантической стороной высказывания. Пространственному оформлению оказалось подвержено глубинное течение мысли, еѐ рождение, оформление в слова. Едва читаемые строки визуального текста Д. Плакса – попытка проиллюстрировать тайну рече- и мыслетворения, реконструкция этих внутренних механизмов посредством поэтической графики. Подобный же приѐм используется и в текстах немецкого конкретиста К. Бремера [240, с. 29], где зачастую неясность написания, шрифтовые напластования служат функции прояснения семантики, снятия оппозиции между знаком, протяжѐнным в пространстве, и знаком, протяжѐнным во времени. Помарки в тексте, наползание строчек друг на друга становятся параграфическими средствами, позволяющими расширить рамки слова, 96 полнее и точнее донести семантическую составляющую. Варьируя слова «lesbares», «unlesbares», «übersetzen» («читаемый», «разборчивый», «нечитабельный», «неразборчивый», «переводить»), поэт очерчивает целый круг проблем – понимания текста, его чтения, перевода, способы донесения сокрытого в слове смысла: В творчестве европейских конкретистов зачастую звучит протест против автоматизации восприятия, оформленный путѐм нелинейного разворачивания текста. Визуальные «капканы» и «ловушки», подстерегающие читателя подобных текстов, обеспечивают сложный, но очень интересный способ постижения авторской задумки. Такой подход наблюдается и в сборнике «Трыццаць тэкстаў» Д. Плакса. Привычная метафора о том, что «мысли плывут», в одном из произведений поэта оказалась реализованной. Поэтическая графика позволила строчкам стихотворения образовывать волны и рябь, как на поверхности водоѐма, а семантическая составляющая произведения продемонстрировала привычную для сборника манеру внутреннего монолога с обрывистостью фразы, незаданностью ассоциативного ряда, всеми атрибутами живого течения мысли. Первая же фраза текста – «Няма і нема капітана Нэма» [141, с. 20] настраивает читателя как раз на неспешное погружение в глубины, скольжение по водной глади, а визуализация текста позволяет увидеть реализованную метафору путешествия по водным просторам. Известный американский психолог и культуролог Р. Арнхейм называет такое повествование «дрейфующими образами», а настроение, вызываемое этим стихотворением, по его словам, «напоминает отрешѐнное наблюдение за плавно движущимися по небу облаками» [7, с. 82]: Няма і нема капітана Нэма не пачуць не пацук што бяжыць з карабля ня трэба ля-ля ля стала ля мікрафона побач з ѐй маѐй галавой дурной ня сьветлай нявестай а той пустой пастой не ідзі па га дзі чакай не 97 зьнікай запытай лепш пра жыцьцѐ тую частку што пражыта пра жыта тую частку што ня зжата за ката прыняў ката выпусьціў душу ўзьляцела вярнулася мушу ехаць да Беластоку з другога заходняга боку другія ня белыя сьцѐкі пусьціўся ва ўцѐкі кінуўся ў скокі ня таньчу ня плачу ня выю сам сабе на шыю павесіў прыгоннае права ня вельмі ўдалая справа выйшаў у эфір на хвілінку гучна пагрыз скарынку што зробіш ня тое выданьне як тут ні кінь выгнаньне В конкретном стихотворении Ф. Мона также находит реализацию одна из многочисленных языковых метафор – «время летит», текст скомпонован из многократно повторѐнных букв, составляющих слово «zeit» («время») [241, s. 99] и произвольно разлетающихся по странице, тем самым иллюстрируя собственную семантику: Иконические возможности знака использовал в своѐм творчестве и В. Жибуль, автор многочисленных экспериментальных стихов, составивших сборники «Калі ў хаце дыверсант» (1996), «Рогі гор» (1997), «Прыкры крык» (2001), «Дыяфрагма» (2003), «Стапеліі» (2012). В сборнике «Дыяфрагма» стихотворение «Плюмбікон» [77, с. 33] внешне повторяет очертания телевизионной детали, видикона. Да и сам текст на семантическом уровне повествует о просмотре телевизора, где за плѐнкой экрана «уладарыць падводны цар Плюмбікон і яго дачка Яе Высакавольтнасьць прынцэса Тэлевізія» и где так легко утонуть в глубинах информационного пространства. По сути, стихотворение в ироничной форме рассказывает об образе жизни среднего большинства, давно и безвозвратно пойманного в сети бесконечных телепередач. Последние строки, буквы в которых расположены вертикально, визуально иллюстрируют глубину проблемы, захлопывают капкан плюмбикона, современного Бога, требующего «ператварыцца з вадалазаў у тапельцаў»: 98 катамаран майго позірку плавае па вэртыкальнай паверхні кінэскапічнага возера што пераліваецца хвалямі растраў Я спускаю з палубы сеці й лаўлю інфармацыю трымаючы сьпінінг дыстанцыйнага кіраваньня а сам я туды нырнуць ня здольны бо паверхня пакрыта шклом нібыта нафтавай плеўкай якую разьліў самы сапраўдны катамаран у самым сапраўдным моры Але што там у глыбіні пра гэта я чуў ад тых хто здольваў ныраць туды не з паверхні а наадварот са дна населенага электрычнымі вуграмі высокага напружаньня Там уладарыць падводны цар Плюмбікон і яго дачка Яе Высакавольтнасьць прынцэса Тэлевізія яна кліча нас у свае палацы і нават плеўка шкляной роўнядзі не замінае нам ператварацца з вадалазаў у тапельцаў уіп нр гфа лас ырт бмо аар чцы эыш зйч нны ыы мм Размышляя о подобных произведениях, немецкий конкретист Ф. Мон отмечал: «Весь текст может быть одним взглядом охвачен как структура, его внутренние отношения очевидны, он является непосредственно зрительным образом, вместо того, чтобы постепенно формироваться в сознании читателя на основании прочитанного и запомненного» [132, с. 174]. Интересна задумка В. Жибуля, реализованная в стихотворении «Трансфіліпупцыя» из сборника «Дыяфрагма» [77, с. 66]. Строки стихотворения слагают два взаимно симметричных треугольника, обращѐнных 99 друг к другу своими основаниями. В визуальном смысле они одновременно и отражают друг друга, и магически противопоставлены друг другу. Знакомство с семантической составляющей текста позволяет говорить не только об орнаментальной, сугубо эстетической функции поэтической графики, но и о высокой степени проявления функции смысловыражения, поскольку строки из обоих треугольников взаимосвязаны друг с другом, образуют своеобразные пары, уточняющие друг друга, складывающиеся, как пазлы, в осмысленный текст. Название текста в качестве значимой морфемы содержит слово «пуп». Таким «пупом», осью в тексте становятся визуальные системы вертикального и горизонтального сечения. Ещѐ одним образом, реализованным в данном стихотворении, может стать идея песочных часов, содержимое чаш которых есть одно и то же, но в обратном порядке. Идея «перетекания» выражена в тексте через лексемы «фільтраванне», «кляпан», «труба» и др.: Не, мяне не міне фільтраваньне – выпрабаваньне ў порыстай мэмбране. Фільтар кляпан адамкне, і праглыне труба мяне. Вакуумнай безданьню дыхне чорных лябірынтаў заклінаньне. Пушчуся ў рэактыўнае блуканьне па зманлівых камунікацый крывізьне. У жалезна-нікелева-меднай баразьне распачнецца бурбалак зялѐных клекатаньне. Лазэрны прамень туды зьнянацку зазірне. Глухая цемра растварыцца ў жаўцізьне. І зьявіцца такое ж адчуваньне, як калі пачуеш скавытаньне ў наглуха зачыненай труне. Мяне падводны ціск сагне. Праглыне труба мяне. У цѐмнай мэмбране выпрабаваньне – фільтраваньне ці міне мяне? Не. Немецкий теоретик современного искусства К. П. Денкер отмечает: «Произведения визуальной поэзии предполагают, что синкретичное ис100 пользование фигуративных и языковых элементов с различными семантическими возможностями в итоге создают более ощутимый образ» [60, с. 112]. Творчество О. Спринчан, автора поэтических сборников «Вершы ад А.» (2004), «ЖываЯ» (2008), как заявлено уже в аннотации и к первому, и ко второму сборнику, «отличается гармоничным сочетанием традиционного и новаторского», «переплетением традиции и эксперимента» [166]. И в самом деле, тексты поэтессы характеризуются по преимуществу традиционными категориями эстетики и поэтики. Однако отдельные стихи сборников представляются интересными находками экспериментального стихосложения. О. Спринчан зачастую вводит в ткань своих произведений знаки препинания в функции параграфических средств, графические символы, значки, необычную графическую сегментацию текста. В результате поэтесса добивается как актуализации номинативного уровня поэтического текста, так и дополнительного усиления его экспрессивной, креативной составляющей. В стихотворении «Сня*ынка» [166, с. 30] из поэтического сборника «Вершы ад А.» поэтесса активно использует вместо буквы «ж» параграфический знак «*», часто в обиходе именуемый «звѐздочка», что позволяет усилить мотивированность высказывания, дополнительно проиллюстрировать повествование, расширив вербальный контекст визуальным компонентом. Стихотворение вполне традиционно в своей «линейной последовательности формы и содержания» (Р. Арнхейм), однако включение нового средства вносит акцент в смысловыражение: Сня*ынка падае на кры*, і кры* кры*уе неба крыкам: – *ывінка сне*ная, навошта табе *ытло *алобы гэтай. Ты * там кру*ылася, *ыла!.. А тут?!. – Я незале*насці *адала ад вышыні і ад *ыцця... А тут – памі*. 101 В стихотворении «Пакута» [167, с. 89] из сборника «ЖываЯ» автор демонстрирует иные приѐмы визуализации, стремится к созданию картины в трѐх измерениях, отказываясь от линейного развѐртывания строк: Пакута П а к у т л а ы х П енм алунікаП Строки стихотворения читаются по часовой стрелке, очерчивают условный периметр комнаты, минимальными средствами передают и настроение опустошѐнности от страданий, некоторой омертвелости лирического героя, от мучений потерявшего дар речи, способного только на элементарную констатацию: вокруг запустение, пыль, тлен, а сил на изменения совсем не осталось. Феномен «переходности», формирования «новой литературной ситуации», характерный для современной белорусской литературы, проявляет себя и в распространении новаторских приѐмов письма, интенсивном творческом усвоении всего многообразия опыта мирового литературного процесса, в первую очередь модернистско-авангардных экспериментов ХХ в. Как отмечает Е. А. Городницкий, «эта близость, сгущѐнность, отсутствие дистанции, синхрония разнородных художественно-эстетических явлений была в высокой степени характерна для развития белорусской литературы в ХХ веке» [39, с. 48]. В современной белорусской поэзии мы отмечаем целый ряд произведений, в которых актуализируется визуализация текста с помощью графических элементов, расширяющих его семантику и образность. Такая тенденция находит выражение в отказе от линейной организации текста, в расширении приѐмов письма/чтения/интерпретации произведения по произвольной траектории. Этот подход нашѐл последовательное выражение в теории и практике конкретной поэзии, аккумулировавшей в себе ещѐ в середине ХХ в. наиболее яркие достижения мирового авангардного искусства. 102 Наблюдения над практикой современной визуальной белорусской поэзии позволяют говорить о чертах творческой преемственности по отношению к конкрет-поэзии, а также о национальном многообразии видов данного явления. Распространѐнным в современной экспериментальной поэзии Беларуси становится письмо, основанное на использовании знаковикон, создание авторских жанров, соотносимых с понятиями конкретистской идеограммы и констелляции, приѐмы шарадного письма, брахиграфии. Кроме того, реактуализируется иероглифическое письмо, опыт типограмм, амбиграмм, элементов кинетического письма, используются возможности типографского набора различным по величине и начертанию шрифтом, синтез вербальных и параграфических знаков, приѐмы визуальной реализации языковых метафор. Расширение графической образности, нестандартного расположения текста на плоскости отмечается в творчестве А. Глобуса, Л. Сильновой, Вс. Горячки, А. Ковалевского, Д. Дмитриева, С. Минскевича, Д. Плакса, В. Жибуля, О. Спринчан. При этом необходимо отметить, что белорусская визуальная поэзия демонстрирует, по преимуществу, наименее радикальный опыт подчѐркивания графической составляющей текста. Вербальное начало всѐ же превалирует в такой поэзии, а изобразительный ряд усиливает семантический компонент, экспрессивную составляющую текста, вводит новые представления об образности. Таким образом, по нашему мнению, расширяются потенциал и границы литературы за счѐт обращения к смежным видам искусства, открываются новые возможности их творческого взаимодействия, интерактивности, процессуальности и комбинаторики в современном литературном процессе Беларуси. 2.2.2 Акустические эксперименты Обращение современной белорусской литературы к общемировому арт-контексту ознаменовано появлением в отечественной поэзии интермедийной практики, востребованностью приѐмов различных видов искусства в рамках одного произведения. Целый ряд произведений современных белорусских литераторов основывается на экспериментах с акустической реализацией, на отказе от использования знака в качестве простого носителя значения и попытках создать из слов звуковые композиции, близкие музыкальному искусству. 103 Поэты-конкретисты, повторяя и обобщая опыты предшественниковавангардистов, сделали распространѐнным явлением концертные выступления, запись на аудионосителях, авторские рубрики на телевидении и радио. Собственно акустическая, звуковая, сонорная, саунд- или лаут-поэзия получила распространение именно после 1945 г. в русле конкрет-движения. Теоретик и практик немецкого конкретизма Э. Яндль являлся популяризатором идеи языка как «шума тела», а культовый американский представитель Fluxus-движения Д. Хиггинс отмечал «естественное желание любого поэта так или иначе изолировать звуки от других поэтических элементов и его стремление писать стихи по преимуществу либо исключительно звуками» [186]. Эти идеи находят выражение и в работах В. Жирмунского, считавшего, что «источником художественного впечатления является качественная сторона звука, особый выбор и расположение гласных и согласных – вопросы словесной инструментовки» 70, с. 42–43. Находясь на пересечении демаркационных линий разных искусств, акустическая, звуковая поэзия, саунд-поэзия, лаут-поэзия с трудом поддаются однозначному дефинированию. Важным для понимания феномена звуковой поэзии является попытка осознания слова как материальной единицы, обладающей, кроме традиционных категорий поэтического, яркой акустической природой. Такой подход способен расширить представление о материале и технических возможностях поэзии за счѐт вовлечения в поэтическую практику структурных элементов музыки как смежного искусства: темпа, тембра, высоты звука, громкости. Кроме того, явление современной звуковой поэзии наследует черты авангардистской установки на парадигматическое расширение акустического и лингвистического контекста в поэзии, расширение практики устной, публичной презентации произведения вплоть до художественных акций и перформансов. Размышляя о проблемах фоники, В. П. Рагойша отмечает: «Стихотворение рассчитано прежде всего на звучание и все свои изобразительные возможности реализует только в звучании» [147, с. 281]. Немецкий теоретик и историк звуковой поэзии М. Лентц отмечает, что, «создавая впечатляющее многообразие форм и выходя за рамки одного определѐнного жанра, эти стихи, прежде всего после 1945 г., активно используют все участвующие в артикуляции органы, включая органы дыхания, весь речевой аппарат человека. Голосовое звучание приобретает принципиальное значение в их композиции, таким образом, в них раскрывается весь потенциал звуков голоса и прочих шумов, каким располагает человек» [111]. 104 Кроме сугубо теории и практики авангардистских течений ХХ в., звуковая поэзия, по верному наблюдению чешского учѐного-слависта Т. Гланца, «соприкасается со всякого рода магическими и ритуальными духовными практиками, наподобие камлания шаманов, медитативного бормотания тибетских лам или погребального пения “архаических народов”» [45]. Наиболее близкой к эстетике и поэтике звуковой поэзии в современном литературном процессе Беларуси является деятельность писателя и лингвоартиста, автора манифеста «африканизма» Д. Вишнѐва. При всей абстрактности и метафоричности текста данного манифеста голосовая природа творчества подчѐркнута автором достаточно явственно. Так, один из пунктов документа гласит, что «африканизм – это своего рода стадия вдохновения, которая заглядывает в рот человека» [37, с. 63]. А близость к культовым глоссолалиям Д. Вишнѐв подчѐркивает в книге эссе «Верыфікацыя нараджэння»: «Я махаў рукамі і мармытаў, як галоўны шаман: “Клѐк Катам Мус… Клѐк Катам Мус… Клѐк… Катам… Мус…”» [36, с. 8]. Видный белорусский литературовед М. Тычино считает, что в подобных экспериментах происходит «возвращение современного художественного творчества к своему первобытному состоянию, когда наши предки ещѐ не владели членораздельным языком и всѐ ещѐ толькотолько начиналось» [179, с. 18]. В книге Д. Вишнѐва «Тамбурны маскіт», составленной из поэтических и прозаических произведений, а также авторских описаний перформансов с его участием, неоднократно подчѐркивается значение произнесения, презентации стихотворного текста с целью смыслопорождения. Поликодовые произведения африканизма Д. Вишнѐва отсылают читателя к авангардистским практикам заумноавтоматического письма с произвольными комбинациями словесного материала, свободной психографикой, в радикальной форме симулирующей экстаз, сон, бессознательное состояние и фиксирующей внутренние ассоциации автора. Эстетика автоматического письма сильно диссонирует с «просчитанной», отказавшейся от идеи стихийного творчества конкретной поэзией, где возможности слова как музыкальной единицы используются по сугубо нормативным законам. Однако устно-голосовая природа экспериментов Д. Вишнѐва и европейских конкретистов позволяет говорить о некоторой преемственности традиции звуковой поэзии в творчестве белорусского поэта. В этой связи произведения Д. Вишнѐва балансируют на грани речевой поэзии конкретистов, более приближенной к декламационному чтению, чем к музыкальным практикам. С другой стороны, поэтические произведения Д. Вишнѐва, основанные на поэтике нонсенса, являются своеобразной имитацией современного состояния языка и общения с засильем звучащего 105 слова, хаосом информации, тотальной экспансией новых технических средств коммуникации и лишь имитируют семантическую составляющую, более сближаясь с фонетическими, звуковыми произведениями. В произведении «Амброфкусы аэрапланныя афрыкозныя» [37, с. 65–67], ритмически организованном как стихотворение, представлена целая галерея странных предметов, явлений и действий, обозначенных такими же аграмматичными формами: фікусы кактусы шматкусы крокусы сідарукасы мускусы клопусы тараканусы біфштэкусы я лячу як аэраплан гудзю грымю рыкю Такие произведения следует признать условно созданными на белорусском языке, поскольку представления о языковой норме, валентности слов и связности текста в таких произведениях разрушены. Тексты тяготеют к воспроизведению звуков речи любого языка, более точно – к созданию некоего глобального языка, основанного на поэтических началах, способного к мгновенному донесению информации без посредничества рационального начала. Отсюда своеобразный культ примитивистской, «африканской» эстетики, имитация детского словотворчества, подчѐркнутая интонационная естественность, попытки выхода за пределы письменного текста в стихию текстопроизнесения, чтение текста вслух с целью его смысловой трансформации или даже деструкции. В. В. Акудович замечает об акустической составляющей поэзии Д. Вишнѐва: «Я не знаю, как такое возможно, но когда такой человек черкает стихи, то лучше всех их понимают летучие мыши, локаторы и глухонемые» [2, с. 252]. Отметим также, что внутри звуковой поэзии существует своего рода внутренняя классификация, где не последнее место занимают тексты, материалом которых является жест, в том числе физиологическое усилие, необходимое для произнесения текста. Как раз практику подобных звуковых стихов, передающих напряжение рождения звука, а значит и смысла, практикует в своих перформансах Д. Вишнѐв. В процессе выступления образы стихотворений высвобождаются из тисков напечатанного слова, получают неожиданный импульс от вокоральной («vocorality») (сращение «vocality» и «orality»), т. е. «устно-голосовой» презентации. П. В. Васюченко в предисловии к первой книге поэта абсолютно точно подметил, что «в определѐнном смысле эти стихи – тексты к перформансам, часть синкретичного действа. Без этих поэтических показов текст, наверное, не звучит в полной мере, так же как не раскрывает 106 всех своих резервов пьеса или сценарий без представления» [38, с. 8]. В любом случае, следует признать, что тотальное распространение в творчестве Д. Вишнѐва приобрѐл специфический «жанр» художественной деятельности ещѐ эпохи декаданса и авангарда – epater le bourgeois, или скандал, именно он становится средством репрезентации авторских задумок и самого поэта, и Бум-Бам-Литовского окружения. На уровне фоники в текстах Д. Вишнѐва активно используются приѐмы инструментовки с помощью аллитерации, ассонанса, анаграмматических перестроений на уровне слова и фразы, каламбурной рифмы, приѐмов нонсенса: «… Тамтамы на ботах, як бажкі. / Баліць ў мяне башка. Шкло і бітум сыплюцца з вагонаў. Вось / гэткія гоны» («Я сноўдаюся на дне марской лагчыны») [37, с. 20]; «чакатала / чакатала / Чыкаціла Чыкаціла / ты чаму / пакаціла / так накаціла …» («чакатала») [37, с. 26]; «У бок паднябеснай вежы дзе / адлюстроўваецца сум ветра / паветра раветра суветра куветра / наветра леветра неветра зіветра / муветра хаветра жаветра / шы-ве-тра» («У маіх руках чорная пячатка») [37, с. 54] и др. В большинстве случаев, согласуясь с авторской интенцией к разрушению стереотипов и норм, тексты создаются с сознательными отклонениями от законов эвфонии поэтической речи фонетико-фонологического уровня. Кроме того, Д. Вишнѐв в рамках одного произведения зачастую сталкивает чрезмерно длинные слова и фразы, затрудняющие чтение и произнесение, с короткими, «рублеными» предложениями, сообщающими тексту отрывистость и жѐсткость. Подобное чередование играет важную роль в создании авторской нервической, взвинченной интонации, в раскрытии темы борьбы с авторитетами, поскольку, цитируя художественные провокации манифеста Д. Вишнѐва, «афрыкозныя творы – самыя моцныя кракадзілы на прасторах свету» [37, с. 63]. Асемантические эксперименты со звуковой конституцией текста встречаются и в творчестве С. Минскевича в виде стихов-циклофонов, в которых при многократном повторении словоформы переходят друг в друга, как в стихотворении «Ваколіцы Браслава» [129, с. 40]. Текст рассчитан именно на вокоральное воспроизведение, при котором и обнаруживают себя компоненты произведения, происходит трансляция его семантики: БАРЫбарыбарыбарыБЯРЫбарыбаРЫБАрыбарыбарыБЯ РЫбарыбарыБАРЫ… 107 Рассказ о Браславском крае, известном обилием озѐр и лесных угодий, поэт основывает на известном лингвистическом приѐме удвоения для обозначения множественности, большого количества чего-либо. За формальным экспериментом циклофона легко угадывается рассказ о богатстве родного края: большом количестве «бароў», «рыбы», «рыбароў» и щедрости природы, переданной глаголом «бяры». Тот же приѐм звукописи, обращения к акустическим возможностям слова использует Э. Яндль, основывая своѐ стихотворение «niagaaaaaaaaaaaaaaaa» [229, с. 78] на многократном умножении звука/буквы «а», предпринимая попытки на эмоциональном, чувственном уровне передать читателю/слушателю грандиозность описываемого явления (Ниагарского водопада), мощь чувств, которые оно вызывает: niagaaaaaaaaaaaaaaaa ra felle niagaaaaaaaaaaaaaaaa ra felle ниагаааааааааааааааа ры потоки ниагаааааааааааааааа ры потоки Оправданным выглядит также использование акустических возможностей циклофона в тексте С. Минскевича «Сон немаўляці ў люльцы» [129, с. 52]. Состоит произведение лишь из двух лексических компонентов, выделенных заглавными буквами самим автором. Однако такая бедность словаря скорее намеренная, поскольку повествование ведѐтся о младенце, чей жизненный цикл как раз и сосредоточен всего в нескольких опытах. Кроме того, стихотворение основано на многократном повторении, медитативном бормотании-укачивании: СЬПІсьпісьпісьпісьпіПІСЬпісьпісьпісьпісьСЬПІсьпісьпісьпісь ПІСЬпісьпісьпісь 108 Только при многократном произнесении это звуковое стихотворение С. Минскевича наполняется альтернативным содержанием, проявляющим себя поверх первоначального текста. Словоформы стихотворения С. Минскевича «Сусляп (Сон Ганны)» [129, с. 112] дробятся при акустическом воспроизведении, преобразуясь в новый текст благодаря смещению межсловных пробелов: Шмарка Кашмар ідзе дзеі Ганна наган ладу дула ласку скула сьніць і цісні Року Урок кляцьба! кляцьба! Некоторые фрагменты подобных текстов выглядят и звучат сходно иноязычным (сусляп, шмарка, качар). Ещѐ более экстремальным примером создания текста на экспериментальном языке может стать стихотворение «Шчуньнявя» [154, с. 117] В. Сахарчука: Зякуе кузюля ў галѐным зяі. Птурам і зьвяшкам жасьця шчадае. Стихотворение основывается на несуществующих словах, создание которых, однако, опирается на все законы белорусского языка. При произнесении текст запускает механизм аналогии, где семантически значимые и предположительно бессмысленные строки или их элементы вступают во взаимодействие. Среди конкретистских стихов Э. Яндля также достаточно часты звуковые тексты, основанные на пермутациях частей слов, в результате которых распространение получает явление словотворчества. В его основе зачастую лежит принципиальное восстановление процессов фонетического формирования лексем по всем законам морфологии. Тексты, основанные на таких единицах, – результат и сознательного, и интуитивного творчества. Следует отметить, что одним из приѐмов создания «полулексоида», авторского неологизма, в конкретизме является перенесение правил фонетики, морфологии из одного языка в другой и создание слов в родном языке на основе «чужеродной» модели. Это заставляет проявляться «народ109 ную этимологию», в которой незнакомое слово поражает созвучиями с известными, открывая неожиданные и прочные ассоциации. В стихотворении Э. Яндля с принципиально непереводимым названием «falamaleikum» [229, с. 53] продемонстрированы интересные аспекты фонетического поликодового письма: falamaleikum falamaleitum falnamaleutum fallnamalsooovielleutum wennabereinmalderkrieglanggenugausist sindallewiederda. oderfehlteiner? В немецком языке восточное слово приветствия обрастает созвучными словами и морфемами, создавая особую фоно-психологическую картину мира, ядром которой являются ассоциации к словам Fall (случай, происшествие), Leit/er (руководитель), Leut/e (люди), Nam/e (название, имя). Таким образом, из стилизованных под арабский язык слов вырастает некая фраза о фатальном, непредсказуемом руководстве людьми, случае, о хаосе жизни. Последние строки стихотворения достоверно воспроизводят мелодику чужой речи, но оперируют уже немецкими лексемами, повествуют о философических попытках задуматься, остановиться, дать ответ на смысложизненные вопросы. Стихотворения подобного рода преподносят фонетическую сторону слова и показывают некую достаточно очевидную самостоятельность фонетической организации и функционирования текста, который становится универсальным средством передачи информации. В эстетике и поэтике конкретизма была обозначена задача поисков первоэлементов речи, изучения физических параметров артикуляции. Социальные потрясения, которые пережила Германия в годы фашистской диктатуры, сказались и на общем состоянии языковой системы, отсюда стремление «звуковых» конкретистских поэтов – Ф. Мона, Э. Яндля, Г. Рюма – путѐм фонетической деструкции показать язык «голым», т. е. лишѐнным коммуникативной функции. Исследователь истории немецкой звуковой поэзии К. Шольц пишет: «Для Ф. Мона толчком к занятиям звуковой поэзией послужила мысль о том, что после падения нацизма немецкий язык, в котором в те годы сплошь царили ложь и садизм, так и остался деформированным и повреждѐнным» [192]. Подобные интенции приводят конкретистов к отказу от создания текстов из компонентов, могущих напрямую нести семантическую нагрузку. Основной упор делается на звучание текста, манеру произнесения текста, поэтический жест. Так, уже упоминаемое сти110 хотворение Ф. Мона «Gebet» («Молитва») исполняется максимально плавно, напевно, имитируя момент литаний или медитации: a a u e e o i a da hu e de bo i da ha u de e do bi Груз «советскости», долгие годы нивелирования статуса белорусского языка, запрет на национальную культуру – все эти проблемы отразились на отечественной общекультурной и литературной ситуации «переходного периода», что привело к формированию «новой литературной ситуации». Лингвистический нигилизм, так подчѐркнуто прозвучавший в творчестве многих молодых белорусских литераторов, имеет схожий с конкретистским механизм возникновения: недоверие к прошлому подталкивает поэтов не столько к универсальному очищению языка, как в зауми начала ХХ в., сколько к преодолению порочной практики тоталитарного прошлого. Это прошлое породило не только социальные проблемы, но и чувство эстетической катастрофы. Отсюда появление текстов типа стихотворения Д. Вишнѐва «Кавалак са страчанага тэксту перформанса “Краіна кактусаў”», где протестное настроение против современного состояния языка и мышления достигает своего максимума: “ібо-бо-бо-бі-бо / агу-ый / агу-ый агу-ый / агу-ый / выпаўз з цемрачы / да вялізнага мбэ /…”» [37, с. 88]. Многие литераторы ХХ в., экспериментирующие с произносительнослуховыми единицами языка и речи, создающие вокоральную поэзию, являются талантливыми декламаторами и неутомимыми изобретателями неожиданных способов подачи своих произведений. Практика звуковой поэзии насыщена примерами использования свойств аппаратуры, исполнения в сопровождении музыки, танца, двухголосого, симультанного чтения, возможностей микшерского пульта и звуковой платы компьютера. Органично в этой связи был презентован сборник Д. Плакса в сопровождении музыкальной группы, исполняющей альтернативные композиции. Белорусский поэт и критик Л. Рублевская так обозначает особенности текстов поэта: «Тексты Д. Плакса надо читать целиком и, по возможности, вслух. А ещѐ лучше – послушавши, как это делает сам автор, медитируя в профиль к залу, вплотную к микрофону, в сопровождении психоделических барабанов. Тексты его – это речитативы, заклинания, молитвы, в которых обозначены не абзацы, а повышения и понижения тона. Музыкальное ударение, как в древнем языке» [151, с. 320]. 111 Промня бліск шчылі піск шырокі дом пакой спакой звон чуваць з-за вакна з табой вясна за мной восем час прайшоў штуршок гіне зноў прыйшоў скуру скінем разглядай уважліва хто сказаў баязьліва сорамна божа ж мой як здорава Это произведение [141, с. 25] открыто апеллирует к ассоциативному типу повествования, где в качестве основы используется «сюжет» авторской мысли. Отсюда предельная вокализованная прерывистость, пунктирность, выделение отдельных фрагментов вне прямой логики жизненного факта, по прихоти случайного совпадения. Использование шрифтов различных размеров подсказывает читателю ситуацию понижения и повышения тона. Оформленные в тексте пустоты – знаки отсутствия голоса – могут одновременно служить маркерами пауз между событиями, протяжѐнности субъективного времени. Акустически данное стихотворение демонстрирует сложно устроенную систему рваного ритма, произвольно замедляющегося и ускоряющегося, как в стиле регги, где сполна выражен изначальный африканский синкретизм музыки, танца, пения и декламации. Один из ведущих специалистов в области стиховедения Б. П. Гончаров отмечает, что «проблема восприятия звуковой структуры стиха имеет целый ряд аспектов (к примеру, соотношение графики и воссоздаваемой звуковой структуры стиха)» [53, с. 257]. В данном звуковом тексте наблюдаются и некоторые эксперименты с написанием слов шрифтами различного размера, тем самым подразумевается введение элементов партитурного письма с авторскими указаниями на понижение или повышение громкости или тона, введение факультативной информации, произнесение которой должно быть соответственно интонировано. Кроме того, очевидно наличие в стихотворении Д. Плакса нескольких семантических центров: экспозиции, включающей в основном существительные, что создают идиллическую зарисовку («промня бліск», «дом», «пакой», «спакой», «звон», «вакно», «вясна»); завязки, содержащей по преимуществу глаголы, связанные с быстрой сменой событий («прайшоў», «штуршок гіне», «прыйшоў», «разглядай», «сказаў»); кульминации, выписанной через градацию наречий состояния («баязьліва», «сорамна», «здорава»). Подспудно создана картина упоительной интимной встречи мужчины и женщины. Текст создан в технике, где слово преподносится не только как носитель семантического значения, но и как вокоральная единица, несущая дополнительный заряд экспрессивной интенции автора. Зачастую звуковые произведения предполагают некие авторские руководства о способе чтения, высоте голоса или длительности звучания, напоминая иногда целые вокальные партитуры со сложной системой ав112 торских знаков. Примером последовательного звукового стихотворения может служить текст «пижама с красной лягушкой» («pyjama mit rotem frosch») [231, с. 128] Э. Яндля, элементы которого (графические и параграфические знаки) несут по преимуществу именно фонетическое значение. В самых общих чертах текст представляет собой рассказ о «пижаме с красной лягушкой» и «пижаме красной лягушкой», а остальные знаки являются либо имитацией лягушачьего пения, либо комментариями автора, как следует понимать тот или иной фрагмент, либо указаниями для исполнителей произведения. Подобные партитурные тексты, по сути, демонстрируют двигательно-физическую природу языка в понимании И. А. Бодуэна де Куртенэ, автора известного выражения: «Язык есть слышимый результат правильного действия мускулов и нервов» [24, с. 77]: В пространстве современных поэтических экспериментов со звучанием наблюдается тенденция, как отмечает Б. П. Гончаров, к «восприятию звуковой структуры стиха как целостной фонической системы, познание которой требует комплекса знаний на стыке ряда наук – прежде всего литературоведения и экспериментальной фонетики. Последняя, в свою очередь, влечѐт за собой физику (акустику), биологию (физиологию речи) и другие естественные науки. Эти вопросы имеют отнюдь не только академический интерес: ведь от того, как воспринимается именно звуковая структура стиха, какие именно компоненты выделяются, зависит целостный анализ стихотворной речи, анализ, обращающийся не только к аспектам строения стиха, но выявляющий его содержательную функцию» [53, с. 258]. И в самом деле, расцвет саунд-поэзии на Западе, связанный с деятельностью поэтов-конкретистов Э. Яндля, Г. Рюма и других мастеров, фиксирует именно фонемное восприятие стиховой речи с макси113 мальным вниманием к акустико-эстетическому впечатлению, а также к антропологической составляющей (голос, манера произнесения). Это явление было отмечено А. Веселовским, утверждавшим, что в основе возникновения поэтического текста лежит звуковое начало, которое связывало людей ещѐ до появления письма. Отметим, что в белорусской поэзии второй половины ХХ – начала ХХI в. фиксируется ряд текстов-экспериментов, в которых актуализируется фонетическая оболочка слова, манера его произнесения, интонация, музыкальность. Семантическое содержание подобных звуковых стихов современных белорусских литераторов в значительной степени подчинено интонации, благодаря чему рождается новый эмоциональный смысл, относительно свободный от семиотического значения слов, которые включены в текст произведения. Подчеркнѐм, что одна часть белорусских акустических поэтов создаѐт тексты со значительной собственно литературной составляющей, сохранѐнным вербальным кодом (Д. Плакс, С. Минскевич), другая – с нивелировкой семантики, безусловно доминирующей звуковой природой, граничащей со смежными искусствами (Д. Вишнѐв). Нами замечено, что в современном литературном процессе Беларуси практически не заявили о себе поэты, в чьих произведениях в качестве материала использовались бы только звуки речи и артикуляция. В творчестве отечественных поэтов-экспериментаторов существуют разнообразные промежуточные и смешанные формы звуковых произведений. Однако именно тексты-партитуры, близкие эстетике звуковой конкретной поэзии, не получили широкого распространения. В то же время частотность экспериментов на акустическом уровне текста в современной отечественной поэзии позволяет говорить о тенденции к созданию аффектированных текстов, различными способами транслирующих сильные переживания героя, характеризующихся ярким и демонстративным внешним проявлением, что вообще характерно для практики конкретизма и неоавангарда в целом. 2.2.3 Речевые стихи Представитель «франкфуртской школы» Т. Адорно строит свои размышления на исходном мотиве необходимости подвергать критике любые теории общества по мере исторического изменения последнего. Постоянная ориентация человека на господство рационального, общепринятого изменяет сущность человеческого мышления, делая его саморефлексию несостоятельной, низводя разум до значения неизменного во всех ситуациях инструмента. Так процесс просвещения, по мнению Т. Адорно, оборачивается последовательной рационализацией мира, в ходе которой человеческий разум опускается до слепой процедуры формального автоматизма. 114 Силу подобной инерции, пагубность стандартов в своѐм творчестве и пытаются разомкнуть белорусские поэты второй половины ХХ – начала ХХI в., заявляя принципиальной проблемой художественного творчества вопрос о «заготовленности», тотальной нормативности языка, наполненности его искусственными предложениями и разговорными клише. В свою очередь, европейские конкретисты своей целью объявляют возврат слову значения с тем, чтобы побороть ситуацию, в которой, как уже указывалось, «не говорящий решает, что он говорит, а объективное состояние языка, который использует говорящий, создаѐт сказанное» 206, с. 79. Иными словами, не мы говорим языком, а язык говорит нами. В качестве средств борьбы с заштампованностью и «изношенностью» языка поэтыконкретисты предлагают вариант «изламывания» и «расшатывания» привычной лексической системы, грамматических связей, использования диалектизмов – носителей новых семантических и языкотворческих средств. Во «франкфуртской поэтической лекции» Э. Яндль отмечает, что, «во-первых, нарушен запрет, так как этот вид языка также существует в жизни, хотя и изгнан из поэзии; во-вторых, этот язык не применяется в поэзии… он позволяет обращаться к темам, которые в стихотворениях на общепринятом языке едва ли возможны; и, наконец, в-третьих, тот, кто пишет стихи о современности, каждый раз должен находить новый путь, новые средства, такой путь для меня – этот опустившийся язык» («erstens wird ein Tabu durchbrochen, denn auch diese Art Sprache kommt im Leben vor, wenn sie auch der Poesie verbannt war; Zweitens ist diese Sprache poetisch unverbraucht… sic erlaubt die Behandlung von Themen, die im Gedicht konventioneller Sprache beute kaum mehr möglich und. Schließlich, und das ist das dritte, muß mancher, der zeitlebens Gedichte schreibt, immer wieder einen neben Weg linden, um seine Tätigkeit fortsetzen zu können: ein solcher Weg ist für mich diese heruntergekommene Spraсhe») 249, с. 610. С изучением живой разговорной речи (в своей работе под термином «разговорный язык/речь» мы понимаем не устную форму литературного языка, не один из его функциональных стилей, а разговорную систему общения, набор языковых средств которой в целом тяготеет к нелитературной стихии; понимаем разговорную речь как в том числе диалектную, просторечную, как речь отдельных социальных групп и т. д.) связаны значительные достижения языкознания ХХ в. (труды И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. П. Якубинского, В. В. Виноградова, Б. А. Ларина, В. М. Жирмунского, М. В. Сергиевского, Е. Д. Поливанова, Ф. Боаса, Э. Сепира, В. Матезиуса, Б. Гавранека, Й. Вахека, У. Вайнрайха). Уже в 1920–1930-е гг. появляется целый ряд работ, заложивших основы одного из самых перспективных на современном этапе направлений науки о языке – социолингвистики, связанной с социальной природой язы115 ка, его общественными функциями, механизмом воздействия социальных факторов на язык и той ролью, которую играет язык в жизни общества. Видный русский и советский учѐный-лингвист В. Д. Бондалетов, занимаясь изучением различных форм существования языка, приходит к выводу, что есть первичные, основные формы существования языка, к которым он относит литературный язык, территориальные диалекты, городское койне, просторечие, а также производные, а иногда результативные формы – собственно профессиональные «языки», групповые, или корпоративные, жаргоны, условные языки ремесленников и торговцев, жаргон (арго) деклассированных, которые «представляют собой лексические системы, вызванные к жизни разными социальными причинами» [25, с. 68]. В этой связи язык, общий стиль многих конкретистских стихотворений, резко диссонирующие с общепринятыми представлениями о языке лирики, литературной норме, лишь демонстрирует попытку создать произведения на основе подчѐркнуто разговорной, повседневной речи, производных форм языка, пользуясь терминологией социальной лингвистики. В стихотворении Э. Яндля «на границе» («an einen grenzen») [234, с. 143] слово выполняет семиотическую функцию знака-признака. В данном тексте вместо рассказа о социальном устройстве ГДР, политике этого государства, общем культурном уровне молодого поколения «немцев» и «не-немцев» автор передаѐт только признак этих явлений – неграмотную, изломанную речь. Сарказм, горечь звучат в данном произведении, повествующем о культурном и духовном обнищании, тотальной экспансии политики во внутреннюю жизнь личности: du sprecken deuts? sprecken du deuts? du kennen wolfen biermann? du kennen reiner kunzen? sprecken du deuts? du sprecken deuts? du sehen meinen passen – kennen du ernsten jandeln? ihn du kennen nicht dürfen du sein guten jungen reiner kunzen du kennen nicht dürfen du sein guten jungen du kennen dürfen einzig alleinen deutsen demokratisen republiken 116 ты гофорить дойтс? гофорить ты дойтс? ты знать вольфн бирман? ты знать райнер кунцен? гофорить ты дойтс? ты гофорить дойтс? ты видеть мой паспорн – ты знать эрнстен яндельн? его ты не знают могут ты быть хороший юноши райнер кунцен ты не знать должн ты быть хороший юноши ты могут знать лишь только дойтс демократск республикам В европейском конкретизме часто наблюдается последовательное обращение к единицам разговорной лексики, всего словарного фонда обиходной речи без купюр и эвфемизмов. Например, среди произведений немецкоязычного конкретиста Э. Яндля обращает на себя внимание особенно провокационный цикл стихов «дни стекла» («tagenglas») (1976). В нѐм языковой скепсис, недовольство миром, желание всѐ и вся изменить проявляет себя в создании особого типа героя – носителя редуцированного сознания, выражающего себя в косноязычном, аграмматичном языке, подчѐркнуто ломаной стилистике. Герой стихотворения «кабак» («beisel») Э. Яндля [234, с. 127] в своѐм незатейливом монологе, больше похожем на дескриптивный реестр-каталог самых обычных, банальных действий, по сути, исчерпывающе очерчивает всю парадигму своей жизни, в которой уже не осталось ничего значимого и стоящего. Поэтому и «опустившийся» язык для такого повествования совершенно уместен: колбаска съесть с ней выпить кружка ещѐ одна колбаска съесть с ней выпить ещѐ кружка других слушать говорить других смотреть есть съесть колбаска третья с ней выпить третья кружка blunzen essen dazu trinken ein seidel noch ein blunzen essen dazu trinken noch ein seidel andern zuhören sprechen andern zuschauen essen blunzen essen den dritten dazu trinken den dritten seidel Тексты подобного типа, написанные на «опустившемся» языке, подобны «фундаментальным энциклопедиям», отражающим общее состояние языка и мышления современников. В данных произведениях языковая игра, свойственная стихотворениям ранних сборников и погружающая читателя в стихийное речевое удовольствие, отходит на второй план. «Ослышки», неправильная артикуляция, перестановки звуков/букв в словах, создание окказионализмов становятся средствами своеобразной демонстрации неправильной, изломанной повседневной речи, выражением образа мыслей, системы ценностей большинства, показа ресурсов немецкого Umgangssprache (обиходно-разговорного языка). Данные тексты демонстрируют радикально новый путь, этот «путь называется расширением языковой действительности вниз: туда – к детскому языку, к “немецкому иностранного рабочего”, к языку ошибок и нелепостей. В словарном смысле автор говорит на “опустившемся языке”» («Der Weg heißt Erweiterung der Sprachwirklichkeit nach unten: hin zur Kindersprache, 117 zur “Gastarbeitersprache”, zur falsch verwendeten Sprache. Der Autor redet im Wortsinn von “heruntergekommener Sprache”») 242, с. 105. «Голоса народа» звучат и в речевых стихах белорусского автора Ю. Гуменюка – в сборниках «Водар цела» (1992), «Твар Тутанхамона» (1994), «Рытуал» (1999). Некоторые его произведения созданы на основе традиционного авангардистского приѐма эхолалии – записи подслушанных фраз, случайно обронѐнных слов. Так, текст стихотворения «Тэлеграф» [58, с. 9] из цикла «Відэакліпы» (сборник «Водар цела») состоит из простого перечисления расхожих выражений, клише, устойчивых оборотов, цитат из классики, от долгого и бездумного употребления превратившихся в словесную шелуху. Такая «зарисовка с натуры» позволяет понять состояние языка и мышления простого человека, зомбированного постоянными выкриками-лозунгами, понуканиями и помыканиями. Подобные произведения весьма близки духу концептуализма и соц-арта с их тенденцией к развенчанию социалистической идеологии, обращением к типическим структурам мышления и языка, использованием слова как «концепта», материала для поэзии, «деструкция языка до первичных сигнальных систем» [198, с. 156]: Электрычнасць небяспечнасць Камунізм капіталізм Сталін Мао Ленін Брэжнеў Рузвельт Рэйган Анархізм Блѐк трацкістаў левых правых Маякоўскі ды Бурлюк Прага Вільня і Варшава Гродна Кракаў Гуменюк Язык таких «клиповых» стихов предельно механизирован, доведѐн до автоматизма, с тем чтобы продемонстрировать затѐртые визуальные и речевые клише, изобразить ситуацию, в которой «складывается своеобразная эстетика (или, если угодно, антиэстетика) косноязычия» [198, с. 153]. Темы таких стихов демонстративно приобщены «к сегодняшнему, преходящему, к коммунальному быту, массовому сознанию, низшим, вульгарным формам культуры» [198, с. 170]. Произведения С. Прилуцкого, белорусского поэта и переводчика, автора сборника «Дзевяностыя forever» (2008) в полной мере демонстрируют обращение именно к «опустившемуся» языку, к созданию текстов на основе небогатого лексикона повседневности, зачастую аграмматичности. К тому же на постсоветском пространстве понятие «девяностые», фигурирующее в названии сборника С. Прилуцкого, сполна характеризует годы хаоса, а стойким эпитетом к этому числительному стало определение «лихие». Об атмосфере тех лет речь идѐт в стихотворении «Пасланьне да маладога Вертэра». 118 Название отсылает к роману в письмах И.-В. Гѐте «Страдания молодого Вертера», произведению о глубоко чувствующем, тонко организованном герое, трагически одиноком и разочаровавшемся в обществе, любви. Интертекстуальность стихотворения С. Прилуцкого, безусловно, помогает увидеть редукцию, измельчание героя со времѐн преромантизма Гѐте до эпохи «дзевяностыя forever». Вместо всей классической палитры чувств в тексте «Пасланьне да маладога Вертэра» в травестийном ключе воссозданы самые заурядные и пошлые причины неустроенности героя [145, с. 7]: Ты ня ведаеш чаго чакаць ад лѐсу: З працы выкінуць за п’янку ці дэбош, Станеш гопнікам, падсядзеш на «калѐсы», Прадасі апошні макінтош, Малады няўрымслівы гаўрош. С. Прилуцкий в своих произведениях фиксирует современность, взятую в аспекте повседневности, состоящую из ужасающих своей обыденностью житейских мелочей, неладно устроенного быта, тотального дефицита и упадка нравов. Яркая иллюстрация – в тексте стихотворения с одноимѐнным заявленному циклу названием «Дзевяностыя forever» [145, с. 16–17]: Школа нам не дала анічога набор алоўкаў форма паѐк пара дзяжурных ведаў сінтэз нагляднай батанікі й фізпадрыхтоўкі прэла за шыбамі сонца і шалела ртуць у венах цнатлівых ад піянерскага «будзь» Сэрцы пустыя нібыта прылаўкі сельмагаў дзеці прамзон і вялікіх пустых стадыѐнаў толькі і ѐсць у вачох, што наіўная прага стаць футбалістам банкірам ці лоўцам сноў зрабіўся грубейшым твой слоўнік душа – пагатоў Заплетающийся язык стремительно деградирующего большинства, просторечие, иногда нецензурная лексика – всѐ это неотъемлемая часть реалий современности. Отсюда и вышедшая на первый план нарочитая беспафосность, примитивистская лексика, минималистическая поэтика в стихотворениях С. Прилуцкого. 119 В некоторых текстах автор тяготеет к акцентному стиху, который своей тематикой и ритмической организацией имеет немало общего со столь популярным в 1990-е гг. движением рэп-культуры: мотивы анархического бунтарства, общая атмосфера телесной чувственности, граничащая с цинизмом, имморализм по отношению к криминалу и насилию – всѐ это создаѐт картину особого языкового дискурса региона, целой страны в его ежедневном, «низовом» выражении. Речевые стихи белорусского поэта С. Прилуцкого, равно как и немецкоязычных конкретистов, зафиксировали момент, когда жаргоны, просторечие в «лихие девяностые» буквально хлынули из социально замкнутых сфер речи в язык литературы, отражая лингвокультурную картину мира «городских окраин», рабочих кварталов, своеобразных духовных резерваций, где собраны люди, лишѐнные уверенности в завтрашнем дне, с пошатнувшимися представлениями о добре и зле, о высоком и низком. Героям подобных текстов свойственно нигилистическое бунтарство, подчѐркнутая экспрессивность высказывания, стремление к поведенческой и речевой агрессии. Лексикон подобных произведений тяготеет к единицам языковой периферии. Обращение к «языковому дну», в соответствии с терминологией академика Б. А. Ларина, разработанной ещѐ в 1928 г. в исследовании «О лингвистическом исследовании города», – «закономерная часть исторической эволюции любого литературного языка». Она «может быть представлена как ряд последовательных “снижений”, варваризаций, но лучше сказать – как ряд “концентрических развѐртываний”» [110, с. 176]. Подобная «повреждѐнность», ущербность языка и мышления представлена в текстах С. Прилуцкого не как изъян лирического героя, требующий сочувствия, а как особое средство выразительности, приѐм конструирования художественного образа. Необходимо отметить также создание поэтом особой депрессивной атмосферы, картины мира без каких-либо ценностных ориентиров, где только горькая ирония, сарказм и мотивы чѐрного юмора спасают лирического героя от самоуничтожения: <…> а рабочы электралямпавага заводу выпіўшы за шапікам фаўст пладовы нясе да хаты мех цыбулі каб парадаваць жонку каб жонка ня біла каб жонка хаця б любіла калі ўжо каханне 20 гадоў як паслала іх абоіх падалей 120 <…> дапаліўшы цыгарэту ідзеш на кухню п’еш малако і чуеш як сусед зверху твой школьны ваенрук б’е жонку галавой аб кафель і што б ні казалі апосталы бацькі твой участковы забудзь усе запаведзі і пастарайся палюбіць гэты кашмар <…> (11-я запаведзь) [145, с. 24–25]. Тенденция отказа от привычных норм, в том числе и языковых, отчуждение от формализированного общества, затаѐнная ирония, прорывающаяся в саркастический смех по отношению к стандартам «советскости», находит выражение и в сборнике Вс. Горячки «Пралетарскія песні» (2004). В стихотворении «Тост» [41, с. 19] подчѐркнуто умильное, слащавое любование «дорогим Ильичом», характерное для официальной поэзии, всего несколькими просторечными, псевдонаивными штрихами – «бародка, як памазок для галення», «кепачка на галаве» – превращает предмет разговора, великого вождя, в обычного и заурядного человека, к которому, как к простому знакомцу, можно обратиться с обыденной репликой, эпиграмматически завершающей текст. Это явление подтверждает мысль Ю. Тынянова, который утверждал, что «из пародии на предшествующий стиль вырастает новый стиль» [173, с. 18–27]: Бародку меў таварыш Ленін, Як памазок, што для галення, I кепачку на галаве. Такі звычайны чалавек. Але ж які агонь ў вачах! Як мы любілі Ільіча! Дык будзь здароў, таварыш Ленін, – Насі дубовыя бярвенні. В. Жибуль в предисловии к сборнику отмечает особенный тон стихов Вс. Горячки: «Так и получается карикатура из жизни, причѐм саркастическую язвительность лирический герой часто маскирует под искреннюю наивность» [80, с. 3]. 121 Автор сборника «Пралетарскія песні» демонстрирует в стихотворении «З Янкі Купалы» [41, с. 21] ещѐ один характерный приѐм создания именно «речевых» текстов – использование возможностей макаронического языка и лишь имитации лексических единиц. Подобные тексты не ставят целью воссоздание какого-либо определѐнного языка или стиля, а служат, как отмечает Э. Яндль, только для «реализации поэтической свободы» 133, с. 394. Также такие произведения лишь весьма неопределѐнно намекают на едва очевидное существование смысла поэтического высказывания. Безусловно, поэтическое реноме Янки Купалы неоспоримо, но такое вольное обращение с авторитетами, введение просторечных, инфантильно-детских лексоидов сообщает предмету разговора живость и непредсказуемость, по сути, утраченные от долгого отношения к классикам с неизменным пиететом. Надо отметить также, что интонационно стихотворение имитирует фольклорночастушечный рисунок, голоса и стихию народной речи, зачастую недооформленной, далѐкой от литературных норм, но ѐмкой и выразительной: Ту-ды сю-ды – тыды, Сю-ды ту-ды – дыды. Ты ды я, я ды ты, Ты-ды-ды – не сюды! Ты ды я, ты ды я, Ты ды ты, я ды ты. Ты-ды-ды – не яды. Ты-ды-ды – а дуды. <…> Сквозной мотив отсутствия ориентиров, неспособности традиционной системы ценностей служить образцом для подражания в современной духовной и общекультурной ситуации нашѐл отражение в создании цикла стихотворений Э. Яндля «обыкновенный рильке». Стихотворение «расставание рильке» («rilkes trennung»), открывающее цикл, содержит в себе выражение общей идеи: «необычный рильке / и обычный рильке / скрываются в одном» («der ungewöhnliche rilke / und der gewöhnliche rilke / steckten im gleichen») [234, с. 64]. Сам заголовок цикла содержит в себе иронию, двусмысленность. Эпитет «необыкновенный» стал постоянным в литературоведении по отношению к роли и месту творчества Р. М. Рильке в мировом литературном процессе. Примерно в это же время, когда написаны стихи 122 цикла, на страницах литературных журналов Германии обсуждается вопрос: «Опасен ли Рильке?» По сути, данный вопрос в метафорической форме высказывает извечную мысль: «Опасен ли кумир?» К. Рихтер, один из молодых литераторов, отмечает: «Да, Рильке опасен. Опасен как образец, как искуситель, как кумир. Рильке препятствует движению вперѐд. Рильке сковывает. Рильке – это плотина, огромный вал, о который разбиваются набирающие силу волны» 257, с. 487. Э. Яндль предпринимает попытки вернуть Рильке-стереотипу, Рильке-шаблону жизненность, человечность, конкретистское совпадение означаемого и означающего, слова и значения. От классического великолепия поэта «вещей», каким представлен Рильке во всех хрестоматиях, в трактовке конкретиста Э. Яндля остаются сами вещи: башмаки Рильке, воздух Рильке, нос Рильке, стакан Рильке. Объектом изображения в стихах данного цикла становятся только самые обыденные, примитивные предметы и действия, которые совершает любой без исключения человек в повседневной жизни. Феноменологическая редукция, примененная для создания стихотворений-реестров этого цикла, демонстрирует базовые ноэмы, смысловые единицы сознания, в которых концентрируются итоги познавательной деятельности и максимально достоверно воспроизводится окружающий мир. Автор, как и заявлено в заголовке, делает своеобразные зарисовки с натуры, создаѐт микрорассказы о совершенно бытовых случаях в жизни не Рильке-поэта, а Рильке-человека: стакан рильке рильке взял стакан налил воды поднял к губам выпил (Перевод А. Глазовой) Эта нарочитая бессобытийность вступает в противоречие с читательскими ожиданиями, в глазах которых поэтический текст непременно должен содержать некую глубокую философему или хотя бы осмысление некоей ситуации. Есть в цикле Э. Яндля и стихи намеренно телесные, не физиологические в натуралистически-сниженном смысле, а именно телесные стихи – с простой констатацией наличия рук, глаз, носа и т. д. у великого поэта, что, при всей нормальности, само по себе вызывает удивление. Типические структуры, заявленные в стихах цикла Э. Яндля, позволяют продемонстрировать инвариантное содержание, открыть «первообраз» не поэта, но человека: 123 рука рильке и рука рильке повисли на рильке рука рильке в руке рильке одна в другой рука рильке в другой руке в приветствии рука рильке у рта рильке он еѐ осязает (Перевод А. Глазовой) Ряд стихов повествует о предметах, которыми с большой долей вероятности Рильке пользовался буквально каждый день, только такие подробности не стали достоянием хрестоматий и учебников из-за своей обычности: окно открыл он высунул голову втянул голову в комнату закрыл окно (Перевод А. Глазовой) Своеобразный вызов традиции и ценностям культуры предшествующих эпох звучит уже в псевдониме Елены Козловой (1981), современного белорусского писателя и переводчика. Еѐ литературный никнейм – результат многоаспектной языковой игры (графической, фонетической, семантической) с антропонимом «Янка Купала». В итоге появилась достаточно провокативная Анка Упала. В сборнике «Дрэва энталіпт» тексты также созданы на основе законов лингвистической креации. Л. Витгенштейн отмечает, что «языковая игра – это определѐнная модель коммуникации или конституция текста, выход за пределы которой ведѐт к разрушению данной коммуникационной системы» Цит. по: 17, с. 175. Анка Упала, обращаясь к фигурам Янки Купалы и Якуба Коласа, по законам игровой поэтики занимается трансформацией классических мифов белорусской литературы и культуры. В современных условиях кризиса идентичности, «текстуальной революции», признания приоритетности хаоса, двусмысленности, игры в процессах смыслопорождения цикл «Уклясыкі» представляется, по словам Т. Гридиной, «возможностью творческого отхода от стандартных способов выражения самосознания языковой личности» [56, с. 8]. Базовый 124 образ поэтов-титанов белорусской литературы «нагружается» в текстахнонсенсах Анкой Упала дополнительными коннотациями из палитры категории комического, подчѐркнутой бытовой детализацией: «Спачатку трэба пад’есці, − Колас пакорпаўся ў чамадане і з крыкам “А-а-а-а!” двума пальцамі выцягнуў адтуль цяжкі і набрынялы чымсьці беларуска-расійскі слоўнік. З падарункавага выдання сцякалі кроплі незразумелай вадкасці. Гэта быў форс-мажор: кансерваваныя кількі (прынамсі, так падалося Якубу) прарваліся вонкі, і кніжка наскрозь набрыняла расолам з кількіным водарам». Автор, играючи, создаѐт невероятные сцены, наделяет знакомые персонажи нехарактерными чертами, использует разрушающую силу комизма как способ борьбы с доминирующим восприятием литературы и культуры. Янка Купала и Якуб Колас по разным причинам в вульгаризованном массовом представлении давно выступают своеобразными трудноразличимыми близнецами, персонажами общего произведения. Именно этот аспект и обыгрывает Анка Упала, объединяя общим циклом этих героев-иероглифов, великих белорусских писателей: «Мала хто ведае, што аднойчы Янка Купала і Якуб Колас разам з’ездзілі ў Маскву з дыпламатычнай місіяй. Купілі ўклясыкі дзве плацкарты (верхнія паліцы) і паехалі». Нелогичное как инструмент борьбы с инерцией восприятия задействовано в тексте «Уклясыкі: “Паўлінка”». Привычные коллизии этой пьесы вызывают смех, поскольку главную героиню, пресловутую Павлинку, должна играть, в духе театра абсурда, ѐлка, а роли прочих героев достались не совсем обычным актѐрам: «Ішла рэпетыцыя знакамітай купалаўскай п’есы «Паўлінка». Колас быў за рэжысѐра, Купала – за героя-палюбоўніка, елка – за выканаўцу галоўнай жаночай ролі. Паводле рэжысѐрскай задумы, Паўлінка мусіла выглядаць недатыкальнай і надзвычайна бадзѐрыць закаханага ў яе Якіма. Было заўважна, што елка няблага спраўлялася з ускладзенымі на яе абавязкамі… Прэм’ера спектакля прайшла выдатна, публіку абаяла колкая ў сваѐй ролі елка і інтрыгавала падрапанае чало герояпалюбоўніка». Тексты подобного типа с особой силой демонстрируют стихию устной речи, которая проявляет себя и в разговорной интонировке стиха, 125 и в пародийном использовании шаблонных, избыточных разговорных выражений, междометий. Речевые средства, которые применяют поэты для создания таких произведений, настолько обычны, каждодневны, что буквально с первых строк связываются в восприятии читателя/слушателя с конкретной жизненной ситуацией, возвращая, таким образом, совпадение предмета и понятия. По сути, С. Прилуцкий, Ю. Гуменюк, В. Горячка, как и Э. Яндль, обращаются к полистилистическому письму, для которого характерно сочетание общеупотребительной лексики с разговорным языком, вульгаризмов с поэтическими оборотами. По мнению М. Эпштейна, «словесная ткань … таких стихов неряшлива, художественно неполноценна, раздѐргана в клочья, поскольку одна из задач … показать обветшалость и старческую беспомощность словаря, которым мы осмысляем мир» [198, с. 170]. Представители Венской группы, близкой эстетике и поэтике конкретизма, – Г. Рюм, К. Баер и Х. К. Артманн – в своих стихах обращаются к венскому урбанолекту, стремясь максимально полно использовать его возможности, поскольку именно в 50–60-е гг. ХХ в. наметились тенденции к его сокращению, повсеместному замещению литературным немецким языком. Известный советский лингвист А. И. Домашнев ссылается на П. Кречмера, который в своей фундаментальной работе о региональных чертах немецкого языка утверждал, что между языком Берлина и Вены существуют различия в каждом втором или третьем слове [66, с. 78]. Таким образом, целый пласт особенной языковой культуры Вены оказался воссозданным в произведениях литературы благодаря деятельности Венской группы, поскольку эта «уникальная сокровищница лингвобиологических процессов Австрии» [66, с. 75–76] зафиксировала многие тенденции многонационального прошлого этого региона. В современной белорусской литературе необходимо отметить схожие тенденции создания произведений, в которых происходит отказ от норм белорусского литературного языка. Таким примером может служить появление произведений, основанных на трасянке, смешанной форме двух (белорусской и русской) языковых систем. В результате языковой интерференции трасянка имеет, как правило, белорусскую фонетику и интонацию, смешанную морфологию и двойной набор лексики. Как собственно лингвистическое явление трасянка не уникальна в мировой практике, однако в современной Беларуси по ряду объективных и субъективных причин она приобрела особый статус. В реалиях нашей страны, как отмечает Т. Р. Рамза, «стремление творческой интеллигенции к языковому идеалу, воплощѐнному в кодифицированном белорусском 126 (русском) языке, спровоцировало резко негативное восприятие смешанной речи и всевозможные еѐ оценочные характеристики» [150, с. 116]. Хотя в произведениях классиков («Пінская шляхта» В. ДунинаМарцинкевича, «Тутэйшыя» Янки Купалы) возможности трасянки нашли своѐ применение, а белорусский лингвист С. Н. Запрудский, ссылаясь на исследования Т. Рамзы, отмечает, что «в 1970–1980-я годы смешанная речь или обычное включение в белорусскую речь отдельных русских форм как характерологического, юмористического или сатирического средства обыгрывали в своих произведениях писатели Янка Брыль (повесть “Ніжнія Байдуны”, 1975), Н. Гилевич (роман в стихах “Родныя дзеці”, 1985), А. Кудровец (рассказ “Ігнат Сцяпанавіч Вапшчэткі”, 1979), Н. Клебановіч (сборник “Ранішняе сонца”, 1981) и др.» [82, с. 159]. Ряд белорусских поэтов конца ХХ – начала ХХI в. создают тексты для своих выступлений именно на трасянке, добиваясь эффекта дерзкой шутки, так называемого «стѐба» над понятиями нормативности. Стѐб как особый стиль общения, как специфический язык интеллигентской и молодѐжной «тусовки» возник и развился ещѐ в 1970–1980-е гг. Российский филолог-литературовед А. А. Агеев указывает, что «ѐрничество и стѐб были тогда противопоставлены официальному политико-патетическому жаргону, а заодно и всему “великому русскому языку”, позволившему себя редуцировать до партийного “новояза”. Это была своеобразная культурная самооборона, весьма, впрочем, глухая и не всегда ясно осознаваемая “носителями языка”» [152, с. 22–23]. На современном этапе эстетика стѐба получает большое распространение, особенная частотность отмечается в использовании способа интеллектуального ѐрничества, чѐрного юмора, элементов провокативной абсурдизации. В текстах, основанных на стратегиях стѐба и провокации, демонстрируются ситуации обессмысливания, переозначивания некоего идеалогического конструкта, понятий нормативности. Трасянка в произведениях М. Мартысевич, белорусской поэтессы, переводчика, журналиста, становится способом самопрезентации туповатого, ограниченного персонажа, довольствующегося своим убогим положением, не понимающего своей низменности, ведь он «как все». Неузуальный язык выступает в роли консолидирующего средства, а негативная идентификация героя выражает тотальное отчуждение от ценностей, групповых или общественных регуляторов поведения, в том числе языкового. Самодовольство, снисходительность к собственной глупости, отсутствие представлений о норме звучат в каждой строчке стихотворения «Adnaklasniki.by» [127, с. 15]. Герой произведения попадает в обычную житейскую ситуацию: встречает в магазине свою бывшую одноклассницу. Но свидание оборачивается для него сложной дилеммой: 127 А ана мяня астанаўлівает у «ГІПА», каля малака, і такая прыет, пака, скока лет, скока зім, как там Лѐха, а как Максім, і грыт, у нас тут устрэча ў кафэ, гэта ж колькі: год дзевяць? – о, дзесяць как раз прашло, ты, грыт, прыхадзі, пасядзім, спамінаць будзем, как было. А ў самой брыльянт на пальцэ, дзіцѐ ў цялежке, «бэ-эм-вэ» на брэлке, рыецца ў малаке, такая жэ рэзвая, толькі касічкі адрэзала. А я гру, што там успамінаць, как я цібя біў? А яна грыт, я не пра эта, Саша, я саўсем не пра эта... І засмяялась, как будта прасціла мне. Ці варта Сашку ісці на сустрэчу выпускнікоў у кафэ? – Так. – Не. Герой, судя по всему, так и остался на уровне развития ученика средней школы, пропустил этап становления, не понял, что он упустил свою любовь. Детство прошло, а корявая речь облекает такие же корявые мысли, вместо слова «любовь» используется лексема «біў» («бил»), в духе детских обычаев, когда таскание за косички – вершина проявлений чувств. Иные цели использования трасянки реализованы в стихотворении М. Мартысевич «Слава – Ісусу Хрысту» [127, с. 10]. Трасянка в этом произведении выступает как маркер конфликта самоопределения и понимания других, внутренней противоречивости личности, попавшей в некомфортную ситуацию. Лирический герой этого стихотворения – мальчик, подросток, которому на уроке дали задание написать письмо Господу Богу. Речь ребѐнка, искренняя и непритворная, пересыпана белорусскими и русскими лексемами. Причин этому несколько: семья недавно переехала из города в деревню, а кроме того, такой смешанный вариант речи распространѐн в Беларуси повсеместно. Так особенности речи становятся средоточием культурного и социального напряжения. Детские радости и горести, рассказанные в письме, как нельзя более органично облечены в язык пусть и ненормативный, но привычный и естественный: 128 У мяне ўсѐ добра, хоць з сенцябра я жыву ў дзярэўне, трохі сумую за пацанамі з двара і баюся клявачага пеўня. ЗБ, калі шчыра, – мой самы нелюбімы прадмет: бацюшка лае нас з Тадзікам, што не ўмеем крэсціцца, Радзюка называе Нехрысць і Магамет, а дзяўчонак, каторыя ў бруках, заве блудніцы. Схожие аспекты затронуты уже в названии одного из сборников Э. Яндля 1975 г., «спрятанная свирель» («versteckte hirte»). Свирели уподобляется процесс говорения, неправильная, исковерканная речь лирического героя этого сборника. Его открывают циклы стихотворений, созданных на «опустившемся языке», аграмматичном, зачастую сознательно вульгарном. Пафос текстов данного сборника не допускает сближения с интонацией «высокого», классического лиризма, с пафосом поэтической речи. Уже в названии сборника, многоаспектном и основанном на определѐнной игре со смыслом, проявляет себя обращение к «говорной», повседневной интонации. Слово «versteckte», переведѐнное нами как «спрятанный», обладает дополнительным семантическим планом – «попорченный», «припрятанный», «не достойный демонстрации». Смысл аграмматичной формы «Hirte», в силу еѐ омонимичности, может трактоваться и как музыкальный инструмент (примитивная дудочка пастуха), и как сам пастух, в меру своей необразованности издающий малопонятные, невразумительные речи. Лирический герой сборника – малообразованный и неразвитый человек, которому процесс говорения стоит невероятных усилий. Уже заголовок стихотворения Э. Яндля «лѐгкие слѐва» («der leichte wärter») 234, с. 54 задаѐт правила игры, по которым создано данное произведение: перестановки букв, незнание правильного употребления даже простых слов – всѐ это приводит к выводу, противоположному по отношению к заголовку: слова «тяжелы»: этот был бы двэр был бы был бы этот был бы двэр тяжело тяжело der wär ter wär wär der wär ter schwer schwer 129 Немецкий филолог П. Х. Нойман, характеризуя подобные произведения Э. Яндля, подчѐркивает, что они выражают намерение быть близкими «немытой действительности» («einer ungewaschenen Wirklichkeit nahe zu sein») 246, с. 38, не ограждаясь от неѐ высокой лексикой и изощрѐнной грамматикой. Название стихотворения «поиск знаний» («suchen wissen») Э. Яндля может быть переведено и более неузуально – «знать искать», что точнее соответствует авторской задумке и самому тексту произведения, в котором языковой скепсис проявил себя в отказе от склонения слов, в употреблении инфинитивов в роли существительных, в тотальном упрощении и редукции синтаксиса. Этот текст также поднимает проблему «немытой действительности», демонстрирует особые попытки высказаться и донести смысл. Крылатое изречение «Я знаю, что ничего не знаю», приписываемое великому философу Сократу, передано в стихотворении Э. Яндля посредством путаной, грамматически убогой речи. Однако тем похвальнее попытки плохо образованного, ущербного героя этого конкретистского произведения, который, манипулируя всего шестью лексемами, три из которых служебные части речи, рассказывает о процессе мышления, отчаянном желании познать истину, внести ясность и в логически противоречивое изречение, и в человеческое бытие вообще: ich was suchen ich nicht wissen was suchen ich nicht wissen wie wissen was suchen ich suchen wie wissen was suchen я что-то искать я не знать что искать я не знать как узнать что искать я искать как узнать что искать ich wissen was suchen я искать что-то знать ich suchen wie wissen was suchen я искать как знать что искать ich wissen ich suchen wie wissen я знать я искать как знать was suchen что искать ich was wissen я что-то знать В последние десятилетия в белорусской культуре наблюдается повышение интереса к проблематизации языка, что нашло отражение в том числе и в рок-культуре. Рок-тексты подобного типа тяготеют к эстетике авангардизма, неоавангардизма и постмодерна, к выходу за пределы норм литературного языка. Пафос рок-культуры в мировой практике зачастую перевоплощается в контркультуру. Пользуясь терминологией социальной 130 лингвистики, отметим, что в современном белорусском рок-дискурсе наблюдается отрицание общепринятых представлений о языке лирики, литературной норме, демонстрируются попытки создать произведения на основе подчѐркнуто разговорной, повседневной речи, производных форм языка. Так, в произведениях групп «Крамбамбуля», «Ляпис Трубецкой», «Разбитае Сэрца Пацана», текстах Лявона Вольского, Михаила Анемподистова, других современных белорусских авторов и исполнителей встречаются показательные произведения, в которых происходит отказ от норм белорусского литературного языка. Таким примером может служить появление произведений, основанных на трасянке, смешанной форме двух (белорусской и русской) языковых систем. Денис Тарасенко и Павел Городницкий, фронтмены группы «РСП» («Разбітае сэрца пацана»), одного из самых успешных белорусских музыкальных проектов, создают тексты для своих песен именно на трасянке. Причѐм палитра еѐ использования достаточно обширна – от мягкой шутки, налѐта ностальгии до откровенного ѐрничества, языкового экстремизма. Надо отметить, что творчество этого рок-коллектива – это сочетание эпатажного исполнения с элементами панк-рока, провокативно-эротической подтанцовки и нарочито безыскусных текстов, граничащих со стѐбом. В тексте «Смаргонь» (маленький белорусский провинциальный городок) заявлен характерный герой произведений группы «РСП» – «рабацяга». Это обычный, ничем не выдающийся представитель среднего большинства, слабо развитый, плохо образованный, с типичными житейскими проблемами: После заочкі і после работы Спят рабацягі, начхав на заботы. Сьніцца ім мора, халмы Галівуда. Ім бы туда паскарэе адсюда. Там ні начальства, ні жонкі пад бокам, Хамства, нахальства, праблем і упрокаў Рэкі – чэрніла, пельмені бесплатна, Выпіў, паеў, акунуўся – прыятна! Весь спектр интересов подобного персонажа исчерпывается бесплатной едой и выпивкой. Но подобная безыдеальность в текстах «РСП» зачастую демонстрирует отчаяние будничного существования, такая ущербность – и приговор, и тяжкое бремя, освободиться от которого не позволяет ограниченность возможностей, неладно устроенный образ жизни, никчѐмная профессия. 131 Основная коллизия, вокруг которой строятся «рок-баллады» «РСП» из произведения в произведение, – это несчастливая любовь, своеобразная антипоэтизация брошенного кавалера. Так, в тексте «Полюбила гопаря» («Палюбіла гапара») самопрезентация героя строится через его монолограздумья на трасянке. Слушатель узнаѐт, что кручина, «грустны матыў» случились равно и от того, что любимая ушла с другим, и от того, что «камароў цэла куча»: Ад чаго таки грустны матыў, нет ответа. Мо, что с дзяўчонкай хадзиў этим летам, Мо, что была камароў цэла куча. Ты падумала, что з гапаром тебе будет лучше, тебе будет лучше, тебе будет лучше... Трасянка здесь выступает как маркер всеядности, равнодушия и на уровне выбора языковых единиц (полурусских, полубелорусских), и на уровне решения смысложизненных вопросов, когда ограниченность, редуцированность сознания героя, порождающие парализованную и невнятную речь, не позволяют ему даже на уровне животных инстинктов побороться за любимую. Несколько другой аспект затрагивает известный белорусский рок-музыкант Л. Вольский в ещѐ одном произведении на трасянке «Терминатор» («Тэрмінатар»). Герой этого стихотворения – воинствующий хам. Ограниченный и глуповатый, он, бравируя, признаѐтся, что «учыўся плоха», зато сейчас стал, по всей видимости, сотрудником правоохранительных органов. Воспитанный на боевиках и массовом кино, герой сравнивает себя с терминатором. История, рассказанная недоумком-терминатором, совсем заурядная, типичная, а его неграмотная, но такая уверенная речь, перенасыщенная тоталитарными командами-окриками, буквально демонстрирует имморализм человека без принципов, дорвавшегося до власти: А я стаю крутой, як Тэрмінатар: Ў руках дубіна, на падошвах трактар. У новай форме – чотка ўсѐ пашыта. Стаяць, баяцца! Я – твая зашчыта! Ну што з таго, што я учыўся плоха? Зато цяпер круцее вас намнога. Спярва служу, патом гуляю ўсласць, Сабой я аліцэтвараю ўласць! 132 В другом произведении Л. Вольского для группы «Крамбамбуля» «Люблю» трасянка надѐжно скрывает от узнавания цитату из классики, изза бездумного и малограмотного употребления малоузнаваемую: Я вас любіў, любоў яшчэ У душы пагасла не вабшчэ. І апроч вас яшчэ люблю Ваду, і неба і зямлю. В духе говорения и думания среднего обывателя смешаны воедино пушкинское признание в любви, а также любовь к воде, небу и земле, что противоречит и здравому смыслу, и канонам грамматики, запрещающей построение подобных однородных рядов, и законам белорусского языка, где любовь к женщине и любовь к воде обозначаются различными лексемами (каханне і любоў). Однако цель такого нагнетания, подробного перечисления объектов любви находит объяснение в последней строфе текста. Становится ясно, что лирический герой на безыскусном языке признаѐтся в любви к жизни, а его многословие и смешение разновеликих понятий – от полноты чувств, яркой витальности: Люблю ўсѐ, Што называецца жыцьцѐ. І песьню гэтую пяю Пра тое, што жыцьцѐ люблю. В самом радикальном виде этот эксперимент с формой существования языка у современных литераторов может быть рассмотрен как тенденция к созданию симулякров, текстов, в которых принципиальная идея какой бы то ни было референции, в том числе узуальной, подвергается деструкции. Создание текстов на трасянке в достаточной степени может рассматриваться как своеобразное «остранение», постмодернистский выход в стихию естественного языка. Снятие оппозиции между «высоким» (литературным языком) и «низким» (народно-разговорным), кодифицированным и некодифицированным лингвистическим вариантом отмечается и в произведениях Ярилы Пшеничного (Ярыла Пшанічны), белорусского поэта, музыканта и лингвокреатора (настоящее имя автора – Владимир Банько (1973–2015)). Известная детская новогодняя песенка «Маленькой ѐлочке холодно зимой» из сборника «Пішчавыя лішкі» (2011) стала символом празднования «советского» Нового года, где за внешней идеологической показушностью скрывались вполне «взрослые» грехи и 133 грешки. Ярила Пшеничный в стихотворении «Рыхтуйцеся» в пародийной форме интерпретирует главные новогодние «эмблемы», в том числе посредством трасянки лишая их ореола благопристойности: гэць сумота гэць работа скончыца нядзелька – на кастрычніцкай паставяць супер-пупер елку добрая пушыстая метраў трыццацьпяць ты вярнулась з лесу зноў да нас апяць гэта радасць і вяселле гоман песьні танцы вакол п’яна будуць скочыць дажэ інастранцы Строфы стихотворения демонстрируют асимметрию между каноном, ожидаемым и реализацией, явленным. Ожидаемая картинка празднования наступления Нового года, атрибутики новых чаяний и ожиданий сильно расходится с явленной в тексте Ярилы Пшеничного. Его текст воспроизводит скорее карнавальное святочное гуляние, где смеховая культура сталкивается с рациональными законами советского «правильного» праздника. Подобные сниженность, вульгаризованность, десакрализация придают тексту авангардисткую интенцию разрушения и обновления. Трагичность жизни, пропущенная сквозь призму смехового использования трасянки, предстаѐт уже жизнеутверждающей, хулиганскиразудалой. Хмельной Дед Мороз раздаѐт правдивые, пусть и стѐбовые, рекомендации по выживанию в безумном современном мире: Вы пражылі не дарма Гэты час са мною Потым будзе яшчэ горш Я ад вас не скрою Не сумуйце вы аб гэтым Дзеці-дзетвара Потым гэту елачку Парубім на драва 134 Трасянка в этом тексте как раз и становится одним из средств высвобождения из «постсавецкай заскарузласці», а судьба ѐлочки, порубленной на дрова, – это вполне знакомая эгида авангардизма и постмодернизма, где эстетика нигилизма и десакрализации является доминирующей, а призывы «сбросить с корабля современности» лишь декларация творческой свободы. Песня-гимн «El pueblo unido jamás será vencido» («Пока мы едины, мы непобедимы») на каком-то этапе превратилась в народную, стала символом борьбы за демократию сначала в Чили, а затем и во всѐм мире. Ярила Пшеничный создаѐт одноимѐнное стихотворение в ритме этого гимна, объявляя ироническую войну заморским яствам и деликатесам: паўстань кашанка з ліверкай паўстань паўстань паўстань бязлітасна бясконцую вайну распачынай аўсяначка-матуля і дзіруноў прыгаркі паўстаньце як адзін вы змагары змагаркі Простая привычная еда в стихотворении становится своеобразным брендом, национальной эгидой, способной объединить и солидаризировать общество в духе военного коммунизма, пережитка недавнего прошлого постсоветских стран. В стихотворении «El pueblo unido jamás será vencido» спародировано ещѐ одно «общее место», традиционная модель поведения. Автор демонстрирует готовность лирического героя к бездумной агрессии, делению мира на своих и чужих, экстремистское стремление следовать лозунгу «весь мир насилья мы разрушим». Можно говорить о том, что языковое оформление этого текста соответствует типу личности, условно названному «Homo soveticus»; в некоторых аспектах язык таких стихов приближается к соц-арту (использование «военного» языка лающих команд, эксплуатация специфической лексики): бей злыдняў супастатаў гані з прылаўкаў вунь хай ў крамах марсэльеза гучыць пад посьвіст куль 135 Часто использование некодифицированного языка носит характер языкового экстремизма, хулиганства, осмеяния и деформирования авторитетов и канонов, дерзкой шутки, так называемого «стѐба» над понятиями нормативности. Достаточно неожиданно стихия просторечия, возможности трасянки проявляют себя в творчестве М. Анемподистова, белорусского графика, дизайнера, автора поэтического сборника «Атэкстацыіі» (1998), пьесысценария «Narodny Album» (2000) в соавторстве с Л. Вольским, а также ряда песенных текстов для белорусских исполнителей. Особая языковая ситуация сложилась в западном регионе Беларуси, где для многих жителей понятен, помимо белорусского и русского языков, и польский. Более того, специалисты говорят о функционировании на данной территории одной из разновидностей последнего – восточного периферийного диалекта польского языка (так называемые польские островные говоры). Всѐ это нашло отражение в стихотворении М. Анемподистова «Ja śpiewam po polsku» («Я пою по-польски») [5, с. 104] – и в использовании латиницы, и в лексико-грамматических средствах. Особо обращает на себя внимание последняя стихотворная строка «I tylko wam wszystkim serdecznie dziękuję», в которой явно ощущается влияние белорусского речевого оборота «дзякую ўсім вам» (ср. русск. «благодарю всех вас») вместо польск. «dziękuję państwu»: Ja śpiewam po polsku swoje piosenki Dla was, kochane moje panienki. Ja jestem po prostu samotnym aktorem, Słuchajcie mnie rano, słuchajcie wieczorem, Słuchajcie mnie w nocy, słuchajcie, słuchajcie, Ja kocham was mocno, i wy mnie kochajcie. A więcej niczego ja nie potrzebuję I tylko wam wszystkim serdecznie dziękuję. Отметим, что рассмотрение текстов на трасянке сугубо в литературоведческом фокусе позволяет проводить параллели между произведениями М. Мартысевич, М. Анемподистова и немецкоязычных конкретистов. Конкретисты творчески воспринимают урбанолекты и диалекты как питательную среду для языка художественного творчества, как средство художественной выразительности, обладающее богатой палитрой характерологических черт. 136 Своеобразным срезом культурного пласта современной жизни становятся и тексты на трасянке, фиксирующие распространение данного явления, сложного и неоднозначного, выходящего за пределы изучения только литературоведения и лингвистики. Несомненно, интересным представляется использование трасянки как средства категории комического. Необходимо подчеркнуть, что обращение к ресурсам разговорной и просторечной лексики и отказ от языкового стандарта в речевых стихах современных белорусских авторов перестаѐт быть простым средством художественной выразительности, речевой характеристики персонажа. Такая тенденция метафорически отражает глубочайшие потрясения социальной действительности, кризис многих представлений современного человека. В творческих установках Ю. Гуменюка, Вс. Горячки, С. Прилуцкого, М. Мартысевич, М. Анемподистова заложено стремление сквозь призму обиходно-разговорного, просторечного языка очертить проблемы общества, использующего данный язык. Устойчивая поликомпонентная языковая ситуация современной Беларуси проявляет себя в рок-текстах групп «Крамбамбуля», «Ляпис Трубецкой», «Разбитае Сэрца Пацана», текстах Лявона Вольского, Михаила Анемподистова, других современных белорусских авторов через интерференцию русской и белорусской языковых систем, создание песенных текстов на трасянке. Именно широта и свобода неузуального использования «повседневного», «непарадного» варианта языка, трасянки позволяют обратиться к описанию лингвистических явлений, происходящих при постоянном контакте русского и белорусского языков (переключение кодов, смешение языков, межъязыковая интерференция и др.) в произведениях современной белорусской рок-культуры. И для современных белорусских авторов, и для поэтов-конкретистов характерно обращение к ресурсам нелитературного языка: к территориальным диалектам, социолектам, в том числе к молодѐжному арго, к просторечию, обиходно-разговорной речи. Данный подход связан со стремлением преодолеть ограниченность понимания языка лишь с точки зрения его имманентных законов и глубже проникнуть в природу языка как социального явления. Речевые стихи конкретистов и современных белорусских авторов – это и попытка изучения общественного сознания, отражение зависимости языка и речи от изменения состояния человеческого социума. 2.2.4 Языковая игра Присущая конкретной поэзии авангардистская проблематизация языка, стремление разрушить традиционное оформление текста приводят к тотальному распространению в произведениях конкретистов приѐмов 137 языковой игры. Да и, по замечанию учѐного-лингвиста Т. А. Гридиной, вообще «современная языковая ситуация характеризуется высоким рейтингом деканонизированных форм речевого поведения, что выражается в том числе в активном использовании говорящими широкого регистра приѐмов языковой игры» [55, с. 47]. Впервые сравнение языка с игрой было представлено у Ф. де Соссюра и А. А. Потебни. Значительную роль сыграли также подходы к рассмотрению данной проблемы Л. Витгенштейна. Изучение этого явления в русистике имеет свои традиции. Основу составляют труды В. В. Виноградова, А. Н. Гвоздева, А. И. Ефимова, Е. А. Земской, А. А. Щербины. На современном этапе данной проблематике посвящены работы Ю. И. Лѐвина, Е. В. Падучевой, Б. Ю. Нормана, Т. А. Гридиной, В. З. Санникова и др. При всѐм многообразии точек зрения исследователи сходятся во мнении, что «изучение этого “несерьѐзного” материала может натолкнуть лингвиста на серьѐзные размышления, на новые нетривиальные наблюдения и обобщения при изучении самых разных уровней языка» [153, с. 36]. Несмотря на широкий спектр исследований, посвящѐнных языковой игре, единого, общепринятого определения этого явления в настоящее время не существует. Один из авторитетных исследователей явления языковой игры В. З. Санников пишет, что это, «как и комическое в целом, – отступление от нормы, нечто необычное (даже, по Аристотелю, нечто безобразное). Дело, однако, в том, что, по справедливому замечанию Т. Манна, патологическое, пожалуй, ясней всего поучает норме» [Цит. по: 153, с. 13]. В. З. Санников рассматривает игру как одну из форм лингвистического эксперимента. Т. А. Гридина указывает, что языковая игра, в определѐнном смысле, – это «форма лингвокреативного мышления … которая создаѐт возможность творческого отхода от стандартных способов выражения самосознания языковой личности» [56, с. 8]. Ссылаясь на исследования В. З. Санникова, Э. М. Береговской, Л. А. Новикова, а также на собственные изыскания, В. И. Шаховский выделяет «среди различных форм языковой игры как разновидности речетворчества нонсенсы, пародии, парадоксы, анекдоты, шутки, палиндромы, заумь, каламбуры, интертекстуальную импликацию и многое другое» [190, с. 46]. Паронимию и варианты переразложения слов, как разновидности речетворчества, активно использованные немецкоязычными конкретистами, успешно реализуют и современные белорусские авторы. Например, А. Тихонова (1977) – признанный мастер графического искусства, лауреат многих международных конкурсов. Основная сфера интересов художника – искусство экслибриса, в котором подчѐркнуто важны образность изобразительного языка, погружение в систему художественных знаков, 138 оригинальность авторской интерпретации. Поэтические эксперименты А. Тихоновой – сборники «Марскія шпількі» (1997) і «Фільтры сноў» (2003) – с искусством графики сближает особое отношение к слову как к строительному материалу поэзии. «Поэтесса существует в двух ипостасях: она пишет буквами и складывает поэтические пейзажи красками», – в свою очередь отмечает Д. Вишнѐв [36, с. 94]. Очевидно, что произведения конкретистов также отличаются особенным, в некоторой степени прагматичным отношением к словотворчеству, самому языковому материалу. Слово утверждается как объект, при работе с которым автор умышленно отказывается от классических представлений о «поэтическом» и способов орнаментальности. Эта непривычная для поэзии «просчитанность», рациональность конкретистского текста компенсируется предельной насыщенностью игровыми приѐмами письма, ироничностью, гротескной пародийностью. Вот и в произведениях сборника А. Тихоновой «Марскія шпількі» аналитический подход к слову, разложение его на составляющие, детальное лексико-фонетическое исследование сочетается с парадоксальностью семантики, глубокой метафорикой. Особенно важно, что тексты А. Тихоновой – попытки работать со словом именно как с функциональной единицей, при употреблении приобретающей новые возможности на уровне семантики и фонетики. Так, в «Марскіх шпільках» ведущим организующим началом становится игра с переразложением слов, тенденция к каламбуризации высказывания. Игровая поэтика произведений А. Тихоновой тяготеет в большинстве случаев к явлению паронимии, основываясь на сближении паронимов в речевой цепи, благодаря чему возникают различные эффекты семантической близости (Я апынулася ў бездані. / Я акунулася ў бэз… Здані…) [68, с. 177] или, наоборот, противопоставленности («Эстэцтва – гэта выя лані, / Эстэцтва гэтае – вылаяна») [68, с. 177] подобных единиц (В.П. Григорьев). Действительно, первый текст основан на контекстуальном сближении, родственности единицы «ў бездані» и лексем «бэз» и «здані», созвучность которых будит «народную» этимологию. В произведении «Эстэцтва…» важен эффект противопоставления подчѐркнуто высокого поэтического оборота «выя лані» и лексемы, обладающей намеренно сниженным значением, – «вылаяна». Употребление созвучных слов в данных примерах создаѐт яркую перекличку звуков, делая слова более «выпуклыми», значительными; кроме того, рождает ситуацию их образного переосмысления, подкрепляет содержание фразы. На подобные тенденции указывает теоретик и практик конкретизма Ф. Мон, анализируя образцы построения конкретной поэзии. Он предлагает вычленять группу с «фонетико-ассоциативной вариацией 139 языковых знаков. Одна фонетическая структура заменяет другую, сходную, но с другим значением» [131, с. 99]. «Говорная» природа стиха проявляет себя и в творчестве белорусской поэтессы, и в парадигме конкретизма посредством поэтической работы именно со звучащим словом, являющимся своеобразным первоисточником смысла. В «Шпільках» А. Тихоновой предельно далѐкие, лишѐнные семантической и словообразовательной общности слова буквально «срастаются» в тесном контексте, тяготеющем к моностиху, пересекаются в неожиданном ассоциативном поле, рождая в достаточной степени яркие и свежие образы: «Бессэнсоўныя перажыванні – / Бессэнсоўнае пяра жаванне» [68, с. 187]. Подобные явления Ю. Тынянов обозначал термином «инструментовка», подразумевая орудие изменения смысла, оживления давно забытого в слове родства с близкими и возникновения нового родства с чужими словами. Неожиданные ассоциативные поля, как ловушки, расставленные в текстах сборника «Марскія шпількі», заставляют всматриваться, вслушиваться в текст, учат творческому отношению к слову: «Змест атрымаўся агульны. / Змест атрымаўся… А гульні?» [68, с. 188]. Один из поэтовконкретистов, Р. Доль, экспериментируя со словом, поворачивает знакомое всем латинское выражение «et cetera» («и так далее») под призму переразложения и получает неожиданный вариант «et cette terra» (и это земля) [240, с. 39]. Раздумья А. Тихоновой о творчестве, его природе оформлены в игровом ключе: «Новых твораў ніякіх не маю. / Новых твораў ніякіх – нямая» [68, с. 187]. Мысли А. Тихоновой имеют своеобразное созвучие в текстах австрийского поэта-конкретиста Э. Яндля. Приѐм редукции некоторых из звуков в сочетании с явлением омонимии используется им для создания текста, содержащего в едкой ироничной форме оценку писательскому труду, самому автору. Взамен общепринятого оборота «schreib maschine» («пишущая машина») автор предлагает выражение «schrei maschine» («кричащая машина») [233, с. 17]. Таким образом, оба автора, размышляя о писательском труде, контекстуальными синонимами ему видят немоту, письмо, крик. Введение в арсенал современной белорусской поэзии форм каламбура, олорифмы, панторифмы, характерных в том числе для творчества А. Тихоновой, в генезисе своѐм демонстрирует рождение смысла из звука с помощью звуковых повторов, обменов букв и звуков в слове, паронимической игры. Экспрессемы, появляющиеся в текстах А. Тихоновой, рождаются на пересечении смысла слова и художественного контекста, переводя лексическую единицу с уровня языка на уровень речи, звучания, употребления, оживляя слово, погружая читателя в стихию 140 речевого удовольствия. Один из таких текстов может служить своеобразной иллюстрацией авторского кредо А. Тихоновой, чья экспериментальная комбинаторика – это путь к цели, а не игра ради игры: Парушэнні дзеясловаў, Парушэнні – дзея словаў [68, с. 177]. Эксперименты А. Тихоновой репрезентованы скорее на уровне эстетической лингвистики как способа оформления высказывания, при этом достаточно традиционно заявляют «вечные ценности». Поэтесса с помощью игровых приѐмов не переходит к эстетике фарса, эксцентрике, а только возвращает поэтическому языку остроту и осмысленность, демонстрируя неожиданную смену семантики при сохранении фонетики. Известно, что явление народной этимологии достаточно распространено на уровне и обиходной речи, и поэтического языка. Желание конкретистских авторов вернуть слову его изначальное значение, поиски мотивированности высказывания зачастую приводит их к использованию возможностей этимологического анализа лексических единиц, а также к находкам народной этимологии. Само понятие «народная этимология» является калькой с немецкого термина «Volksetymologie». Он появился в работах немецкого лингвиста Э. Фѐрстеманна в 1852 г. и обозначает собственно лингвистическое явление – полное или частичное переосмысление слова в результате произвольного сближения его с другими близкими по звучанию словами. Как отмечает в этой связи известный лингвист Б. Ю. Норман, «филологи давно заметили: человек иногда не удовлетворяется двумя сторонами знака – его планом выражения и планом содержания, а ищет третий, связующий их компонент: мотивировку. Он как бы хочет знать не только “как слово звучит и пишется” и “что оно значит”, но и “почему оно значит именно это”. Чаще всего такой интерес пробуждается тогда, когда слово говорящему плохо знакомо, оно для него ново или же – для нас эта ситуация более интересна – если у него есть какая-то “сверхзадача”: например, эстетическая или юмористическая (вспомним указанные ранее основания языковой игры). И человек начинает фантазировать, предполагать: как могло бы возникнуть то или иное слово» [137, с. 128]. Целый ряд народных этимологических цепочек создала в стихотворении «Дыянісійская філязофія» [61, с. 56] Джети (В. Бурлак) (1977), белорусская поэтесса, переводчица и музыкант, автор литературных сборников «За здаровы лад жыцця» (2003), в соавторстве с В. Жибулем – «Забі ў сабе Сакрата!» (2008). 141 Стихотворение «Дыянісійская філязофія» содержит в себе подборку иноязычных имѐн собственных, естественным образом не имеющих родственных слов в белорусском языке. Однако автор стихотворения, по метафорическому замечанию Б. Ю. Нормана, «пытается “исправить несправедливость” и подыскать слову родственников, говоря по-другому, восстановить, оживить его внутреннюю форму» [137, с. 131], подобрать словам, ассоциативно ли, по созвучию, подходящий контекст: На тонкай лѐсачцы, Зь нябѐсаў спушчанай, Гайдаўся Гайдэгер Напаўраструшчаны. А Фэербах лавіў Іх у траве І фэербахаў іх Па галаве. А побач Крысьцева Сухое лісьціва Нагамі крэсьліла – Шукала крэсіва. А Ніцшэ зьнішчыў іх І перабіў, Засумаваў і новых Нарабіў. На белым прапары, Напаўразгаданы, Драмаў падрапаны Пабіты Гадамэр. Внутри пар слов «гайдаўся – Гайдэгер», «Крысьцева – крэсьліла – крэсіва», «Напаўразгаданы – Гадамэр», «Ніцшэ – зьнішчыў» благодаря функциональным ассоциативным связям представлена авторская характеристика некоторых особенностей философских систем упомянутых мыслителей. С интонировкой, напоминающей садистские стишки, повествует Джети о целом пантеоне философов ХХ в., находя совершенно простые, обиходные слова для игровой референции их концепций. Более структурированные построения использует белорусский автор М. Башура (1975) в тексте «Акварыум» [68, с. 68]. Однако и в данном произведении языковая игра разворачивается вокруг «народного» понимания заимствованного слова «аквариум». Основываясь на омофонической сегментации, автор вычленяет внутри него отдельное звукоподражание «кваква», которое становится псевдомотиватором, а далее перекидывает ассоциативный мостик и к узнице аКВАриума – зелѐной лягушке. Данный текст содержит кроме вербальных компонентов и несколько параграфических знаков, служащих своеобразными указателями для правильной последовательности чтения и восприятия. Определѐнные компоненты выделены подчѐркиванием, дополнительно фиксируя внимание читателя: 142 Акварыум → аква – вада – ква-ква – зялѐная жабка → шкляная турма В тексте «кошатник» («catmen») Э. Яндля народная этимология проявляет себя на словообразовательном уровне. Свобода неузуального словообразования позволяет поэту разрушить стандарт и, смешав английский и немецкий языки, построить окказионализмы «catmen» (кошатник) и «pigmen» (свинятник) на основе модели слова «dogmen» (собачник), поособенному взглянув на происхождение этой лексемы. Контрапунктом текста являтся то, что слово «dogmen» в немецком языке обозначает понятие «догма» и никак не связано с собаками. Но игровое псевдочленение приводит к курьѐзному результату: стандарты оказываются преодолѐнными: «dogmen / catmen / pigmen» [234, с. 65]. Заявленный текст затрагивает ещѐ один аспект лингвокреативности, ставший заметной характерологической чертой конкретной поэзии, – это игра с лексическими единицами разных языков, их смешение в пределах одного текста, иначе говоря, элементы макаронического стиля. В стихотворении Джети «Пан грае на валынцы, бо сырынга ператварылася ў авечку» [61, с. 17] (цикл «Сырынга») автор вплетает в ткань текста английские лексемы, каждый раз открывая ими строчку. Данные лексемы общеизвестны, легко переводятся и практически не вызывают затруднений при чтении текста, ритмически и интонационно вписываясь в него. Переходы с кириллицы на латиницу стройно вплетаются в концепцию цикла, заявленную в названии. Как известно, музыкальный инструмент Пана – дудочка, или сиринга, получила своѐ название от имени красавицы наяды, которая предпочла стать тростником, нежели ответить на ухаживания Пана. Таким образом, мотив метаморфоз, взаимопереходов, игры со смыслами реализуется в данном тексте на разных уровнях: So я чую сьпеў у калідоры Is ѐн твой – ці гэта ветру сьпеў? Right, я згодны, гэта неістотна, If цябе злавіць я не пасьпеў. Neither nor сказаць у калідоры Go туды, і ты пабачыш зоры And пачуеш мой ці ветру сьпеў: do-o-o-o-o-o-o-o-o – 143 Надо отметить, что макаронический приѐм в данном тексте используется не с комической целью, что более традиционно. Схожая «серьѐзность» зачастую проявляет себя и в текстах поэтов-конкретистов. Так, среди произведений Э. Яндля обращает на себя внимание цикл, созданный параллельно на немецком и английском языках. Данные стихотворения представляют собой образец дублирования одного и того же текста на различных языках, причѐм английский вариант создаѐтся на основе так называемых интернациональных общедоступных лексем, понятных носителю любого языка. Основой подобных высказываний стали краткие лаконичные фразы, обладающие парадоксальной семантикой, неожиданно репрезентирующие привычный языковой оборот, штамп, существующий во всех языках. Так, в стихотворении «справедливость» («justice» / «gerechtigkeit») [235, с. 252] мысль развивается в форме обращения лирического героя к некоему собеседнику с псевдоискренними словами сочувствия: justice iʼve so much to eat that iʼm getting fatter and fatter and you my dear have so little to eat what an unjust world gerechtigkeit ich habe so viel zu essen daß ich fetter und fetter werde und du mein schätz hast so wenig zu essen oh selbstvergessene erde справедливость у меня так много еды что я всѐ полнею и полнею а ты мой дорогой имеешь так мало еды ох несправедлив мир Одним из интересных явлений в пространстве экспериментов современной белорусской поэзии, а также среди приѐмов конкретизма значится создание текстов, поддающихся разным прочтениям в зависимости от направления (слева направо; справа налево, сверху вниз; снизу вверх). Творческое кредо немецкоязычного конкретиста Ф. Мона – создание по144 добных текстов – Querstellen, которые могут читаться в различных направлениях, «вдоль и поперек». Составляются Querstellen таким образом, чтобы все варианты прочтения – на внешних, внутренних, продольных и поперечных сторонах – равнялись друг другу. Одно из стихотворений Ф. Мона – своеобразная магическая фигура, состоящая из палиндромного слова «ротор» [240, s. 106]. Данный текст может читаться и по кругу, наглядно демонстрируя движения ротора: В творчестве С. Минскевича наблюдаются схожие тенденции создания магических квадратов. Такая форма составления текста имеет древнюю историю, которая напрямую связана с магией и шаманскими культами. Квадраты, оформленные особым способом, считались сильнейшими заклинаниями, предназначенными для обретения сверхъестественных способностей: Міф пра Ахілесаву пяту А Х І Л Х А М І І М А Х Л І Х А [129, с. 65] В данных произведениях актуализированы и визуальные, и акустические возможности языковой игры, использующей сочетание нескольких способов прочтения текста: построчное (линейное), а также вертикальное. Аналогичные возможности «магического» квадрата использует для создания своего текста и Ф. Мон. Игровое пространство стихотворения разворачивается вокруг сходства начертания нескольких букв латиницы – «о» и «u», которые при повороте страницы на 180° превращаются в графемы «о» и «n». Сценарий чтения данного текста, так или иначе, заставляет обратиться к феномену зеркальной композиции, мотиву двойничества и зеркальности, лабиринта, отчасти к приѐмам палиндрома: 145 o u n o u o o n o n u o n o o u [240, с. 102] Подобные произведения иллюстрируют высказывания Ю. Лотмана о том, что «текст при “нормальном” чтении отождествляется с “открытой”, а при обратном – с эзотерической сферой культуры. Показательно использование палиндромов в заклинаниях, магических формулах, надписях на воротах и могилах, т. е. в пограничных и магически активных местах культурного пространства ... Зеркальный механизм ... имеет столь широкое распространение ... что его можно назвать универсальным, охватывающим молекулярный уровень и общие структуры вселенной» [117, с. 22–23]. Приѐмы контаминации – сращения, сдвига целого предложения в одно слово, перераспределения слова или выражения; пермутация букв, слогов, морфем, слов – нередко встречаются в творчестве конкретистов. Как отмечает Б. Ю. Норман, «языковую единицу человек может заставить “заиграть”. В слове или предложении вдруг появляются новые оттенки значения, которые вызывают глубинные ассоциации, порождают сложный смысл» [137, с. 4]. Так, в стихотворении «канцона» («canzone») [229, с. 102] Э. Яндль перераспределяет буквы слова «канцона», разделяя его фрагменты пробелом и получая омонимично звучащее в немецком языке словосочетание «ganz ohne»: «ganz / ganz / ohne / völlig beraubt». На недостаток чего так сетует лирический герой («совсем / совсем / без / полностью лишѐн»), остаѐтся за рамками стихотворения, однако жанр канцоны предполагает наличие некоторого лирического любовного мотива. Логогрифы как комбинаторные эксперименты по составлению из фрагментов определѐнного слова нового высказывания не редкость и в творчестве А. Ковалевского, который свой текст «собрал» из производных фрагментов слова «аэрапланаванне»: План Аэра: Эра Аэрапланаў. Пленэр Аэра: Па Аэрапланах [92, с. 22]. 146 Те же средства задействует А. Ковалевский для создания «вертикальной минимализации» (подзаголовок автора. – Л. С.) «Да / жд / жом» [92, с. 87], где самоограничение поэта нормами брахиколона приводит к созданию интересного и ѐмкого визуального образа ниспадающих струй и капель дождя: ды ха ю я з ды ха ю з да ху ды з до шкі да ждж ом сы хо джу у не тры тры ва лых лус таў зя млі Минимальным количеством поэтических средств обходятся поэты, создавая и тексты-брахиколоны, короткочленные стихотворения, где каждая строка равна одному слогу. Богат арсенал таких стихов и в наследии конкретистов, чьи идеологические установки требуют именно минималистического словаря, «монохромности» средств, в какой-то степени серийных приѐмов индустриального производства. В этой связи показательны тексты, состоящие из многократно повторѐнного слова или других вербальных компонентов. Примером игровой имитации классического брахиколона может служить стихотворение Э. Яндля «с изломанными глазами» («mit ausgebrochenen augen») [233, с. 19] – ѐмкий знак, повествующий о целом явлении через его признак. Взамен описания затрудненного чтения, ситуации, в просторечии называемой «глаза слепнут», поэт предлагает наглядную схему: mi ch e ne t a u n sg a e u ge br o n 147 В стихотворении «Шчадрыца» [139] Ю. Потюпы пересекаются законы жанра брахиколона и сонета, и подобное смешение добавляет совершенно непривычное звучание твѐрдой стихотворной форме: Сплаў Сот – даў мѐд. Слаў! – год, спра сплѐт. Прэч з плеч жаль! Лепш цеш жарсьць… Аналогичный неожиданный игровой поворот предлагает и Э. Яндль, создавая стихотворение «сонет» («sonett») [231, с. 81]. К. Риха, анализируя это произведение, в котором пяти гласных звуков / букв достаточно, чтобы изобразить специфическую схему сонета с рифмой в двух катренах и двух терцетах, пишет: «Благородная поэтическая форма с еѐ славной историей Франческо Петрарки и Райнера Марии Рильке становится только еѐ графической схемой» («die edle poetische Form mit ihrer glorreichen Gattungshistorie von Francesco Petrarca herauf zu Rainer Maria Rilke rein auf ihr graphisches Schema reduziert wird») 248, с. 69, поскольку долгое употребление данной поэтической формы и крайняя унормированность сделали из сонета лишь образец выхолощенной формы: das a das e das i das o das u das u das a das e das i das o das u das a das e das i das o das a das e das i das o das u das a das e das i das o das u das u das a das e das i das o das u das a das e das i das o das a das e das i das o das u das o das u das a das e das i das i das o das u das a das e das e das i das o das u das a das o das u das a das e das i das i das o das u das a das e das e das i das o das u das a 148 Установлено, что языковая игра – одно из принципиально важных, синтезирующих средств организации текста как в современной белоруской экспериментальной лирике, так и в поэзии конкретизма. Праздности или пустой созерцательности авторы, создающие свои произведения с помощью игровых приѐмов, средств комбинаторики, противопоставляют активное употребление языка. Отсюда такое частое обращение поэтовконкретистов и современных белорусских авторов (А. Тихонова, Джети (В. Бурлак), М. Башура, С. Минскевич, А. Ковалевский, Д. Дмитриев, Ю. Потюпа) к текстам, основанным на игровых, нелинейных способах построения поэтического высказывания, понуждающих читателя к активному восприятию текста, прояснению значения слова через употребление его в акте чтения-разгадывания. Игровой арсенал авангардного творчества вообще и экспериментов современных белорусских поэтов в частности – это палиндромы, омограммы, макаронические тексты, примеры народной этимологии, это опыты с тавтограммой, брахиколоном, анаграммой, центоном и другими игровыми способами оформления поэтического текста. О серьѐзности игры в заявленных текстах и белорусских, и немецкоязычных авторов говорит принципиальное отличие этих произведений от каламбуров, важной целью которых является создание комического эффекта. Многие же произведения Д. Дмитриева, С. Минскевича, А. Тихоновой, Ю. Потюпы, как и конкретистов Г. Рюма, Ф. Мона, Э. Яндля, скорее нацеливают на вдумчивое восприятие, разгадывание загадок бытия, хотя и в живой игровой форме. Необходимо подчеркнуть, что использование приѐмов письма конкретизма в поэтических текстах белорусских авторов приводит к значительному художественному эффекту, коррелирующему с эстетической функцией языка, характеризующейся привлечением внимания к самой языковой форме, плану выражения. Явления полисемии, омонимии, пермутации, контаминации, паронимии, окказиональные средства, разного рода выразительные аномалии, смешение языкового и метаязыкового контекстов – особого вида речетворческая семиотическая деятельность – способствуют порождению функциональных эффектов, обусловленных прагматической направленностью игры слов. Читатель/слушатель произведения, основанного на языковой игре, пользуется двойным языковым кодом, переходя с уровня прямого значения высказывания на уровень переносного, имплицитного и наоборот, вследствие чего формируется конституция «Homo ludens», «человека играющего», пробуждается и стимулируется творческий потенциал личности, автора и реципиента. 149 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анализ историко-культурных особенностей литературного процесса второй половины ХХ – начала ХХI в. в Беларуси и в немецкоязычных европейских странах позволяет сделать следующие выводы. Этот период оказался благоприятным для развития ряда радикальных, экспериментаторских явлений в художественном творчестве, в частности для становления оригинальной конкретистской эстетики в европейской поэзии. Дух нонконформизма, преобразования традиционных норм социальной и историко-эстетической иерархии, лингвистический критицизм, в целом свойственный литературе авангарда, определил основные приѐмы и средства формирования художественного пространства в поэзии конкретизма. В контексте европейского и мирового авангарда конкретная поэзия находится во взаимосвязи и взаимовлиянии с такими направлениями и течениями, как дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм. В некоторых аспектах конкретизм соприкасается также с футуризмом, движениями УЛИПО, ОБЭРИУ, эстетикой поп-арта, концептуализма и др. Представление о языке как о сфере приложения эмпирических методов позитивизма явилось одним из основных факторов в формировании эстетики и поэтики конкретизма. Установка позитивистской философии на освобождение языка и мышления от абстрактной умозрительности, а также научные достижения эпохи (семиотика, кибернетика, теория чисел, дизайнерское искусство, реклама, печатная индустрия) во многом определили эстетическое и поэтическое своеобразие конкретизма. Кроме того, в поэзии конкретизма элементы аналитической философии Л. Витгенштейна проявились в обращении к приѐмам деструктурирования языка, языковой игры, повышенной акустической и визуальной мотивированности. Эти черты ярко обнаруживаются в творчестве таких немецкоязычных авторов, как Х. К. Артманн, Ф. Ахляйтнер, М. Бензе, К. Бремер, О. Гомрингер, Р. Доль, Ф. Мон, Г. Рюм, Т. Ульрихс, Х. Хайссенбюттель, Э. Яндль. Анализ новаторских, во многом эпатажных произведений этих литераторов позволяет с должной уверенностью говорить, что экспериментаторская формальная организация стихотворения часто заключает в себе традиционную, общезначимую проблематику. Поэзия конкретизма – явление социально ангажированное, характеризующееся активностью, критицизмом позиции автора по отношению к современным проблемам бытия. Арсенал «поэтического» конкретизм расширяет за счѐт введения «новой эстетики». Радикализм в этой связи становится средством эстетического и формально-типологического обновления, что выводит литературу на новый уровень развития. Творчество литераторов-конкретистов оказало влияние на формирование новых эстетических критериев в условиях 150 современного кризиса традиционных представлений о «поэтическом», что нашло отражение в европейском и мировом литературно-художественном пространстве. В современной поэзии Беларуси отмечается многовекторная рецепция достижений мирового литературного процесса. В зависимости от характера изобразительных средств, приѐмов письма и организации текста в разнообразной экспериментальной белорусской поэзии установлены следующие формально-типологические группы: стихи с визуальной, акустической, речевой, или «говорной», природой, а также произведения, созданные на основе языковой игры. Представленная систематика указывает на типологическую близость экспериментальной белорусской поэзии с творчеством поэтов-конкретистов. Типы визуальных и акустических стихов основываются на инкорпорации знаков других семиотических систем (живописи, графики, дизайна, музыки, декламации). Слово в подобных текстах перестаѐт быть единственным семантико-информационным центром, что усиливает мотивированность поэтического текста, совмещает текстуальный уровень восприятия с осязаемо-образным, непосредственно данным. Выделение группы стихов с речевой, или «говорной», природой базируется на использовании возможностей «естественного» языка в противовес техницизму мировоззренческих установок, формализации творчества, в противовес традиционным представлениям о «поэтическом» языке. Такой тип формальной организации, как стихи, основанные на языковой игре, объединяет тексты, принципиально различные с точки зрения тематики, жанрово-стилевого решения, словесно-образного оформления, эвфоники. Характерными для них являются приѐмы актуализации поэтического потенциала слова посредством речетворческой деятельности, лингвистического эксперимента, языковой игры. Необходимо отметить, что данная типология в определѐнной мере динамична и условна: многие произведения белорусской экспериментальной поэзии, являясь поликодовыми, в зависимости от специфики реализации ведущего средства и приѐма организации поэтического текста могут быть рассмотрены одновременно с различных точек зрения, а значит, включены в различные формально-типологические группы. Так, произведения Д. Плакса типологически удовлетворяют условиям и визуальной, и акустической систематики; вокоральные эксперименты Д. Вишнѐва зачастую сопровождаются авторскими иллюстрациями, чем многократно усиливается визуальное воздействие таких текстов; в акустических стихах-циклофонах С. Минскевича несомненно важным является приѐм визуализации фрагментов текста посредством набора различным по величине шрифтом. Речевые стихи В. Горячки, М. Анемподистова, обыгрывающие звучание обиходно-разговорной, просторечной 151 лексики, могут рассматриваться отчасти как стихи с акцентированным акустическим компонентом. Установлено, что практически каждый текст белорусских поэтов-экспериментаторов второй половины ХХ – начала ХХI в., как и немецкоязычных авторов-конкретистов, несѐт на себе отпечаток того или иного приѐма языковой игры, реализующегося на различных уровнях. Лингвокреативный потенциал поэзии П. Макаля, А. Навроцкого, Р. Бородулина, других белорусских поэтов 1960–1970-х гг. ХХ в., несомненно, соотносится с европейскими и мировыми неоавангардистскими тенденциями данного периода. Стремление к выработке «свободного» стиха, преодоление застывших шаблонных представлений о поэтике художественного слова демонстрируют в произведениях П. Макаля, А. Навроцкого, Р. Бородулина сознательный выход за пределы некоторых нормативных установок, непринуждѐнность обращения с художественными средствами. Подчѐркнутое мастерство рифмовки, иногда вплоть до формалистских экспериментов, повышенное внимание к звукописи и просодии, обращение к свободному и акцентному стиху в текстах П. Макаля и Р. Бородулина, а также вовлечение в поэтический обиход новых тем и средств обращения с ними, стихии разговорного языка, появление элементов абсурдизации и гротеска, как в поэзии А. Навроцкого, – все эти языковые конвертации ведут к деавтоматизации поэтического слова, подготавливают основы для дальнейших достижений современной экспериментальной белорусской поэзии. Лингвоцентрический характер поэзии А. Рязанова имеет типологические схождения с эстетикой и поэтикой европейского конкретизма. Это проявляется в повышенном внимании автора к возможностям художественного слова. Размышления о мире, времени, пространстве, человеке и всѐм сущем А. Рязанов пропускает через рефлексию родного языка, его ментального смысловыразительного потенциала. Рязановские тексты тяготеют к точности и аскетичности языкового выражения, к созданию своего рода formula universalis, порождѐнной методами формальной логики. Именно особая эвфоника, визуальное и акустическое начало произведений поэта задают координаты понимания произведения, ведут за пределы обыденного восприятия. Пунктиры, квантемы, зномы – формальнотипологические находки поэта – представляют белорусский язык как особую реальность, космос культурно-философской самобытности нации. Однако необходимо констатировать, что манера А. Рязанова в значительной степени находится в русле устоявшихся представлений о художественном тексте. Автор не порывает с традициями изящного письма, не склоняется к радикальным конкретистским экспериментам – асемическому письму, параграфическим знакам или абстрактным символам. 152 В визуальных текстах белорусских авторов второй половины ХХ – начала ХХI в. – А. Глобуса, Вс. Горячки, Д. Дмитриева, В. Жибуля, А. Ковалевского, С. Минскевича, Д. Плакса, Л. Сильновой, О. Спринчан – эксперименты с языковыми элементами, лишѐнными привычного контекста грамматики, семантики, пунктуации и пр., приводят к исследованию возможностей самого языкового материала, расширению границ поэзии в соотношении с графикой и живописью. Интерес к визуальной, материальной природе лингвистического знака в поэзии этих авторов приводит к появлению большого количества текстов, в которых происходит отказ от знака-символа, свойственного вообще естественному языку, в пользу знака-иконы. В нѐм материальная сторона (signifiant), предопределяясь идеальной (signifie), «подобна» означаемому. Установлен процесс создания белорусскими современными литераторами авторских жанровых форм, соотносимых с формальными традициями и поэтикой конкретизма: идеограмм и констелляций, шарадного письма, брахиграфии, иероглифического письма, типограмм, амбиграмм, кинетического письма, типографского набора различными по величине и начертанию шрифтами, синтеза вербальных и параграфических знаков. Акустические эксперименты Д. Вишнѐва, С. Минскевича, Д. Плакса обращены к актуализации семантики звучания, к слуховому восприятию, одной из самых абстрактных областей человеческой сенсорики. Это позволяет говорить об особом репрезентативном ресурсе и о большом потенциале аккумулирования культурологического контекста, об ассоциативно-медитативных возможностях подобных текстов. Звуковые произведения белорусских поэтов-экспериментаторов второй половины ХХ – начала ХХI в. передают как лингвистическую, так и паралингвистическую, эмоциональную информацию. Однако замечено, что белорусские авторы избегают крайностей конкретистской художественной практики, которая лишает текст собственно литературной составляющей. Белорусская звуковая поэзия – это экспериментальный синтез «африканского» лингвистического нигилизма Д. Вишнѐва, аттракции с произношением С. Минскевича, характерная речитация Д. Плакса. Кроме того, к вокоральной поэзии при определѐнном подходе могут быть отнесены и произведения, помещѐнные нами в другие разделы работы: «Речевые стихи», «Языковая игра». Речь идѐт о произведениях С. Прилуцкого, в которых актуализируется «говорная», просторечная стихия языка; о текстах на трасянке М. Анемподистова; о паронимических аттракциях А. Тихоновой, в которых важным также является компонент звучания. Современные белорусские поэты Ю. Гуменюк, Вс. Горячка, С. Прилуцкий, М. Мартысевич, М. Анемподистов обращаются к аграмматичным единицам языка, к созданию текстов на основе подчѐркнуто раз153 говорной, ненормированной повседневной речи. В творчестве данных авторов реализуются опыт полистилистического письма и апелляции к урбанолектам и диалектам европейских конкретистов; демонстрируются образ жизни, манера говорения, ценности обывателей, зачастую безыдейных и безыдеальных по причине серости будничного существования. Социальная проблематика, нашедшая реализацию в неправильной, изломанной повседневной речи, в текстах, созданных на трасянке, становится приметой противоречивости многих аспектов современной социокультурной ситуации. В художественном пространстве современной белорусской поэзии, прежде всего в творчестве А. Тихоновой, Джети (В. Бурлак), М. Башуры, С. Минскевича, А. Ковалевского, Д. Дмитриева, Ю. Потюпы, проявились характерные для поэтики и эстетики немецкоязычных поэтовконкретистов Г. Рюма, Ф. Мона, Э. Яндля элементы и приѐмы языковой игры как особого вида речетворческой семиотической деятельности. Новое пространство современной литературы, признающей приоритет хаоса, двусмысленности, игры в процессах смыслопорождения, обусловило и новые стратегии, средства и способы оформления высказывания. Ведущими способами и приѐмами создания текстов экспериментальной белорусской поэзии второй половины ХХ – начала ХХI в. с общим игровым, каламбурным началом становятся палиндромы, омограммы, макаронические тексты, примеры народной этимологии, опыты с тавтограммой, брахиколоном, анаграммой, центоном, некоторые другие игровые способы оформления поэтического текста. 154 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Агеев, В. Семиотика / В. Агеев. – М. : Весь мир, 2002. – 238 с. 2. Акудовіч, В. Верашчака з яйкаў клекатамуса / В. Акудовіч // Тамбурны маскіт / З. Вішнѐў. – Мінск : Логвінаў ; СПб. : Невский Простор, 2001. – 255 с. 3. Акудовіч, В. Разбурыць Парыж : Эсэ / В. Акудовіч. – Мінск : Логвінаў, 2004. – 297 с. 4. Андраюк, С. А. Традыцыі і сучаснасць / С. А. Андраюк. – Мінск : Навука і тэхніка, 1981. – 256 с. 5. Анемпадыстаў, М. Narodny Album. Пьеса-scenariusz / М. Анемпадыстаў, Л. Вольскі. – Białystok : Kartki, 2000. – 136 с. 6. Аркуш, А. Тэкст – матрыца – споведзь / А. Аркуш // Рысасловы / Л. Сільнова. – Полацк : Полацкае ляда, 1994. – 34 с. 7. Арнхейм, Р. Визуальные аспекты конкретной поэзии / Р. Арнхейм // Экспериментальная поэзия. Избранные статьи / сост. и общ. ред. Д. Булатова. – Кѐнигсберг ; Мальборк, 1996. – С. 68–83. 8. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства / пер. с англ. Г. Е. Крейдлина ; науч. ред. и вступ. ст. В. П. Шестакова / Р. Арнхейм. – М. : Прометей, 1994. – 352 с. 9. Арсланов, В. Г. История западного искусствознания ХХ века : учеб. пособие для вузов / В. Г. Арсланов. – М. : Акад. Проект, 2003. – 768 с. 10. Арочка, М. М. Вяршаліна паэзіі / М. М. Арочка // Полымя. – 1995. – № 11. – С. 234–255. 11. Арочка, М. М. На парозе 90-х: літаратурны агляд / М. М. Арочка, П. К. Дзюбайла, С. С. Лаўшук. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 208 с. 12. Арочка, М. М. Права на дзівосны сплаў / М. М. Арочка // Полымя. – 1992. – № 8. – С. 217–234. 13. Артманн, Х. К. Прокламация поэтического акта в восьми пунтах / Х. К. Артманн ; пер. с нем. Ю. Архипова // Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века / сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева. – М. : Прогресс, 1986. – С. 380–381. 14. Архипов, Ю. Бунт и эксперимент в литературе ФРГ и Австрии / Ю. Архипов // Неоавангардистские течения в зарубежной литературе 1950–60 гг. / редкол.: А. Л. Дымшиц, Р. М. Самарин, Я. Е. Эльсберг. – М. : Худож. лит., 1972. – С. 171–189. 15. Багдановіч, І. Э. Авангард і традыцыя: Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння / І. Э. Багдановіч. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – 387 с. 155 16. Барадулін, Р. Выбраныя творы / Р. Барадулін. У 2 т. Т. 1. Вершы / прадм. М. Стральцова. – Мінск : Маст. літ., 1984. – 415 с. 17. Баранчик, Ю. В. Витгенштейн Людвиг / Ю. В. Баранчик, А. А. Грицанов // История философии : энциклопедия / сост. и гл. науч. ред. А. А. Грицанов. – Минск : Интерпрессервис : Кн. Дом, 2002. – С. 174–176. 18. Барт, Р. Нулевая степень письма / Р. Барт // Семиотика : антология / сост. Ю. С. Степанов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Акад. Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2001. – С. 327–371. 19. Барт, Р. От произведения к тексту / Р. Барт // Избранные работы. Семиотика. Поэтика : пер. с фр. / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с. 20. Барысевіч, Ю. Alter Nemo / Ю. Барысевіч. – Мінск : Логвінаў ; СПб. : Невский Простор, 2003. – 136 с. 21. Бельскі, А. І. Вывучэнне творчасці пісьменнікаў: класікі і сучаснікі ў школе / А. І. Бельскі. – Мінск : Аверсэв, 2005. – 352 с. 22. Бельскі, А. Пакуль баліць душа : літ.-крыт. арт. / А. Бельскі. – Мінск : Полымя, 1995. – 96 с. 23. Бельскі, А. І. Сучасная беларуская літаратура: станаўленне і развіццѐ творчых індывідуальнасцяў (80–90-я гг.) : дапам. для настаўнікаў / А. І. Бельскі. – Мінск : Нар. асвета, 1997. – 254 с. 24. Бодуэн де Куртенэ, И. А. Некоторые общие замечания о языковедении и языке / И. А. Бодуэн де Куртенэ // Избранные труды по общему языкознанию : в 2 т. / И. А. Бодуэн де Куртенэ. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – Т. 1. – С. 47–77. 25. Бондалетов, В. Д. Социальная лингвистика / В.Д. Бондалетов. – М. : Просвещение, 1987. – 160 с. 26. Борев, Ю. Концептуализм / Ю. Борев // Эстетика / Ю. Борев. – М. : Высш. шк., 2002. – С. 382–387. 27. Букаев, А. И. История немецкой литературы. Часть 3. Учебное пособие для студентов-заочников институтов и факультетов иностранных языков. На немецком языке. – Минск : Высш. шк., 1982. – 223 с. 28. Букаев, А. И. Стихи Ганса Карла Артманна на венском диалекте / А. И. Букаев // Управление в социальных и экономических системах : материалы ХVI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16–17 июня 2007 г. / Мин. ин-т упр. ; редкол.: Н. В. Суша [и др.]. – Минск : Изд-во МИУ, 2007. – С. 414–416. 29. Букаев, А. И. Филологический анализ произведений зарубежной (немецкоязычной) литературы XX века = Philologische Analyse von Werken ausländischer (deutschsprachiger) Literatur des XX. Jahrhunderts : пособие по специализации «Зарубежная литература» / А. И. Букаев, Л. С. Букаева. – Минск : МГЛУ, 2010. – 299 с. 156 30. Бурлак, В. Дзеці і здані : вершы, п’ескі / В. Бурлак. – Мінск : Галіяфы, 2012. – 86 с. 31. Бязлепкіна, А. Маладзѐжны літаратурны рух у Беларусі напрыканцы ХХ ст.: Таварыства Вольных Літаратараў / А. Бязлепкіна // Роднае слова. – 2005. – № 4. – С. 96–98. 32. Бязлепкіна, А. Маладзѐжны літаратурны рух у Беларусі напрыканцы ХХ ст.: Таварыства «Тутэйшыя» / А. Бязлепкіна // Роднае слова. – 2005. – № 2. – С. 91–93. 33. Бязлепкіна, А. Маладзѐжны літаратурны рух у Беларусі напрыканцы ХХ ст.: Творчы рух «Бум-Бам-Літ» / А. Бязлепкіна // Роднае слова. – 2005. – № 12. – С. 82–83. 34. Бязлепкіна, А. Формы беларускага літаратурнага руху ХХ стагоддзя: пытанне тэрміналогіі / А. Бязлепкіна // Весн. Беларус. дзярж. унта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2005. – № 2. – С. 76–80. 35. Васючэнка, П. В. Ад тэксту да хранатопа : артыкулы, эсэ, пятрогліфы / П. В. Васючэнка. – Мінск : Галіяфы, 2009. – 200 с. 36. Вішнѐў, З. Верыфікацыя нараджэння / З. Вішнѐў. – Мінск : Логвінаў, 2005. – 170 с. 37. Вішнѐў, З. Тамбурны маскіт / З. Вішнѐў. – Мінск : Логвінаў ; СПб. : Невский Простор, 2001. – 255 с. 38. Вішнѐў, З. Штабкавы тамтам : тэксты / прадм. П. Васючэнкі / З. Вішнѐў. – Мінск : Маст. літ., 1998. – 94 с. 39. Гарадніцкі, Я. А. Мастацкі свет беларускай літаратуры ХХ стагоддзя / Я. А. Гарадніцкі. – Мінск : Беларус. навука, 2005. – 171 с. 40. Гарачка, У. Вершы / У. Гарачка // Крыніца. – 1998. – № 6. – С. 24–25. 41. Гарачка, У. Пралетарскія песні : вершы / У. Гарачка. – Мінск : Логвінаў, 2004. – 72 с. 42. Гаспаров, М. Л. Очерк истории европейского стиха / М. Л. Гаспаров. – М. : Наука, 1989. – 271 с. 43. Гик, Ю. Визуальная поэзия. Теория и практика [Электронный ресурс] / Ю. Гик // Черновик. Смешанная техника. – М., 2004. – Вып. 19. – Режим доступа: http://www.chernovik.org/main.php?main=find&first= 24&nom=20=19=19&nom_f=19&id_f=14&start=0&filtr=f_avt&f_text=%E3% E8%EA. – Дата доступа: 28.01.2014. 44. Гілевіч, Н. З верай у высокае прызначэнне чалавека / Н. Гілевіч // Полымя. – 1992. – № 12. – С. 234–238. 45. Гланц, Т. Освежение языка вздохами [Электронный ресурс] / Т. Гланц // НЛО. – 2002. – № 58. – Рец. на кн.: Homo Sonorus. Международная антология саунд-поэзии / сост. и ред. Д. Булатова. – Калининград, 157 2001. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2002/58/glanc.html. – Дата доступа: 21.09.2012. 46. Глобус, А. Тэксты. Парк; Адзінота на стадыѐне; Смерць – мужчына; Скрыжаванне; Дамавікамерон; Толькі не гавары маѐй маме…; Круглы год; Койданава; Новы Дамавікамерон; Post sckriptum / А. Глобус. – М. : АСТ, 2000. – 1088 с. 47. Гніламѐдаў, У. В. Абсягі сучаснасці / У. В. Гніламѐдаў // Гніламѐдаў, У. В. У аднаго вогнішча. – Мінск : Юнацтва, 1984. – С. 60–75. 48. Гніламѐдаў, У. Вобразы і мікравобразы / У. Гніламѐдаў // Літ. і мастацтва. – 1967. – 27 чэрв. – С. 3. 49. Гніламѐдаў, У. В. Класікі і сучаснікі: артыкулы, нарысы, старонкі ўспамінаў / У. В. Гніламѐдаў. – Мінск : Маст. літ., 1987. – 288 с. 50. Гніламѐдаў, У. Паэзія і вера / У. Гніламѐдаў // Полымя. – 1994. – № 11. – С. 231–236. 51. Гніламѐдаў, У. В. Традыцыі і наватарства / У. В. Гніламѐдаў. – Мінск : Маст. літ., 1972. – 176 с. 52. Головин, Е. Лирика «модерн» / Е. Головин // Иностр. лит. – 1964. – № 7. – С. 196–205. 53. Гончаров, Б. П. Проблема восприятия звуковой структуры стиха / Б. П. Гончаров // Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественная рецепция и герменевтика / отв. ред. Ю. Б. Борев. – М. : Наука, 1985. – С. 257–275. 54. Горных, А. А. Формализм от структуры к тексту и за его пределы / А. А. Горных. – Минск : ИП Логвинов, 2003. – 312 с. 55. Гридина, Т. А. Языковая игра в жанре политического прикола / Т. А. Гридина // Политическая лингвистика / гл. ред. А. П. Чудинов ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2011. – Вып. 4 (38). – С. 47–51. 56. Гридина, Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество / Т. А. Гридина. – Екатеринбург : УрГПИ, 1996. – 214 с. 57. Гулыга, А. Путями Фауста. Этюды германиста / А. Гулыга. – М. : Совет. писатель, 1987. – 365 с. 58. Гумянюк, Ю. Вуліца тыгровых архідэяў / Ю. Гумянюк. – Białystok : Zakład Poligraficzny ARES Mikołaj Józefowicz, 2003. – 159 с. 59. Де Соссюр, Ф. Труды по языкознанию / Ф. де Соссюр. – М. : Наука, 1977. – 483 с. 60. Денкер, К. П. О визуальной поэзии / К. П. Денкер // Экспериментальная поэзия. Избранные статьи / сост. и общ. ред. Д. Булатова. – Кенигсберг ; Мальборк, 1996. – С. 111–119. 61. Джэці (Вера Бурлак). За здаровы лад жыцця / Джэці. – Мінск : Логвінаў, 2003. – 102 с. 158 62. Дзьмітрыеў, Д. Амбіграмы [Электронны рэсурс] / Д. Дзьмітрыеў // ARHCE. – 2007. – № 11 (62). – Рэжым доступу: http://arche. bymedia.net/2007-11/dzmitryjeu711.htm. – Дата доступу: 19.05.2014. 63. Дзьмітрыеў, Д. Вершы / Д. Дзьмітрыеў // ARCHE. – 2006. – №3. – С. 183–184. 64. Дзьмітрыеў, Д. і!: Паліндромы / Д. Дзьмітрыеў // ARCHE. – 2007. – № 3. – С. 252–254. 65. Дионисий Галикарнасский. О соединении слов ; пер. М. Л. Гаспарова / Дионисий Галикарнасский // Античные риторики : собр. текстов, статьи, коммент. и общ. ред. проф. А. А. Тахо-Годи. – М. : Изд-во МГУ, 1978. – С. 165–236. 66. Домашнев, А. И. Современный немецкий язык в его национальных вариантах / А. И. Домашнев. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1983. – 232 с. 67. Драздова, З. У. Пятрусь Макаль / З. У. Драздова // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т. 4. Кн. 1. 1966–1985 / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Ін-т літ імя Я. Купалы ; навук. рэд. У. В. Гніламѐдаў, С. С. Лаўшук. – Мінск : Беларус. навука, 2002. – С. 466–490. 68. Друкапісы. Вялікая імправізацыя: паэзія, проза / уклад. І. Кур’ян. – Мінск : Галіяфы, 2009. – 216 с. 69. Жантиева, Д. Конкретная поэзия в Англии / Д. Жантиева // Неоавангардистские течения в зарубежной литературе 1950-60 гг. / редкол.: А. Л. Дымшиц, Р. М. Самарин, Я. Е. Эльсберг. – М. : Худож. лит., 1972. – С. 292–328. 70. Жирмунский, В. М. Поэтика русской поэзии / В. М. Жирмунский. – СПб. : Азбука-классика, 2001. – 496 с. 71. Журавлѐва, А. Пакет / А. Журавлѐва, В. Некрасов. – М. : Меридиан, 1996. – 629 с. 72. Жураўлѐў, В. П. Класіка и сучаснасць: духоўны патэнцыял чалавека / В. П. Жураулѐў ; навук. рэд. У. В. Гніламѐдаў. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – 244 с. 73. Жураўлѐў, В. П. Пытанні паэтыкі / В. П. Жураўлѐў, І. С. Шпакоўскі, А. С. Яскевіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1974. – 224 с. 74. Жураўлѐў, В. П. Структура твора. Рух сюжэтна-кампазіцыйных форм / В. П. Жураўлѐў. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 312 с. 75. Жыбуль, В. Анаграма і іншыя віды перараскладання словаў у сучаснай паэзіі [Электронны рэсурс] / В. Жыбуль // Беларускі калегіюм. – Рэжым доступу: http://bk.baj.by/lekcyji/litaratura/zhybul05.htm. – Дата доступу: 21.09.2012. 159 76. Жыбуль, В. Гісторыя і тэорыя паліндрому [Электронны рэсурс] / В. Жыбуль // Беларускі калегіюм. – Рэжым доступу: http://bk.baj.by/lekcyji/ litaratura/zhybul01.htm. – Дата доступу: 21.09.2012. 77. Жыбуль, В. Дыяфрагма : зб. вершаў / В. Жыбуль. – Мінск : Логвінаў, 2003. – 112 с. 78. Жыбуль, В. Камбінаторная паэзія ў кантэксце фармальных пошукаў беларускай літаратуры [Электронны рэсурс] / В. Жыбуль // Беларускі калегіюм. – Рэжым доступу: http://bk.baj.by/lekcyji/litaratura/zhybul08.htm. – Дата доступу: 21.09.2012. 79. Жыбуль, В. Мова як канструктар. Камбінаторная паэзія на Беларусі і ў свеце / В. Жыбуль // Роднае слова. – 2007. – № 12. – С. 24–26. 80. Жыбуль, В. Помнікі і пратэзы / В. Жыбуль // Пралетарскія песні : вершы / У. Гарачка. – Мінск : Логвінаў, 2004. – С. 2–4. 81. Жыбуль, В. Стапеліі : вершы / В. Жыбуль. – Мінск : Галіяфы, 2012. – 220 с. 82. Запрудскі, С. М. Некаторыя заўвагі аб вывучэнні «трасянкі», або Выклікі для беларускіх гуманітарных і сацыяльных навук / С. М. Запрудскі // ARCHE. – 2009. – № 11–12. – С. 157–200. 83. Зарубежная литература ХХ века : учеб. для вузов / Л. Г. Андреев [и др.] ; под ред. Л. Г. Андреева. – М. : Высш. шк. : Академия, 2000. – 559 с. 84. Затонский, Д. В. Австрийская литература в ХХ столетии / Д. В. Затонский. – М. : Худож. лит., 1985. – 443 с. 85. Збажына, Я. Пыл саркафагаў : проза і вершы / Я. Збажына. – Баранавічы : Т-ва беларус. мовы імя Ф. Скарыны, 2004. – 88 с. 86. Зубова, Л. Языки современной поэзии / Л. Зубова. – М. : Новое лит. обозрение, 2010. – 384 с. 87. Івашчанка, А. Плаксавы пазлы: інструкцыя па чытанні / А. Івашчанка // Дзеяслоў. – 2009. – № 4 (41). – С. 323–327. 88. История литературы ФРГ / редкол.: Д. В. Затонский, Н. С. Павлова, И. М. Фрадкин. – М. : Наука, 1980. – 686 с. 89. История немецкой литературы : в 3 т. : пер. с нем. / общ. ред. А. Дмитриева. – М. : Радуга, 1986. – Т. 3. – 464 с. 90. Кабаковіч, А. К. Беларускі свабодны верш / А. К. Кабаковіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1984. – 176 с. 91. Каваленка, В. А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць. Развіццѐ беларускай літаратуры ХІХ–ХХ стст. / В. А. Каваленка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1975. – 336 с. 92. Кавалеўскі, А. Адмысловыя гульні / А. Кавалеўскі. – Мінск : Логвинов, 2003. – 184 с. 160 93. Кавалеўскі, А. Пачатак логафармізму / А. Кавалеўскі // Першацвет. – 1999. – № 7–8. – С. 38–42. 94. Казарин, Ю. Проблемы фоносемантики поэтического текста : учеб. пособие / Ю. Казарин. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000. – 172 с. 95. Калеснік, У. А. Усѐ чалавечае: літаратурныя партрэты, артыкулы, нарысы / У. А. Калеснік. – Мінск : Маст. літ., 1993. – 381 с. 96. Калеснік, У. А. Страла і мэта / У. А. Калеснік // Беларусь. – 1991. – № 10. – С. 25–33. 97. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости / В. Кандинский. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 240 с. 98. Кісліцына, Г. Алесь Разанаў: праблема мастацкай свядомасці / Г. Кісліцына. – Мінск : Беларус. навука, 1997. – 143 с. 99. Кісліцына, Г. Новая літаратурная сітуацыя: змена культурнай парадыгмы / Г. Кісліцына. – Мінск : Логвінаў, 2006. – 207 с. 100. Кислов, В. Они называли это – УЛИПО / В. Кислов // Митин журнал. – Вып. 54. – С. 168–219. 101. Конон, В. Ступени лестницы / В. Конон // Нѐман. – 1997. – № 11. – С. 240–252. 102. Краса і сіла: Анталогія беларускай паэзіі ХХ ст. / склад. М. Скобла ; навук. рэд. А. Пашкевіч. – Мінск : Лімарыус, 2003. – 880 с. 103. Краус, В. В роли предтечи. Австрийская культура в силовом поле европейских культурных течений / В. Краус // Иностр. лит. – 1989. – № 4. – С. 230–235. 104. Кристева, Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Ю. Кристева. – М. : Рос. полит. энцикл., 2004. – 656 с. 105. Крушына, Р. Лірычная кантата [Электронный ресурс] / Р. Крушына // Родныя вобразы. – Режим доступа: http://www.rvblr.com/vershu/view/16092. – Дата доступа: 21.05.2014. 106. Кудрявцева, Т. В. Новейшая немецкая поэзия (1990–2000-е гг.): основные тенденции и художественные ориентиры / Т. В. Кудрявцева ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М. : ИМЛИ РАН, 2008. – 342 с. 107. Кулаков, В. Г. Поэзия как факт. Статьи о стихах / В. Кулаков. – М. : Новое лит. обозрение, 1999. – 468 с. 108. Ламека, Н. Асноўныя кірункі літаратуры ХХ стагоддзя: рэалізм, мадэрнізм, экзістэнцыялізм, постмадэрнізм / Н. Ламека // Сучасная беларуская літаратура: аналіз твораў, матэрыялы да экзамену / Л. Ламека, Н. Ламека. – Мінск : Кн. Дом, 2003. – С. 4–13. 109. Ламека, Н. Паэзія Максіма Танка, Пімена Панчанкі, Алеся Разанава ў кантэксце эстэтычных і духоўных набыткаў сусветнай літаратуры / 161 Н. Ламека // Сучасная беларуская літаратура: аналіз твораў, матэрыялы да экзамену / Л. Ламека, Н. Ламека. – Мінск : Кн. Дом, 2003. – С. 13–41. 110. Ларин, Б. А. История русского языка и общее языкознание: Избранные работы / Б. А. Ларин. – М. : Просвещение, 1977. – 224 с. 111. Лентц, М. Краткий очерк истории саунд-поэзии / музыки после 1945 года [Электронный ресурс] / М. Лентц // Электронный музей лингвоакустической среды «GLUKHOMANIA.RU». – Режим доступа: http://glukhomania.ncca-kaliningrad.ru/pr_sonorus.php3?blang=rus&t= 0&p=9. – Дата доступа: 04.03.2013. 112. Лінія фронту 2: Беларуска-нямецкая анталѐгія / рэд. З. Вішнѐў, В. Гапеева, М. Мрохэн. – Мінск : Логвінаў, 2007. – 243 с. 113. Літаратура пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу / М. А. Тычына [і інш.] ; навук. рэд. М. А. Тычына. – Мінск : Беларус. навука, 2007. – 363 с. 114. Литературная энциклопедия терминов и понятий / РАН, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам ; под ред. А. Н. Николюкина. – М. : Интелвак, 2003. – 1600 стб. 115. Лифшиц, М. А. Кризис безобразия. От кубизма к поп-арту / М. А. Лифшиц, Л. Я. Рейнгардт. – М. : Искусство, 1968. – 199 с. 116. Лойка, А. А. Паэзія і час: Літаратурна-крытычныя артыкулы, творчыя партрэты / А. А. Лойка. – Мінск : Маст. літ., 1981. – 254 с. 117. Лосев, А. Ф. История античной эстетики : в 8 т. / А. Ф. Лосев. – М. : АСТ, 1969–2000. – Т. 1 : Ранний эллинизм. – 2000. – 960 с. 118. Лотман, Ю. М. Анализ поэтического текста: Структура стиха. Графический образ поэзии // Ю. М. Лотман // О поэтах и поэзии / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство–СПб., 1996. – С. 77–81. 119. Лотман, Ю. М. Избранные статьи : в 3 т. / Ю. М. Лотман. – Таллинн : Александра, 1992–1993. – Т. 1 : Статьи по семиотике и типологии культуры. – 1992. – 479 с. 120. Лукин, В. А. Художественный текст : Основы лингвистической теории и элементы анализа : учеб. для филол. специальностей вузов / В. А. Лукин. – М. : Ось-89, 1999. – 192 с. 121. Лявонава, Е. А. Алесь Разанаў і нямецкая літаратура / Е. А. Лявонава // Літаратурная карта Еўропы: кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць / А. В. Вальчук [і інш.] ; навук. рэд. М. У. Мікуліч ; Нац. акад. навук Беларусі, Iн-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск : Беларус. навука, 2012. – С. 447–495. 122. Лявонава, Е. А. «Гук – “электрон” верша»: Гукатворчасць Алеся Разанава і еўрапейская літаратурная традыцыя / Е. А. Лявонава // Роднае слова. – 1998. – № 4. – С. 29–36. 162 123. Лявонава, Е. А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХIХ–ХХ стст. : дапам. для настаўнікаў / Е. А. Лявонава. – Мінск : Рэд. часоп. «Крыніца», 1998. – 336 с. 124. Лявонава, Е. А. «Слова кліча – сэнс адгукаецца…» Нямецкая кніга вершасловаў Алеся Разанава / Е. А. Лявонава // Літаратура і мастацтва. – 2004. – 9 крас. – С. 6. 125. Макаль, П. Заручыны : вершы / П. Макаль. – Мінск : Маст. літ., 1979. – 400 с. 126. Максімовіч, В. А. Шляхам спазнання існасці: літаратурны працэс другой паловы ХIХ – пачатку ХХI ст. у постацях / В. А. Максімовіч ; навук. рэд. У. М. Конан. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – 239 с. 127. Мартысевіч, М. Амбасада : вершы свае і чужыя / М. Мартысевіч. – Мінск : Кнігазбор, 2011. – 120 с. 128. Мішчанчук, М. І. Ёсць у паэта свой аблог цалінны: Жанравастылявая разнастайнасць сучаснай беларускай лірыкі / М. І. Мішчанчук. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 189 с. 129. Мінскевіч, С. Я з Бум-бам-літа / С. Мінскевіч. – Мінск : Логвінаў, 2008. – 296 с. 130. Млечина, Л. В. Литература и «общество потребления». Западногерманский роман 60-х – начала 70-х годов / Л. В. Млечина. – М. : Худож. лит., 1975. – 240 с. 131. Мон, Ф. О конкретной поэзии / Ф. Мон // Экспериментальная поэзия. Избранные статьи / сост. и общ. ред. Д. Булатова. – Кѐнигсберг ; Мальборк, 1996. – С. 94–100. 132. Мон, Ф. О поэзии плоскости / Ф. Мон // Экспериментальная поэзия. Избранные статьи / сост. и общ. ред. Д. Булатова. – Кѐнигсберг ; Мальборк, 1996. – С. 171–175. 133. Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века / сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева. – М. : Прогресс, 1986. – 640 с. 134. Наўроцкі, А. Гарачы снег: Паэзія / А. Наўроцкі. – Мінск : Беларусь, 1968. – 62 с. 135. Наўроцкі, А. Неба ўсміхаецца маланкаю: Паэзія / А. Наўроцкі. – Мінск : Дзярж. выд-ва БССР, 1962. – 68 с. 136. Новалис. Фрагменты / Новалис // Литературная теория немецкого романтизма. Сборник программных статей немецких романтиков / вступ. ст., коммент. и общ. ред. Н. Я. Берковского. – Л. : Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. – С. 121–146. 137. Норман, Б. Ю. Игра на гранях языка / Б. Ю. Норман. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 344 с. 163 138. Орлицкий, Ю. Б. Стих и проза в русской литературе / Ю. Б. Орлицкий. – М. : РГГУ, 2002. – 685 с. 139. Пацюпа, Ю. Шчадрыца [Электронны рэсурс] / Ю. Пацюпа // Вершы беларускіх паэтаў. Нацыянальны паэтычны партал. – Рэжым доступу: http://www.vershy.ru/content/shchadrytsa. – Дата доступу: 08.05.2014. 140. Плакс, Д. Вершы / Д. Плакс // Дзеяслоў. – 2007. – № 3. – С. 114–116. 141. Плакс, Д. Трыццаць тэкстаў / Д. Плакс. – Мінск : Медысонт, 2009. – 66 с. 142. Плян, З. Таксыдэрмічны практыкум / З. Плян. – Менск : Логвінаў, 2004. – 52 с. 143. Подорога, В. А. Мимесис / В. А. Подорога // Материалы по аналитической антропологии литературы : в 2 т. – М. : Культурная революция Логос, Logos-altera, 2006. – Т. 1 : Н. Гоголь, Ф. Достоевский. – 685 с. 144. Постмодернизм : энциклопедия / сост. и науч. ред. А. А. Грицанов, М. А. Можейко. – Минск : Интерпрессервис : Кн. Дом, 2001. – 1041 с. 145. Прылуцкі, С. Дзевяностыя forever / С. Прылуцкі. – Мінск : Медысонт, 2008. – 148 с. 146. Рагойша, В. П. Літаратуразнаўчы слоўнік: тэрміны i паняцці : для школьнікаў i абітурыентаў / В. П. Рагойша. – Мінск : Нар. асвета, 2009. – 303 с. 147. Рагойша, В. П. Паэтычны слоўнік / В. П. Рагойша. – 3-е выд., дапрац. і дап. – Мінск : Беларус. навука, 2004. – 576 с. 148. Разанаў, А. Танец з вужакамі: выбранае / А. Разанаў. – Мінск : Маст. літ., 1999. – 462 с. 149. Ралько, І. Д. Верш і мова: праблемы гісторыі і тэорыі беларускага верша / І. Д. Ралько. – Мінск : Навука і тэхніка, 1986. – 263 с. 150. Рамза, Т. Р. Трасянка: национально-прецедентный феномен или «ключевое слово текущего момента»? / Т. Р. Рамза // Беларус. думка. – 2010. – № 7. – С. 112–116. 151. Рублеўская, Л. Птушыная клетка з «лега» / Л. Рублеўская // Дзеяслоў. – 2009. – № 4 (41). – С. 319–320. 152. Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995) / В. Л. Воронцова [и др.] ; отв. ред Е. А. Земская ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – М. : Яз. рус. культуры, 1996. – 473 с. 153. Санников, В. З. Русский язык в зеркале языковой игры / В. З. Санников. – М. : Яз. славян. культуры, 2002. – 552 с. 154. Сахарчук, В. Абракадабра : вершы / В. Сахарчук // Роднае слова. – 1999. – № 3. – С. 117. 164 155. Сѐмуха, А. «Адзінока пляцецца мая лыжня…» Творчы лѐс Алеся Наўроцкага / А. Сѐмуха // Роднае слова. – 1995. – № 3. – С. 6–9. 156. Силичев, Д. А. Семиотика и искусство: анализ западных концепций / Д. А. Силичев. – М. : Знание, 1991. – 64 с. 157. Сільнова, Л. Зачараваная краіна : вершы / Л. Сільнова. – Мінск : Лімарыўс, 2007. – 160 с. 158. Сільнова, Л. Крышталѐвы сад / Л. Сільнова. – Мінск : Логвінаў, 2007. – 144 с. 159. Сільнова, Л. Рысасловы / Л. Сільнова. – Полацк : Полацкае ляда, 1994. – 34 с. 160. Символы, знаки, эмблемы : энциклопедия / авт.-сост.: В. Э. Багдасарян, И. Б. Орлов, В. Л. Телицын ; под общ. ред. В. Л. Телицына. – М. : ЛОКИД-ПРЕСС : РИПОЛ классик, 2005. – 495 с. 161. Скарапанава, І. С. Друкапісы Зміцера Вішнѐва / І. С. Скарапанава // Беларускае літаратуразнаўства : навук.-метад. зб. – Мінск : БДУ, 2012. – Вып. 10. – С. 91–102. 162. Скарапанава, І. С. Функцыя інтэртэкстуальнасці ў творах Андрэя Хадановіча / І. С. Скарапанава // Мова – Літаратура – Культура : Матэрыялы VIІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 27–28 верас. 2012 г. : зб. навук. арт. – Мінск : БДУ, 2012. – С. 273–277. 163. Скоропанова, И. С. Ироничный маскарад: В. Бурлак / И. С. Скоропанова // Русскоязычная литература Беларуси конца XX – начала XXI в. : сб. науч. ст. – Минск : РИВШ, 2010. – С. 124–143. 164. Скоропанова, И. С. Теоретик белорусского поставангардизма: Юрась Борисевич / И. С. Скоропанова // Славянский мир: письменность и культура : материалы XIX Междунар. науч. конф., Смоленск, 24–25 мая 2010 г. – Смоленск : Изд-во СмолГУ, 2011. – Т. XII. – С. 117–131. 165. Современная философия : словарь и хрестоматия / отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д : Феникс, 1995. – 511 с. 166. Спрынчан, А. Вершы ад А. : вершы / А. Спрынчан. – Мінск : Маст. літ., 2004. – 79 с. 167. Спрынчан, А. ЖываЯ : вершы / А. Спрынчан. – Мінск : Маст. літ., 2008. – 94 с. 168. Стеженский, В. С. Литературная борьба в ФРГ. Поиски. Противоречия. Проблемы / В. С. Стеженский, Л. Б. Черная. – М. : Совет. писатель, 1978. – 432 с. 169. Стральцоў, М. Ад маладзіка да поўні / М. Стральцоў // Барадулін, Р. Выбраныя творы / Р. Барадулін. У 2 т. Т. 1. Вершы. – Мінск : Маст. літаратура, 1984. – 415 с. 165 170. Сухотин, М. О двух склонностях написанных слов (о конкретной поэзии) / М. Сухотин // Новое лит. обозрение. – 1995. – № 15. – С. 114–126. 171. Сучасная літаратура: каардынаты ідэйна-мастацкага пошуку / С. А. Андраюк [і інш.] ; навук. рэд. В. М. Стральцова. – Мінск : Беларус. навука, 2008. – 286 с. 172. Тарасюк, Л. К. Вернасць вытокам: Фальклорныя традыцыі ў сучаснай беларускай паэзіі / Л. К. Тарасюк. – Мінск : Універсітэцкае, 1985. – 126 с. 173. Тынянов, Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов ; отв. ред. В. А. Каверин, А. С. Мясников. – М. : Наука, 1993. – 574 с. 174. Тычына, М. А. Змена квадры : літ.-крыт. арт. / М. А. Тычына. – Мінск : Маст. літ., 1983. – 204 с. 175. Тычына, М. А. Карані і крона: Фальклор і літаратура / М. А. Тычына. – 2-е выд. – Мінск : Беларус. навука, 2002. – 197 с. 176. Тычына, М. А. Лекі ад амнезіі. Сучасная тэматыка ў сучаснай літаратуры / М. Тычына // Роднае слова. – 1994. – № 4. – С. 6–10. 177. Тычына, М. А. Прывід гіпертэксту. Агляд літаратуры 2005 года «вачыма злодзея» / М. А. Тычына // ARCHE. – 2006. – № 3 (43). – С. 65–84. 178. Тычына, М. На павароце. Беларуская літаратура канца ХХ стагоддзя / М. Тычына // Роднае слова. – 2001. – № 4. – С. 8–11. 179. Тычына, М. На павароце. Беларуская літаратура канца ХХ стагоддзя / М. Тычына // Роднае слова. – 2001. – № 7. – С. 16–19. 180. Тычына, М. Песні Арфея. Агляд сучаснай беларускай літаратуры / М. Тычына // Роднае слова. – 1994. – № 1. – С. 18–24. 181. Федин, С. Н. Лучшие игры со словами / С. Н. Федин. – М. : Рольф, 1999. – 256 с. 182. Фещенко, В. В. Лаборатория логоса. Языковой эксперимент в авангардном творчестве / В. В. Фещенко. – М. : Языки славянских культур, 2009. – 198 с. 183. Хадановіч, А. Лісты з-пад коўдры. Вершы / А. Хадановіч. – Мінск : Логвінаў, 2004. – 150 с. 184. Хадановіч, А. Старыя вершы / А. Хадановіч. – Мінск : Логвінаў, 2003. – 120 с. 185. Хадановіч, А. Hotel «Belarus» / А. Хадановіч // Роднае слова. – 2007. – № 1. – С. 20. 186. Хиггинс, Д. Четыре шага к таксономии саунд-поэзии [Электронный ресурс] / Д. Хиггинс // Электронный музей лингвоакустической среды «GLUKHOMANIA.RU». – Режим доступа: http://glukhomania.nccakaliningrad.ru/ pr_sonorus.php3?blang=rus&t= 0&p=2. – Дата доступа: 04.03.2013. 166 187. Ціханава, Г. Фільтры сноў : вершы / Г. Ціханава. – Мінск : Логвінаў, 2003. – 126 с. 188. Шапиро, М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа / М. Шапиро // Семиотика и искусствометрия / редкол.: Ю. Я. Барабаш [и др.]. – М. : Наука, 1977. – 368 с. 189. Шаўлякова, І. Л. Сапраўдныя хронікі поўні : арт. і рэц. / І. Л. Шаўлякова. – Мінск : Літ. і мастацтва, 2011. – 184 с. 190. Шаховский, В. И. Эмоции и коммуникативное пространство языка / В.И. Шаховский // Массовая культура на рубеже ХХ–ХХI веков: Человек и его дискурс : сб. науч. тр. / под ред. Ю. А. Сорокина, М. Р. Желтухиной ; Ин-т языкознания РАН. – М. : Азбуковник, 2003. – С. 46–56. 191. Шкловский, В. Б. Гамбургский счет: статьи – воспоминания – эссе (1914–1933) / В. Б. Шкловский ; предисл. А. П. Чудакова ; коммент. и подгот. текста А. Ю. Галушкина. – М. : Совет. писатель, 1990. – 544 с. 192. Шольц, К. К истории немецкой звуковой поэзии [Электронный ресурс] / К. Шольц // Электронный музей лингвоакустической среды «GLUKHOMANIA.RU». – Режим доступа: http://glukhomania.nccakaliningrad.ru/ pr_sonorus.php3?blang=rus&t=0&p=3. – Дата доступа: 29.03.2013. 193. Шпакоўскі, І. С. Структура вершаванага вобраза. Умоўная асацыятыўнасць у сучаснай савецкай паэзіі / І. С. Шпакоўскі. – Мінск : Навука і тэхніка, 1972. – 176 с. 194. Штейнер, И. Ф. Криница, из которой пил святой: философия поэзии Алеся Рязанова / И. Ф. Штейнер. – Минск : РИВШ, 2010. – 162 с. 195. Штэйнер, І. Ф. Варожаць балады вякоў: Беларуская балада і славянскія традыцыі / І. Ф. Штэйнер. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 240 с. 196. Ываноў, В. М. Асарці : паэзія, проза, п’еса / В. Ываноў. – Мінск : Галіяфы, 2009. – 156 с. 197. Энциклопедия экспрессионизма: живопись и графика, скульптура, архитектура, литература, драматургия, театр, кино, музыка : пер. с фр. / Л. Ришар ; науч. ред. и авт. послесл. В. М. Толмачев. – М. : Республика, 2003. – 432 с. 198. Эпштейн, М. Н. Парадоксы новизны. О литературном развитии ХIХ–ХХ веков / М. Н. Эпштейн. – М. : Совет. писатель, 1988. – 416 с. 199. Якобсон, Р. Лингвистика и поэтика : пер. с англ., фр., нем., чеш., пол. и болг. яз. / Р. Якобсон // Структурлизм: «за» и «против» : сб. ст. / под ред. Е. Я. Басина, М. Я. Поляковой. – М. : Прогресс, 1975. –С. 193–230. 167 200. Якубинский, Л. П. О звуках стихотворного языка / Л. П. Якубинский // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста / под общ. ред. В. П. Нерознака. – М. : Наука, 1997. – 192 с. 201. Яндль, Э. Предпосылки, примеры и цели одного из способов поэтического письма / Э. Яндль ; пер. с нем. Ю. Архипова // Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы ХХ века / сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева. – М. : Прогресс, 1986. – С. 394–397. 202. Яндль, Э. Стихи / Э. Яндль ; пер. с нем. и вступ. В. Куприянова // Иностр. лит. – 1999. – № 10. – С. 16–23. 203. Яскевич, А. С. Ритмическая организация художественного текста / А. С. Яскевич. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 208 с. 204. Яскевіч, А. С. Становление белорусской художественной традиции / А. С. Яскевіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987. – 232 с. 205. Aniempadystau, M. Narodny Albom / M. Aniempadystau. – Białystok : Orthdruk KARTKI, 2000. – 136 с. 206. Arnold, H. L. Die westdeutsche Literatur 1945 bis 1990 / H. L. Arnold. – München : DTV, 1995. – 193 s. 207. Ball, H. Die Flucht aus der Zeit / H. Ball. – Zürich, 1992. – 156 s. 208. Bortnowska, K. Białoruski postmodernizm. Liryka «pokolenia Bum-Bam-Litu» / K. Bortnowska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersitetu Warszawskiego, 2009. – 225 s. 209. Brandtner, A. Von Spiel und Regel. Spuren der Machart in Ernst Jandl «ottos mops» / A. Brandtner // Gedichte von Ernst Jandl / hrsg.: V. Kaukoreit, K. Pfoser. – Stuttgart : Reclam, 2002. – S. 73–89. 210. Concrete poetry : an international anthology / ed. by S. Bann. – London, 1967. – 237 p. 211. Drews, J. «Fünf Mann Menschen» / J. Drews // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 129–133. 212. Eörsi, I. Die Freuden eines Scheiterns. Zur Übersetzung des Zyklus «tagenglas» ins Ungarische / I. Eörsi // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 112–120. 213. Fetz, B. Der Dichter und der liebe Gott. Ernst Jandls «choral» im Kontext seiner religiösen Gedichte / B. Fetz // Gedichte von Ernst Jandl / hrsg.: V. Kaukoreit, K. Pfoser. – Stuttgart : Reclam, 2002. – S. 117–130. 214. Gerstl, E. Vom damaligen Jandlin meinem jetzigen Kopf / E. Gerstl // Text + Kritik. – 1996. – № 1 (129). – S. 8–10. 168 215. Glawischnig, D. Aus der Kürze des Lebens / D. Glawischnig // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 161–172. 216. Gomringer, E. Definitionen zur visuellen poesie / E. Gomringer // Konkrete poesie. Deutschsprachige autoren. Antologie von E. Gomringer. – Stuttgart : Philipp Reclam jun., 1996. – 176 s. 217. Haas, F. Die schwere Kunst des Hoffens / F. Haas // Gedichte von Ernst Jandl / hrsg.: V. Kaukoreit, K. Pfoser. – Stuttgart : Reclam, 2002. – S. 154–162. 218. Hamburger, M. Ernst Jandl: Die schöpferischen Widersprüche / M. Hamburger // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 85–94. 219. Hammer, E. Ernst Jandl und sein Theater / E. Hammer // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 153–160. 220. Harig, L. Ohne Titel / L. Harig // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 74–76. 221. Haslinger, J. Ich habe noch unter Jandl gedient / J. Haslinger // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 173–181. 222. Heißenbüttel, H. Ernst Jandl Rolle / H. Heißenbüttel // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 68–71. 223. Heißenbüttel, H. «Fünf Mann Menschen». Zum Hörspiel von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker / H. Heißenbüttel // Text + Kritik. – 1996. – № 1 (129). – S. 61–63. 224. Heissenbüttel, H. Nachwort / H. Heissenbüttel // Ernst Jandl : Laut und Luise. – Stuttgart : Reclam, 2000. – S. 156–158. 225. Hinderer, W. «Das Röcheln der Mona Lisa» / W. Hinderer // Text + Kritik. – 1996. – № 1 (129). – S. 31–36. 226. Hinderer, W. Kunst ist Arbeit an der Sprache. Ernst Jandl «schtzngrmm» im Kontext / W. Hinderer // Gedichte von Ernst Jandl / hrsg.: V. Kaukoreit, K. Pfoser. – Stuttgart : Reclam, 2002. – S. 47–60. 227. Innerhofer, R. Der Dichter und sein Verein / R. Innerhofer // Text + Kritik. – 1996. – № 1 (129). – S. 84–92. 228. Jandl, E. Brief Ernst Jandl als Heinrich Böll / E. Jandl // Wien. – 1973. – № 22. – S. 11–12. 229. Jandl, E. Poetische Werke : in 11 Bde. / E. Jandl ; hrsg. K. Siblewski. – München : Luhterhand, 1997. – Bd. 2 : Laut und Luise. – 231 s. 169 230. Jandl, E. Poetische Werke : in 11 Bde. / E. Jandl ; hrsg. K. Siblewski. – München : Luhterhand, 1997. – Bd. 3 : Sprechblasen. – 186 s. 231. Jandl, E. Poetische Werke : in 11 Bde. / E. Jandl ; hrsg. K. Siblewski. – München : Luhterhand, 1997. – Bd. 4 : Künstliche baum. – 191 s. 232. Jandl, E. Poetische Werke : in 11 Bde. / E. Jandl ; hrsg. K. Siblewski. – München : Luhterhand, 1997. – Bd. 5 : Dingfest. – 202 s. 233. Jandl, E. Poetische Werke : in 11 Bde. / E. Jandl ; hrsg. K. Siblewski. – München : Luhterhand, 1997. – Bd. 6 : Übung mit Buben. – 201 s. 234. Jandl, E. Poetische Werke : in 11 Bde. / E. Jandl ; hrsg. K. Siblewski. – München : Luhterhand, 1997. – Bd. 7 : Bearbeitung die Mütze. – 210 s. 235. Jandl, E. Poetische Werke : in 11 Bde. / E. Jandl ; hrsg. K. Siblewski. – München : Luhterhand, 1997. – Bd. 8 : Der gelbe Hund. Selbstporträt des schachspielers als trinkende Uhr. – 305 s. 236. Kaukoreit, V. Mit Welch anderen Augen? / V. Kaukoreit // Text + Kritik. – 1996. – № 1 (129). – S. 19–29. 237. Okopenko, A. Mit Ernst durch die Jahre / A. Okopenko // Text + Kritik. – 1996. – № 1 (129). – S. 5–7. 238. Kaukoreit, V. Vom «aufbrechenden» Ich / V. Kaukoreit // Gedichte von Ernst Jandl / hrsg.: V. Kaukoreit, K. Pfoser. – Stuttgart : Reclam, 2002. – S. 14–33. 239. Kolleritch, A. An Ernst Jandl gedacht / A. Kolleritch // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 79–84. 240. Konkrete poesie. Deutschsprachige autoren. Antologie von E. Gomringer. – Stuttgart : Philipp Reclam jun., 1996. – 176 s. 241. Korte, H. «Stückwerk ganz». Ernst Jandls Poetik / H. Korte // Text + Kritik. – 1996. – № 1 (129). – S. 69–75. 242. Matt von, B. Der tägliche Krieg um Schlafen und Wachen / B. von Matt // Gedichte von Ernst Jandl / hrsg.: V. Kaukoreit, K. Pfoser. – Stuttgart : Reclam, 2002. – S. 105–115. 243. Mayröcker, F. Flugschrift / F. Mayröcker // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 64–65. 244. Mon, F. Das Lachen vollzieht sic him Innern der Kapsel / F. Mon // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-amMain : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 134–142. 245. Mon, F. Texte über Texte / F. Mon. – Neuwied – Berlin, 1970. – 112 s. 246. Neumann, P. H. Über Ernst Jandl Gedicht-Zyklus «tagenglas» / P. H. Neumann // Text + Kritik. – 1996. – № 1 (129). – S. 37–50. 170 247. Polt-Heinzl, E. Die Raffinesse gründlicher Simplizität. Reise und der frühen Lyrik Ernst Jandls / E. Polt-Heinzl // Gedichte von Ernst Jandl / hrsg.: V. Kaukoreit, K. Pfoser. – Stuttgart : Reclam, 2002. – S. 90–101. 248. Riha, K. «Der und die» im Kontext. Zur Visualisierung der Poesie bei Ernst Jandl / K. Riha // Gedichte von Ernst Jandl / hrsg.: V. Kaukoreit, K. Pfoser. – Stuttgart : Reclam, 2002. – S. 61–72. 249. Riha, K. Ernst Jandl / K. Riha // Deutsche Dichter des 20 jahrhunderts / hrsg. H. Steinecke. – Berlin : Erich Schmiat, 1994. – S. 608–613. 250. Riha, K. Ernst Jandl – visuell / K. Riha // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 102–111. 251. Riha, K. Zu Ernst Jandl literarischer «Verortung» / K. Riha // Text + Kritik. – 1996. – № 1 (129). – S. 11–18. 252. Ruprechter, W. Politiche Dichtung aus dem Sprachlabor / W. Ruprechter // Gedichte von Ernst Jandl / hrsg.: V. Kaukoreit, K. Pfoser. – Stuttgart : Reclam, 2002. – S. 34–46. 253. Schmidt, S. J. Gemeinschaft(s)Arbeit: Ernst Jandl und Friederike Mayröcker / S. J. Schmidt // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 143–152. 254. Schmidt-Dengler, W. Heilung durch Aussparung / W. SchmidtDengler // Gedichte von Ernst Jandl / hrsg.: V. Kaukoreit, K. Pfoser. – Stuttgart : Reclam, 2002. – S. 131–141. 255. Schmidt-Dengler, W. «noch ein weilchen dichterlich». Zu Ernst Jandl Lyrik von 1982 bis 1992 / W. Schmidt-Dengler // Text + Kritik. – 1996. – № 1 (129). – S. 51–60. 256. Schmidt-Dengler, W. «Wer hinkt / der geht» / W. Schmidt-Dengler // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-amMain : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 95–101. 257. Schnell, R. Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945 / R. Schnell. – Stuttgart : Metzler, 1993. – 609 s. 258. Theobaidy, J. Veränderung der Lyrik. Über westdeutsche gedichte seit 1965 / J. Theobaidy, G. Zürcher. – München, 1976. – 344 s. 259. Theoretische Positionen zur Konkreten Poesie: Texte und Bibliographie / hrsg. T. Kopfermann. – Tübingen : Niemeyer, 1974. – 109 s. 260. Tunner, E. Poeta Jandlicus oder Etwas über die vernünftige Tollheit / E. Tunner // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 121–128. 261. Vogel, J. Narziß mit Fremdköper / J. Fogel // Gedichte von Ernst Jandl / hrsg.: V. Kaukoreit, K. Pfoser. – Stuttgart : Reclam, 2002. – S. 142–153. 171 262. Wagenbach, K. Jodl / K. Wagenbach // Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 72–73. 263. Wagner, K. Porträt des Künstler als altes Fiasko / K. Wagner // Text + Kritik. – 1996. – № 1 (129). – S. 64–68. 264. Walter, O.F. Entwurf einer Erinerung / O.F. Walter // Ernst Jandl und die vielfältige Frage nach der Wirkung von Kiteratur betreffend. Ernst Jandl. Texte, Daten, Bilder / hrsg. von K. Siblewski. – Frankfurt-am-Main : Sammlung Luchterhand, 1990. – S. 66–67. 172 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Эрнст Яндль Автобиографические заметки 1. Если эта жизнь не прячет никаких тайн, то какая другая это делает? Однако достаточно того, что у меня парализует язык, перехватывает дыхание. Итак, о чем следует сообщить? Единственное о чем – о стихах, пока они не начали разрывать автора на кусочки. Он прижимает их к себе и одновременно отталкивает от себя, направляя их к людям теми путями, которых сам не в силах проследить. Там они проявляют себя самостоятельно, говорят на своем собственном языке и забывают о своем авторе, если он этого хотел. 2. Жизнь может быть очень голой, похожей на длинную ленту, состоящую лишь из «…только, только…». Фильм с двумя актерами і и l немногим веселее, хотя он также содержит долгую печальную прелюдию, прежде чем і внезапно вновь появляется, и они оба радостно танцуют вокруг друг друга. Для меня l – это мужчина, а і – женщина, но это не обязательно. 3. Такой заголовок, как «Laut und Luise» («Звук и Луиза), появляется только раз в жизни, как в жизни только раз бывает мать по имени Луиза. Когда через два года, в 1968 году готовился следующий сборник «Sprechblasen» («Речевые пузыри»), я сначала приготовил для этого сборника название «Flugschlüsse» («Скоропалительные выводы»), но уже в контракте неожиданно слово извратилось в «Flugschüsse» («Скоропалительные выстрелы»), чего я, конечно, не предполагал. Созвучие с «Тrugschlüsse» («Ошибочное заключение») было мне понятно, но я не придавал ему значения. Я позволил убедить себя в том, что предложил трудное, сложно запоминающееся название, и после долгих колебаний остановился на «Sprechblasen» («Речевые пузыри»), что тут же было принято. К тому времени я уже считался «разговорником» («Sprecher»). («Flugschlüsse» должно было означать конец полетам как после каждого стихотворения, так и в конце концов со всеми вместе, приземление заканчивается жестко или мягко, с ударом или разрушением.) 4. Открой рот! Это говорили мне отец и мать не тогда, когда я должен был есть, а чтобы научить меня разборчиво говорить, таким образом много лет спустя я пришел к таким разговорным стихам, о которых ходит легенда, что никто кроме меня самого не может их произносить. После моего исполнения порой я должен отвечать на вопрос о специальном дикторском образовании или на смешной вопрос о разучивании 173 перед зеркалом. (Эта молва мне не понравилась, так как я хочу, чтобы мои стихи пережили мой голос. Именно так с самого начала понимаю я цель написания стихов: они должны отделиться от написавшего их автора и стать самостоятельными не только в пространстве, но и во времени, прежде чем постепенно уйти в небытие. Возможно, некоторые, кто это только что узнал, упрекнут меня в несовременности и сентиментальности, переживут разочарование в своих представлениях обо мне.) 5. То, что была мать, которая писала стихи, которым сын подражал, когда стал писать свои собственные и понимать смысл жизни, и то, что отец, рисуя карандашом и кистью, также агитировал за искусство, это было мною много раз сказано, и новое повторение ничего не изменит. 6. В том, что поэтическое творчество постепенно стало центром нашей жизни, виноват и я, и Фредерика Майрѐкер, с самого начала нашей связи мы влияли друг на друга. В то время как мы почти четверть века шагаем рука об руку (хотя нельзя умолчать, что порой ей приходится тащить меня за собой как невоспитанного мальчишку), ее сила и уверенность возросла, а ее поэзия от «Смерти от муз» («Тod durch Musen», 1966) до «Святой фигуры» («Heiligenanstalt», 1978) достигла высоты, на которой я сверну шею, но она намерена подниматься еще выше, так как собирается дожить до 150 лет. 7. Я родился 1 августа 1925 года в Вене, а 15 августа крещен по римско-католическому обряду. От своей матери я получил завещание от 20.07.1925, в котором говорилось: «Моим последним желанием является, чтобы мой супруг был опекуном ребенка и позаботился о его воспитании хорошим католиком. Если ребенок при рождении или позже умрет, то я оставляю все, чем я владею, спальню, украшения, платья, белье, совместно накопленные деньги, переданный мне салон и мебель светлого дерева, моему супругу». 8. В 7 лет моя жизнь висела на волоске, когда после кори я заболел водянкой и воспалением почек с уремическими симптомами и должен был неделями лежать на животе и есть все без соли. Но все закончилось не так, как с маленьким Гвидо, о котором я читал в книге, написанной его матерью, чтобы для всех сделать из него святого, – нет, моя мать молилась о моем здоровье и достала для меня бутылочку со святой водой, хотя она должна была знать, почему мы всегда говорили во время вечерней молитвы: пусть я лучше умру, чем совершу смертный грех, и могло получиться так, что никто не узнал бы о моих стихах, большинство из которых появилось лишь много лет спустя, и не было бы никаких пробелов и никому бы ничего не мешало. 174 9. В связи со смертью моей матери мой отец заказал мемориальный портрет святой Терезии (рисунок О. Альтроге), который на обратной стороне содержал следующий текст: Мы идем с болью, мы идем тихо, Мы идем так, как Бог того хочет. Земля жестка, страдание близко – Для каждого существует своя Голгофа. Мы несем груз и не можем передохнуть, Мы – мосты, все будет давить, Плечи в ранах, так как на них крест – Для каждого существует своя Голгофа. Мы не бросаем ношу, так как впереди манят Вечные звезды небесной дали. Земля обетованная близка Для каждого, кто идет на Голгофу. Луиза Яндль, урожденная Раппель, написавшая эти стихи, родилась 3 декабря 1902 г. в Вене (новой) и умерла 6 апреля 1940 г. в Вене, будучи супругой Виктора Яндля и матерью трех сыновей: Эрнста, Роберта и Германа. Младшего она за 2 месяца до этого подготовила к первой святой конфирмации и привела к господу, к которому она сама ежедневно с большим благоговением приближалась. Она умерла, исполнив святое причастие, в той же святости, что и жила. Оставшиеся молятся за нее. Иисус! Мария! Иосиф! Алоизий! 10. Ее болезнь, длившаяся 8 лет и приведшая к смерти, Myasthenia gravis, не только усилила ее религиозность безмерно, как мне тогда казалось, но и подтолкнула ее к тому, что она начала писать вначале короткую прозу, а потом все больше стихи. Первый раз она заметила, что больна, когда однажды, расчесываясь, не смогла поднять руки к голове, а затем появлялись и пропадали многие другие симптомы, так что снова и снова на несколько дней, иногда недель, появлялась надежда, что все пройдет, но этого не происходило, также были дни, когда она лишь с трудом могла говорить, как будто у нее в горле был ком. Несмотря на свою физическую немощь, она, поддерживаемая вследствие экономических трудностей лишь одной домработницей, выполняла домашнюю работу для пяти человек практически одна, между делом записывая на серванте свои мысли, из которых затем (вот только когда?) появлялись ее стихи и произведения в прозе. 175 11. Мой отец (1894–1973), до экономического кризиса имевший надежную профессию банковского служащего, попал затем под снижение зарплаты и ему угрожало сокращение, он был страстным художникомакварелистом и занимался этим искусством на протяжении почти всей своей жизни, как самоучка и реалист он рисовал с натуры и мало обращал внимания на более радикальные явления в живописи своего времени. Самоотверженно посвятил он себя литературной деятельности моей матери. Против того, что я писал позднее, у него были претензии – мой первый том стихотворений «Другие глаза» («Andere Augen», 1956) он комментировал дружелюбно и немного смущенно, признавшись, что не все понятно. (Много лет спустя он радовался моим успехам. В отношении текстов, теперь уже более радикальных, он высказывался редко.) Моя мать, купив фотоаппарат, на многие годы положила конец отцовским занятиям живописью. До этого, после работы в конторе, он уходил на этюды, а свои фотосюжеты находил он дома, в семье, и в отпуске работал в темной ванной – оковы, которые он вряд ли ощущал как таковые. Фотографию он воспринимал как искусство, а искусство для него означало почти все (только ради нас он тратил свою жизнь за банковским окошком); и для матери искусство, когда она только начинала печататься и появились первые скромные успехи, стало почти самым важным помимо религии и семьи, за то и другое она была готова бороться «как львица» (ее слова). 12. Ее смерть, о несвоевременности которой я сегодня глубоко сожалею, закончила мое воспитание в возрасте 14 лет. Я твердо намеревался стать сочинителем, брат Герман придерживался того же и проявил свой талант, а Роберт в качестве архитектора не только достиг наибольшего материально успеха из нас троих, но и до сих пор единственный имеет семью и двух достойных сыновей. 13. Никому не дано праздновать свое появление на свет, и меня по прошествии 53 лет мало привлекает поздравлять себя со своей жизнью. Если не можешь жить со своим прошлым, требуется перетянуть жгутом память и держать воспоминания подальше от себя. При таких взглядах кажется парадоксом все-таки хотеть жить со своими стихами, и именно не только с последними, но и со всеми ранее написанными и как бы законсервированными. Это могло произойти лишь благодаря произвольному устранению временной дистанции по отношению к сегодняшнему дню автора, благодаря сбору стихов в одной-единственной досягаемой точке, благодаря сокрытию их дат и изглаживанию давней хронологии. Итак, благодаря фикции, которая может развалиться в любой момент, чтобы выпустить на автора стонущую, жалующуюся, стучащую, грохочущую как молот, топочущую свору авторов в возрасте от детства до старости. 176 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Эрнст Яндль Предпосылки, примеры и цели одного из способов поэтического письма искусство в настоящее время, то есть поэтическое искусство, можно интегрировать как неустанную реализацию свободы, такая интерпретация указывает место искусства в рамках идеологий; она содержит высказывание о функции современного искусства для индивидуума и общества; она объясняет, почему современное искусство так раздражает отдельных индивидуумов и изгоняется определенными общественными инстанциями. ...прежде чем продолжить общие рассуждения, познакомлю вас с одним стихотворением: дерево искусно и всем в нем сразу в воздухе издалека природа тень приподымает эфиром ускользает с рук черная глубь невытесненно выступает упомянутое короткое короткое время снег и спелость достаточно для этого узки чу! вишни он спокойно обнажает. это стихотворение, написанное мной в начале шестидесятых годов, своим возникновением обязано неоднократному возвращению некоторых моих наиболее радикальных текстов издателем одного журнала, надо было в таких-то обстоятельствах произвести что-нибудь этакое «лирическое» или что под этим нередко понимают, помню, раззадорившись, я наугад раскрыл какую-то поэтическую антологию, лежавшую на постеленной на столе газете того забытого ныне дня. листая книгу и кося глазом в газету, я и стал вскоре матерью этого стихотворения, у которого много отцов, эксперимент ли это? ответить трудно, во всяком случае, есть множество методов писать стихи – повторяющихся, модифицированных в плане повторения, неповторимых, «дерево искусно» – скрытый монтаж, а бывает, напро177 тив того, монтаж открытый, прелесть которого увеличивается оттого, что не все следы метода оказываются стертыми. вот еще одно стихотворение: die zeit vergeht lustig lustlustigtig lusluslustigtigtig luslusluslustigtigtigtig lusluslusluslustigtigtigtigtig luslusluslusluslustigtigtigtigtigtig lusluslusluslusluslustigtigtigtigtigtigtig такое стихотворение можно моделировать двояко: оборвав его, положим, здесь – и настаивая на осмысленности такого предела, или полагать его нескончаемым, открытым. «время проходит» здесь не тема, но название, темы не было, был лишь определенный способ манипуляций отдельными словами, точнее, одним-единственным словом, количество слогов в нем должно было быть четным, чтобы его можно было разделить на две равные части, представляющие собой редуцированные единства. существенным для этого с виду чисто формального метода было воспоминание о редупликационных возможностях некоторых древнегреческих глаголов. слово lustig, которое симметрично делится на две свои составные части lus и tig, стало наречием к предложению «время проходит». как? – «весело», при этом маленькие фокусы речевого механизма позволяют в одной из частей этого слова услышать тиканье часов, а в другой – менее внятное указание на связь с такими словами, как losen или английское listen, или же на английское lose. в то же время мне кажется, что какой-то тайный ход речевого механизма, приведенного здесь в движение, подвергает большому сомнению высказывание, а именно что время проходит весело. таким образом, темато здесь все-таки есть; кажется, что она обретена и зафиксирована в процессе игры с языком, на самом деле она дремала в авторе и выкристаллизовалась, когда перебор слов точно наложился на нее. Ср. интерпретацию зигберта прауэра. который пишет в книге «семнадцать современных немецких поэтов», Оксфорд юниверсити пресс, 1971, с. 185: «слово lustig (нем.) – веселый, можно расчленить на lus (звучащее как los! – давай, начинай!, lust-lust (нем.) – радость) и tig (звучащее как «тик-так» часов): нарастающий неотложный призыв к наслаждению, ответом на который является настойчивое напоминание о быстротечности времени». – Прим. автора. 178 совсем другой род стихотворений представляет следующее, в котором нет визуальной необычности, оно выдержано в давней форме двустишия, но с достижением срединного равновесия между словом и звуком, вот как оно выглядит: auf dem land rininininininininDER brüllüllüllüllüllüllüllülLEN schweneeineineineineineineinE grununununununununZEN hununununununununDE bellellelleIlelIelleIlellEN katatatatatatatatZEN miauiauiauiauiauiauiauiauEN katatatatatatatatER schnurururururururururEN gänänänänänänänänänSE schnattattattattattattattERN ziegiegiegiegiegiegiegiegEN meckeckeckeckeckeckeckeckeckERN bienienienienienienienienEN summummummummummummummummEN grillillillillillillillillEN ziriririririririrPEN fröschöschöschöschöschöschöschE quakakakakakakakakEN hummummummummummummummummummELN brummummummummummummummummEN vögögögögögögögögEL zwitschitschitscitscitscitscistcistcisctERN чтобы написать такое стихотворение, не нужна никакая иная программа, кроме той, чтобы занять позицию по другую сторону языка, то 179 есть там, где язык представляет собой еще сырье; там имеешь дело с самим языком, а темы приходят сами собой. здесь сходятся как бы две стихии: словесная, смысловая, а смысл каждого двустишия совсем прост – «быки мычат», «свиньи хрюкают», «собаки лают», «кошки мяукают», «коты мурлыкают», «гуси гогочут», «козы блеют», «пчелы жужжат», «стрекозы стрекочут», «лягушки квакают», «шмели гудят», «птицы чирикают», – и звукоподражательная, освобожденная от смысла ienien, illilli и т. д. кто работает со словами, тот работает со значениями: значение нельзя отделить от слова, оно предустанавливает границы более узкие в разговорном языке, более широкие в языке поэтическом. всякая комбинаторика со словами есть комбинаторика со значениями, даже там, где текст написан с прицелом не на содержание, а на свободную от содержания языковую модель. повседневное употребление языка, а также литература убедили нас в том, что в каждом отдельном слове таится скрытая связь с гораздо более крупными речевыми образованиями, то есть с предложениями и текстом. это заблуждение, препятствующее такому словотворчеству, которое стремится к соединению слов с их значениями, а не содержаний. само по себе слово вместе с его значениями вовсе не принуждает нас к тексту как чисто содержательной модели или к чисто речевой модели, но содержит в себе обе возможности. в отличие от слов звуки большей частью свободны от значений, но их способность вызывать ассоциации совершенно очевидна. подобно тому как работа со словами является в то же время работой со значениями, так и работа со звуками является работой с ассоциативными возможностями, название, предпосланное стихотворению, работающему со звуками, способно усилить его ассоциативную выразительность, уже дадаисты использовали названия для этой цели, например хуго балль в стихотворении «караван». первая встреча с отдельными образцами экспериментальной и конкретной поэзии может восхитить, но не менее того и смутить, оттолкнуть или возмутить, прежде всего бросается в глаза так или иначе воспринимаемый контраст по отношению ко многому, что тот или иной читатель доселе считал поэзией, что он любил. как же обстоит дело с отношением такой поэзии к традиции? кто пишет стихи, во всяком случае, делает то, что делали до него и другие, уже тем, что он пишет стихи, продолжает традицию (что, конечно, не обязательно означает, что это делают и его стихи). если есть статические и динамические традиции, то наша традиция динамическая, предполагающая знание того, что уже сделано, чтобы не 180 повторять сделанное, с другой стороны, традицию нужно знать, чтобы находить в ней точки отсчета собственного пути. эти точки представляют собой незавершенности, где что-то начато и не продолжено, не доведено до конца, где можно работать дальше, разумеется, приближение к таким точкам происходит не нейтрально, а заинтересованно, согласно заранее избранному направлению, определяемому как личными обстоятельствами автора, так и потребностями времени. то, что экспрессионизм и дадаизм, штрамм, швиттерс, арп, гертруда стайн, эзра паунд, джеймс джойс и каммингс, чтобы только назвать некоторые имена, открыты в настоящее время в качестве точек отсчета для экспериментирования в стихах и прозе, как раз и означает ориентирование на определенную традицию, традиция, если так на нее смотреть, есть нечто живое, постоянно движущееся, нечто, что объединяет или разъединяет сразу многое, дает многочисленные образцы, традиция состоит из традиций. традиция – это длительность возникновения и исчезновения традиций – все, что обладает укрепляющей традицию силой, является тем самым частью традиции: конкретные стихотворения гомрингера, к примеру, или работы венской группы, под влиянием которой позднее начала писать целая группа молодых авторов. экспериментальная поэзия, как и всякая разновидность поэзии и во всякое время, возникает между моделями разговорного языка и моделями языка поэтического, между ними – вот ее место. чтобы появиться, то есть выделиться, она должна сохранять дистанцию по отношению к обеим, ее задача в том, чтобы найти точно такое отстояние от них, которое необходимо, чтобы сохранить свою особенность, с обеих сторон непрерывно на нее падает дождик, а зонтика нету. 181 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Ойген Гомрингер Определения конкретной поэзии Идеограммы Поэтические идеограммы образуются из букв и слов в результате усиленной конкретики семантических и семиотических намерений. Идеограммы представляют собой целостное логическое построение, запечатлевающее увиденные предметы. Идеограммы являются одной из классических форм конкретной поэзии, созданных преимущественно в 1950-х гг. В противоположность другим текстам они существуют как законченное произведение. Констеляции Констеляции, как и идеограммы, с которыми они часто образуют смешанные формы, относятся к характерным формам конкретной поэзии. В противоположность идеограммам, констеляции не обязательно являются законченными произведениями, чему препятствует применение таких техник, как комбинирование и пермутации. Существенным признаком данной формы является включение пространства в текст произведения как на уровне буквенной, так и на уровне синтаксической организации. Это пространство не только разделяет отдельные элементы, но и связывает, создавая при этом ассоциативные возможности. Поэтому для создания констелляций практически не требуются вербальные средства. Множество констелляций выступают признанным средством международной коммуникации. Лучшие образцы этой формы также являются философски мудрыми играми. Диалектные стихи Диалектные стихи относятся к открытиям конкретной поэзии. Вопреки ожиданию во многих случаях они являются не только акустическими стихами, но и визуальными. От традиционных диалектных стихов они отличаются, как и всякая визуальная поэзия, сознательным выделением языкового материала, чем по-настоящему открывается оригинальность и речетворческий базис диалекта. 182 Палиндромы Палиндром, с греческого, обозначает слова или словосочетания, которые могут быть прочитаны одинаково как с начала, так и с конца. Типограммы Типограммы являются результатом особенно интенсивного использования возможностей шрифта, набора, компьютерной графики. Поэзия раскрывается в буквах, изменение начертания которых приводит к изменению смысла, различным возможностям интерпретаций. Типограммы частично являются собственно конкретистской формой, частично относятся к «прикладному» отклонению от конкретизма. Пиктограммы Поэтические пиктограммы относятся к текстовой «архитектуре». Вначале либо появляется фигура, набросок, чья форма затем наполняется языковым материалом, либо текст может быть ограничен очертаниями одной выразительной фигуры. Роль поэзии состоит в том, чтобы семантически и семиотически определить отношение графической фигуры и текстового высказывания, что может достигаться посредством языковой игры, через использование тавтологии. В противоположность предыдущим формам пиктограммы являются средством исключительно визуальной коммуникации. Так как они сильно удалены от имманентного языкового мышления, их относят к крайним проявлениям конкретизма. Пиктограммы зачастую воспринимаются как переходные формы к изобразительной графике. 183