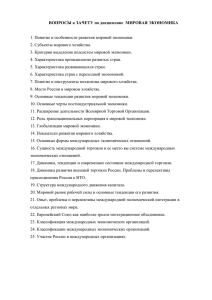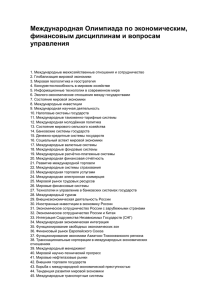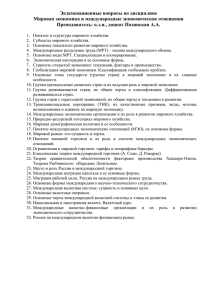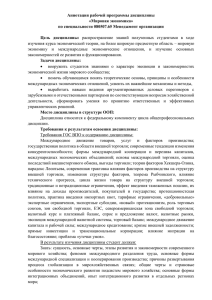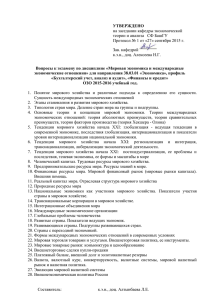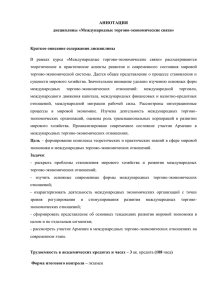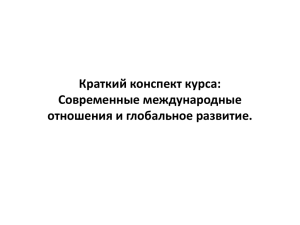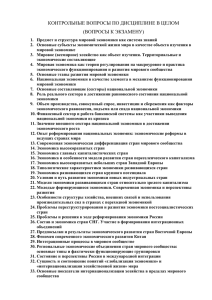1. Понятие мирового порядка 1. При исследовании вопросов мирового (международного) порядка (правопорядка) не следует игнорировать устоявшиеся в юриспруденции аксиомы общей теории права и общей теории международного права, касающихся, в частности, вопросов содержания понятий общественный порядок, правопорядок, конституционный правопорядок, мировой общественный порядок, мировой (международный) правопорядок и глобальный мировой правопорядок, а также понятия международной нормативной системы. 2. Мировой (международный) правопорядок – это не международные общественные отношения и не те или иные нормы права, которые их регулируют, его не следует смешивать и с многочисленными факторами, влияющими на реализацию требований норм международного права. Он представляет собой ни что иное, как результат реализации требований международно-правовых норм, регулирующих международные общественные отношения. 3. Сам по себе термин «мировой порядок» является ничем иным, как юридической фикцией, поскольку каждый раз речь может идти только об одном из трех его видов: (1) мировой общественный порядок, который складывается в результате реализации всех видов норм международной нормативной системы; (2) мировой правопорядок, который складывается в результате реализации исключительно норм международного права и (3) глобальный (или общий) мировой правопорядок, который является результатом реализации не всех, но исключительно фундаментальных, базовых норм jus cogens общего международного права Многие исследователи мирового (международного) порядка никак не могут решить, что же представляет собой его основной определяющий признак? Так, одни из них склонны сводить мировой порядок к совокупности международных (межгосударственных) отношений. По мнению А.А. Галкина, например, «миропорядок – это, прежде всего, совокупность взаимоотношений суверенных государств»6 . А.Д. Богатуров понимает под ним систему отношений, складывающихся «между всеми странами мира, совокупность которых условно именуется международным сообществом»7 . Л.Е. Гринин несколько расширяет такой узкий подход и рассматривает международный порядок уже не только как некую систему международных отношений, но и включает в это понятия представления о том, «на каких принципах должны выстраиваться отношения между странами и в целом в мире»8 . П.А. Цыганков идет еще дальше и полагает, что «международный порядок – это такое устройство международных (прежде всего межгосударственных) отношений, которое призвано обеспечить основные потребности государств и других институтов, создавать и поддерживать условия их существования, безопасности и развития»9 . В то же время Ю.П. Давыдов считает, что мировой порядок – это «состояние системы международных отношений», но «соответствующим образом запрограммированное на ее безопасность, стабильность и развитие, и регулируемое на основе критериев, отвечающих нынешним потребностям прежде всего самых влиятельных субъектов данного мирового сообщества» 2 вопрос. Вестфальская система не раз эволюционировала в ходе исторического процесса, каждый раз приобретая новые структурные формы и оттенки, однако, ее базовые элементы – национальные государства – вплоть до нашего времени являлись основными субъектами международных взаимодействий. Поэтому в рамках единой государственно-центристской модели можно выделить несколько подсистем, по сути, представлявших собой международные порядки. Венский конгресс 1814– 1815 гг., призванный удовлетворить требования державпобедительниц, стал первым камнем в закладывании фундамента нового международного порядка – «Европейского концерта». Хотя Венская подсистема и принесла качественно новые изменения в устоявшиеся принципы межгосударственных отношений, тем не менее, базовые принципы Вестфальской системы остались неизменны. Перечислим основные характерные черты новой подсистемы. Во-первых, предполагалось восстановить феодальные порядки в Европе, во-вторых – укрепить положение самых могущественных европейских держав, в-третьих – признать возможность коллективного военного вмешательства в «неспокойные» государства. Война 1914–1918 гг. заканчивается поражением Германии, на которую возложили ответственность за развязывание войны и все потери и разрушения, ею вызванные. В 1919 году был подписан Версальский договор, который очертил новые территориальные границы Германии, ввел систему мандатов на бывшие германские и турецкие колониальные владения и содержал Устав Лиги Наций – межправительственной организации, призванной стать гарантом мира и безопасности в мире. В 1921–1922 гг. была созвана Вашингтонская конференция, зафиксировавшая влияние стран в Тихоокеанском регионе. В итоге, была создана Версальско-Вашингтонская, или межвоенная система международных отношений, также действующая в рамках Вестфальской модели мироустройства. Несмотря на явные положительные моменты новой модели (создание прообраза ООН – Лиги Наций, попытка применения принципов самоопределения и национальной независимости, выразившихся в образовании девяти новых государств), ВерсальскоВашингтонская система основывалась на старых имперских принципах, что порождало ее нестабильность и противоречивость. В результате мир оказался ввергнут во Вторую мировую войну (1939–1945). Ялтинская (4–11 февраля 1945 г.) и Потсдамская (17 июля–2 августа 1945 г.) конференции стран-победительниц во Второй мировой войне ознаменовали переход к новой – ЯлтинскоПотсдамской, или послевоенной системе международных отношений, которая, как и все предыдущие, относилась к государственноцентристской модели мирового устройства. Послевоенный порядок отличался ярко выраженной противоречивостью и неустойчивостью. С одной стороны, в 1945 году была создана Организация Объединенных Наций, что продемонстрировало серьезное намерение мирового сообщества создать стабильную, управляемую систему межгосударственных взаимодействий, основанную на принципах международного права и коллективной безопасности. Но, с другой стороны, сформировалось четкое разделение мира на два лагеря во главе с США и СССР. Таким образом, речь идет о биполярности как отличительной особенности послевоенной системы. Она сопровождалась постоянным наращиванием вооружений двух супердержав, особенно росла ядерная мощь государств. Своего апогея Холодная война достигла в 1962 году в результате Кубинского кризиса, грозившего развязыванием Третьей мировой войны. Разрушение Ялтинско-Потсдамской системы определилось падением 9 ноября 1989 г. Берлинской стены, объединением 3 октября 1990 г. Германии, «перестройкой» и распадом СССР в 1991 г., а вместе с ним – ОВД и СЭВ. Произошли кардинальные перемены на политической карте мира, образовалось 15 независимых государств, а Россия стала считаться официальной преемницей СССР. Мир очутился на перепутье своего развития. А 5 марта 1991 года Дж. Буш, выступая перед Конгрессом, заявил о начале «нового мирового порядка»1 . Таким образом, начался новый этап развития мирового сообщества, характеризующийся отходом от государственноцентристской модели мироустройства. Произошли качественные изменения: на смену предшествовавшим международным порядкам в рамках Вестфальской системы приходит новый мировой порядок, где роль государства утрачивает свое первостепенное значение за счет преумножения акторов мировой политики, возникновения острых проблем глобального масштаба и все более интенсифицирующейся транснациональности мировых потоков. https://russiaglobal.spbstu.ru/userfiles/files/Rossiya-v-globalnom-mire-1(24)-2013-24-28.pdf 3 вопрос. В рамках реалитического подхода «мировой порядок» рассматривалиР. Арон, Х. Булл, К. Уолтц. Основное внимание исследователи уделяли межгосударственным отношениям, которые основываются на соотношении потенциалов между сверхдержавами. Реалисты утверждают, что порядок формируется великой державой, и предлагают два подхода к формированию мирового порядка: баланс сил; гегемония. Порядок, основанный на принципе баланса сил базируется на анархии ипредполагает отсутствие преобладающей политической власти. В таких условиях главной целью государств является их безопасность, которая обеспечивается благодаря четкому соблюдению общих договоренностей и принципов среди мирового сообщества. Вторая теория утверждает, что мировой порядок формируется сверхдержавой, которая использует инструменты силы и власти для поддержания своего главенствующего положения.Управление мировым порядком гегемоном происходит за счет использования угроз, военной мощи, контроля над сырьем, выгодных экономических и технологических условий, так что, другие государства соглашаются с порядком, управляемым единолично другим государством. Теория формирования гегемонического порядка характеризуется четкой иерархией среди государств, которые управляются одной или несколькими сверхдержавами. Гегемоническая теория и теория баланса сил основаны на распределении власти. Мировой порядок, основанный на балансе сил является более предсказуемым, где государства отстаивают свои собственные интересы и не находятся под властью самого сильного. Гегемонический порядок отличается тем, что представлен необходимостю накопления власти и мощи вокруг одного или группы государств, а уровень авторитета соответствует возможности сверхдержавы создать стабильный порядок. https://doicode.ru/doifile/sciencepublic/filos/spc-01-12-2017-07.pdf Либеральный мировой порядок, а точнее либеральный подход к его осмыслению, дает нам те самые рамки примирения мегалотимии и изотимии со стороны более крупных образований — государственных и негосударственных акторов мировой политики. Три либеральных принципа мирового порядка, если рассматривать их как механизм мышления, преломляются следующим образом: Рациональность. Пытаясь найти ответы на глобальные вызовы современности, мы должны исходить из познаваемых категорий при понимании ограниченности такого познания. Мистическим концепциям вроде национальной судьбы, исторической правды или духа нации места здесь не будет. Не в меньшей степени, чем реалисты, либералы осознают тесное переплетение интересов, которое определяет динамику мировых процессов. Более того, примат эгоистических мотивов очевиден, но разве нам не по силам создать институты, где реализация таких устремлений могла бы быть возможна для максимального количества акторов (вспоминаем Бентама и «максимальное счастье максимального количества людей»)? Нормативность. Подобно неподвижному движителю, у либерального свободолюбия есть деспотическое начало в виде естественных прав, которые служат и ограничением для поведения всех без исключения акторов. Размышляя о мировом порядке в поиске более совершенного решения, мы должны все же размышлять об институтах, о той самой клетке, которая запрет игроков в пределах «правил игры». Как верно заметил Исайя Берлин, всегда найдутся две ценности, которые одинаково существенны и однажды вступят друг с другом в конфликт. Именно поэтому нам и нужны базовые ценности, чтобы сама невозможность сделать выбор нас не парализовала. Открытость. Никакие концепции, кроме тех, что вырывают нас за пределы ценностей, определенных принципом нормативности, не должны оказаться под запретом, когда мы ищем эффективную форму отношений акторов мировой политики. Более того, принцип открытости диктует невозможность финальности таких форм отношений. Как раз в этом смысле «конца истории» случиться не должно. В каком-то отношении наша цель является средством, а средство — целью. Либерализм как метод поиска лучшего мирового порядка навсегда останется только лишь методом, потому что идеала достичь попросту невозможно. Иными словами, такого рода либерализм может быть лишь механической концепцией, и ни в коем случае — телеологической. Он может и должен сам нас привести к более совершенным международным системам, но не может служить целью такого движения. Герцен предостерегал нас от того, чтобы ставить цель выше средств. Потому что в этом случае мы начинаем приносить жертвы, в том числе человеческие. Меж тем живущие люди — реальны и действительны, в то время как цели и идеалы подчас оказываются лишь фантомами. 5 вопрос. Мировой порядок XXI века не похож на прежний, столь привычный для политиков прошлого столетия. Основное его отличие заключаться в том, что незыблемый на протяжении последних трехсот лет принцип баланса сил утратит свое былое значение. Снижение вероятности конфликта между великими державами и сближение их позиций по большинству спорных международных проблем ведет к формированию альянса развитых стран, мощь которого не может быть уравновешена никаким объединением сил «периферийных» государств. Важным следствием подобной трансформации стал отказ от «демократизации» международных отношений, от учета мнения и позиций «падающих» и «несостоявшихся» государств и их поддержки и, наконец, от соглашательской политики, намеренно игнорирующей нарушения общепринятых норм и прав человека в странах «периферии», от курса на распространение оружия массового уничтожения и спонсирование террористической активности. Коалиция развитых стран может устанавливать нормы поведения на международной арене, а также правила, ограничивающие степень свободы правительств в отношении собственных граждан. Современные международные отношения существуют в рамках порядка, более низкого организационного уровня, порядка, который воплощает все многообразие взаимодействия разных стран мира, в том числе существующие между ними противоречия как идейнокультурной и конфессиональной природы, так и военно- и геополитического, экономического и геоэкономического характеров. Таков по определению современный международный порядок в его реальных измерениях [5]. Для характеристики современного международного порядка наиболее значимыми являются несколько черт. Первая - его довольно жесткая иерархичность. В отечественной литературе сложилось два подхода к ее анализу: структурный и режимноинституциональный. Для первого типично исследование иерархии через призму полярности. В этой логике ключевым является вопрос о том, сколько полюсов влияния имеется в современном мире и какой из них - главный. Дискуссии концентрируются вокруг двух версий: сторонники первой стремятся отыскать в современных международных отношениях признаки многополярности, второй - указывают на черты одно-полярности современной международной системы, одновременно выдвигая несколько версий понимания однополярности. Следуя такому комбинированному подходу, проще ответить на вопрос о природе современной международной иерархии, поскольку с позиции и структурного, и режимно-институционального подхода руководящим звеном таковой дефакто признаются Соединенные Штаты Америки как единственный комплексный лидер современного мира, хотя де-юре это главенствование не признается одними и оспаривается другими важнейшими игроками международной политики. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-mirovoy-poryadok-osobennosti-problemyperspektivy