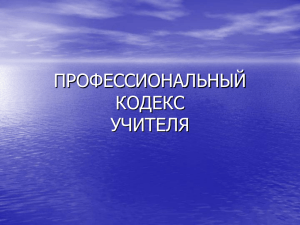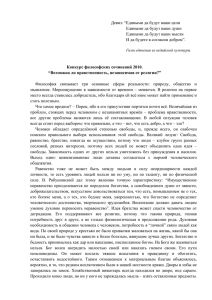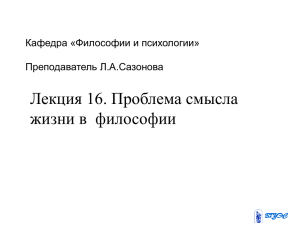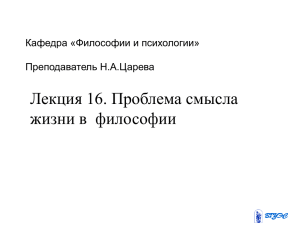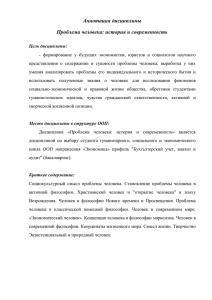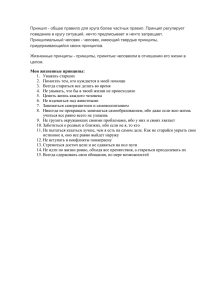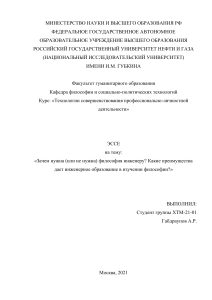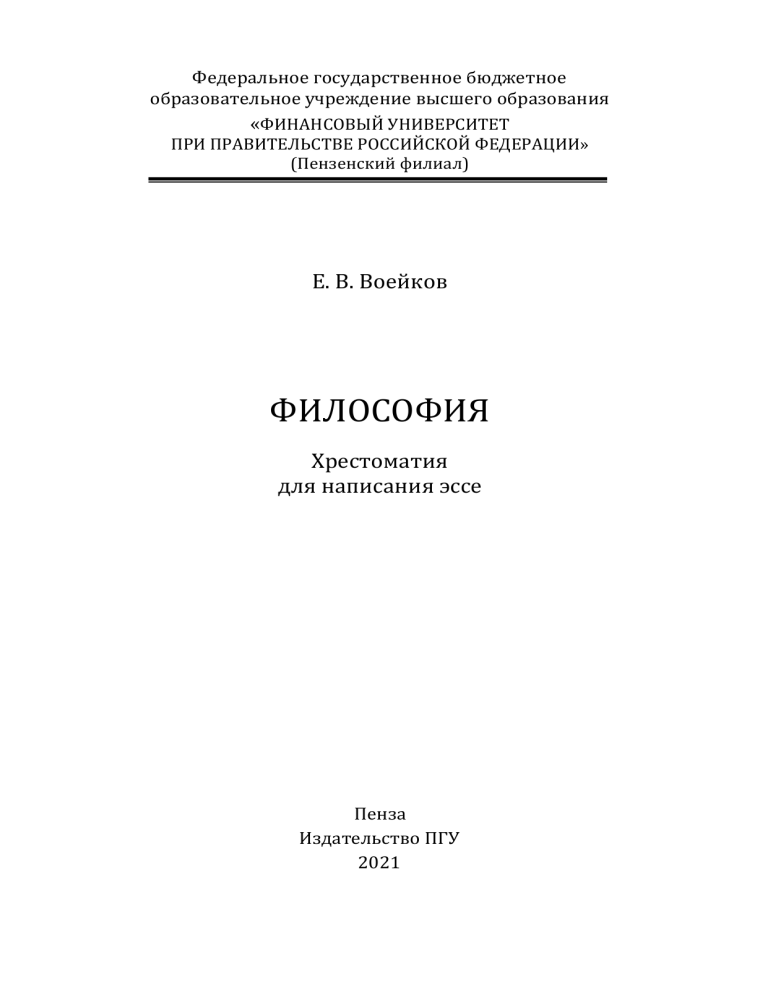
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (Пензенский филиал) Е. В. Воейков ФИЛОСОФИЯ Хрестоматия для написания эссе Пенза Издательство ПГУ 2021 УДК 1(091) В63 Рецензент доктор философских наук, профессор кафедры «Методология науки и социальные теории и технологии» Пензенского государственного университета А. Г. Мясников В63 Воейков, Евгений Владимирович. Философия : хрестоматия для написания эссе / Е. В. Воейков. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2021. – 100 с. Представлены отрывки из трудов философов, наиболее ярко характеризующие их концепции, что облегчит обучающимся написание письменной работы по дисциплине «Философия». Большое внимание уделено философской мысли России XIX – начала XX вв. Издание предназначено для обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и других высших учебных заведений, изучающих курс «Философия», а также может быть использовано для подготовки к семинарским занятиям и экзаменам. УДК 1(091) Печатается по решению Ученого совета Пензенского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (протокол № 32 от 28.04.2021) © Воейков Е. В., 2021 2 СОДЕРЖАНИЕ Введение ............................................................................................................... 4 Тема 1. Правильный жизненный путь по версии Конфуция: возвращение в прошлое или сохранение вечных ценностей? ....................... 5 Тема 2. Демокрит как представитель ранней античной философии ............ 6 Тема 3. Теория государства Платона: идеальный новый мир или проект тоталитарного общества? .............................................................. 8 Тема 4. Этика Эпикура: ориентация на человеческий эгоизм или открытие универсального пути к достижению жизненного счастья? ......................................................................................... 13 Тема 5. Пять доказательств существования бога Фомы Аквинского: попытка постичь непознаваемое разумом или типичное проявление средневековой схоластики? ......................................................... 15 Тема 6. Учение об идолах в философии Ф. Бэкона как попытка обоснования сложности научного познания мира ....................................... 17 Тема 7. Теория познания И. Канта как выражение сложностей создания философской картины мира ............................................................ 19 Тема 8. «Философические письма» П. Я. Чаадаева: пасквиль на Россию или протест патриота против негативных сторон российской действительности? ...................................... 21 Тема 9. Дискуссия западников и славянофилов как поиск национальной идеи России............................................................. 29 Тема 10. Культурно-исторические типы Н. Я. Данилевского – новое видение философии истории................................................................. 34 Тема 11. «Агрессивная Россия» глазами Европы – ответ Западу Н. Я. Данилевского. ................................................................... 39 Тема 12. «Европейничанье» в России ............................................................. 45 Тема 13. Смысл любви в философской концепции В. С. Соловьева (по работе «Смысл любви») ............................................................................. 49 Тема 14. Формирование нравственности в философской концепции В. С. Соловьева (по работе «Оправдание добра») ......................................... 53 Тема 15. Восток, Запад и Россия: перспективы развития человечества в философской концепции В. С. Соловьева (по работе «Три силы»). ........ 58 Тема 16. Человек и свобода в философской концепции Н. А. Бердяева .................................................................................................... 64 Тема 17. Судьба России в философской концепции Н. А. Бердяева .......... 69 Тема 18. Человек и окружающий мир в экзистенциализме ........................ 75 Тема 19. Поиск смысла жизни в экзистенциализме ...................................... 82 Тема 20. Философское понимание материи ................................................... 91 Тема 21. Природа и общество. Географический детерминизм ................... 92 3 Введение Данная хрестоматия предназначена для обучающихся, работающих над выполнением письменной работы (эссе) по дисциплине «Философия». Как показывает многолетний опыт преподавания данной дисциплины, студентам 1–2 курсов зачастую сложно разобраться в концепциях философов, и, тем более, найти нужные разделы в их работах для использования в эссе. Между тем выход за рамки учебников по философии и внимательное изучение философских работ позволяет не только расширить информационный кругозор обучающихся в университете, но и лучше разобраться в концепциях самих философов. Кроме того, в отдельных случаях философские тексты в интернете выкладываются без указания страниц, что затрудняет их цитирование в письменных студенческих работах. В хрестоматию были включены темы, преимущественно относящиеся к истории философии, поскольку разделы современной философии в значительной степени базируются на разработках философов предшествующих эпох. Хрестоматия также может быть использована и для подготовки к семинарским занятиям по дисциплине «Философия». 4 Тема 1. Правильный жизненный путь по версии Конфуция: возвращение в прошлое или сохранение вечных ценностей? Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Нравственность и почитание родителей. 2. Благородный муж и государство. Исправление имен. 3. Сильные и слабые стороны философии Конфуция. Свод высказываний Конфуция «Лунь юй» ГЛАВА ПЕРВАЯ. «СЮЭ ЭР» 1. Учитель сказал: «Учиться и время от времени повторять изученное, разве это не приятно?» 6. Учитель сказал: «Молодые люди должны дома проявлять почтительность к родителям, а вне его – уважительность к старшим, серьезно и честно относиться к делу, безгранично любить народ и сближаться с человеколюбивыми людьми. Если после осуществления всего этого у них останутся силы, их можно тратить на чтение книг»1. ГЛАВА ВТОРАЯ. «ВЭЙ ЧЖЭН» 15. Учитель сказал: «Учиться и не размышлять – напрасно терять время, размышлять и не учиться – губительно»2. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. «ЛИ ЖЭНЬ» 11. Учитель сказал: «Благородный муж думает о морали; низкий человек думает о том, как бы получше устроиться. Благородный муж думает о том, как бы не нарушить законы; низкий человек думает о том, как бы извлечь выгоду». 18. Учитель сказал: «Служи своим родителям, мягко увещевай их. Если видишь, что они проявляют несогласие, снова прояви почтительность и не иди против их воли. Устав, не обижайся на них». 19. Учитель сказал: «Пока родители живы, не уезжай далеко, а если уехал, обязательно живи в определенном месте». 24. Учитель сказал: «Благородный муж стремится быть медленным в словах и быстрым в делах»3. ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. «ЯНЬ ЮАНЬ» 2. Чжун-гуи спросил о человеколюбии. Учитель ответил: «Вне своего дома относись к людям так, словно принимаешь дорогих гостей… Не делай людям того, чего не желаешь себе, и тогда и в государстве и в семье к тебе не будут чувствовать вражды». 1 Древнекитайская философия : собр. текстов : в 2 т. М. : Мысль, 1972. Т. 1. С. 140–141. Там же. С. 143–144. 3 Там же. С. 148–149. 2 5 16. Учитель сказал: «Благородный муж помогает людям свершать красивые дела и не помогает им свершать некрасивые дела. Низкий человек поступает противоположным образом»4. ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. «ЦЗЫ ЛУ» 3. Цзы-лу спросил: «Вэпский правитель намеревается привлечь вас к управлению [государством]. Что вы сделаете прежде всего?» Учитель ответил: «Необходимо начать с исправления имен». Цзы-лу спросил: «Вы начинаете издалека. Зачем нужно исправлять имена?» Учитель сказал: «Как ты необразован, Ю! Благородный муж проявляет осторожность по отношению к тому, чего не знает. Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают. Если ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим образом. Если наказания не применяются надлежащим образом, народ не знает, как себя вести. Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять. В словах благородного мужа не должно быть ничего неправильного». 6. Учитель сказал: «Если личное поведение тех, [кто стоит наверху], правильно, дела идут, хотя и не отдают приказов. Если же личное поведение тех, кто [стоит наверху], неправильно, то, хотя приказывают, [народ] не повинуется»5. ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. «СЯНЬ ВЭНЬ» 23. Учитель сказал: «Благородный муж движется вверх, низкий человек движется вниз». 34. Кто-то спросил: «Правильно ли отвечать добром на зло?» Учитель ответил: «Как можно отвечать добром? На зло отвечают справедливостью. На добро отвечают добром»6. ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. «ВЭЙ ЛИН-ГУН» 20. Учитель сказал: «Благородный муж предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к людям»7. 4 Древнекитайская философия. Т. 1. С. 159–160, 161. Там же. С. 161–162. 6 Там же. С. 165. 7 Там же. С. 167. 5 6 Тема 2. Демокрит как представитель ранней античной философии Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Основные черты и периодизация греческой философии. 2. Учение о бытии. Атомистика. 3. Учение о причинности. «Парадокс лысого». 4. Сильные и слабые стороны философии Демокрита. Учение Демокрита в изложении позднейших авторов А Левкипп и его последователь Демокрит признают элементами полноту и пустоту, называя одно сущим, другое не-сущим, а именно: полное и плотное – сущим, а пустое [разряженное] – не-сущим (поэтому они и говорят, что сущее существует нисколько не больше, чем не-сущее, потому что и тело существует нисколько не больше, чем пустота), а материальной причиной существующего они называют и то, и другое. И так, как те, кто признает основную сущность единой, а не остальные выводят из ее свойств, принимая разряженное и плотное за основания (archai) свойств [вещей], так и Левкипп и Демокрит утверждают, что отличия [атомов] суть причины всего остального. А этих отличий они указывают три: очертания, порядок и положение. Ибо сущее, говорят они, различается лишь «строем», «соприкосновением» и «поворотом»: из них «строй» – это очертания, «соприкосновение» – порядок, «поворот» – положение, а именно А отличается от N очертаниями, AN от NA – порядком, Z от N положением. А вопрос о движении, откуда или каким образом оно у существующего, и они подобно остальным легкомысленно обошли (Аристотель. Метафизика 1.4. 985b)8. Из них [атомов] как из элементов Демокрит рождает уже и образует путем соединения видимые глазом и доступные чувствам тела. Они вступают в столкновения между собой и носятся в пустоте вследствие несходства и других указанных выше различий; носясь таким образом, они сталкиваются и образуют такого рода переплетение, что оно вынуждает их касаться друг друга и находиться вблизи друг от друга… Причину того, что первосущности некоторое время пребывают неизменно вместе друг с другом, он видит в сцеплении и сплетении тел. Ведь одни из них изогнутые, другие якореобразные, третьи вогнутые, четвертые выпуклые, а другие имеют еще и иные бесчисленные различия. Он считает, что они сцеплены друг с другом и пребывают неизменно вместе лишь до тех пор, пока какая-нибудь более сильная необходимость, присоединившаяся из окружающего мира, не разбросает их и не рассеет в разные стороны… После того как атомы собрались воедино, те из них, которые были малыми, круглыми и гладкими, были вытолкнуты вследствие стечения других атомов 8 Аристотель : сочинения : в 4 т. М. : Мысль, 1976. Т. 1. С. 75. 7 и унесены вверх. Когда же иссякла уже сила толчка, двигавшая их вверх, и толчок уже не гнал их больше вверх, а движение вниз встречало препятствия, они остались сжатыми в тех местах, которые еще могли их принять. Это были места на периферии, и здесь по кривой поверхности расположилась масса этих тел. Переплетаясь друг с другом по этой кривой поверхности, они произвели небо. Эти атомы, разнообразные, но близкие к той же природе, как уже было сказано, были вытолкнуты вверх и образовали звездную материю. Множество тел, поднявшихся вследствие испарения, ударялось о воздух и выталкивало его. Воздух в результате движения превращался в ветер и, увлекая своим движением звезды, гнал их вместе с собой, удерживая их в воздухе и сохраняя неизменным то их круговое движение, которое они имеют и теперь. После этого из осевших атомов произошла земля, а из унесенных вверх – небо, огонь и воздух9. Тема 3. Теория государства Платона: идеальный новый мир или проект тоталитарного общества? Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Три сословия в модели государства Платона. 2. Воспитание воинов и философов. 3. Сильные и слабые стороны модели государства Платона. Работа Платона «Государство», как и остальные его работы, построена в виде диалога. Как обычно, наиболее мудрым и рассудительным собеседником в диалогах Платона является его любимый учитель Сократ. В диалоге «Государство» беседу в доме Кефала в Пирее (недалеко от Афин) Сократ пересказывает на следующий день друзьям. В данном случае Платон приписывает Сократу свои собственные взгляды на государство. В идеальном государстве править должны мудрецы-философы, воины – поддерживать порядок и защищать государство от врагов, ремесленникам отводится роль работников, снабжающих воинов и философов всем необходимым. В представленных отрывках обсуждаются вопросы семьи (точнее, ее отсутствия) у воинов и философов, проблема их личного имущества, возможности участия женщин в управлении государством, методика отбора среди воинов кандидатов в правители. 9 Антология античной философии / сост. С. В. Перевезенцев. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 64. 8 Платон. «Государство» КНИГА 3 – В дополнение к их воспитанию, скажет всякий здравомыслящий человек, надо устроить их жилища и прочее их имущество так, чтобы это не мешало им быть наилучшими стражами и не заставляло бы их причинять зло остальным гражданам. – Да, здравомыслящий человек скажет именно так. – Смотри же, – продолжал я, – если им предстоит быть такими, не следует ли устроить их жизнь и жилища примерно вот каким образом: прежде всего никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости. Затем, ни у кого не должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы доступа всякий желающий. Припасы, необходимые для рассудительных и мужественных знатоков военного дела, они должны получать от остальных граждан в уплату за то, что их охраняют. Количества припасов должно хватать стражам на год, но без излишка. Столуясь все вместе, как во время военных походов, они и жить будут сообща. А насчет золота и серебра надо сказать им, что божественное золото – то, что от богов, – они всегда имеют в своей душе, так что ничуть не нуждаются в золоте человеческом, да и нечестиво было бы, обладая тем золотом, осквернять его примесью золота смертного: у них оно должно быть чистым, не то что ходячая монета, которую часто нечестиво подделывают. Им одним не дозволено в нашем государстве пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться к ним, быть с ними под одной крышей, украшаться ими или пить из золотых и серебряных сосудов. Только так могли бы стражи остаться невредимыми и сохранить государство. А чуть только заведется у них собственная земля, дома, деньги, как сейчас же из стражей станут они хозяевами и земледельцами; из союзников остальных граждан сделаются враждебными им владыками; ненавидя сами и вызывая к себе ненависть, питая злые умыслы и их опасаясь, будут они все время жить в большем страхе перед внутренними врагами, чем перед внешними, а в таком случае и сами они, и все государство устремится к своей скорейшей гибели10. КНИГА 5 – А знаешь ли ты хоть какое-нибудь из человеческих занятий, в котором мужчины не превосходили бы во всем женщин? Не стоит нам здесь распространяться о том, что женщины ткут, пекут жертвенные лепешки, варят похлебку. Действительно, в этом-то женский пол кое-что смыслит – вот почему все осмеивают женщину, если она не справляется даже с этим. – Ты верно говоришь; попросту сказать, этот пол во всем уступает тому. Правда, многие женщины во многих отношениях лучше многих мужчин, но в общем дело обстоит так, как ты говоришь… 10 Платон : собр. соч. : в 4 т. М. : Мысль, 1994. Т. 3. С. 186–187. 9 – Так будем ли мы поручать все мужчинам, а женщинам – ничего? – Как можно? – В таком случае, я думаю, мы скажем, что по своим природным задаткам одна женщина способна врачевать, а другая – нет, одна склонна к мусическому искусству, а другая чужда Музам. – Так что же? – А разве иная женщина не имеет способностей к гимнастике и военному делу, тогда как другая совсем не воинственна и не любит гимнастических упражнений? – Да, это так. – Что же? И одна склонна к философии, а другая ее ненавидит? Одной свойственна ярость духа, а другая невозмутима? – Бывает и так. – Значит, встречаются женщины, склонные быть стражами и не склонные. Разве мы не выбрали и среди мужчин в стражи тех, кто склонен к этому по природе? – Конечно, выбрали именно таких. – Значит, для охраны государства и у мужчин, и у женщин одинаковые природные задатки, только у женщин они слабее, а у мужчин сильнее. – Выходит, так. – Значит, для подобных мужчин надо и жен выбирать тоже таких, чтобы они вместе жили и вместе стояли на страже государства, раз они на это способны и сродни по своей природе стражам11. … […] – Все жены этих мужей должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть родители не знают своих детей, а дети – родителей12. … […] Этим правителям потребуется у нас нередко прибегать ко лжи и обману – ради пользы тех, кто им подвластен. Ведь мы уже говорили, что подобные вещи полезны в виде лечебного средства. – И это правильно. – По-видимому, всего уместнее это будет при заключении браков и при деторождении. – Как так? – Из того, в чем мы были согласны, вытекает, что лучшие мужчины должны большей частью соединяться с лучшими женщинами, а худшие, напротив, с самыми худшими, и что потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худших – нет, раз наше стадо должно быть самым отборным. Но что это так делается, никто не должен знать, кроме самих правителей, чтобы не вносить ни малейшего разлада в отряд стражей. – Совершенно верно. 11 12 Платон : собр. соч. … С. 229–230. Там же. С. 232. 10 – Надо будет установить законом какие-то празднества, на которых мы будем сводить вместе невест и женихов, надо учредить жертвоприношения и поручить нашим поэтам создавать песнопения, подходящие для заключаемых браков. А определить количество браков мы предоставим правителям, чтобы они по возможности сохраняли постоянное число мужчин, принимая в расчет войны, болезни и т.д., и чтобы государство у нас по возможности не увеличивалось и не уменьшалось. – Это правильно. – А жеребьевку надо, я думаю, подстроить как-нибудь так, чтобы при каждом заключении брака человек из числа негодных винил бы во всем судьбу, а не правителей. – Да, это сделать необходимо. – А юношей, отличившихся на войне или как-либо иначе, надо удостаивать почестей и наград и предоставлять им более широкую возможность сходиться с женщинами, чтобы под благовидным предлогом ими было зачато как можно больше младенцев. – Правильно. – Все рождающееся потомство сразу же поступает в распоряжение особо для этого поставленных должностных лиц, все равно мужчин или женщин или и тех и других, – ведь занятие должностей одинаково и для женщин, и для мужчин. – Да. – Взяв младенцев, родившихся от хороших родителей, эти лица отнесут их в ясли к кормилицам, живущим отдельно в какой-нибудь части города. А младенцев, родившихся от худших родителей или от родителей, обладающих телесными недостатками, они укроют, как положено, в недоступном, тайном месте. – Да, поскольку сословие стражей должно быть чистым. – Они позаботятся и о питании младенцев: матерей, чьи груди набухли молоком, они приведут в ясли, но всеми способами постараются сделать так, чтобы ни одна из них не могла опознать своего ребенка. Если материнского молока не хватит, они привлекут других женщин, у кого есть молоко, и позаботятся, чтобы те кормили грудью положенное время, а ночные бдения и прочие тягостные обязанности будут делом кормилиц и нянек. – Ты сильно облегчаешь женам стражей уход за детьми. – Так и следует. Но разберем дальше то, что мы наметили. Мы сказали, что потомство должны производить родители цветущего возраста. – Верно. – А согласен ли ты, что соответствующая пора расцвета – двадцатилетний возраст для женщины, а для мужчины – тридцатилетний? – И до каких пор? – Женщина пусть рожает государству, начиная с двадцати лет и до сорока, а мужчина – после того, как у него пройдет наилучшее время для бега: 11 начиная с этих пор пусть производит он государству потомство вплоть до пятидесяти пяти лет. – Верно, и у тех и у других это время телесного и духовного расцвета13. КНИГА 7 – Кто во всем этом – в трудах, в науках, в опасностях – всегда будет выказывать себя самым находчивым, тех надо занести в особый список. – В каком возрасте? – Когда они уже будут освобождены от обязательных занятий телесными упражнениями. Ведь в течение этого срока, продолжается ли он два или три года, у них нет возможности заниматься чем-либо другим. Усталость и сон – враги наук. А вместе с тем ведь и это немаловажное испытание: каким кто себя выкажет в телесных упражнениях. – Еще бы! – По истечении этого срока юноши, отобранные из числа двадцатилетних, будут пользоваться большим почетом сравнительно с остальными, а наукам, порознь с преподававшимся им, когда они были детьми, должен быть сделан общий обзор, чтобы показать их сродство между собою и с природой бытия. – Знание будет прочным, только когда оно приобретено подобным путем. – И это самая главная проверка, имеются ли у человека природные данные для занятий диалектикой или нет. Кто способен все обозреть, тот – диалектик, кому же это не под силу, тот – нет. – Я тоже так думаю. – Вот тебе и придется подмечать, кто наиболее отличится в этом, кто будет стойким в науках, на войне и во всем том, что предписано законом. Из этих юношей, когда им исполнится тридцать лет, надо будет опять-таки произвести отбор, окружить их еще большим почетом и подвергнуть испытанию их способность к диалектике, наблюдая, кто из них умеет, не обращая внимания на зрительные и остальные ощущения, подняться до истинного бытия14. […] – Разве не относится к мерам предосторожности все то, о чем мы говорили раньше: допускать к отвлеченным рассуждениям лишь упорядоченные и стойкие натуры, а не так, как теперь, когда за это берется кто попало, в том числе совсем неподходящие люди? – Конечно, это необходимая мера. – В сравнении с тем, кто развивает свое тело путем гимнастических упражнений, будет ли достаточен вдвое больший срок для овладения искусством рассуждать, если постоянно и напряженно заниматься лишь этим? – Ты имеешь в виду шесть лет или четыре года? 13 14 Платон : собр. соч. … С. 235–236. Там же. С. 322. 12 – Это неважно. Пусть даже пять. После этого они будут у тебя вынуждены вновь спуститься в ту пещеру, их надо будет заставить занять государственные должности – как военные, так и другие, подобающие молодым людям, пусть они никому не уступят и в опытности. Вдобавок надо на всем этом их проверить, устоят ли они перед разнообразными влияниями или же кое в чем поддадутся. – Сколько времени ты на это отводишь? – Пятнадцать лет. А когда им будет пятьдесят, то тех из них, кто уцелел и всячески отличился, – как на деле, так и в познаниях – пора будет привести к окончательной цели – заставить их устремить ввысь свой духовный взор и взглянуть на то самое, что всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его за образец и упорядочить и государство, и частных лиц, а также самих себя – каждого в свой черед – на весь остаток своей жизни. Большую часть времени они станут проводить в философствовании, а когда наступит черед, будут трудиться над гражданским устройством, занимать государственные должности – не потому, что это нечто прекрасное, а потому, что так необходимо ради государства. Таким образом, они постоянно будут воспитывать людей, подобных им самим, и ставить их стражами государства взамен себя, а сами отойдут на Острова блаженных, чтобы там обитать15. Тема 4. Этика Эпикура: ориентация на человеческий эгоизм или открытие универсального пути к достижению жизненного счастья? Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Основные черты и периодизация греческой философии. Особенности философии эпохи эллинизма. 2. Концепция Эпикура: польза философии, избавление от страхов, понятие счастья. 3. Сильные и слабые стороны философии Эпикура. Эпикур. Письмо Менекею Пусть никто в молодости не откладывает занятий философией, а в старости не утомляется занятиями философией: ведь для душевного здоровья никто не может быть ни недозрелым, ни перезрелым. Кто говорит, что заниматься философией еще рано или уже поздно, подобен тому, кто говорит, будто быть счастливым еще рано или уже поздно. Поэтому заниматься философией следует и молодому и старому: первому – для того, чтобы он и в старости остался молод благами в доброй памяти о прошлом, второму – чтобы он был и молод и стар, не испытывая страха перед 15 Платон : собр. соч. … С. 325. 13 будущим. Стало быть, надобно подумать о том, что составляет наше счастье, – ведь когда оно у нас есть, то все у нас есть, а когда его у нас нет, то мы на все идем, чтобы его заполучить… Прежде всего верь, что бог есть существо бессмертное и блаженное, ибо таково всеобщее начертание понятия о боге; и поэтому не приписывай ему ничего, что чуждо бессмертию и несвойственно блаженству, а представляй о нем лишь то, чем поддерживается его бессмертие и его блаженство. Да, боги существуют, ибо знание о них – очевидность; но они не таковы, какими их полагает толпа, ибо толпа не сохраняет их [в представлении] такими, какими полагает. Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто принимает мнения толпы о богах, ибо высказывания толпы о богах – это не предвосхищения, а домыслы, и притом ложные. Именно в них утверждается, будто боги посылают дурным людям великий вред, а хорошим – пользу: ведь люди привыкли к собственным достоинствам и к подобным себе относятся хорошо, а все, что не таково, считают чуждым. Привыкай думать, что смерть для нас – ничто: ведь все и хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений. Поэтому если держаться правильного знания, что смерть для нас – ничто, то смертность жизни станет для нас отрадна; не оттого, что к ней прибавится бесконечность времени, а оттого, что от нее отнимется жажда бессмертия. Поэтому ничего нет страшного в жизни тому, кто по-настоящему понял, что нет ничего страшного в не-жизни. Поэтому глуп, кто говорит, что боится смерти не потому, что она причинит страдания, когда придет, а потому, что она причинит страдания тем, что придет; что присутствием своим не беспокоит, о том вовсе напрасно горевать заранее. Стало быть, самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют. Большинство людей то бегут смерти как величайшего из зол, то жаждут ее как отдохновения от зол жизни. А мудрец не уклоняется от жизни и не боится не-жизни, потому что жизнь ему не мешает, а не-жизнь не кажется злом. Как пищу он выбирает не более обильную, а самую приятную, так и временем он наслаждается не самым долгим, а самым приятным. Кто советует юноше хорошо жить, а старцу хорошо кончить жизнь, тот неразумен не только потому, что жизнь ему мила, но еще и потому, что умение хорошо жить и хорошо умереть – это одна и та же наука. Но еще хуже тот, кто сказал: хорошо не родиться16. […] Поэтому когда мы говорим, что наслаждение есть конечная цель, то мы разумеем отнюдь не наслаждения распутства или чувственности, как 16 Антология античной философии… С. 239. 14 полагают те, кто не знают, не разделяют или плохо понимают наше учение, – нет, мы разумеем свободу от страданий тела и от смятений души. Ибо не бесконечные попойки и праздники, не наслаждение мальчиками и женщинами или рыбным столом и прочими радостями роскошного пира делают нашу жизнь сладкою, а только трезвое рассуждение, исследующее причины всякого нашего предпочтения и избегания и изгоняющее мнения, поселяющие великую тревогу в душе. Начало же всего этого и величайшее из благ есть разумение; оно дороже даже самой философии, и от него произошли все остальные добродетели. Это оно учит, что нельзя жить сладко, не живя разумно, хорошо и праведно, и [нельзя жить разумно, хорошо и праведно], не живя сладко: ведь все добродетели сродни сладкой жизни и сладкая жизнь неотделима от них17. Тема 5. Пять доказательств существования бога Фомы Аквинского: попытка постичь непознаваемое разумом или типичное проявление средневековой схоластики? Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Основные черты и периодизация средневековой европейской философии. 2. Философская концепция Фомы Аквинского: разум и вера, пять доказательств бытия Божьего. 3. Сильные и слабые стороны философии Аквината. Фома Аквинский. «Сумма теологии» ...Бытие божие может быть доказано пятью путями. Первый и наиболее очевидный путь исходит из понятия движения. В самом деле, не подлежит сомнению и подтверждается показаниями чувств, что в этом мире нечто движется. Но все, что движется, имеет причиной своего движения нечто иное: ведь оно движется лишь потому, что находится в потенциальном состоянии относительно того, к чему оно движется. Сообщать же движение нечто может постольку, поскольку оно находится в акте: ведь сообщать движение есть не что иное, как переводить предмет из потенции в акт. Но ничто не может быть переведено из потенции в акт иначе, как через посредство некоторой актуальной сущности; так, актуальная теплота огня заставляет потенциальную теплоту дерева переходить в теплоту актуальную и через это приводит дерево в изменение и движение. Невозможно, однако, чтобы одно и то же было одновременно и актуальным, и потенциальным в одном и том же отношении, оно может быть таковым лишь в различных отношениях. Так, то, что явля17 Антология античной философии… С. 240. 15 ется актуально теплым, может одновременно быть не потенциально теплым, но лишь потенциально холодным. Следовательно, невозможно, чтобы нечто было одновременно, в одном и том же отношении и одним и тем же образом и движущим, и движимым, – иными словами, было бы само источником своего движения. Следовательно, все, что движется, должно иметь источником своего движения нечто иное. Следовательно, коль скоро движущий предмет и сам движется, его движет еще один предмет, и так далее. Но невозможно, чтобы так продолжалось до бесконечности, ибо в таком случае не было бы перводвигателя, а, следовательно, и никакого иного двигателя; ибо источники движения второго порядка сообщают движение лишь постольку, поскольку сами движимы первичным двигателем, как-то: посох сообщает движение лишь постольку, поскольку сам движим рукой. Следовательно, необходимо дойти до некоторого перводвигателя, который сам не движим ничем иным; а под ним все разумеют бога. Второй путь исходит из понятия производящей причины. В самом деле, мы обнаруживаем в чувственных вещах последовательность производящих причин; однако не обнаруживается и невозможен такой случай, чтобы вещь была своей собственной производящей причиной; тогда она предшествовала бы самой себе, что невозможно. Нельзя помыслить и того, чтобы ряд производящих причин уходил в бесконечность, ибо в таком ряду начальный член есть причина среднего, а средний – причина конечного (причем средних членов может быть множество или только один). Устраняя причину, мы устраняем и следствия. Отсюда, если в ряду производящих причин не станет начального члена, не станет также конечного и среднего. Но если ряд производящих причин уходил бы в бесконечность, отсутствовала бы первичная производящая причина; а в таком случае отсутствовали бы и конечное следствие, и промежуточные производящие причины, что очевидным образом ложно. Следовательно, необходимо положить некоторую первичную производящую причину, каковую все именуют богом. Третий путь исходит из понятий возможности и необходимости и сводится к следующему. Мы обнаруживаем среди вещей такие, для которых возможно и быть, и не быть; обнаруживается, что они возникают и гибнут, из чего явствует, что для них возможно и быть, и не быть. Но для всех вещей такого рода невозможно вечное бытие; коль скоро нечто может перейти в небытие, оно когда-нибудь перейдет в него. Если же все может не быть, то когда-нибудь в мире ничего не будет. Но если это истинно, уже сейчас ничего нет; ибо не-сущее не приходит к бытию иначе, как через нечто сущее. Итак, если бы не было ничего сущего, невозможно было бы, чтобы что-либо перешло в бытие, и потому ничего не было бы, что очевидным образом ложно. Итак, не все сущее случайно, но в мире должно быть нечто необходимое. Однако все необходимое либо имеет некоторую внешнюю причину своей необходимости, либо не имеет. Между тем невозможно, чтобы ряд необходимых сущностей, обусловливающих необходимость друг 16 друга, уходил в бесконечность (таким же образом, как это происходит с производящими причинами, что доказано выше). Поэтому необходимо положить некую необходимую сущность, необходимую самое по себе, не имеющую внешней причины своей необходимости, но самое составляющую причину необходимости всех иных; по общему мнению, это есть бог. Четвертый путь исходит из различных степеней, которые обнаруживаются в вещах. Мы находим среди вещей более или менее совершенные, или истинные, или благородные; и так обстоит дело и с прочими отношениями такого же рода. Но о большей или меньшей степени говорят в том случае, когда имеется различная приближенность к некоторому пределу: так, более теплым является то, что более приближается к пределу теплоты. Итак, есть нечто в предельной степени обладающее истиной, и совершенством, и благородством, а, следовательно, и бытием; ибо то, что в наибольшей степени истинно, в наибольшей степени есть, как сказано во II кн. «Метафизики», гл. 4. Но то, что в предельной степени обладает некоторым качеством, есть причина всех проявлений этого качества: так, огонь, как предел теплоты, есть причина всего теплого, как сказано в той же книге. Отсюда следует, что есть некоторая сущность, являющаяся для всех сущностей причиной блага и всякого совершенства; и ее мы именуем богом. Пятый путь исходит из распорядка природы. Мы убеждаемся, что предметы, лишенные разума, каковы природные тела, подчиняются целесообразности. Это явствует из того, что их действия или всегда, или в большинстве случаев направлены к наилучшему исходу. Отсюда следует, что они достигают цели не случайно, но будучи руководимы сознательной волей. Поскольку же сами они лишены разумения, они могут подчиняться целесообразности лишь постольку, поскольку их направляет некто одаренный разумом и пониманием, как стрелок направляет стрелу. Следовательно, есть разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит в природе; и его мы именуем богом (Сумма теол., I, q.2, 3 с)18. Тема 6. Учение об идолах в философии Ф. Бэкона как попытка обоснования сложности научного познания мира Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Основные черты и периодизация европейской философии Нового времени. 2. Теория познания: три способности человека, четыре вида идолов. Научный метод индукции. 3. Сильные и слабые стороны философии Ф. Бэкона. 18 Философская библиотека средневековья. Фома Аквинский (1221–1274). Сочинения. Сумма теологии (отрывки). URL: http://antology.rchgi.spb.ru/Thomas_Aquinas/_autor.rus.html 17 Фрэнсис Бэкон. «Новый Органон наук» XXXIX Есть четыре вида призраков, которые осаждают умы людей. Для того чтобы их изучать, дадим им имена. Назовем первый вид Призраками Рода, второй – Призраками Пещеры, третий – Призраками Рынка и четвертый – Призраками театра... XLI Призраки Рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде людей. Ибо ложно утверждать, что чувство человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума относятся к человеку, а не к миру. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде. XLII Призраки Пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их души предвзятые и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные, или по другим причинам... Вот почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых мирах, а не в большом, или в общем, мире. XLIII Существуют еще Призраки, которые происходят как бы в силу взаимной связанности и сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество людей, Призраками Рынка. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждают разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям. XLIII Существуют, наконец, Призраки, которые вселились в души людей из разных догматов философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем Призраками Театра, ибо мы считаем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько поставлено 18 и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры. Мы говорим это не только о философских системах, которые существуют сейчас или существовали некогда… При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры, небрежения...19. XСV Те, кто занимались науками, были или эмпириками, или догматиками. Эмпирики, подобно муравью, только собирают и довольствуются собранным. Рационалисты, подобно пауку, производят ткань из самих себя. Пчела же избирает средний способ: она извлекает материал из цветов поля и сада, но располагает и изменяет его собственным умением. Не отличается от этого и подлинное дело философии. Ибо она не основывается только преимущественно на силах ума и не откладывает в сознании нетронутым материал, извлекаемый из естественной истории и из механических опытов, но изменяет его и перерабатывает в разуме. Итак, следует возложить добрую надежду на более тесный и нерушимый (чего до сих пор не было) союз этих способностей (то есть опыта и рассудка)20. Тема 7. Теория познания И. Канта как выражение сложностей создания философской картины мира Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Периодизация европейской философии Нового времени. Основные черты немецкой классической философии. 2. Теория познания И. Канта. «Вещь для нас» и «вещь сама по себе». 3. Сильные и слабые стороны философии И. Канта. Иммануил Кант. «Критика чистого разума» Отдел первый. Книга вторая. Глава третья «Об основании различения всех предметов вообще на phaenomena и noumena» Тем не менее когда мы те или иные предметы как явления называем чувственно воспринимаемыми объектами (Phaenomena), отличая при этом способ, каким мы их созерцаем, от их свойств самих по себе, то уже в нашем понятии [чувственно воспринимаемого объекта] заключается то, что мы как бы противопоставляем этим чувственно воспринимаемым 19 Бэкон Фрэнсис. Новый Органон наук / под ред. Г. Тымянского. М. : «Канон+» РООН «Реабилитация», 2016. С. 40–42. 20 Там же. С. 79. 19 объектам или те же самые объекты с их свойствами самими по себе, хотя мы этих свойств в них не созерцаем, или же другие возможные вещи, которые вовсе не объекты наших чувств, и мы рассматриваем их как предметы, которые мыслит только рассудок, и называем их умопостигаемыми объектами (Noumena). Отсюда возникает вопрос, не имеют ли наши чистые рассудочные понятия значение в отношении ноуменов и не могут ли они быть способом их познания? […] Если под ноуменом мы разумеем вещь, поскольку она не есть объект нашего чувственного созерцания, так как мы отвлекаемся от нашего способа созерцания ее, то такой ноумен имеет негативный смысл. Если же под ноуменом мы разумеем объект нечувственного созерцания, то мы допускаем новый способ созерцания, а именно интеллектуальное созерцание, которое, однако, не свойственно нам, и даже сама возможность которого не может быть усмотрена нами; такой ноумен имел бы положительный смысл21. […] Понятие ноумена, т.е. вещи, которую следует мыслить не как предмет чувств, а как вещь, существующую саму по себе (исключительно посредством чистого рассудка), не заключает в себе никакого противоречия, так как о чувственности нельзя утверждать, будто она единственно возможный способ созерцания. Далее, это понятие необходимо для того, чтобы не распространять чувственных созерцаний на сферу вещей самих по себе, следовательно, чтобы ограничить объективную значимость чувственного познания (ведь все остальное, на что не распространяется чувственное созерцание, называется ноуменами именно для того, чтобы показать, что область чувственного познания простирается не на все, что мыслится рассудком)22. […] Поэтому деление предметов на феномены и ноумены, а мира – на чувственно воспринимаемый и умопостигаемый недопустимо в положительном смысле, хотя понятия и допускают деления на чувственные и интеллектуальные понятия, ибо последние не имеют никаких соответствующих им предметов, и потому их нельзя выдавать за объективно значимые… Тем не менее понятие ноумена, взятое в чисто проблематическом значении, остается не только допустимым, но и необходимым как понятие, указывающее предметы чувственности. Но в таком случае оно не есть особый умопостигаемый предмет для нашего рассудка; такой рассудок, которому принадлежал бы умопостигаемый предмет, сам представляет собой проблему, состоящую в том, чтобы познавать свои предметы не дискурсивно посредством категорий, а интуитивно в нечувственном созерцании, 21 22 Кант И. Критика чистого разума. М. : Э, 2016. С. 244–245. Там же. С. 247. 20 о возможности же такого познания мы не в силах составить себе ни малейшего представления. Таким путем наш рассудок приобретает негативное расширение, т.е., называя вещи сами по себе (рассматриваемые не как явления) ноуменами, он оказывается не ограниченным чувственностью, а скорее ограничивающим ее. Но вместе с тем он тотчас же ставит границы и самому себе, признавая, что не может познать вещи сами по себе посредством категорий, стало быть, может мыслить их только как неизвестное нечто23. […] Если сетование мы не познаем ничего внутреннего в вещах должно обозначать, что чистым рассудком мы не можем понять, каковы являющиеся нам вещи сами по себе, то таковое сетование несправедливо и неразумно: оно вытекает из желания познавать, стало быть, созерцать вещи, не пользуясь чувствами, следовательно, из желания обладать познавательными способностями, совершенно отличающимися от человеческих способностей не только по степени, но даже по характеру созерцания и способу познания, следовательно, из желания быть не людьми, а какими-то существами, о которых мы не можем даже сказать, возможны ли они и тем более, каковы они. Но если даже вся природа раскрылась бы перед нами, мы никогда не были бы в состоянии ответить на трансцендентальные вопросы, выходящие за пределы природы, так как даже и свою собственную душу нам не дано наблюдать с помощью каких-либо иных созерцаний, кроме тех, которые доставляются нам нашим внутренним чувством, а между тем в ней заложена тайна происхождения нашей чувственности. Отношение чувственности к объекту и трансцендентальное основание этого единства, без сомнения, скрыты слишком глубоко, чтобы мы, познающие даже и самих себя только посредством внутреннего чувства, стало быть, как явление, могли применить столь неподобающее орудие нашего исследования для чего-то иного, кроме того, чтобы все вновь и вновь находить лишь явления, нечувственную причину которых мы так страстно хотели бы исследовать24. Тема 8. «Философические письма» П. Я. Чаадаева: пасквиль на Россию или протест патриота против негативных сторон российской действительности? Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Исторический путь России в произведении П. Я. Чаадаева. 2. Историческая Россия и Россия современная: с чем можно и с чем нельзя согласиться в концепции П. Я. Чаадаева. 23 24 Кант И. Критика чистого разума… С. 248–249. Там же. С. 263–264. 21 Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) происходил из старинного дворянского рода. Учился в Московском университете с 1808 по 1811 г. Офицер, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода русской армии 1813–1814 гг. Был знаком с А. С. Пушкиным и многими декабристами. В 1836 г. в журнале «Телескоп» было опубликовано первое из шести «Философических писем» Чаадаева, написанных в 1829–1830 гг. Мысли П. Я. Чаадаева об исторической судьбе России вызвали неоднозначную реакцию общества и возмущение императора Николая I. Цензор, пропустивший в печать данную статью, был уволен, журнал закрыт, редактор сослан на год в Усть-Сысольск. Сам П. Я. Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим (до ноября 1837 г.) с запретом что-либо писать и публиковать. А. С. Пушкин, прочитав «Философическое письмо», писал П. Я. Чаадаеву: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пыткой бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов?... А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж?... Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблен, – но, клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал»25. Влияние творчества Чаадаева на последующих русских мыслителей XIX столетия противоречиво. С одной стороны, будучи апологетом пути, по которому идет Западная Европа, он стоял у истоков западничества в России. С другой стороны, выраженное им признание уникальности исторического пути России было взято на вооружение славянофилами, очистившими эту идею от чаадаевских нигилизма и скептицизма. Именно с творчества Чаадаева активно начался поиск русской национальной идеи. П. Я. Чаадаев. «Философические письма» Письмо первое Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшие его во всем остальном 25 Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991. Т. 2. С. 461. 22 мире к его современному состоянию, на нас не оказали никакого воздействия26. […] У всех народов есть период бурных волнений, страстного беспокойства, деятельности без обдуманных намерений. Люди в такое время скитаются по свету и дух их блуждает. Это пора великих побуждений, великих свершений, великих страстей у народов. Они тогда неистовствуют без ясного повода, но не без пользы для грядущих поколений. Все общества прошли через такие периоды, когда вырабатываются самые яркие воспоминания, свои чудеса, своя поэзия, свои самые сильные и плодотворные идеи. В этом и состоят необходимые общественные устои. Без этого они не сохранили бы в своей памяти ничего, что можно было бы полюбить, к чему пристраститься, они были бы привязаны лишь к праху земли своей. Это увлекательная эпоха в истории народов, это их юность; это время, когда сильнее всего развиваются их дарования, и память о нем составляет отраду и поучение их зрелого возраста. Мы, напротив, не имели ничего подобного. Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унизительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, – вот печальная история нашей юности. Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа – ничего подобного у нас не было. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была наполнена тусклым и мрачным существованием без силы, без энергии, одушевляемом только злодеяниями и смягчаемом только рабством. Никаких чарующих воспоминаний, никаких пленительных образов в памяти, никаких действенных наставлений в национальной традиции. Окиньте взором все прожитые века, все занятые нами пространства, и Вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания…27. […] Народы живут только сильными впечатлениями, сохранившимися в их умах от прошедших времен, и общением с другими народами. Этим путем каждая отдельная личность ощущает свою связь со всем человечеством. В чем заключается жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошедших временах не связывает настоящего с прошлым? Мы же, явившись на свет, как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до нашего появления. Необходимо, чтобы каждый из нас пытался связать порванную нить родства. То, что у других народов является просто привычкой, инстинктом, то нам приходится вбивать в свои головы ударом молота. Наши воспоминания не идут 26 Философические письма (1829–1830). Письмо первое // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М., 1991. Т. 1. С. 323. 27 Там же. С. 324–325. 23 далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что по мере продвижения вперед пережитое пропадает для нас безвозвратно… Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы как бы составляем исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру28. […] Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави Бог. Но я говорю, что для суждения о народах надо исследовать этот общий дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера. Массы подчиняются известным силам, стоящим у вершин общества. Непосредственно они не размышляют. Среди них имеется известное число мыслителей, которые за них думают, которые дают толчок коллективному сознанию нации и приводят ее в движение. Незначительное меньшинство мыслит, остальная часть чувствует, в итоге же получается общее движение. Это справедливо для всех народов земли… А теперь, я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь? А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы – воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара. Не эту роль предоставило нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем благодетельном воздействии на человеческий разум, оно предоставило нас всецело самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды…29 28 29 Философические письма (1829–1830). Письмо первое… С. 325–326. Там же. С. 329–330. 24 Удивительное дело! Даже в области той науки, которая все охватывает, наша история ни с чем не связана, ничего не объясняет, ничего не доказывает. Если бы орды варваров, потрясших мир, не прошли прежде нашествия на Запад по нашей стране, мы едва были бы главой для всемирной истории. Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера. Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации30; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы31; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека32. В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке33. […] В то время, когда среди борьбы между исполнением силы варварских народов Севера и возвышенной мыслью религии воздвигалось здание современной цивилизации, что делали мы? По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих народов… В Европе все тогда было одушевлено животворным началом единства. Все там из него происходило, все к нему сходилось. Все умственное движение той поры только и стремилось установить единство человеческой мысли, и любое побуждение исходило из властной потребности найти мировую идею, эту вдохновительницу новых времен. Чуждые этому чудотворному началу, мы стали жертвой завоевания… Сколько ярких лучей тогда уже вспыхнуло среди кажущегося мрака, покрывающего Европу. Большинство знаний, которыми ныне гордится человеческий ум, уже угадывалось в умах; характер нового общества уже определился и, обращаясь назад к языческой древности, мир христианский обрел снова формы прекрасного, которых ему недоставало. До нас же, замкнувшихся в нашем расколе, ничего из происходившего в Европе не доходило… Вопреки имени христиан, которое мы носили, в то самое время, когда христианство величественно шествовало по пути, указанном божественным его основателем, и увлекало за собой поколения, мы не 30 П. Я. Чаадаев имеет в виду Петра I. Император Александр I (1801–1825) и участие России в антифранцузских коалициях с 1805 по 1814 г. 32 Имеется в виду восстание декабристов. 33 Философические письма (1829–1830). Письмо первое… С. 330. 31 25 двигались с места. Весь мир перестраивался заново, у нас же ничего не созидалось: мы по-прежнему ютились в своих лачугах из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода не для нас совершались. Хотя мы и христиане, не для нас созревали плоды христианства34. Письмо второе Вы знаете также и то, что по признанию самых даже упорных скептиков уничтожением крепостничества в Европе мы обязаны христианству. Более того, известно, что первые случаи освобождения были религиозными актами и совершались перед алтарем… Наконец, известно, что духовенство показало везде пример, освобождая собственных крепостных, и что римские первосвященники первые способствовали уничтожению рабства в области, подчиненной их духовному управлению35. Почему же христианство не имело таких же последствий у нас? Почему, наоборот, русский народ попал в рабство лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйских? Пусть православная церковь объяснит это явление36. П. Я. Чаадаев. «Апология сумасшедшего» Никогда ни один народ не был менее пристрастен к самому себе, нежели русский народ, каким воспитал его Петр Великий, и ни один народ не достиг также более славных успехов на поприще прогресса. Высокий интеллект этого необыкновенного человека безошибочно угадал, какова должна быть наша исходная точка на пути цивилизации и всемирного умственного движения. Он видел, что за полным почти отсутствием у нас исторических данных мы не можем утвердить наше будущее на этой бессильной основе; он хорошо понял, что, стоя лицом к лицу с европейской цивилизацией, которая является последним выражением всех прежних цивилизаций, нам незачем задыхаться в нашей истории и незачем тащиться, подобно западным народам, чрез хаос национальных предрассудков, по узким тропинкам местных идей, по изрытым колеям туземной традиции; что мы должны спонтанным порывом наших внутренних сил, энергическим усилием национального сознания овладеть предназначенной нам судьбой… Неужели вы думаете, что если бы он нашел у своего народа богатую и плодотворную историю, живые традиции и глубоко укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы, прежде чем кинуть его в новую форму? Неужели вы думаете, что будь пред ним резко очерченная, ярко выражен34 Философические письма (1829–1830). Письмо первое… С. 331–332. В данном случае утверждение П. Я. Чаадаева не соответствуют исторической действительности. На Западе церковь более чем терпимо относилась к рабству. Крепостного права, аналогичного российскому, в Западной Европе вообще не было. 36 Философические письма (1829–1830). Письмо второе // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. С. 347. 35 26 ная народность, инстинкт организатора не заставил бы его, напротив, обратиться к самой этой народности за средствами, необходимыми для возрождения его страны? И, с другой стороны, позволила бы страна, чтобы у нее отняли ее прошлое и, так сказать, навязали ей прошлое Европы? Но ничего этого не было. Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад; с тех пор мы принадлежим Европе и Западу. Не надо заблуждаться: как бы велик ни был гений этого человека и необычайна энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало ей властно того пути, по которому она должна была идти… Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление. Самой глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие свободного почина в нашем социальном развитии37. […] Мир искони делился на две части – Восток и Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: это два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, объемлющие все устройство человеческого рода… На Востоке мысль, углубившись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пустыне, предоставила общественной власти распоряжение всеми благами земли; на Западе идея, повсюду распространяясь, вступаясь за все нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на принципе права; тем не менее и в той, и в другой сфере жизнь была сильна и плодотворна… Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и всемогущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, воспринял все его достижения38. […] Мы живем на востоке Европы – это верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку. У Востока своя история, не имеющая ничего общего с нашей. Ему присуща, как мы только что видели, плодотворная идея, которая в свое время обусловила громадное развитие разума… Эта идея, поставила духовное начало во главу общества; она подчинила все власти одному нерушимому высшему закону – закону истории; она глубоко разработала систему нравственных иерархий… У нас не было ничего подобного. Духовное начало, неизменно подчиненное светскому, никогда не утвердилось на вершине общества; исторический закон, традиция никогда не получали у нас исключительного господства; жизнь никогда не 37 Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. 1837. Т. 1. С. 526–527. 38 Там же. С. 529. 27 устраивалась у нас неизменным образом; наконец, нравственной иерархии у нас никогда не было и следа. Мы просто северный народ, и по идеям, как и по климату, очень далеки от благоуханной долины Кашмира и священных берегов Ганга39. […] Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою родину, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа; но верно и то, что патриотическое чувство, одушевляющее меня, совсем не похоже на чувства тех, чьи крики нарушили мое спокойное существование… Я не научился любить мою родину с закрытыми глазами, со склоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если хорошо понимает ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое Отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями, и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы. Я полагаю, что мы пришли после других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия… Больше того: у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество40. […] Что же, разве я предлагаю моей родине скудное будущее? Или вы находите, что я призываю для нее бесславные судьбы? И это великое будущее, которое, без сомнения, осуществится, эти прекрасные судьбы, которые, без сомнения исполнятся, будут лишь результатом тех особенных свойств русского народа, которые впервые были указаны в злополучной статье. Но что же, в конце концов, представляла из себя эта статья? Это частное письмо, написанное много лет тому назад одной женщине под воздействием горестного чувства, огромного разочарования, которое из-за нескромного тщеславия журналиста было вынесено на суд публики… где старый тезис о превосходстве стран Запада повторялся с некоторой теплотой, быть может, и преувеличением... наконец, может быть, преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грандиозный гений Пушкина41. […] Мы с изумительной быстротой достигли известного уровня цивилизации, которому справедливо удивляется Европа. Наше могущество держит в трепете мир, наша держава занимает пятую часть земного шара, 39 Апология сумасшедшего… С. 531. Там же. С. 533–534. 41 Там же. С. 536–537. 40 28 но всем этим, надо сознаться, мы обязаны только энергичной воле наших государей, которой содействовали физические условия страны, обитаемой нами. Обработанные, отлитые, созданные нашими властителями и нашим климатом, только в силу покорности стали мы великим народом42. Тема 9. Дискуссия западников и славянофилов как поиск национальной идеи России Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский). 2. Западники (Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, А. И. Герцен). 3. Сильные и слабые стороны модели исторического пути России в творчестве славянофилов и западников. А. С. Хомяков. «Несколько слов о философическом письме» Но рассмотрим подробнее некоторые положения сочинителя статьи «Философическое письмо». «Народы живут только мощными впечатлениями времен прошедших на умы их и соприкосновением с другими народами. Таким образом каждый человек чувствует свое собственное соотношение с целым человечеством», – так пишет сочинитель… Если бы мы не жили мощными впечатлениями времен прошедших, мы не гордились бы своим именем, мы бы не смели свергнуть с себя имя монголов, поклонились бы давно власти какого-нибудь Сикста V или Наполеона… потомки греков не сберегли ни языка, ни слова, ни нрава, ни крови предков своих. Владыки-римляне обратились в рабов; и населившийся гонимыми париями весь север Европы возвысился и образовал новую родословную книгу своей родины, сжег разрядные книги Индии, Рима и Греции…43 […] Не ранее XII столетия все настоящие просвещенные царства стали образовываться из хаоса варварства. В XII веке у нас христианский мир уже процветал мирно; а в Западной Европе что тогда делалось? Овцы западного стада, возбужденные пастырем своим, думали о преобладании; но, верно, святые земли не им были назначены под паству44. Бог не требует ни крови, ни гонений за веру: мечом не доказываются истины… Гроб Господень не яблоко распри; он – достояние всего человечества. 42 Апология сумасшедшего… С. 537. Несколько слов о философическом письме // Русская философия: Имена. Учения. Тексты / сост. Н. В. Солнцев. М. : ИНФРА-М, 2001. С. 213. 44 А. С. Хомяков имеет в виду крестовые походы за освобождение Гроба Господня в Палестине. 43 29 Таким-то образом мнимо великое предприятие должно было рушиться. Мы не принимали в нем участия, и похвалимся этим. Мы в это время образовывали свой ум и душу – и потому-то ни одно царство, возникшее из средних времен45, не представит нам памятников XII столетия, подобных Слову Игоря, Посланию Даниила к Георгию Долгорукому и многим другим сочинениям на славянском языке, даже и IX, и X столетий. Есть ли у кого из народов Европы, кроме шотландцев, подобные нашим легенды и песни?.. У какого христианского народа есть Нестор? У кого из народов есть столько ума в пословицах?46 А. С. Хомяков. «О сельской общине» Статья была написана в форме ответа славянофилу А. И. Кошелеву на его письмо Хомякову от 16 марта 1848 г. Русский философ в данной работе выделял два основных варианта развития аграрного сектора экономики в Европе – английский и французский. В. И. Ленин позднее назвал эти варианты прусским и американским путями развития капитализма в сельском хозяйстве. Английский, или прусский по ленинской терминологии, вариант предполагает ликвидацию крестьянства как социальной группы (в Англии в XVI–XVII вв. это были огораживания) и сосредоточение основного фонда земель в стране в руках крупных собственников (лендлорды в Англии). Французский (американский) вариант основан на ликвидации уже крупного землевладения (во Франции это была массовая конфискация земель дворян в ходе Великой Французской революции 1789–1794 гг.) и разделе земельного фонда страны между мелкими земельными собственниками. Ты сам был в чужих краях; скажи по совести, где нашел ты самую низкую степень хлебопашества? Бесспорно, во Франции, где все собственники. Где высшую? Бесспорно, в Англии, где все – владельцы (ибо собственники, занимающиеся хлебопашеством, там исключение). Итак, владение, по-видимому, не мешает развитию хозяйства, точно так же как собственность не всегда бывает полезною для его развития47. […] Эта работа постоянного умничанья идет у нас со времен Петра безостановочно и беззапиночно. Какого она вздора насоздала! Теперь оглянись у нас, и ты увидишь, что все у нас ново и бескоренно: мы с тобою, т.е. дворяне, цехи, городское устройство, чиновничество во всех разветвлениях, выборы наши, просвещение наше с его прививным характером, наши привычки, все от альфы до омеги. Корень и основа – Кремль, Киев, Саров45 Не совсем точная терминология Хомякова. Более правильно – «средних веков». Несколько слов о философическом письме… С. 217. 47 О сельской общине // Хомяков А. С. Философские и богословские произведения. М. : КлубКниговек, 2013. С. 125. 46 30 ская пустынь, народный быт с его песнями и обрядами и по преимуществу община сельская. Признав основы, можно понять их развитие и, так сказать, разработку. Без них мы, как Франция, tabula rasa; но хуже, чем Франция, – мы предаемся умничанью своего малопросвещенного общества. Община есть одно уцелевшее учреждение всей русской истории. Отними его, не останется ничего; из его же развития может развиться целый гражданский мир48. Мне известны до сих пор в нерусской Европе только две формы сельского быта: одна английская, сосредоточение собственности в немногих руках; другая французская после революции, бесконечное дробление собственности. Все прочие формы относятся к этим двум как степени переходные, еще не дошедшие до своего крайнего развития. Первая очень выгодна для сельского хозяйства и усиливает до невероятности массу богатства, напрягая умственные способности селянина посредством конкуренции в найме и бросая капиталы на опытное усовершенствование земледельческой практики. Вот ее достоинство; но зато самая конкуренция, безземелие большинства и антагонизм капитала и труда доводят в ней по необходимости язву пролетарства до бесчеловечной и непременно разрушительной крайности. В ней страшные страдания и революция впереди49. Вторая форма, французская, дробление собственности, невыгодна для хозяйства, замедляет его развитие и во многих случаях (именно там, где нужны значительные силы для побеждения какой-нибудь преграды) делает его совершенно невозможным; но это неудобство считаю я не слишком значительным в сравнении с выгодами дробной собственности. Нет сомнения, что введение этой системы во Франции удаляет, а может быть, даже отстраняет навсегда нашествие пролетарства, ибо оно мало известно в сельском быту Франции и является только в виде исключения в некоторых слишком неблагодарных местностях. Нищета есть принадлежность городов французских, а не сел. Но зато эта форма имеет другой существенный недостаток, который в государственном отношении не лучше пролетарства: это полная разъединенность… От этого в нищенствующих селах Англии восстают беспрестанно сильные умы, которых деятельность отзывается на всю Англию; а в полях (селами их назвать нельзя) Франции человек так слаб и глуп, что от него не добьется общество ни одной мысли… Итак, община столько же выше английской фермы, которой бедствия она устраняет, сколько и французской, которая, избегая бобыльства физического, вводит бобыльство духовное и дает городам такой огромный и гибельный перевес над селом50. […] 48 О сельской общине… С. 127. Там же. С. 128. 50 Там же. С. 129. 49 31 Вот доказательство другое, более практическое и, по моему мнению, решительное. Ты признаешь (да и кто же в наше время может не признавать?), что общество должно пещись о своих бедных, также и всякая община. Естественное последствие такого признания: больницы, богадельни, налог в пользу неимущих и проч. …Во-первых, в пользу нашей общины должно заметить, что она почти не нуждается в средствах противунищенствующих, ибо сама отстраняет нищенство почти совершенно; а предварять зло всегда лучше, чем исправлять зло. Во-вторых, все другие противунищенствующие средства не годятся никуда. Налагая налог на имущих в пользу неимущих, что мы делаем? Даем одним право без обязанности, другим – обязанность без права. Право – неимущим, обязанность – имущим. Вторым слишком тяжело, и они должны естественно стремиться к тому, чтобы обязанность свою облегчать и неимущих держать в черном теле. Да и неимущим нелегко: они имеют право на корм; но это право есть в то же время страшное угнетение, ибо им никогда уже или почти никогда не будет возможности выбиться из нищеты, они осуждены на вечное пролетарство. И так учреждается борьба, в которой обе стороны должны роптать и страдать: отношение крайне безнравственное… Таковы неизбежные последствия всякого учреждения в пользу бедных мимо общины; при общине же нет ничего похожего на это. При ней возможна только временная нищета, ибо все члены суть товарищи и пайщики51. А. И. Герцен. «С того берега» У вас дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек… Свобода лица – величайшее дело; на ней, и только на ней может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее, как в ближнем, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что оставаться здесь – мое право, мой долг; это единственный протест, который может у нас сделать личность, эту жертву она должна принести своему человеческому достоинству. Ежели вы назовете мое удаление бегством и извините меня только вашей любовью, это будет значить, что вы еще не совершенно свободны. …По счастью, в Европе нравы и долгое развитие восполняют долею нелепые теории и нелепые законы. Люди, живущие здесь, живут на почве, удобренной двумя цивилизациями; путь, пройденный их предками в продолжении двух с половиною тысячелетий, не был напрасен, много человеческого выработалось независимо от внешнего устройства и официального порядка. В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости – некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на всю гнусность 51 О сельской общине… С. 130–131. 32 тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение… В этом уважении не к одной материальной, но и к нравственной силе, в этом невольном признании личности – один из великих человеческих принципов европейской жизни. В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку. У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине. Переворот Петра I заменил устарелое, помещичье управление Русью – европейским канцелярским порядком; все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписанное, нравственно обуздывающее власть, инстинктуальное признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло. Рабство у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выиграло; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо. Европейские формы администрации и суда, военного и гражданского устройства развились у нас в какой-то чудовищный, безвыходный деспотизм52. […] Мы с вами видели самое страшное развитие императорства. Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кое-как. Но не мало ли этого? Не пора ли развязать себе руки и слово для действия, для примера, не пора ли разбудить дремлющее сознание? А разве можно будить, говоря шепотом, дальними намеками, когда и крик и прямое слово едва слышны? Открытые, откровенные действия необходимы; 14 декабря так сильно потрясло всю молодую Русь оттого, что оно было на Исаакиевской площади. Теперь не токмо площадь, но книга, кафедра – все стало невозможно в России. Остается личный труд в тиши или личный протест издали53. […] Для русских за границей есть еще и другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад, и больше ничего; для этого знакомства обстоятельства превосходны, ей теперь как-то не идет гордиться и величаво завертываться в мантию пренебрегающего незнания; Европе не к лицу надменное игнорирование России… Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он стался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные пере52 Герцен А. И. С того берега // Русская философия: Имена. Учения. Тексты. М., 2001. С. 251–252. 53 Там же. С. 253. 33 вороты государственного развития; об народе, который так чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатырской натуры под гнетом крепостного состояния, и в ответ на царский приказ образоваться – ответил через сто лет громадным явлением Пушкина54. Тема 10. Культурно-исторические типы Н. Я. Данилевского – новое видение философии истории Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Типы цивилизаций и законы их развития. 2. Четыре сферы деятельности культурно-исторических типов. 3. Национальные особенности России. Н. Я. Данилевский. «Россия и Европа» ГЛАВА 5 Культурно-исторические типы и некоторые законы их движения и развития Начну прямо с изложения некоторых общих выводов или законов исторического развития, вытекающих из группировки его явлений по культурно-историческим типам. Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком или группой языков, довольно близких между собой для того, чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, – составляет самобытный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию и вышло уже из младенчества. Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурноисторическому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, пользовались политической независимостью. Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций. Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, тогда только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны этнографические элементы, его составляющие, – когда 54 Герцен А. И. С того берега… С. 254. 34 они, не будучи поглощены одним политическим целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию или политическую систему государств. Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения – относительно короток и истощает раз [и] навсегда их жизненную силу55. ГЛАВА 17 Славянский культурно-исторический тип Общих разрядов культурной деятельности, в обширном смысле этого слова, не могущих уже быть подведенным один под другой, которые мы должны, следовательно, признать за высшие категории деления, – насчитывается не более и не менее четырех, именно: 1) Деятельность религиозная, объемлющая собой отношения человека к Богу, – понятие человека о судьбах своих как нравственного неделимого в отношении к общим судьбам человечества и Вселенной, то есть, выражаясь более общими терминами: народное мировоззрение не как теоретическое, более или менее гадательное знание, во всяком случае, доступное только немногим, – а как твердая вера, составляющая живую основу всей нравственной деятельности человека. 2) Деятельность культурная, в тесном значении этого слова, объемлющая отношения человека к внешнему миру, во-первых, теоретическое, научное, во-вторых, эстетическое, художественное (причем, конечно, к внешнему миру причисляется и сам человек как предмет исследования, мышления и художественного воспроизведения), и, в-третьих, техническое, промышленное, то есть добывание и обработка предметов внешнего мира применительно к нуждам человека и сообразно с пониманием как этих нужд, так и внешнего мира достигнутым путем теоретическим. 3) Деятельность политическая, объемлющая собой отношения людей между собой как членов одного народного целого и отношения этого целого как единицы высшего порядка к другим народам. Наконец, 4) Деятельность общественно-экономическая, объемлющая собой отношения людей между собой не непосредственно как нравственных и политических личностей, а посредственно – применительно к условиям пользования предметами внешнего мира, следовательно, и добывания, и обработки их. Нам следует теперь рассмотреть, в какой мере каждый из культурноисторических типов, – жизнь которых составляет содержание всемирной истории, – проявлял свою деятельность по этим общим категориям, на которые эта деятельность разделяется, и каких достигал в ней результатов. 55 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М. : Институт русской цивилизации, 2008. С. 113–114. 35 Первые культуры: Египетскую, Китайскую, Вавилонскую, Индийскую и Иранскую мы можем, по всей справедливости, назвать первичными или аутохтонными, потому что они сами себя построили, так сказать, сосредоточив на разных точках земного шара слабые лучи первобытной догосударственной деятельности человечества. Они не проявили в особенности ни одной из только что перечисленных нами сторон человеческой деятельности, а были, так сказать, культурами подготовительными, имевшими своей задачей выработать те условия, при которых вообще становится возможной жизнь в организованном обществе56. […] Религия выделилась как нечто особенное и вместе высшее только в цивилизации Еврейской и была всепроницающим ее началом. Только религиозная деятельность еврейского народа осталась заветом его потомству. Религия эта была беспримесная, а только сама налагала на все свою печать, и все остальные стороны деятельности оставались в пренебрежении, и в них евреями не произведено ничего заслуживающего внимания их современников и потомства. В науке они даже не заимствовали ничего от своих соседей – вавилонян и египтян; из искусств процветала у них одна лишь религиозная поэзия; в других отраслях художественной деятельности, так же, как и в технике, они были столь слабы, что даже для постройки и украшения храма Иеговы – центра их народной жизни – должны были прибегнуть к помощи финикиян. Политическое устройство еврейского народа было до того несовершенно, что он не мог даже и охранять своей независимости не только против могущественных государств, как Вавилон, Ассирия, но даже против мелких ханаанских народов, и вся политическая их деятельность, так же, как и самое общественное экономическое устройство, составляли полное отражение их религиозных воззрений. Но зато религиозная сторона их жизни и деятельности была возвышенна и столь совершенна, что народ этот по справедливости называется народом богоизбранным, так как среди него выработалось то религиозное миросозерцание, которое подчинило себе самые высокие, развитые цивилизации и которому суждено было сделаться религией всех народов, единой, вечной, непреходящей ее формой… Следовательно, еврейский культурноисторический тип можем мы назвать не только преимущественно, но даже исключительно религиозным. Подобно тому, как еврейская культура была исключительно религиозна, – тип эллинский был типом культурным и притом преимущественно художественно-культурным. Перед этой стороной развития отступали все остальные на задний план. Можно даже сказать, что в самом психическом строе древних греков не было пригодной почвы, на которой могла бы развиваться экономическая, политическая и религиозная стороны человеческой деятельности. Этому столь богато одаренному в культурном отношении народу недоставало ни экономического, ни политического, ни религиозного смысла… 56 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 566–567. 36 В политическом отношении греки не могли даже возвыситься до сознания политического единства своего племени, хотя они и сознавали себя особой культурной единицей в противоположность всем остальным народам-варварам. Только персидская гроза при общей опасности зажгла в них общий греческий патриотизм, но и то весьма несовершенным образом. Спартанцы умышленно опоздали на Марафонское поле; Аргос и Виотия от страха покорились Ксерксу и не участвовали в борьбе против него; пелопоннесцы настаивали на том, чтобы предать в жертву врагам материковую Грецию и защищаться на Коринфском перешейке. Когда с исчезновением опасности прошел и патриотический энтузиазм, политическая история Греции обращается опять в историю внутренних раздоров и междоусобных войн по самым жалким и ничтожным причинам. Из-за своих эгоистических видов, из-за узкой идеи преобладания ищут спартанцы помощи персов. Заметим, что это делалось не во времена первобытной грубости и дикости нравов и не во времена упадка, а в самое цветущее время умственного развития греков… Подобным же образом и религиозное учение греков выказывает отсутствие истинного религиозного смысла и чувства. Их религиозное мировоззрение – одно из самых мелких и жалких и совершенно недостойно народа, занимающего такое высокое место в философском мышлении. Из трех сторон религии, которыми она удовлетворяет трем сторонам человеческого духа – догматики, этики и культа, – только этот последний, соответственно художественной организации греков, имеет действительное значение. Догматика их не представляет ни глубины, ни стройности, собственно говоря, не имеет даже никакого содержания, ибо не заключает в себе ни метафизики, ни космогонии, ни учения о духовной сущности мира, ни теории его происхождения… Сообразно с этой бедностью догматического содержания и этическая сторона не имеет почвы, основания. Она не представляет нам свода нравственных правил, освященных высшим божественным авторитетом, который служил бы непреложным руководством в практической деятельности. История похождений их божеств, которая могла бы заменить нравственный кодекс живым примером, есть скорее школа безнравственности и соблазна. Во всех этих отношениях религия греков не может выдержать никакого сравнения ни с философским пантеизмом браманизма, где под грубыми формами всегда скрывается глубокий смысл, ни с глубокой метафизикой буддизма, ни с возвышенным учением Зороастра, ни со строгим единобожием магометанства57. […] Столь же односторонен, как греческий и еврейский культурноисторические типы, был и тип римский, развивший и осуществивший с успехом одну лишь политическую сторону человеческой деятельности. Политический смысл римлян не имеет себе подобного. Небольшое зерно 57 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 568–571. 37 кристаллизирует около себя племена Лациума и подчиняет себе малопомалу, – постепенно, систематически, а не завоевательными порывами, – весь бассейн Средиземного моря и всю западную европейскую окраину Атлантического океана. Свободолюбивые римляне никогда, однако же, не теряют дара повиновения, дара подчинения своей личной воли воле общей, для воплощения которой среди республики оставляется ими место для диктатуры, которая у них – не политическая случайность, зависевшая от преобладания, приобретаемого честолюбивым дарованием, а правильный институт, имеющий вступать в действие при известных обстоятельствах. Этого мало. Сообразно возрастанию государства они изменяют форму правления, переменяя республику на империю, которая делается учреждением вполне народным, держащимся не внешней силой, ибо сколько было слабых, ничтожных императоров, – а волей народной, инстинктивно чувствовавшей необходимость империи для поддержания разросшегося государства в трудные и опасные времена. Взаимные отношения граждан определяются, в продолжение государственной жизни Рима, самым точным и полным образом и составляют собой совершеннейший кодекс Гражданских законов. […] Сказанное о религии греков относится вполне и к римлянам. Она также бедна внутренним содержанием, лишена глубокого догматического и этического содержания и смысла, также лишена Священного Писания; и только по этой бессодержательности мог Рим относиться с таким индифферентизмом ко всей религиозной форме, так что боги всех покоренных народов становились и его богами, национальные божества римлян слились с божествами Греции, став, так сказать, их переводами – Юпитер сделался синонимом Зевса, Нептун – Посейдона и так далее… Посему те только учения, которые не могли подчиниться такому политическому взгляду на религию, последователи которых не могли поклоняться обожествленному Римскому государству, готовому под этим условием усыновить себе предмет их специального поклонения, претерпевали религиозное гонение. Таким образом, цивилизации, последовавшие за первобытными аутохтонными культурами, развили каждая только одну из сторон культурной деятельности: Еврейская – сторону религиозную, Греческая – собственно культурную, а Римская – политическую. Поэтому мы должны характеризовать культурно-исторические типы: еврейский, греческий и римский – именем типов одноосновных. Дальнейший исторический прогресс мог и должен был преимущественно заключаться как в развитии четвертой стороны культурной деятельности – общественно-экономической, – так и в достижении большей многосторонности посредством соединения в одном и том же культурном типе нескольких сторон культурной деятельности, проявлявшихся доселе раздельно. На эту более широкую дорогу, более сложную ступень развития и выступил тот тип, который под именем европейского, или германо- 38 романского, главнейшим образом занял историческую сцену после распадения Западной Римской империи58. […] Напротив того, с политической и собственно так называемой культурной стороны результаты исторической жизни Европы громадны. Народы Европы не только основали могущественные государства, распространившие власть свою на все части света, но и установили отвлеченноправомерные отношения как граждан между собой, так и граждан к государству. Другими словами, они успели соединить политическое могущество государства с его внутренней свободой, то есть решили в весьма удовлетворительной степени обе стороны политической задачи. Если свобода эта не дает на практике ожидавшихся и ожидаемых еще результатов, то это зависит от неразрешения или неправильного решения задачи иного, именно общественно-экономического порядка. Хотя, конечно, различные народы Европы не в одинаковой степени обладают этим политическим смыслом, однако же последние события доказали, что и те из них, которые долго не могли устроить своего политического положения, как итальянцы и немцы, – достигли, однако же, наконец, или, по крайней мере, весьма приблизились к достижению политического единства – первого и необходимого условия политического могущества. Еще выше и обильнее плоды европейской цивилизации в собственно культурном отношении. Методы и результаты европейской науки находятся вне всякого сравнения с совершенным всеми остальными культурными типами, не исключая даже греческого. Таковы же плоды и промышленной, технической деятельности. Со стороны искусства, хотя народы Европы и должны уступить пальму первенства грекам по степени совершенства достигнутых результатов, они, однако же, значительно расширили его область и проложили в ней новые пути. По всем этим причинам должны мы усвоить за германо-романским культурно-историческим типом название двуосновного политико-культурного типа с преимущественно научным и промышленным характерами культуры в тесном смысле этого слова59. Тема 11. «Агрессивная Россия» глазами Европы – ответ Западу Н. Я. Данилевского Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Почему Европа не любит и боится Россию? Версия Н. Я. Данилевского. 2. Начало XXI в.: что изменилось в отношениях России и Европы? 58 59 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 572–574. Там же. С. 575–576. 39 Н. Я. Данилевский. «Россия и Европа» ГЛАВА II Почему Европа враждебна России? «Взгляните на карту, – говорил мне один иностранец, – разве мы можем не чувствовать, что Россия давит на нас своей массой, как нависшая туча, как какой-то грозный кошмар?» Да, ландкартное давление действительно существует, но где же оно на деле, чем и когда выражалось? Франция при Людовике XIV и Наполеоне, Испания при Карле V и Филиппе II, Австрия при Фердинанде II действительно тяготели над Европой, грозили уничтожить самостоятельное, свободное развитие различных ее национальностей, и большого труда стоило ей освободиться от такого давления. Но есть ли что-нибудь подобное в прошедшей истории России? Правда, не раз вмешивалась она в судьбы Европы, но каков был повод к этим вмешательствам? В 1799, в 1805, в 1807 годах сражалась русская армия с разным успехом не за русские, а за европейские интересы. Из-за этих же интересов, для нее, собственно, чуждых, навлекла она на себя грозу Двенадцатого года; когда же смела с лица земли полумиллионную армию и этим одним, казалось бы, уже довольно послужила свободе Европы, она не остановилась на этом, а, вопреки своим выгодам, – таково было в 1813 году мнение Кутузова и вообще всей так называемой русской партии, – два года боролась за Германию и Европу и, окончив борьбу низвержением Наполеона, точно так же спасла Францию от мщения Европы, как спасла Европу от угнетения Франции. Спустя тридцать пять лет она опять едва ли не вопреки своим интересам спасла от конечного распадения Австрию, считаемую, справедливо или нет, краеугольным камнем политической системы европейских государств. Какую благодарность за все это получала она как у правительств, так и у народов Европы, – всем хорошо известно, но не в этом дело. Вот, однако же, все, чем ознаменовалось до сих пор деятельное участие России в делах Европы, за единственным разве исключением бесцельного вмешательства в Семилетнюю войну. Но эти уроки истории никого не вразумляют. Россия, – не устают кричать на все лады, – колоссальное завоевательное государство, беспрестанно расширяющее свои пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и независимости Европы. Это – одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия будто бы представляет собой нечто вроде политического Аримана, какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе. Много ли во всем этом справедливого? Посмотрим сначала на завоевательность России. Конечно, Россия не мала, но большую часть ее пространства занял русский народ путем свободного расселения, а не государственного завоевания60. […] 60 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 32–34. 40 Вся страна была или пустыней, или заселена полудикими финскими племенами и кочевниками; следовательно, ничто не препятствовало свободному расселению русского народа, продолжавшемуся почти во все первое тысячелетие его истории при полном отсутствии исторических наций, которые надлежало бы разрушать и попирать ногами, чтобы занять их место. Никогда занятие народом предназначенного ему исторического поприща не стоило меньше крови и слез. Он терпел много неправд и утеснений от татар и поляков, шведов и меченосцев, но сам никого не утеснял, если не назовем утеснением отражения несправедливых нападений и притязаний. Воздвигнутое им государственное здание не основано на костях попранных народностей. Он или занимал пустыни, или соединял с собой путем исторической, нисколько не насильственной ассимиляции такие племена, как чудь, весь, меря или как нынешние зыряне, черемисы, мордва, не заключавшие в себе ни зачатков исторической жизни, ни стремлений к ней; или, наконец, принимал под свой кров и свою защиту такие племена и народы, которые, будучи окружены врагами, уже потеряли свою национальную самостоятельность или не могли долее сохранять ее, как армяне и грузины. Завоевание играло во всем этом самую ничтожную роль, как легко убедиться, проследив, каким образом достались России ее западные и южные окраины, слывущие в Европе под именем завоеваний ненасытимо алчной России. Но прежде надо согласиться в значении слова «завоевание». Завоевание есть политическое убийство или, по крайней мере, политическое изувечение; так как, впрочем, первое из этих выражений употребляется совершенно в ином смысле, скажем лучше: национальное, народное убийство или изувечение. Хотя определение это метафорическое, тем не менее оно верно и ясно61. […] После этого небольшого отступления, необходимого для уяснения понятия о завоевании, начнем наш обзор с северо-западного угла Русского государства, с Финляндии, – прямо с одного из политических преступлений, в которых нас укоряет Европа. Было ли тут завоевание в том именно значении национального убийства, которое придает ему ненавистный, преступный характер? Без сомнения, нет, так как не было и национальности, которую лишили бы при этом своего самостоятельного существования или изувечили отделением какой-либо составной ее части. Финское племя, населяющее Финляндию, подобно всем прочим финским племенам, рассеянным по пространству России, никогда не жило исторической жизнью… Россия вела войну с Швецией, которая с самого Ништадтского мира не могла привыкнуть к мысли об уступке того, что по всем правам принадлежало России, и искала всякого, по ее мнению, удобного случая возобновить эту войну и возвратить свои прежние завоевания. Россия победила и приобрела право на вознаграждение денежное, земельное или другое, лишь бы оно не простиралось на часть самой Швеции; ибо национальная 61 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 35. 41 территория не отчуждаема и никакие договоры не могут освятить в сознании народа такого отчуждения, пока отчужденная часть не потеряет своего национального характера. Тогда, конечно, но только тогда, приходится покориться невозвратно. Но мало сказать, что присоединением Финляндии от Швеции к России ничьи существенные права не были нарушены; выгоды самой Финляндии, т.е. финского народа, ее населяющего, более, чем выгоды России, требовали перемены владычества. Государство столь могучее, как Россия, могло в значительной мере отказаться от извлечения выгод из приобретенной страны; народность столь могучая, как русская, могла без вреда для себя предоставить финской народности полную этнографическую самостоятельность. Русское государство и русская народность могли довольствоваться малым; им было достаточно иметь в северозападном углу своей территории нейтральную страну и доброжелательную народность вместо неприятельского передового поста и господства враждебных шведов. Государство и народность русская могли обойтись без полного слияния с собой страны и народности финской, к чему, конечно, по необходимости, должна была стремиться слабая Швеция, в отношении к которой Финляндия составляла три четверти ее собственного пространства и половину ее населения. И действительно, только со времени присоединения Финляндии к России начала пробуждаться финская народность и достигла наконец того, что за языком ее могла быть признана равноправность со шведским в отношении университетского образования, администрации и даже прений на сейме62. […] Не может ли, однако, самое Царство Польское называться завоеванием России, так как в силу выше данного определения тут было, по-видимому, национальное убийство?.. Раздел Польши считается во мнении Европы величайшим преступлением против народного права, совершенным в новейшие времена, и вся тяжесть его взваливается на Россию. И это мнение не газетных крикунов, не толпы, а мнение большинства передовых людей Европы. В чем же, однако, вина России? Западная ее половина во время татарского господства была покорена Литвой, вскоре обрусевшей, затем через посредство Литвы – сначала случайно (по брачному союзу), а потом насильственно (Люблинской унией) – присоединена к Польше. Восточная Русь никогда не мирилась с таким положением дел. Об этом свидетельствует непрерывный ряд войн, перевес в которых сначала принадлежал большей частью Польше, а со времени Хмельницкого и воссоединения Малороссии окончательно перешел к России. При Алексее Михайловиче Россия не имела еще счастья принадлежать к политической системе европейских государств, и потому у ней были развязаны руки, и она была единственным судьей в своих делах. В то время произошел первый раздел Польши. Россия, никого не спрашиваясь, взяла из свое62 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 38–39. 42 го, что могла, – Малороссию по левую сторону Днепра, Киев и Смоленск, взяла бы и больше, если бы надежды на польскую корону не обманули царя и заставили упустить благоприятное время. Раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия, мог бы совершиться уже тогда, – с лишком за сто лет ранее, чем он действительно совершился, и, конечно, с огромной для России пользой, ибо тогда не бродили еще гуманитарные идеи в русских головах… Как бы то ни было, дело не было окончено, а едва только начато при Алексее, и раз упущенное благоприятное время возвратилось не ранее как через сто лет, при Екатерине II. Но почему же то, что было законно в половине XVII века, становится незаконным к концу XVIII? Самый повод к войне при Алексее одинаков, – все то же утеснение православного населения, взывавшего о помощи к родной России. И если справедливо было возвратить Смоленск и Киев, то почему же было несправедливо возвратить не только Вильну, Подолию, Полоцк, Минск, но даже Галич, который, к несчастью, вовсе не был возвращен? А ведь в этом единственно и состоял раздел Польши, насколько в нем участвовала Россия! Форма была, правда, иная. В эти сто лет Россия имела счастье вступить в политическую систему европейских государств, и руки ее были связаны. Свое ли, не свое родовое достояние ты возвращаешь, как бы говорили ей соседи, нам все равно; только ты усиливаешься, и нам надобно усилиться на столько же. Положение было таково, что Россия не имела возможности возвратить по праву ей принадлежащего, не допуская в то же время Австрию и Пруссию завладеть собственно Польшей и даже частью России – Галичем, на что ни та, ни другая, конечно, не имели ни малейшего права… Но не рисковать же было России из-за этого войной с Пруссией и Австрией! Не очевидно ли, что все, что было несправедливо в разделе Польши, – так сказать, убийство польской национальности, – лежит на совести Пруссии и Австрии, а вовсе не России, удовольствовавшейся своим достоянием, возвращение которого не только составляло ее право, но и священнейшую обязанность. Или найдутся, быть может, гуманитарные головы, которые скажут, что великодушие требовало от России скорее отказаться от принадлежащего ей по праву, чем согласиться на уничтожение самой Польши? Ведь это все, чем можно упрекнуть Россию, став на самую донкихотскую точку зрения. Такой образ действий был бы, пожалуй, возможен, если бы Польша иначе поступала со своими русскими и православными подданными; в данных же обстоятельствах это было бы смешным и жалким великодушничаньем на чужой счет63. […] Все южно-русские степи также были вырваны из рук турок. Степи эти принадлежат к Русской равнине. Спокон века, еще со времен Святослава, боролись за них с ордами кочевников сначала русские князья, потом русские казацкие общины и русские цари. Зачем же и с какого права занесло сюда турецкую власть, покровительствовавшую хищническим набегам? То же должно сказать и о Крымском полуострове, хотя и не принад63 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 42–44. 43 лежавшем исстари к России, но послужившем убежищем не только ее непримиримым врагам, но врагам всякой гражданственности, которые делали из него набеги при всяком удобном случае, пожигали огнем и посекали мечом южные русские области до самой Москвы. Можно, пожалуй, согласиться, что здесь было завоевано государство, лишена своей самостоятельности народность; но какое государство и какая народность? Если я назвал всякое вообще завоевание национальным убийством, то в этом случае это было такое убийство, которое допускается и Божескими и человеческими законами, – убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны и вместе в виде справедливой казни. Остается еще Кавказ. Под этим многообъемлющим именем надобно отличать в рассматриваемом здесь отношении закавказские христианские области, закавказские магометанские области и кавказских горцев. Мелкие закавказские христианские царства еще со времен Грозного и Годунова молили о русской помощи и предлагали признать русское подданство. Но только император Александр I в начале своего царствования, после долгих колебаний, согласился наконец исполнить это желание, убедившись предварительно, что грузинские царства, донельзя истомленные вековой борьбой с турками, персиянами и кавказскими горцами, не могли вести долее самостоятельного существования и должны были или погибнуть, или присоединиться к единоверной России. Делая этот шаг, Россия знала, что принимает на себя тяжелую обузу, хотя, может быть, не предугадывала, что она будет так тяжела, что она будет стоить ей непрерывной шестидесятилетней борьбы. Как бы то ни было, ни по сущности дела, ни по его форме тут не было завоевания, а было подание помощи изнемогавшему и погибавшему. Прежде всего это вовлекло Россию в двукратную борьбу с Персией, причем не Россия была зачинщицей. В течение этой борьбы ей удалось освободить некоторые христианские населения от двойного ига мелких владетельных ханов и персидского верховенства. С этим вместе были покорены магометанские ханства: Кубанское, Бакинское, Ширванское, Шекинское, Ганджинское и Талышенское, составляющие теперь столько же уездов, и Эриванская область. Назовем, пожалуй, это завоеваниями, хотя завоеванные через это только выиграли. Не столь довольны, правда, русским завоеванием кавказские горцы64. […] О Сибири и говорить нечего. Какое тут, в самом деле, завоевание? Где тут завоеванные народы и покоренные царства? Стоит лишь счесть, сколько в Сибири русских и сколько инородцев, чтобы убедиться, что большей частью это было занятие пустопорожнего места, совершенное (как показывает история) казацкой удалью и расселением русского народа почти без содействия государства… Итак, в завоеваниях России все, что можно при разных натяжках назвать этим именем, ограничивается Туркестанской областью, Кавказ64 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 49–51. 44 ским горным хребтом, пятью-шестью уездами Закавказья и, если угодно, еще Крымским полуостровом. Если же разбирать дело по совести и чистой справедливости, то ни одно из владений России нельзя называть завоеванием – в другом, антинациональном и потому ненавистном для человечества смысле. Много ли государств, которые могут сказать про себя то же самое? Англия у себя под боком завоевала независимое Кельтское государство, – и как завоевала! – отняла у народа право собственности на его родную землю, голодом заставила его выселяться в Америку, а на расстоянии чуть не полуокружности Земли покорила царства и народы Индии в числе почти двухсот миллионов душ; отняла Гибралтар у Испании, Канаду – у Франции, мыс Доброй Надежды – у Голландии и т.д. 65 Тема 12. «Европейничанье» в России Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Три вида «европейничанья» в России в концепции Н. Я. Данилевского. 2. Начало XXI в.: что изменилось? Н. Я. Данилевский. «Россия и Европа» ГЛАВА XI Европейничанье – болезнь русской жизни Болезнь эту, вот уже полтора столетия заразившую Россию, все расширяющуюся и укореняющуюся и только в последнее время показавшую некоторые признаки облегчения, приличнее всего, кажется мне, назвать европейничаньем; и коренной вопрос, от решения которого зависит вся будущность, вся судьба не только России, но и всего Славянства, заключается в том, будет ли эта болезнь иметь такой доброкачественный характер, которым отличались и внесение государственности иноплеменниками русским славянам, и татарское данничество, и русская форма феодализма; окажется ли эта болезнь прививкой, которая, подвергнув организм благодетельному перевороту, излечится, не оставив за собой вредных неизгладимых следов, подтачивающих самую основу народной жизненности. Сначала рассмотрим симптомы этой болезни, по крайней мере, главнейшие из них, а потом уже оглянемся кругом, чтобы посмотреть – не приготовлено ли и для нее лекарства, не положена ли уже секира у корня ее. Все формы европейничанья, которыми так богата русская жизнь, могут быть подведены под следующие три разряда: 1) Искажение народного быта и замен форм его формами чуждыми, иностранными; искажение и замен, которые, начавшись с внешности, не могли не проникнуть в самый внутренний строй понятий и жизни высших слоев общества – и не проникать все глубже и глубже. 65 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 52–53. 45 2) Заимствование разных иностранных учреждений и пересадка их на русскую почву – с мыслью, что хорошее в одном месте должно быть и везде хорошо. 3) Взгляд как на внутренние, так и на внешние отношения и вопросы русской жизни с иностранной, европейской точки зрения, рассматривание их в европейские очки, так сказать, в стекла, поляризованные под европейским углом наклонения, причем нередко то, что должно бы нам казаться окруженным лучами самого блистательного света, является совершенным мраком и темнотой, и наоборот66. […] У нас начал уже образовываться естественный и притом весьма разнообразный стиль в постройке церквей, и, хотя бы их строили иностранцы, они непременно должны были сообразоваться с народными требованиями; их не допустили бы иначе до постройки. Если наши церкви по своим размерам и архитектурному великолепию не могут соперничать с готическими соборами Северной Европы или с храмами Италии, то опять-таки по недостатку технической опытности и даже по недостатку материальных средств для возведения столь громадных зданий. Но если бы, по приобретении тех и других, сохранились в высших классах русского народа древние формы быта, а, следовательно, вкуса и потребностей, то, конечно, наши города и села не были бы усеяны миниатюрными карикатурами собора Св. Петра в Риме, а воздвигались бы храмы в самобытном русском стиле – тех размеров и того богатства подробностей, которые допускались бы усилением денежных и приобретением технических средств. Если бы продолжали существовать старинные формы быта, мы точно так же не допускали бы бравурных арий и концертов, похожих на отрывки из опер, во время богослужения, как (благодаря положительным церковным постановлениям) не допускаем оргáнов в церквах. Во всех этих отношениях мы были бы старообрядцами, только старообрядцами, вооруженными всеми техническими средствами, которыми владеет западное искусство, и потому из этого старого произошло бы что-нибудь действительно новое67. […] Вследствие изменения форм быта русский народ раскололся на два слоя, которые отличаются между собой с первого взгляда по самой своей наружности. Низший слой остался русским, высший сделался европейским – европейским до неотличимости. Но высшее, более богатое и образованное, сословие всегда имеет притягательное влияние на низшие, которые невольно стремятся с ним сообразоваться, уподобиться ему, сколько возможно. Поэтому в понятии народа невольно слагается представление, что свое русское есть (по самому существу своему) нечто худшее, низшее. Всякому случалось, я думаю, слышать выражения, в которых с эпитетом русский соединялось понятие низшего, худшего: русская лошаденка, русская овца, русская курица, русское кушанье, русская песня, русская сказка, 66 67 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 320–321. Там же. С. 326–327. 46 русская одежда и т.д. Все, чему придается это название русского, считается как бы годным лишь для простого народа, не стоящим внимания людей более богатых или образованных. Неужели такое понятие не должно вести к унижению народного духа, к подавлению чувства народного достоинства?.. А между тем это самоунижение очевидно коренится в том обстоятельстве, что все, выходящее (по образованию, богатству, общественному положению) из рядов массы, сейчас же рядится в чужеземную обстановку68. […] 2) Вторая форма европейничанья, сказал я, заключается в стремлении переносить чужеземные учреждения на русскую почву – с мыслью, что все хорошее на Западе непременно так же будет хорошо и у нас. Таким образом были пересажены к нам разные немецкие бюрократические порядки, городовое устройство и т.д. Чтобы разобрать все эти пересадки и все вредное влияние их на русскую жизнь, надо бы исписать целый том, к чему я не чувствую ни малейшего в себе призвания – да нет и большой надобности в подобном труде, так как опыт достаточно показал, что они у нас не принимаются, засыхают на корню и беспрестанно требуют нового подвоза; и, напротив того, тот же опыт достаточно красноречиво говорит, что те изменения в нашей общественной и государственной жизни, которые вытекают из внутренних потребностей народных, принимаются необыкновенно успешно и скоро так разрастаются, что заглушают чахлые пересадки. Так, величайшая историческая реформа нынешнего царствования, возвратившая русскому народу его исконную свободу (в новизне которой повиделась нашим старообрядцам знакомая им старина), не была произведена по западному или остзейскому образцу, а по самобытному плану, упрочившему народное благо на многие и многие веки69. […] 3) Третья форма европейничанья (и притом самая пагубная и вредная) состоит в смотрении на явления внутренней и внешней жизни России с европейской точки зрения и сквозь европейские очки. Этот взгляд, во что бы то ни стало старающийся подводить явления русской жизни под нормы жизни европейской, делая это или бессознательно (вследствие иссякновения самобытного родника русской мысли), или даже сознательно (с тем, чтобы придать этим явлениям почет и достоинство, которого они были бы будто лишены, если бы не имели европейского характера), произвел много недоумения и всяческой путаницы в области науки и неисчислимый вред на практике. Мы не будем рассматривать следствий первого рода, а обратим внимание на некоторые только примеры, в которых выказалось (или необходимо должно выказаться) вредоносное влияние этого вида европейничанья на внутренней и внешней жизни России70. […] 68 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 329–330. Там же. С. 333. 70 Там же. С. 345. 69 47 Но и нигилизм, и аристократизм, и демократизм, и конституционализм составляют только весьма частные проявления нашего европейничанья; самый общий вид его, по-видимому менее зловредный, – в сущности же, гораздо опаснейший из всех, есть наше балансирование перед общественным мнением Европы, которую мы признали своим судьей, перед решением которого трепещем, милость которого заискиваем. Такое отношение к иностранному общественному мнению, даже если бы оно не было радикально-враждебным всему русскому, не может не лишить нас всякой свободы мысли, всякой самодеятельности. Мы уподобляемся тем франтам, которые, любя посещать общество, не имеют уверенности в светскости своих манер. Постоянно находясь под гнетом заботы, чтобы их позы, жесты, движения, походка, костюм, взгляды, разговоры отличались бонтонностью и комильфотностью, – они, даже будучи ловки и неглупы от природы, ничего не могут сделать, кроме неловкостей, ничего сказать, кроме глупостей. Не то же ли самое и с нашими общественными деятелями, беспрестанно оглядывающимися и прислушивающимися к тому, что скажет Европа; признает ли действия их достойными просвещенного европеизма? Фамусов, ввиду бесчестия своей дочери, восклицает: «Что скажет княгиня Марья Алексеевна!», – и этим обнаруживает всю глубину своего нравственного ничтожества. Мы возвели Европу в сан нашей общей Марьи Алексеевны, верховной решительницы достоинства наших поступков. Вместо одобрения народной совести признали мы нравственным двигателем наших действий трусливый страх перед приговорами Европы, унизительно-тщеславное удовольствие от ее похвал. Возьмем определенный, всем известный пример. Европа обвиняет нас в честолюбивых видах на Константинополь, и мы стыдимся этого обвинения, как будто и в самом деле какого-нибудь дурного поступка. Англия завладела чуть не всеми проливами на земном шаре; неизвестно с какой стати захватила скалу на испанской территории71, господствующую над входом в Средиземное море; а по отношению к нам считается непозволительным хищничеством добиваться свободного входа в наш собственный дом, обладание которым притом сопряжено с лежащей на нас нравственной обязанностью – выгнать турок из славянской и греческой земли. Мы, конечно, можем утверждать факт, что в данное время не имеем этого намерения, как действительно не имели перед восточной войной, как, к сожалению, не имеем (без сомнения) и теперь; но становиться на европейскую точку зрения и видеть в самом желании овладеть Царьградом, выгнать турок, освободить славян какое-то посягательство на права Европы – это непростительное нравственное унижение. Я не говорю здесь о языке дипломатии (у нее свой условный язык, своя условная политическая нравственность: ей приходится с волками жить – по-волчьи выть), а имею в виду только выражение русского общественного мнения. 71 Имеется в виду Гибралтар. 48 И французская дипломатия не говорит о Рейнской границе, но это не мешает французскому общественному мнению свободно выражать свои мысли и желания об этом предмете, хотя законность их подлежит гораздо большему сомнению, чем законность желаний России72. Тема 13. Смысл любви в философской концепции В. С. Соловьева (по работе «Смысл любви») Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Человек в философии В. С. Соловьева. 2. Смысл любви в модели философа. 3. Три уровня человеческой любви. В. С. Соловьев. «Смысл любви» Статья первая Обыкновенно смысл половой любви полагается в размножении рода, которому она служит средством. Я считаю этот взгляд неверным – не на основании только каких-нибудь идеальных соображений, а прежде всего на основании естественноисторических фактов. Что размножение живых существ может обходиться без половой любви, это ясно уже из того, что оно обходится без самого разделения на полы. Значительная часть организмов как растительного, так и животного царства размножается бесполым образом: делением, почкованием, спорами, прививкой. Правда, высшие формы обоих органических царств размножаются половым способом. Но, во-первых, размножающиеся таким образом организмы, как растительные, так отчасти и животные, могут также размножаться и бесполым образом (прививка у растений, партеногенезис у высших насекомых), а вовторых, оставляя это в стороне и принимая как общее правило, что высшие организмы размножаются при посредстве полового соединения, мы должны заключить, что этот половой фактор связан не с размножением вообще (которое может происходить и помимо этого), а с размножением высших организмов. Следовательно, смысла половой дифференциации (и половой любви) следует искать никак не в идее родовой жизни и ее размножении, а лишь в идее высшего организма73. […] 72 Данилевский Н. Я. Россия и Европа… С. 352–353. Собрание сочинений В. С. Соловьева : в 10 т. Т. 7 (1892–1897). СПб. : Просвещение, 1914. С. 3. 73 49 Статья вторая Смысл человеческой любви вообще есть оправдание и спасение индивидуальности чрез жертву эгоизма. На этом общем основании мы можем разрешить и специальную нашу задачу: объяснить смысл половой любви74. […] Всякая любовь есть проявление этой способности, но не всякая осуществляет ее в одинаковой степени, не всякая одинаково радикально подрывает эгоизм. Эгоизм есть сила не только реальная, но основная, укоренившаяся в самом глубоком центре нашего бытия и оттуда проникающая и обнимающая всю нашу действительность, – сила непрерывно действующая во всех частностях и подробностях нашего существования. Чтобы настоящим образом подорвать эгоизм, ему необходимо противопоставить такую же конкретно-определенную и все наше существо проникающую, все в нем захватывающую любовь75. […] Любовь родительская – в особенности материнская – и по силе чувства, и по конкретности предмета приближается к любви половой, но по другим причинам не может иметь равного с нею значения для человеческой индивидуальности… Во всяком случае несомненно, что в материнской любви не может быть полной взаимности и жизненного общения уже потому, что любящая и любимые принадлежат к разным поколениям, что для последних жизнь – в будущем с новыми, самостоятельными интересами и задачами, среди которых представители прошедшего являются лишь как бледные тени. Достаточно того, что родители не могут быть для детей целью жизни в том смысле, в каком дети бывают для родителей. Мать, полагающая всю свою душу в детей, жертвует, конечно, своим эгоизмом, но она вместе с тем теряет и свою индивидуальность, а в них материнская любовь если и поддерживает индивидуальность, то сохраняет и даже усиливает эгоизм. Помимо этого в материнской любви нет, собственно, признания безусловного значения за любимым, признания его истинной индивидуальности, ибо для матери хотя ее детище дороже всего, но именно только как ее детище, не иначе, чем у прочих животных, т.е. здесь мнимое признание безусловного значения за другим в действительности обусловлено внешнею физиологическою связью. Еще менее могут иметь притязание заменить половую любовь остальные роды симпатических чувств. Дружбе между лицами одного и того же пола недостает всестороннего формального различия восполняющих друг друга качеств, и если тем не менее эта дружба достигает особенной интенсивности, то она превращается в противоестественный суррогат половой любви. Что касается до патриотизма и любви к человечеству, то эти чувства, при всей своей важности, сами по себе жизненно и упразднить эгоизм не могут, по несоизмеримости с любимым: ни человечество, 74 75 Собрание сочинений В. С. Соловьева… С. 16. Там же. С. 18. 50 ни даже народ не могут быть для отдельного человека таким же конкретным предметом, как он сам. Пожертвовать свою жизнь народу или человечеству, конечно, можно, но создать из себя нового человека, проявить и осуществить истинную человеческую индивидуальность на основе этой экстенсивной любви невозможно. Здесь в реальном центре все-таки остается свое старое эгоистическое я, а народ и человечество относятся на периферию сознания как предметы идеальные. То же самое должно сказать о любви к науке, искусству и т.п.76 Статья четвертая Для человека как животного совершенно естественно неограниченное удовлетворение своей половой потребности посредством известного физиологического действия, но человек, как существо нравственное, находит это действие противным своей высшей природе и стыдится его... Как животному общественному человеку естественно ограничивать физиологическую функцию, относящуюся к другим лицам, требованиями социально-нравственного закона. Этот закон извне ограничивает и закрывает животное отправление, делает его средством для социальной цели – образования семейного союза. Но существо дела от этого не изменяется. Семейный союз основан все-таки на внешнем материальном соединении полов, он оставляет человека-животное в его прежнем дезинтегрированном, половинчатом состоянии, которое необходимо ведет к дальнейшей дезинтеграции человеческого существа, т.е. к смерти. Если бы человек сверх своей животной природы был только существом социально-нравственным, то из этих двух противоборствующих элементов одинаково для него естественных – окончательное торжество оставалось бы за первым. Социально-нравственный закон и его основная объективация – семья вводит животную природу человека в границы, необходимые для родового прогресса, они упорядочивают смертную жизнь, но не открывают пути бессмертия. Индивидуальное существо так же истощается и умирает в социально-нравственном порядке жизни, как если бы оно оставалось исключительно под законом жизни животной… Прежде физиологического соединения в животной природе, которое ведет к смерти, и прежде законного союза в порядке социально-нравственном, который от смерти не спасает, должно быть соединение в Боге, которое ведет к бессмертию, потому что не ограничивает только смертную жизнь природы человеческим законом, а перерождает ее вечною и нетленною силою благодати. Этот третий, а в истинном порядке – первый элемент с присущими ему требованиями совершенно естествен для человека в его целости как существа, причастного высшему божественному началу и посредствующего между ним и миром. А два низшие элемента – животная природа и социальный закон, – также естественные на своем месте, становятся проти76 Собрание сочинений В. С. Соловьева… С. 20–21. 51 воестественными, когда берутся отдельно от высшего и полагаются вместо него. В области половой любви противоестественно для человека не только всякое беспорядочное, лишенное высшего, духовного освящения удовлетворение чувственных потребностей наподобие животных (помимо разных чудовищных явлений половой психопатии), но так же недостойны человека и противоестественны и те союзы между лицами разного пола, которые заключаются и поддерживаются только на основании гражданского закона, исключительно для целей морально-общественных, с устранением или при бездействии собственно духовного, мистического начала в человеке. Но именно такая противоестественная, с точки зрения цельного человеческого существа, перестановка этих отношений и господствует в нашей жизни и признается нормальной77… […] Переходя к изложению основных моментов в процессе осуществления истинной любви, т.е. в процессе интеграции человеческого существа или восстановления в нем образа Божия, я предвижу недоумение многих: зачем забираться на такие недоступные и фантастические высоты по поводу такой простой вещи, как любовь? Если бы я считал религиозную норму любви фантастическою, то я, конечно, и не предлагал бы ее. Точно так же, если б я имел в виду только простую любовь, т.е. обыкновенные, заурядные отношения между полами, – то, что бывает, а не то, что должно быть, – то я, конечно, воздержался бы от всяких рассуждений по этому предмету, ибо, несомненно, эти простые отношения принадлежат к тем вещам, про которые кто-то сказал: нехорошо это делать, но еще хуже об этом разговаривать. Но любовь, как я ее понимаю, есть, напротив, дело чрезвычайно сложное, затемненное и запутанное, требующее вполне сознательного разбора и исследования, при котором нужно заботиться не о простоте, а об истине... Гнилой пень, несомненно, проще многоветвистого дерева, и труп проще живого человека. Простое отношение к любви завершается тем окончательным и крайним упрощением, которое называется смертью. Такой неизбежный и неудовлетворительный конец «простой» любви побуждает нас искать для нее другого, более сложного начала78. […] В половой любви, истинно понимаемой и истинно осуществляемой, эта божественная сущность получает средство для своего окончательного, крайнего воплощения в индивидуальной жизни человека, способ самого глубокого и вместе с тем самого внешнего реально-ощутительного соединения с ним. Отсюда те проблески неземного блаженства, то веяние нездешней радости, которыми сопровождается любовь, даже несовершенная, и которые делают ее, даже несовершенную, величайшим наслаждением людей и богов – hominum divomque voluptas. Отсюда же и глубочайшее 77 78 Собрание сочинений В. С. Соловьева… С. 37–39. Там же. С. 42–43. 52 страдание любви, бессильной удержать свой истинный предмет и все более и более от него удаляющейся79. Тема 14. Формирование нравственности в философской концепции В. С. Соловьева (по работе «Оправдание добра») Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Стыд. 2. Жалость. 3. Благоговение. В. С. Соловьев. «Оправдание добра» Глава первая. Первичные данные нравственности Чувство стыда (в его коренном смысле) есть уже фактически безусловное отличие человека от низшей природы, так как ни у каких других животных этого чувства нет ни в какой степени, а у человека оно появляется с незапамятных времен и затем подлежит дальнейшему развитию80. […] В момент грехопадения в глубине человеческой души раздается высший голос, спрашивающий: где ты? Где твое нравственное достоинство? Человек, владыка природы и образ Божий, существуешь ли ты еще? – И тут же дается ответ: я услышал божественный голос, я убоялся возбуждения и обнаружения своей низшей природы: я стыжусь, следовательно, существую, не физически только существую, но и нравственно, – я стыжусь своей животности, следовательно, я еще существую как человек81. […] Рядом с этим основным нравственным чувством находится в природе человеческой другое, составляющее корень этического отношения уже не к низшему, материальному началу жизни в каждом человеке, а к другим человеческим и вообще живым существам, ему подобным, – именно чувство жалости. Оно состоит вообще в том, что данный субъект соответственным образом ощущает чужое страдание или потребность, т.е. отзывается на них более или менее болезненно, проявляя таким образом в большей или меньшей степени свою солидарность с другими. Первичный, прирожденный нам характер этого нравственного чувства не отрицается ни одним серьезным мыслителем и естествоиспытателем уже по той 79 Собрание сочинений В. С. Соловьева… С. 46. Соловьев Владимир. Оправдание добра / отв. ред. О. А. Платонов. М. : Институт русской цивилизации : Алгоритм, 2012. С. 126–127. 81 Там же. С. 128. 80 53 простой причине, что чувство жалости или сострадания – в отличие от стыда – свойственно (в зачаточной степени) многим животным и, следовательно, ни с какой точки зрения не может рассматриваться как позднейший продукт человеческого прогресса. Таким образом, если человек бесстыдный представляет собою возвращение к скотскому состоянию, то человек безжалостный падает ниже животного уровня82. […] В присущих нам чувствах стыда и жалости основным образом определяется наше нравственное отношение, во-первых, к собственной нашей материальной природе и, во-вторых, ко всем другим живым существам. Поскольку человек стыдлив и жалостлив, он относится нравственно «к самому себе и ближнему» (употребляя старинную терминологию); бесстыдство и безжалостность, напротив, в корне подрывают его нравственный характер. Кроме этих двух основных чувств есть в нас еще одно, третье, не сводимое на них, столь же первичное, как они, и определяющее нравственное отношение человека не к низшей стороне его собственной природы, а также не к миру подобных ему существ, а к чему-то особому, что признается им как высшее, чего он ни стыдиться, ни жалеть не может, а перед чем он должен преклоняться. Это чувство благоговения (благочестия, pietas), или преклонения, перед высшим (reverentia) составляет у человека нравственную основу религии и религиозного порядка жизни; будучи отвлечено философским мышлением от своих исторических проявлений, оно образует так называемую «естественную религию». Первичный, или прирожденный, характер этого чувства не может быть отрицаем по той же причине, по которой не отрицается серьезно прирожденность нам жалости или симпатии; как это последнее, так и чувство благоговения в зачаточных степенях и формах уже находится у животных. Нелепо искать у них религии в нашем смысле, но то общее элементарное чувство, на котором изначала держится религия в душе всякого человека, – именно чувство благоговейного преклонения перед чем-то высшим – зарождается безотчетно и у других тварей, кроме человека83. […] Основные чувства стыда, жалости и благоговения исчерпывают область возможных нравственных отношений человека к тому, что ниже его, что равно ему и что выше его. Господство над материальною чувственностью, солидарность с живыми существами и внутреннее добровольное подчинение сверхчеловеческому началу – вот вечные, незыблемые основы нравственной жизни человечества. Степень этого господства, глубина и объем этой солидарности, полнота этого внутреннего подчинения изменяются в историческом процессе, переходя от наименьшего к наибольшему совершенству, но принцип в каждой из трех сфер отношений остается один и тот же. 82 83 Соловьев Владимир. Оправдание добра… С. 131–132. Там же. С. 133–134. 54 Все прочие явления нравственной жизни, все так называемые добродетели могут быть показаны как видоизменения этих трех основ или как результат взаимодействия между ними и умственною стороной человека. Мужество или храбрость, например, несомненно, есть лишь в более внешней, поверхностной форме проявления тот же самый принцип возвышения и господства над низшею, материальною стороной нашей природы – принцип, коего более глубокое и знаменательное выражение мы находим в стыде. Стыд (в своем основном проявлении) возвышает человека над животным инстинктом родового самосохранения, мужество поднимает его над другим животным инстинктом – самосохранения личного84. […] Животные бывают добрыми и злыми, но различие добра и зла как таковых не существует в их сознании. У человека это познание добра и зла не только дано непосредственно в отличительном для него чувстве стыда, но из этой первоосновы, постепенно расширяя и утончая свою конкретночувственную форму, оно переходит в виде совести на всю область человеческой этики. Мы видели, что в пределах нравственного отношения человека к самому себе или к своей собственной природе чувство стыда (первоначально имеющее собственно половой характер) сохраняет свое формальное тождество независимо от того, противопоставляется ли оно инстинкту животного самосохранения, индивидуального или же родового: малодушная привязанность к смертной жизни так же постыдна, как и отдача себя половому влечению. Переходя в другую область отношений – не к себе самому, как отдельной особи и как одному из экземпляров рода, а к ближним и к Богу, – отношений несравненно более сложных, объективно-разнообразных и изменчивых, нравственная самооценка не может оставаться в простом виде конкретного ощущения, она неизбежно проходит чрез среду отвлеченного сознания, откуда и выходит в новой форме совести. Но внутренняя сущность обоих явлений, несомненно, та же самая. Стыд и совесть говорят разным языком и по разным поводам, но смысл того, что они говорят, один и тот же: это не добро, это недолжно, это недостойно85. Глава третья. Жалость и альтруизм Человеческие наслаждения, удовольствия и радости бывают, конечно, невинными и прямо добрыми, и тогда сочувствие им имеет положительно-нравственный характер; но рядом с этим человеческие наслаждения могут иметь и весьма часто имеют безнравственный характер. Злой и мстительный человек находит удовольствие в оскорблении и мучении своих ближних, он наслаждается их унижением, радуется причиненному 84 85 Соловьев Владимир. Оправдание добра… С. 135–136. Там же. С. 138. 55 им вреду; сладострастный человек полагает главную радость жизни в разврате, жестокий – в умерщвлении если не людей, то животных, пьяница счастлив, когда приводит себя в одурение, и т.д. Во всех этих случаях чувство удовольствия нельзя отделить от дурных действий, его вызывающих, а иногда это удовольствие сообщает безнравственный характер таким действиям, которые сами по себе были бы безразличны. Так, когда солдат на войне по команде убивает неприятеля, побуждаемый только «долгом службы», то, как бы мы в принципе ни относились к войне вообще, мы, конечно, не станем обвинять этого солдата в безнравственной жестокости; другое дело, если он находит удовольствие в убийстве и с наслаждением прокалывает человека штыком. В более простых случаях это еще яснее: так, несомненно, что безнравственный характер пьянства состоит вовсе не во внешнем действии глотания известных напитков, а только во внутреннем удовольствии, которое находит человек в том, чтобы искусственно одурять себя. Но если известное удовольствие само по себе безнравственно, то и сочувствие ему со стороны другого лица (со-радование, со-наслаждение) получает такой же безнравственный характер. Дело в том, что положительное сочувствие какому-нибудь удовольствию заключает в себе одобрение этого удовольствия, – так, сорадуясь пьянице в его любимом наслаждении, я тем самым одобряю пьянство; разделяя с кем-нибудь удовольствие удачного мщения, я тем самым одобряю мстительность; а так как удовольствие – это есть нечто дурное, то сочувствующий ему одобряет дурное и, следовательно, впадает сам в безнравственность. Как соучастие в преступлении само признается преступлением, так сочувствие в порочном наслаждении или радости само должно быть признано порочным. И действительно, сочувствие какому-нибудь дурному наслаждению кроме одобрения его предполагает еще в самом сочувствующем такую же дурную склонность; только пьяница сорадуется чужому пьянству, только злобный человек наслаждается чужим мщением. Значит, участие в чужом удовольствии или радости бывает хорошо или дурно, смотря по предмету, и, следовательно, оно само по себе никак не есть основание нравственных отношений, так как может быть и безнравственным86. […] Участие в чужом удовольствии всегда может быть своекорыстно; даже, например, в случае старика, разделяющего веселость ребенка, альтруистический характер такого чувства остается сомнительным; этому старику во всяком случае приятно оживлять память собственного беззаботного детства. Напротив, всякое серьезное чувство сожаления о чужом страдании, нравственном или физическом, тяжело для испытывающего это чувство и, следовательно, противно его эгоизму, что видно уже из того, что искренняя скорбь о других смущает нашу личную радость, омрачает наше веселие, 86 Соловьев Владимир. Оправдание добра… С. 164–165. 56 т.е. оказывается несовместимою с состоянием эгоистической удовлетворенности. Итак, действительное сострадание, или жалость, не может иметь своекорыстных мотивов, и есть чувство чисто альтруистическое, в противоположность со-радованию, или со-наслаждению, которое есть чувство смешанного и неопределенного (в нравственном смысле) характера. Есть еще другая причина, по которой участие в чужих радостях или удовольствиях не может само по себе иметь того основного значения для этики, какое принадлежит чувству жалости, или сострадания. В основу нравственности по требованию разума можно полагать только такие чувства, которые каждый раз содержат в себе побуждения к определенному действию, из обобщения которых образуется затем определенное нравственное правило или принцип. Но удовольствие или радость есть конец действия, в нем достигнута цель деятельности, и участие в чужом удовольствии, как и ощущение своего собственного, не заключает в себе никакого побуждения и основания к дальнейшему действию. Напротив, жалость прямо побуждает нас к действию с целью избавить другое существо от страдания или помочь ему. Такое действие может быть чисто внутренним, например, когда жалость к врагу удерживает меня от нанесения ему обиды или вреда, но и это во всяком случае есть действие, а не пассивное состояние, как радость или удовольствие. Разумеется, я могу находить внутреннее удовлетворение в том, что не обидел ближнего, но лишь после того, как акт воли совершился. Точно так же, когда дело идет о положительной помощи страдающему или нуждающемуся ближнему, удовольствие или радость (доставляемая этим как ему, так и самому помогающему) есть лишь окончательное следствие и завершение альтруистического поступка, а не основание, из которого он вытекает. В самом деле, если я вижу страдающее существо, нуждающееся в моей помощи, или узнаю о нем, то одно из двух: или это чужое страдание отзывается во мне также более или менее сильным страданием, я испытываю жалость, и в таком случае это чувство есть прямое и достаточное основание, побуждающее меня к деятельной помощи; или же, в противном случае, если чужое страдание не вызывает во мне жалости или вызывает в степени, недостаточной для побуждения к действию, тем более будет недостаточно представление об удовольствии, которое произошло бы из моего действия87. 87 Соловьев Владимир. Оправдание добра… С. 166–167. 57 Тема 15. Восток, Запад и Россия: перспективы развития человечества в философской концепции В. С. Соловьева (по работе «Три силы») Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Восток – торжество бесчеловечного Бога. 2. Запад – проблема безбожного человека. 3. Россия – третий путь. Работа Владимира Соловьева «Три силы» была написана в 1877 г. в условиях разворачивающейся войны России и Турции, что обусловило определенную категоричность высказываний философа в отношении мусульманского Востока и надежды на объединение вместе с Россией южных славян (Сербия, Болгария). Обращает на себя внимание в работе кризис западной культуры, усилившийся во второй половине ХХ – начале XXI в., подмеченный Соловьевым еще в конце XIX в. Восточная и Западная цивилизации искажают, по мысли Соловьева, гармонию взаимоотношений трех основных элементов существования человечества: церкви, общества и государства. Идея о России как альтернативном пути развития человечества присутствовала также в работах славянофилов, Николая Бердяева и последующих русских философов. В. С. Соловьев. «Три силы» От начала истории три коренные силы управляли человеческим развитием. Первая стремится подчинить человечество во всех сферах и на всех степенях его жизни одному верховному началу, в его исключительном единстве стремится смешать и слить все многообразие частных форм, подавить самостоятельность лица, свободу личной жизни. Один господин и мертвая масса рабов – вот последнее осуществление этой силы. Если бы она получила исключительное преобладание, то человечество окаменело бы в мертвом однообразии и неподвижности. Но вместе с этой силой действует другая, прямо противоположная; она стремится разбить твердыню мертвого единства, дать везде свободу частным формам жизни, свободу лицу и его деятельности; под ее влиянием отдельные элементы человечества становятся исходными точками жизни, действуют исключительно из себя и для себя, общее теряет значение реального существенного бытия, превращается в что-то отвлеченное, пустое, в формальный закон, а наконец, и совсем лишается всякого смысла. Всеобщий эгоизм и анархия, множественность отдельных единиц без всякой внутренней связи – вот крайнее выражение этой силы. Если бы она получила исключительное преобладание, то человечество распалось бы на свои составные стихии, жизненная связь порвалась бы и история окончилась войной всех против 58 всех, самоистреблением человечества. Обе эти силы имеют отрицательный, исключительный характер: первая исключает свободную множественность частных форм и личных элементов, свободное движение, прогресс, – вторая столь же отрицательно относится к единству, к общему верховному началу жизни, разрывает солидарность целого. Если бы только эти две силы управляли историей человечества, то в ней не было бы ничего, кроме вражды и борьбы, не было бы никакого положительного содержания; в результате история была бы только механическим движением, определяемым двумя противоположными силами и идущим по их диагонали. Внутренней целости и жизни нет у обеих этих сил, а, следовательно, не могут они ее дать и человечеству. Но человечество не есть мертвое тело, и история не есть механическое движение, а потому необходимо присутствие третьей силы, которая дает положительное содержание двум первым, освобождает их от их исключительности, примиряет единство высшего начала с свободной множественностью частных форм и элементов, созидает, таким образом, целость общечеловеческого организма и дает ему внутреннюю тихую жизнь. И действительно, мы находим в истории всегда совместное действие трех этих сил, и различие между теми и другими историческими эпохами и культурами заключается только в преобладании той или другой силы, стремящейся к своему осуществлению, хотя полное осуществление для двух первых сил, именно вследствие их исключительности, – физически невозможно88. Оставляя в стороне древние времена и ограничиваясь современным человечеством, мы видим совместное существование трех исторических миров, трех культур, резко между собою различающихся, – я разумею мусульманский Восток, Западную цивилизацию и мир Славянский: все, что находится вне их, не имеет общего мирового значения, не оказывает прямого влияния на историю человечества. В каком же отношении стоят эти три культуры к трем коренным силам исторического развития? Что касается мусульманского Востока, то не подлежит никакому сомнению, что он находится под преобладающим влиянием первой силы – силы исключительного единства. Все там подчинено единому началу религии, и притом сама эта религия является с крайне исключительным характером, отрицающим всякую множественность форм, всякую индивидуальную свободу. Божество в исламе является абсолютным деспотом, создавшим по своему произволу мир и людей, которые суть только слепые орудия в его руках; единственный закон бытия для Бога есть Его произвол, а для человека – слепой неодолимый рок. Абсолютному могуществу в Боге соответствует в человеке абсолютное бессилие… Поэтому в мусульманском мире все сферы и степени общечеловеческой жизни являются в состоянии слитности, смешения, лишены самостоятельности относительно друг друга и все вместе подчинены одной подавляющей власти религии… 88 Собрание сочинений В. С. Соловьева… С. 227–228. 59 Подобное же смешение господствует и в области теоретической или умственной: в мусульманском мире, собственно говоря, совсем не существует ни положительная наука, ни философия, ни настоящая теология, а есть только какая-то смесь из скудных догматов Корана, из отрывков койкаких философских понятий, взятых у греков, и некоторых эмпирических сведений… Что касается до искусства, до художественного творчества, то и оно точно так же лишено всякой самостоятельности и крайне слабо развито, несмотря на богатую фантазию восточных народов: гнет одностороннего религиозного начала помешал этой фантазии выразиться в объективных идеальных образах. Ваяние и живопись, как известно, прямо запрещены Кораном и не существуют совсем в мусульманском мире. Поэзия не пошла здесь дальше той непосредственной формы, которая существует везде, где есть человек, то есть лирики. Что же касается до музыки, то на ней особенно ясно отразился характер исключительного монизма; богатство звуков европейской музыки совершенно непонятно для восточного человека: самая идея музыкальной гармонии для него не существует, он видит в ней только разногласие и произвол, его же собственная музыка (если только можно называть это музыкой) состоит единственно в монотонном повторении одних и тех же нот. Таким образом, как в сфере общественных отношений, так и в сфере умственной, а равно и в сфере творчества подавляющая власть исключительного религиозного начала не допускает никакой самостоятельной жизни и развития. Если личное сознание безусловно подчинено одному религиозному принципу, крайне скудному и исключительному, если человек считает себя только безразличным орудием в руках слепого, по бессмысленному произволу действующего божества, то понятно, что из такого человека не может выйти ни великого политика, ни великого ученого или философа, ни гениального художника, а выйдет только помешанный фанатик... Что мусульманский Восток находится под господством первой из трех сил, подавляющей все жизненные элементы и враждебной всякому развитию, это доказывается кроме приведенных характеристических черт еще тем простым фактом, что в течение двенадцати столетий мусульманский мир не сделал ни одного шага на пути внутреннего развития; нельзя указать здесь ни на один признак последовательного органического прогресса. Мусульманство сохранилось неизменно в том состоянии, в каком было при первых калифах, но не могло сохранить прежней силы, ибо по закону жизни, не идя вперед, оно тем самым шло назад, и потому неудивительно, что современный мусульманский мир представляет картину такого жалкого упадка89. Прямо противоположный характер являет, как известно, Западная цивилизация; здесь мы видим быстрое и непрерывное развитие, свободную игру сил, самостоятельность и исключительное самоутверждение всех 89 Собрание сочинений В. С. Соловьева… С. 228–231. 60 частных форм и индивидуальных элементов – признаки, несомненно показывающие, что эта цивилизация находится под господствующим влиянием второго из трех исторических начал… Каждая сфера деятельности, каждая форма жизни на Западе, обособившись и отделившись от всех других, стремится в этой своей отдельности получить абсолютное значение, исключить все остальные, стать одна всем, и вместо того, по непреложному закону конечного бытия, приходит в своей изолированности к бессилию и ничтожеству, захватывая чуждую область, теряет силу в своей собственной. Так, церковь западная, отделившись от государства, но присваивая себе в этой отдельности государственное значение, сама ставшая церковным государством, кончает тем, что теряет всякую власть и над государством, и над обществом. Точно так же государство, отделенное и от церкви, и от народа, и в своей исключительной централизации присвоившее себе абсолютное значение, под конец лишается всякой самостоятельности, превращается в безразличную форму общества, в исполнительное орудие народного голосования, а сам народ или земство, восставшее и против церкви, и против государства, как только побеждает их, в своем революционном движении не может удержать своего единства, распадается на враждебные классы и затем необходимо должен распасться и на враждебные личности. Общественный организм Запада, разделившийся сначала на частные организмы, между собою враждебные, должен под конец раздробиться на последние элементы, на атомы общества, то есть отдельные лица, и эгоизм корпоративный, кастовый должен перейти в эгоизм личный. Принцип этого последнего распадения был впервые ясно выражен в великом революционном движении прошлого века, которое, таким образом, и можно считать началом полного откровения той силы, которая двигала всем западным развитием. Революция передала верховную власть народу в смысле простой суммы отдельных лиц, все единство которых сводится лишь к случайному согласию желаний и интересов, – согласию, которого может и не быть. Уничтожив те традиционные связи, те идеальные начала, которые в старой Европе делали каждое отдельное лицо только элементом высшей общественной группы и, разделяя человечество, соединяли людей, – разорвав эти связи, революционное движение предоставило каждое лицо самому себе и вместе с тем уничтожило его органическое различие от других… Революция окончательно отвергла старые идеалы, что было, разумеется, необходимо, но по своему отрицательному характеру не могла дать новых. Она освободила индивидуальные элементы, дала им абсолютное значение, но лишила их деятельность необходимой почвы и пищи; поэтому мы видим, что чрезмерное развитие индивидуализма в современном Западе ведет прямо к своему противоположному – к всеобщему обезличению и опошлению. Крайняя напряженность личного сознания, не находя себе соответствующего предмета, переходит в пустой и мелкий эгоизм, который всех уравнивает. Старая Европа в богатом развитии своих сил произвела великое 61 многообразие форм, множество оригинальных, причудливых явлений; были у нее святые монахи, что из христианской любви к ближнему жгли людей тысячами; были благородные рыцари, всю жизнь сражавшиеся за дам, которых никогда не видали, были философы, делавшие золото и умиравшие с голоду, были ученые-схоластики, рассуждавшие о богословии как математики, а о математике – как богословы. Только эти оригинальности, эти дикие величия делают Западный мир интересным для мыслителя и привлекательным для художника. Все его положительное содержание в прошлом, ныне же, как известно, единственное величие, еще сохраняющее свою силу на Западе, есть величие капитала; единственное существенное различие и неравенство между людьми, еще существующее там, – это неравенство богача и пролетария, но и ему грозит великая опасность со стороны революционного социализма. Социализм имеет задачей преобразовать экономические отношения общества введением большей равномерности в распределении материального богатства. Едва ли можно сомневаться, что социализму обеспечен на Западе скорый успех в смысле победы и господства рабочего сословия. Но настоящая цель этим достигнута не будет. Ибо как вслед за победой третьего сословия (буржуазия) выступило враждебное ему четвертое, так и предстоящая победа этого последнего вызовет, наверно, пятое, то есть новый пролетариат, и т.д. ...Во всяком случае, смешно было бы видеть в социализме какое-то великое откровение, долженствующее обновить человечество. Если в самом деле предположить даже полное осуществление социалистической задачи, когда все человечество равномерно будет пользоваться материальными благами и удобствами цивилизованной жизни, с тем большею силою станет перед ним тот же вопрос о положительном содержании этой жизни, о настоящей цели человеческой деятельности, а на этот вопрос социализм, как и все западное развитие, не дает ответа90. […] И в сфере общественной жизни, и в сфере знания и творчества вторая историческая сила, управляющая развитием Западной цивилизации, будучи предоставлена сама себе, неудержимо приводит под конец к всеобщему разложению на низшие составные элементы, к потере всякого универсального содержания, всех безусловных начал бытия. И если мусульманский Восток, как мы видели, совершенно уничтожает человека и утверждает только бесчеловечного бога, то Западная цивилизация стремится прежде всего к исключительному утверждению безбожного человека, то есть человека, взятого в его кажущейся поверхностной отдельности и действительности и в этом ложном положении признаваемого вместе и как единственное божество и как ничтожный атом – как божество для себя, субъективно, и как ничтожный атом – объективно, по отношению к внешнему миру, которого он есть отдельная частица в бесконечном про90 Собрание сочинений В. С. Соловьева… С. 231–234. 62 странстве и преходящее явление в бесконечном времени. Понятно, что все, что может произвести такой человек, будет дробным, частным, лишенным внутреннего единства и безусловного содержания, ограниченным одною поверхностью, никогда не доходящим до настоящего средоточия. Отдельный личный интерес, случайный факт, мелкая подробность – атомизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в искусстве – вот последнее слово Западной цивилизации91. […] Итак, третья сила, долженствующая дать человеческому развитию его безусловное содержание, может быть только откровением высшего божественного мира, и те люди, тот народ, через который эта сила имеет проявиться, должен быть только посредником между человечеством и тем миром, свободным, сознательным орудием последнего. Такой народ не должен иметь никакой специальной ограниченной задачи, он не призван работать над формами и элементами человеческого существования, а только сообщить живую душу, дать жизнь и целость разорванному и омертвелому человечеству через соединение его с вечным божественным началом. Такой народ не нуждается ни в каких особенных преимуществах, ни в каких специальных силах и внешних дарованиях, ибо он действует не от себя, осуществляет не свое. От народа – носителя третьей божественной силы требуется только свобода от всякой ограниченности и односторонности, возвышение над узкими специальными интересами, требуется, чтоб он не утверждал себя с исключительной энергией в какой-нибудь частной низшей сфере деятельности и знания, требуется равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами, всецелая вера в положительную действительность высшего мира и покорное к нему отношение. А эти свойства, несомненно, принадлежат племенному характеру Славянства, в особенности же национальному характеру русского народа. Но и исторические условия не позволяют нам искать другого носителя третьей силы вне Славянства и его главного представителя – народа русского, ибо все остальные исторические народы находятся под преобладающей властью той или другой из двух первых исключительных сил: восточные народы – под властью первой, западные – под властью второй силы. Только Славянство, и в особенности Россия осталась свободною от этих двух низших потенций и, следовательно, может стать историческим проводником третьей. Между тем две первые силы совершили круг своего проявления и привели народы, им подвластные, к духовной смерти и разложению. Итак, повторяю, или это есть конец истории, или неизбежное обнаружение третьей всецелой силы, единственным носителем которой может быть только Славянство и народ русский. Внешний образ раба, в котором находится наш народ, жалкое положение России в экономическом и других отношениях не только не может 91 Собрание сочинений В. С. Соловьева… С. 236–237. 63 служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждает его. Ибо та высшая сила, которую русский народ должен провести в человечество, есть сила не от мира сего, и внешнее богатство и порядок относительно ее не имеют никакого значения. Великое историческое призвание России, от которого только получают значение и ее ближайшие задачи, есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова… Когда наступит час обнаружения для России ее исторического призвания, никто не может сказать, но все показывает, что час этот близок, даже несмотря на то, что в русском обществе не существует почти никакого действительного сознания своей высшей задачи. Но великие внешние события обыкновенно предшествуют великим пробуждениям общественного сознания. Так, даже крымская война, совершенно бесплодная в политическом отношении, сильно, однако, повлияла на сознание нашего общества. Отрицательному результату этой войны соответствовал и отрицательный характер пробужденного ею сознания. Должно надеяться, что готовящаяся великая борьба послужит могущественным толчком для пробуждения положительного сознания русского народа92. Тема 16. Человек и свобода в философской концепции Н. А. Бердяева Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Человек в обществе. Проблема несвободы. 2. Творчество и свобода. Возвращение к Богу. 3. Сильные и слабые стороны философии Николая Бердяева. Н. А. Бердяев. «Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения» Проблема личности есть основная проблема экзистенциальной философии. Я говорю «я» раньше, чем осознал себя личностью. «Я» первично и недифференцированно, оно не предполагает учения о личности. «Я» есть изначальная данность, личность же есть заданность. Я должен реализовать в себе личность, и эта реализация есть неустанная борьба. Сознание личности и реализация личности болезненны. Личность есть боль, и многие соглашаются на потерю в себе личности, так как не выносят этой боли. Личность не тождественна индивидууму. Индивидуум есть категория натуралистическая, биологическая. Не только животное или растение есть индивидуум, но и алмаз, стакан, карандаш. Личность есть категория духовная, а не натуралистическая, она принадлежит плану духа, а не плану природы, она образуется прорывом духа в природу. Личности нет без работы духа над душевным и телесным составом человека. Человек может иметь яркую индивидуальность и не иметь личности. Есть очень одарен92 Собрание сочинений В. С. Соловьева… С. 237–239. 64 ные люди, очень своеобразные, которые вместе с тем безличны, неспособны к тому сопротивлению, к тому усилию, которое требует реализации личности. Мы говорим: у этого человека нет личности, но не можем сказать: у этого человека нет индивидуальности. Личность есть прежде всего смысловая категория, она есть обнаружение смысла существования. Между тем индивидуум не предполагает непременного такого обнаружения смысла, такого раскрытия ценности. Личность совсем не есть субстанция. Понимание личности как субстанции есть натуралистическое понимание личности и оно чуждо экзистенциальной философии… Личность может быть определена как единство в многообразии, единство сложное, духовно-душевно-телесное. Отвлеченное духовное единство без сложного многообразия не есть личность. Личность целостна, в нее входит и дух, и душа, и тело93. […] «Я» может реализовать личность, стать личностью. Реализация личности всегда предполагает самоограничение, свободное подчинение сверхличному, творчество сверхличных ценностей, выход из себя в другого. «Я» может стать эгоцентрическим, самоутверждающимся, раздувающимся, неспособным выйти в другого. Эгоцентризм разрушает личность, он есть величайшее препятствие на путях реализации личности. Не быть поглощенным собой, быть обращенным к «ты» и к «мы» есть основное условие существования личности. Предельно эгоцентрический человек есть существо, лишенное личности, потерявшее чувство реальностей, живущее фантазиями, иллюзиями, призраками. Личность предполагает чувство реальностей в способность выходить к ним. Крайний индивидуализм есть отрицание личности. Личности присущ метафизический социальный элемент, она нуждается в общении с другими94. Н. А. Бердяев. «О назначении человека» О природе творчества. В Евангелии постоянно говорится о плоде, который должно принести семя, когда оно падает на добрую почву, о талантах, данных человеку, которые должны быть возвращены с приростом. Это Христос прикровенно, в притчах, говорит о творчестве человека, об его творческом призвании. Зарывание даров в землю, то есть отсутствие творчества, осуждено Христом. Все учение апостола Павла о различных дарах человека есть учение о творческом призвании человека. Дары даны от Бога, и они указуют на творческое призвание... ...Тайна творчества раскрывается в библейско-христианском мифе о творении мира Богом. Бог сотворил мир из ничего, то есть свободно и из свободы. Мир не был эманацией Бога, рождением или эволюцией, а творе93 Бердяев Н. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. Париж : YMCA-PRESS, 1934. С. 145–147. 94 Там же. С. 153. 65 нием, то есть абсолютной новизной, небывшим. Творчество в мире потому только и возможно, что мир сотворен, что есть Творец... Что-то должно исходить и из человека, и это есть то, что есть творчество по преимуществу, творчество нового и небывшего. Это что-то не есть что-то, а ничто есть свобода, без которой нет творческого акта. Свобода, ничем не детерминированная, дает ответ на Божий зов к творческому деланию, но она дает этот ответ в соединении с даром, с гением, полученным от Бога при творении, и с материалами, находящимися в сотворенном мире. Творчество человека из ничего нужно понимать в смысле творчества человека из свободы. Во всяком творческом замысле есть элемент первичной свободы человека, ничем не детерминированной, бездонной, свободы, не от Бога идущей, а к Богу идущей. Зов божий и обращен к этой бездне и из бездны ждет ответа... ...Творческий акт есть также взаимодействие благодати и свободы, идущего от Бога к человеку и от человека к Богу. И творческий акт можно описывать то по преимуществу в терминах свободы, то по преимуществу в терминах благодати, благодатной одержимости и вдохновения95. Н. А. Бердяев. «Самопознание» Глава VIII. Мир творчества. «Смысл творчества» и переживание творческого экстаза Для уяснения моей мысли очень важно понять, что для меня творчество человека не есть требование человека и право его, а есть требование Бога от человека и обязанность человека. Бог ждет от человека творческого акта как ответа человека на творческий акт Бога. О творчестве человека верно то же, что и о свободе человека. Свобода человека есть требование Бога от человека, обязанность человека по отношению к Богу. Но Бог не мог открыть человеку то, что человек должен открыть Богу. В Священном писании мы не находим откровения о творчестве человека. Это не открыто, а сокрыто Богом. Требование, предъявленное мне, чтобы я оправдал ссылкой на тексты Священного Писания свою идею о религиозном смысле творчества человека, было непонимание проблемы. Дерзновение творчества было для меня выполнением воли Бога, но воли не открытой, а сокрытой, оно менее всего направлено против Бога. Тема о творчестве была для меня вставлена в основную христианскую тему о Богочеловечестве, она оправдана богочеловеческим характером христианства. Идея Бога о человеке бесконечно выше традиционных ортодоксальных понятий о человеке, порожденных подавленным суженным сознанием. Идея Бога есть величайшая человеческая идея. Идея человека есть величайшая Божья идея. Человек ждет рождения в нем Бога. Бог ждет рождения в нем человека. 95 Хрестоматия по философии : учеб. пособие / под ред. Радугина. М. : Центр, 2001. С. 196–197. 66 На этой глубине должен быть поставлен вопрос о творчестве. Необычайно дерзновенна мысль, что Бог нуждается в человеке, в ответе человека, в творчестве человека. Но без этого дерзновения откровение Богочеловечества лишается смысла96. […] Творчество для меня не столько оформление в конечном, в творческом продукте, сколько раскрытие бесконечного, полет в бесконечность, не объективация, а трансцендирование. Творческий экстаз (творческий акт есть всегда экс-тасис) есть прорыв в бесконечность97. […] Повторяю, что под творчеством я все время понимаю не создание культурных продуктов, а потрясение и подъем всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к новому бытию. В творческом опыте раскрывается, что «я», субъект, первичнее и выше, чем «не-я», объект. И вместе с тем творчество противоположно эгоцентризму, есть забвение о себе, устремленность к тому, что выше меня. Творческий опыт не есть рефлексия над собственным несовершенством, это – обращенность к преображению мира, к новому небу и новой земле, которые должен уготовлять человек… Пережитое мною откровение творчества, которое есть откровение человека, а не Бога, нашло себе выражение в книге «Смысл творчества. Опыт оправдания человека». Книга эта написана единым целостным порывом, почти в состоянии экстаза. Книгу эту я считаю не самым совершенным, но самым вдохновенным своим произведением, и в ней впервые нашла себе выражение моя оригинальная философская мысль98. […] Православные круги, не только правые, но и левые, отнеслись очень подозрительно и даже враждебно к моим мыслям о творческом призвании человека. Я почувствовал себя очень одиноким в своем сознании… Проблема творчества была для меня связана с проблемой свободы. Уже раньше, как я говорил, я написал «Философию свободы». Эта книга была написана не как цельное произведение, а как собрание отдельных этюдов. Меня не удовлетворяла эта книга. Терминология в ней недостаточно выработана. Впоследствии я гораздо лучше выразил свои мысли. Но в ней утверждался уже примат свободы. Творческий акт человека и возникновение новизны в мире не могут быть поняты из замкнутой системы бытия. Творчество возможно лишь при допущении свободы, не детерминированной бытием, не выводимой из бытия. Свобода вкоренена не в бытии, а в ничто, свобода безосновна, ничем не определяема, находится вне каузальных отношений, которым подчинено бытие и без которого нельзя мыслить бытия… Но в «Смысле 96 Бердяев Н. Самопознание. М. : Т8RUGRAM, 2018. С. 284–285. Там же. С. 286. 98 Там же. С. 287–288. 97 67 творчества» я уже выразил основную для меня мысль, что творчество из ничего, то есть из свободы. Критики приписывали мне нелепую мысль, что творчество человека не нуждается в материи, в материалах мира. Но ничего подобного я никогда не утверждал. Творческий акт человека нуждается в материи, он не может обойтись без мировой реальности, он совершается не в пустоте, не в безвоздушном пространстве. Но творческий акт человека не может целиком определяться материалом, который дает мир, в нем есть новизна, не детерминированная извне миром. Это и есть тот элемент свободы, который привходит во всякий подлинный творческий акт. В этом тайна творчества. В этом смысле творчество есть творчество из ничего…99. Я признавал, что творческие дары даны человеку Богом, но в творческие акты человека привходит элемент свободы, не детерминированный ни миром, ни Богом. Творчество есть ответ человека на призыв Бога. Бесплодно и нелепо ставить вопрос о том, может ли быть оправдано творчество с точки зрения религии искупления. Для дела искупления и спасения можно обойтись без творчества. Но для Царства Божьего творчество человека необходимо. Царство Божье приходит и через творческое дело человека. Новое, завершающее откровение будет откровением творческого человека. Это будет чаемая эпоха Духа. И в ней наконец реализуется христианство как религия Богочеловечества. Я сознавал религиозный, а не культурный только смысл творчества, творчества не оправдываемого, а оправдывающего. В глубине это есть дерзновенное сознание о нужде Бога в творческом акте человека, о Божьей тоске о творящем человеке. Творчество есть продолжение миротворения. Продолжение и завершение миротворения есть дело богочеловеческое. Божье творчество с человеком, человеческое творчество с Богом. Но я изначально сознавал глубокую трагедию человеческого творчества и его роковую неудачу в условиях мира… Творческий акт в своей первоначальной чистоте направлен на новую жизнь, новое бытие, новое небо и новую землю, на преображение мира. Но в условиях падшего мира он отяжелевает, притягивается вниз, подчиняется необходимому заказу, он создает не новую жизнь, а культурные продукты большего или меньшего совершенства. Результаты творчества носят не реалистический, а символический характер. Создается книга, симфония, картина, стихотворение, социальное учреждение. Есть несоответствие между творческим взлетом и творческим продуктом. Не буду повторять того, о чем я уже много раз писал. Но хотелось бы предотвратить ложное понимание моей мысли. Я совсем не отрицаю творчества культуры, совсем не отрицаю смысла продуктов творчества в этом мире. Это есть путь человека, человек должен пройти через творчество культуры и цивилизации. Но это есть творчество символическое, дающее лишь знаки реального преображения. Реалистическое творчество было бы преображением мира, концом этого мира, возникновением нового неба и новой земли100. 99 Бердяев Н. Самопознание… С. 290–291. Там же. С. 292–293. 100 68 Тема 17. Судьба России в философской концепции Н. А. Бердяева Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Русская революция. 2. Русская национальная идея. 3. Проблема национальной идеи в современной России. Н. А. Бердяев. «Истоки и смысл русского коммунизма» Глава VI Вся история русской интеллигенции подготовляла коммунизм. В коммунизм вошли знакомые черты: жажда социальной справедливости и равенства, признание классов трудящихся высшим человеческим типом, отвращение к капитализму и буржуазии, стремление к целостному миросозерцанию и целостному отношению к жизни, сектантская нетерпимость, подозрительное и враждебное отношение к культурной элите, исключительная посюсторонность, отрицание духа и духовных ценностей, придание материализму почти теологического характера. Все эти черты всегда были свойственны русской революционной и даже просто радикальной интеллигенции… В этом парадокс исхода русской интеллигенции, ее трансформирования после победоносной революции. Часть ее превратилась в коммунистов и приспособила свою психику к новым условиям, другая же часть ее не приняла социалистической революции, забыв свое прошлое. Уже война выработала новый душевный тип, тип, склонный переносить военные методы на устроение жизни, готовый практиковать методическое насилие, властолюбивый и поклоняющийся силе… В этом типе выработалась жесткость, переходящая в жестокость. Этот новый душевный тип оказался очень благоприятным плану Ленина, он стал материалом организации коммунистической партии, он стал властвовать над огромной страной. Новый душевный тип, призванный к господству в революции, поставляется из рабоче-крестьянской среды, он прошел через дисциплину военную и партийную. Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской культуры, их отцы и деды были безграмотны, лишены всякой культуры и жили исключительно верой. Этим людям свойственно было ressentiment по отношению к людям старой культуры, которое в момент торжества перешло в чувство мести. Этим многое психологически объясняется. Народ в прошлом чувствовал неправду социального строя, основанного на угнетении и эксплуатации трудящихся, но он кротко и смиренно нес свою страдальческую долю. Но наступил час, когда он не пожелал больше терпеть, и весь строй души народной перевернулся. Это типический процесс. Кротость и смиренность может перейти в свирепость 69 и разъяренность. Ленин не мог бы осуществить своего плана революции и захвата власти без переворота в душе народа101. […] Суждение о русской революции предполагает суждение о революции вообще, как совсем особом и в конце концов духовном феномене в судьбах народов. Совершенно бесплодны рационалистические и моралистические суждения о революции, также как и о войне, которая во многом походит на революцию. Революция иррациональна, она свидетельствует о господстве иррациональных сил в истории. Деятели революции сознательно могут исповедовать самые рационалистические теории и во имя их делать революцию, но революция всегда является симптомом нарастания иррациональных сил. И это нужно понимать в двойном смысле: это значит, что старый режим стал совершенно иррациональным и не оправдан более никаким смыслом, и что сама революция осуществляется через расковывание иррациональной народной стихии. Революционеры-организаторы всегда хотят рационализировать иррациональную стихию революции, но она же является ее орудием. Ленин был крайним рационалистом, он верил в возможность окончательной рационализации социальной жизни. Но он же был человеком судьбы, рока, т.е. иррационального в истории. Революция есть судьба и рок… Менее всего понимают смысл революции революционеры и контрреволюционеры. Революционеры обыкновенно не понимают смысла революции, которая не покрывается их рационалистическими идеями, но в своей обращенности к будущему они могут быть орудиями осуществления смысла, орудиями высшего суда. Контрреволюционеры, как люди бессильно и бесплодно обращенные к прошлому, есть люди судимые, нераскаянные и в этом своем состоянии ничего не понимающие. Объективные историки могут многое выяснить в критике источников, в раскрытии второстепенных исторических причин, но они даже не ставят себе цели понять смысл революции… Революция есть малый апокалипсис истории, как и суд внутри истории. Революция подобна смерти, она есть прохождение через смерть, которая есть неизбежное следствие греха. Как наступит конец всей истории, прохождение мира через смерть для воскресения к новой жизни, так и внутри истории и внутри индивидуальной жизни человека периодически наступает конец и смерть для возрождения к новой жизни. Этим определяется ужас революции, ее жуткость, ее смертоносный и кровавый образ. Революция есть грех и свидетельство о грехе, как и война есть грех и свидетельство о грехе. Но революция есть рок истории, неотвратимая судьба исторического существования. В революции происходит суд над злыми силами, творящими неправду, но судящие силы сами творят зло; в революции и добро осуществляется силами зла, так как добрые силы были бессильны реализовать свое добро в истории102. 101 102 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М. : Наука, 1990. С. 100–102. Там же. С. 106–108. 70 […] Разложение императорской России началось давно. Ко времени революции старый режим совершенно разложился, исчерпался и выдохся. Война докончила процесс разложения. Нельзя даже сказать, что февральская революция свергла монархию в России, монархия в России сама пала, ее никто не защищал, она не имела сторонников. Религиозные верования народа, которыми держалась монархия, начали разлагаться. Нигилизм, который в 60-е годы захватил интеллигенцию, начал переходить в народный слой. Полуинтеллигенция, вышедшая из народного слоя, была решительно атеистической и материалистической. Озлобленность была сильнее великодушия. Церковь потеряла руководящую роль в народной жизни. Подчиненное положение церкви в отношении к монархическому государству, утеря соборного духа, низкий культурный уровень духовенства – все это имело роковое значение. Не было организующей, духовной силы. Христианство в России переживало глубокий кризис. Роковой фигурой для судьбы России был Распутин. Распутин вышел из народа, принадлежал, по-видимому, к секте хлыстов и обладал несомненно мистической одаренностью. Про него говорили, что он обладал дарованиями, которые делают человека старцем и святым, но он употребил эти дарования на зло. В нем сосредоточилась страшная тьма русской жизни. Отношения между царем и Распутиным представляют гораздо более глубокое явление, чем обыкновенно думают. Последний русский царь – фигура трагическая, он жестоко расплатится за зло прошлого, зло, совершенное династией. Он искренно верил в мистический смысл царской власти. И он мучительно переживал разрыв между царем и народом, изоляцию царя. Он хотел соединения с народом. Царь не имел никакого общения с народом, он был отделен от народа стеной всесильной бюрократии. Между тем как он мистически чувствовал себя народным царем. И вот он впервые встретился с народом в лице Распутина. Это первый человек из народа, который получил непосредственный доступ ко двору. Царь, и особенно царица, поверили в Распутина, как в народ. Он стал символом народа, религиозной жизни народа. Царь искал религиозной опоры в трагических событиях своего царствования, он хотел поддержки церкви. Он не находил поддержки в высшей иерархии, потому что она рабски зависела от него самого. Распутин же представлялся ему народным православием, которое не зависит прямо от царя и может быть поддержкой для него. И, цепляясь за Распутина, как за народное православие, царь и царица, имевшая огромное влияние, поставили церковь в зависимость от хлыста Распутина, который назначал епископов. Это было страшное унижение церкви и это совершенно компрометировало монархию. Распутин, мужик нравственно разложившийся от близости ко двору, окончательно восстановил против монархии даже консервативные дворянские круги русского общества. Во время войны, перед февралем 1917 года, все слои общества, кроме небольшой части высшей бюрократии и придворных, были если не против монархии в принципе, то 71 против монарха и особенно против царицы. Это был конец династии. Монархия в прошлом играла и положительную роль в русской истории, она имела заслуги. Но эта роль была давно изжита. Религиозно обоснованная русская монархия была осуждена свыше, осуждена Богом и прежде всего за насилие над церковью и религиозной жизнью народа, за антихристианскую идею цезаропапизма, за ложную связь церкви с монархией, за вражду к просвещению. Это же было и осуждением церкви в ее исторической стороне103. […] Большевизм воспользовался всем для своего торжества. Он воспользовался бессилием либерально-демократической власти, негодностью ее символики для скрепления взбунтовавшейся массы. Он воспользовался объективной невозможностью дальше вести войну, пафос которой был безнадежно утерян, нежеланием солдат продолжать войну, и он провозгласил мир. Он воспользовался неустроенностью и недовольством крестьян и передал всю землю крестьянам, разрушив остатки феодализма и господства дворян. Он воспользовался русскими традициями деспотического управления сверху и, вместо непривычной демократии, для которой не было навыков, провозгласил диктатуру, более схожую со старым царизмом. Он воспользовался свойствами русской души, во всем противоположной секуляризированному буржуазному обществу, ее религиозностью, ее догматизмом и максимализмом, ее исканием социальной правды и царства Божьего на земле, ее способностью к жертвам и к терпеливому несению страданий, но также к проявлениям грубости и жестокости, воспользовался русским мессианизмом, всегда остающимся, хотя бы в бессознательной форме, русской верой в особые пути России. Он воспользовался историческим расколом между народом и культурным слоем, народным недоверием к интеллигенции и с легкостью разгромил интеллигенцию, ему не подчинившуюся. Он впитал в себя и русское интеллигентское сектантство, и русское народничество, преобразив их согласно требованиям новой эпохи. Он соответствовал отсутствию в русском народе римских понятий о собственности и буржуазных добродетелях, соответствовал русскому коллективизму, имевшему религиозные корни. Он воспользовался крушением патриархального быта в народе и разложением старых религиозных верований. Он также начал насильственно насаждать сверху новую цивилизацию, как это в свое время делал Петр. Он отрицал свободы человека, которые и раньше неизвестны были народу, которые были привилегией лишь верхних культурных слоев общества и за которые народ совсем и не собирался бороться. Он провозгласил обязательность целостного, тоталитарного миросозерцания, господствующего вероучения, что соответствовало навыкам и потребностям русского народа в вере и символах, управляющих жизнью. Русская душа не склонна к скептицизму и ей менее всего 103 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма… С. 109–111. 72 соответствует скептический либерализм. Народная душа легче всего могла перейти от целостной веры к другой целостной вере, к другой ортодоксии, охватывающей всю жизнь104. […] Русский народ не осуществил своей мессианской идеи о Москве как Третьем Риме. Религиозный раскол XVII века обнаружил, что московское царство не есть Третий Рим. Менее всего, конечно, петербургская империя была осуществлением идеи Третьего Рима. В ней произошло окончательное раздвоение. Мессианская идея русского народа приняла или апокалиптическую форму, или форму революционную. И вот произошло изумительное в судьбе русского народа событие. Вместо Третьего Рима в России удалось осуществить Третий Интернационал, и на Третий Интернационал перешли многие черты Третьего Рима. Третий Интернационал есть тоже священное царство и оно тоже основано на ортодоксальной вере. На Западе очень плохо понимают, что Третий Интернационал есть не Интернационал, а русская национальная идея. Это есть трансформация русского мессианизма105. […] Идеологически я отношусь отрицательно к советской власти. Эта власть, запятнавшая себя жестокостью и бесчеловечием, вся в крови, она держит народ в страшных тисках. Но в данную минуту это единственная власть, выполняющая хоть как-нибудь защиту России от грозящих ей опасностей. Внезапное падение советской власти, без существования организованной силы, которая способна была бы прийти к власти не для контрреволюции, а для творческого развития, исходящего из социальных результатов революции, представляла бы даже опасность для России и грозила бы анархией. Это нужно сказать об автократии советской, как можно было бы сказать об автократии монархической. В России вырастает не только коммунистический, но и советской патриотизм, который есть просто русский патриотизм. Но патриотизм великого народа должен быть верой в великую и мировую миссию этого народа, иначе это будет национализм провинциальный, замкнутый и лишенный мировых перспектив. Миссия русского народа сознается как осуществление социальной правды в человеческом обществе, не только в России, но и во всем мире. И это согласно с русскими традициями106. […] Философия титанизма предполагает изменение в понимании свободы. Марксизм-ленинизм или диалектический материализм эпохи пролетарских революций соответствуют новому пониманию свободы. И действительно, коммунистическое понимание свободы очень отличается от обычных пониманий. Поэтому русские коммунисты искренно возмущают104 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма… С. 115. Там же. С. 117–118. 106 Там же. С. 120–121. 105 73 ся, когда им говорят, что в советской России нет свободы. Рассказывают такой случай. Один советский молодой человек приехал на несколько месяцев во Францию, чтобы вернуться потом обратно в советскую Россию. К концу его пребывания его спросили, какое у него осталось впечатление от Франции. Он ответил: «В этой стране нет свободы». Его собеседник с удивлением ему возражает: «Что вы говорите, Франция – страна свободы, каждый свободен думать что хочет, и делать что хочет, это у вас нет никакой свободы». Тогда молодой человек изложил свое понимание свободы: во Франции нет свободы, и советский молодой человек в ней задыхался потому, что в ней невозможно изменять жизнь, строить новую жизнь; так называемая свобода в ней такова, что все остается неизменным, каждый день похож на предшествующий, можно свергать каждую неделю министерства, но ничего от этого не меняется. Поэтому человеку, приехавшему из России, во Франции скучно. В советской же, коммунистической России есть настоящая свобода, потому что каждый день можно изменять жизнь России и даже всего мира, можно все перестраивать, один день не походит на другой. Каждый молодой человек чувствует себя строителем нового мира. Мир стал пластичен, и из него можно лепить новые формы. Именно это более всего соблазняет молодежь. Каждый себя чувствует участником общего дела, имеющего мировое значение. Жизнь поглощена не борьбой за свое собственное существование, а борьбой за переустройство мира. Тут свобода понимается не как свобода выбора, не как свобода повернуть направо или налево, а как активное изменение жизни, как акт, совершаемый не индивидуальным, а социальным человеком, после того, как выбор сделан. Свобода выбора раздваивает и ослабляет энергию. Настоящая созидательная свобода наступает после того, как выбор сделан и человек движется в определенном направлении. Только такая свобода, свобода коллективного строительства жизни в генеральной линии коммунистической партии, и признается в советской России. Именно эта свобода оказывается актуальной и революционной. Французская свобода консервативна, она мешает социальному переустройству общества, она свелась к тому, что каждый хочет, чтобы его оставили в покое. Свободу нужно, конечно, понимать и как творческую энергию, как акт, изменяющий мир. Но если исключительно так понимать свободу и не видеть того, что внутренне предшествует такому акту, такой реализации творческой энергии, то неизбежно – отрицание свободы совести, свободы мысли. И мы видим, что в русском коммунистическом царстве совершенно отрицается свобода совести и мысли. Понятие свободы относится исключительно к коллективному, а не личному сознанию. Личность не имеет свободы по отношению к социальному коллективу, она не имеет личной совести и личного сознания. Для личности свобода заключается в исключительной ее приспособленности к коллективу… Поэтому в коммунизме на материалистической основе неизбежно подавление личности. Революционная коммунистическая мораль неизбежно оказывается беспощадной к живому конкретному человеку, 74 к ближнему. Индивидуальный человек рассматривается как кирпич, нужный для строительства коммунистического общества, он есть лишь средство107. Тема 18. Человек и окружающий мир в экзистенциализме Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Экзистенциализм. Периодизация. Основные черты. 2. Ж.-П. Сартр: свобода человека, его ответственность за свой выбор, тревога, заброшенность, отчаяние. Жан-Поль Сартр. «Экзистенциализм – это гуманизм» Прежде всего экзистенциализм обвиняют в том, будто он призывает погрузиться в квиетизм отчаяния: раз никакая проблема вообще не разрешима, то не может быть и никакой возможности действия в мире; в конечном итоге это созерцательная философия, а поскольку созерцание – роскошь, то мы вновь приходим к буржуазной философии. Таковы главным образом обвинения со стороны коммунистов. С другой стороны, нас обвиняют в том, что мы подчеркиваем человеческую низость, показываем всюду гнусное, темное, липкое и пренебрегаем многим приятным и красивым, отворачиваемся от светлой стороны человеческой натуры…108 […] Атеистический экзистенциализм, представителем которого являюсь я, более последователен. Он учит, что если даже бога нет, то есть по крайней мере одно бытие, у которого существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек, или, по Хайдеггеру, человеческая реальность. Что это означает: «существование предшествует сущности»? Это означает, что человек сначала существует, встречается, появляется в мире, и только потом он определяется. Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и бога, который бы ее задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет себя уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже после того, как начинает существовать, и после этого порыва 107 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма… С. 123–125. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов / под ред. А. А. Яковлева. М. : Изд-во политической литературы, 1990. С. 319. 108 75 к существованию, то он есть лишь то, что сам из себя делает. Таков первый принцип экзистенциализма. Это и называется субъективностью, за которую нас упрекают. Но что мы хотим этим сказать, кроме того, что у человека достоинства больше, нежели у камня или стола? Ибо мы хотим сказать, что человек прежде всего существует, что человек – существо, которое устремлено к будущему и сознает, что оно проецирует себя в будущее. Человек – это прежде всего проект, который переживается субъективно, а не мох, не плесень и не цветная капуста. Ничто не существует до этого проекта, нет ничего на умопостигаемом небе, и человек станет таким, каков его проект бытия. Не таким, каким он пожелает. Под желанием мы обычно понимаем сознательное решение, которое у большинства людей появляется уже после того, как они из себя что-то сделали. Я могу иметь желание вступить в партию, написать книгу, жениться, однако все это лишь проявление более первоначального, более спонтанного выбора, чем тот, который обычно называют волей. Но если существование действительно предшествует сущности, то человек ответствен за то, что он есть. Таким образом, первым делом экзистенциализм отдает каждому человеку во владение его бытие и возлагает на него полную ответственность за существование109. […] Это позволяет нам понять, что скрывается за столь громкими словами, как «тревога», «заброшенность», «отчаяние». Как вы увидите, в них заложен чрезвычайно простой смысл. Во-первых, что понимается под тревогой? Экзистенциалист охотно заявит, что человек – это тревога. А это означает, что человек, который на что-то решается и сознает, что выбирает не только свое собственное бытие, но что он еще и законодатель, выбирающий одновременно с собой и все человечество, не может избежать чувства полной и глубокой ответственности. Правда, многие не ведают никакой тревоги, но мы считаем, что эти люди прячут это чувство, бегут от него. Несомненно, многие люди полагают, что их действия касаются лишь их самих, а когда им говоришь: а что, если бы все так поступали? – они пожимают плечами и отвечают: но ведь все так не поступают. Однако на самом деле всегда следует спрашивать: а что бы произошло, если бы все так поступали? От этой беспокоящей мысли можно уйти, лишь проявив некоторую нечестность (mauvaise foi). Тот, кто лжет, оправдываясь тем, что все так поступают, – не в ладах с совестью, так как факт лжи означает, что лжи придается значение универсальной ценности. Тревога есть, даже если ее скрывают. Это та тревога, которую Кьеркегор110 называл тревогой Авраама. Вы знаете эту историю. Ангел приказал Аврааму принести в жертву сына. Хорошо, если это на самом деле был ангел, который пришел и сказал: ты – Авраам и ты пожертвуешь своим сыном. Но каждый вправе спросить: действительно ли это ангел и действительно ли я Авраам? 109 110 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм… С. 322–323. Кьеркегор Серен – датский философ, теолог, писатель. 76 Где доказательства? У одной сумасшедшей были галлюцинации: с ней говорили по телефону и отдавали приказания. На вопрос врача: «Кто же с вами разговаривает?» – она ответила: «Он говорит, что он бог». Но что же служило ей доказательством, что это был бог? Если мне явится ангел, то откуда я узнаю, что это и на самом деле ангел? И если я услышу голоса, то что докажет, что они доносятся с небес, а не из ада или подсознания, что это не следствие патологического состояния? Что докажет, что они обращены именно ко мне? Действительно ли я предназначен для того, чтобы навязать человечеству мою концепцию человека и мой выбор? У меня никогда не будет никакого доказательства, мне не будет дано никакого знамения, чтобы в этом убедиться. Если я услышу голос, то только мне решать, является ли он гласом ангела. Если я сочту данный поступок благим, то именно я, а не кто-то другой, решаю, что этот поступок благой, а не злой. Мне вовсе не обязательно быть Авраамом, и тем не менее на каждом шагу я вынужден совершать поступки, служащие примером для других. Для каждого человека все происходит так, как будто взоры всего человечества обращены к нему и будто все сообразуют свои действия с его поступками. И каждый человек должен себе сказать: действительно ли я имею право действовать так, чтобы человечество брало пример с моих поступков? Если же он не говорит себе этого, значит, скрывает от себя свою тревогу. Речь идет здесь не о том чувстве, которое ведет к квиетизму, к бездействию. Это – тревога, известная всем, кто брал на себя какую-либо ответственность. Когда, например, военачальник берет на себя ответственность, отдавая приказ об атаке и посылая людей на смерть, то, значит, он решается это сделать и, в сущности, принимает решение один. Конечно, имеются приказы свыше, но они слишком общи и требуют конкретного истолкования. Это истолкование исходит от него, и от этого истолкования зависит жизнь десяти, четырнадцати или двадцати человек. Принимая решение, он не может не испытывать какого-то чувства тревоги. Такая тревога знакома всем руководителям. Однако она не мешает им действовать, наоборот, составляет условие действия, так как предполагает, что рассматривается множество различных возможностей. И когда они выбирают одну, то понимают, что она имеет ценность именно потому, что она выбрана. Эта тревога, о которой толкует экзистенциализм, объясняется, кроме того, прямой ответственностью за других людей. Это не барьер, отделяющий нас от действия, но часть самого действия111. […] Достоевский как-то писал, что «если бога нет, то все дозволено». Это – исходный пункт экзистенциализма112. В самом деле, все дозволено, если бога не существует, а потому человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни вовне. Прежде всего у него нет оправданий. Действи111 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм… С. 324–326. Слова героя произведения «Братья Карамазовы» Ивана Карамазова. Сам Ф. М. Достоевский выступал против нигилизма и релятивизма нравственных ценностей. 112 77 тельно, если существование предшествует сущности, то ссылкой на раз навсегда данную человеческую природу ничего нельзя объяснить. Иначе говоря, нет детерминизма, человек свободен, человек – это свобода. С другой стороны, если бога нет, мы не имеем перед собой никаких моральных ценностей или предписаний, которые оправдывали бы наши поступки. Таким образом, ни за собой, ни перед собой – в светлом царстве ценностей – у нас не имеется ни оправданий, ни извинений. Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек осужден быть свободным…113 […] Но это означает, что человек заброшен. Чтобы пояснить на примере, что такое заброшенность, я сошлюсь на историю с одним из моих учеников, который пришел ко мне при следующих обстоятельствах. Его отец поссорился с его матерью; кроме того, отец склонялся к сотрудничеству с оккупантами. Старший брат был убит во время наступления немцев в 1940 году. И этот юноша с несколько примитивными, но благородными чувствами хотел за него отомстить. Мать, очень опечаленная полуизменой мужа и смертью старшего сына, видела в нем единственное утешение. Перед этим юношей стоял выбор: или уехать в Англию и поступить в вооруженные силы «Сражающейся Франции», что значило покинуть мать, или же остаться и помогать ей. Он хорошо понимал, что мать живет им одним и что его уход, а возможно и смерть, ввергнет ее в полное отчаяние. Вместе с тем он сознавал, что в отношении матери каждое его действие имеет положительный, конкретный результат в том смысле, что помогает ей жить, тогда как каждое его действие, предпринятое для того, чтобы отправиться сражаться, неопределенно, двусмысленно, может не оставить никакого следа и не принести ни малейшей пользы: например, по пути в Англию, проезжая через Испанию, он может на бесконечно долгое время застрять в каком-нибудь испанском лагере; может, приехав в Англию или в Алжир, попасть в штаб писарем. Следовательно, перед ним были два совершенно различных типа действия: либо конкретные и немедленные действия, но обращенные только к одному человеку, либо действия, направленные на несравненно более широкое общественное целое, на всю нацию, но именно по этой причине имеющие неопределенный, двусмысленный характер и, возможно, безрезультатные. Одновременно он колебался между двумя типами морали. С одной стороны, мораль симпатии, личной преданности; с другой стороны, мораль более широкая, но, может быть, менее действенная. Нужно было выбрать одну из двух. Кто мог помочь ему сделать этот выбор? Христианское учение? Нет. Христианское учение говорит: будьте милосердны, любите ближнего, жертвуйте собою ради других, выбирайте самый трудный путь и т.д. и т.п. Но какой из этих путей самый трудный? Кого нужно возлю113 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм… С. 327. 78 бить, как ближнего своего: воина или мать? Как принести больше пользы: сражаясь вместе с другими – польза не вполне определенная, или же – вполне определенная польза – помогая жить конкретному существу? Кто может решать здесь a priori? Никто. Никакая писаная мораль не может дать ответ. Кантианская мораль гласит: никогда не рассматривайте других людей как средство, но лишь как цель. Прекрасно. Если я останусь с матерью, я буду видеть в ней цель, а не средство. Но тем самым я рискую видеть средство в тех людях, которые сражаются. И наоборот, если я присоединюсь к сражающимся, то буду рассматривать их как цель, но тем самым рискую видеть средство в собственной матери114. […] Решить, что я люблю свою мать, и остаться с ней или же разыграть комедию, будто я остаюсь ради матери, – почти одно и то же. Иначе говоря, чувство создается поступками, которые мы совершаем. Я не могу, следовательно, обратиться к чувству, чтобы им руководствоваться. А это значит, что я не могу ни искать в самом себе такое истинное состояние, которое побудило бы меня к действию, ни требовать от какой-либо морали, чтобы она предписала, как мне действовать. Однако, возразите вы, ведь он же обратился за советом к преподавателю. Дело в том, что, когда вы идете за советом, например, к священнику, значит, вы выбрали этого священника и, в сущности, вы уже более или менее представляли себе, что он вам посоветует. Иными словами, выбрать советчика – это опять-таки решиться на что-то самому. Вот вам доказательство: если вы христианин, вы скажете: «Посоветуйтесь со священником». Но есть священники-коллаборационисты, священники-выжидатели, священники – участники движения Сопротивления. Так кого же выбрать? И если юноша останавливает свой выбор на священнике – участнике Сопротивления или священнике-коллаборационисте, то он уже решил, каким будет совет. Обращаясь ко мне, он знал мой ответ, а я могу сказать только одно: вы свободны, выбирайте, то есть изобретайте. Никакая всеобщая мораль вам не укажет, что нужно делать; в мире нет знамений. Католики возразят, что знамения есть. Допустим, что так, но и в этом случае я сам решаю, каков их смысл. В плену я познакомился с одним примечательным человеком, иезуитом, вступившим в орден следующим образом. Он немало натерпелся в жизни: его отец умер, оставив семью в бедности; он жил на стипендию, получаемую в церковном учебном заведении, и ему постоянно давали понять, что он принят туда из милости; он не получал многих почетных наград, которые так любят дети. Позже, примерно в 18 лет, он потерпел неудачу в любви и, наконец, в 22 года провалился с военной подготовкой – факт сам по себе пустяковый, но явившийся именно той каплей, которая переполнила чашу. Этот юноша мог, следовательно, считать себя полным неудачником. Это было 114 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм… С. 328–329. 79 знамение, но в чем заключался его смысл? Мой знакомый мог погрузиться в скорбь или отчаяние, но достаточно здраво рассудил, что это – знак, указывающий на то, что он не создан для успехов на мирском поприще, что ему назначены успехи в делах религии, святости, веры. Он увидел, следовательно, в этом перст божий и вступил в орден. Разве решение относительно смысла знамения не было принято им самим, совершенно самостоятельно? Из этого ряда неудач можно было сделать совсем другой вывод: например, что лучше стать плотником или революционером. Следовательно, он несет полную ответственность за истолкование знамения. Заброшенность предполагает, что мы сами выбираем наше бытие. Заброшенность приходит вместе с тревогой115. Что касается отчаяния, то этот термин имеет чрезвычайно простой смысл. Он означает, что мы будем принимать во внимание лишь то, что зависит от нашей воли, или ту сумму вероятностей, которые делают возможным наше действие. Когда чего-нибудь хотят, всегда присутствует элемент вероятности. Я могу рассчитывать на то, что ко мне приедет друг. Этот друг приедет на поезде или на трамвае. И это предполагает, что поезд прибудет в назначенное время, а трамвай не сойдет с рельсов. Я остаюсь в области возможного; но полагаться на возможность следует лишь настолько, насколько наше действие допускает всю совокупность возможностей. Как только рассматриваемые мною возможности перестают строго соответствовать моим действиям, я должен перестать ими интересоваться, потому что никакой бог и никакое провидение не могут приспособить мир и его возможности к моей воле. В сущности, когда Декарт писал: «Побеждать скорее самого себя, чем мир», то этим он хотел сказать то же самое: действовать без надежды. Марксисты, с которыми я разговаривал, возражали: «В ваших действиях, которые, очевидно, будут ограничены вашей смертью, вы можете рассчитывать на поддержку со стороны других людей. Это значит рассчитывать, во-первых, на то, что другие люди сделают для помощи вам в другом месте – в Китае, в России, и в то же время на то, что они сделают позже, после вашей смерти, для того чтобы продолжить ваши действия и довести их до завершения, то есть до революции. Вы даже должны на это рассчитывать, иначе вам нет морального оправдания». Я же на это отвечаю, что я всегда буду рассчитывать на товарищей по борьбе в той мере, в какой они участвуют вместе со мной в общей конкретной борьбе, связаны единством партии или группировки, действие которой я более или менее могу контролировать, – я состою в ней, и мне известно все, что в ней делается. И вот при таких условиях рассчитывать на единство и на волю этой партии – это все равно что рассчитывать на то, что трамвай придет вовремя или что поезд не сойдет с рельсов. Но я не могу рассчитывать на людей, которых не знаю, основываясь на вере в человеческую доброту или заинтересованность человека в общественном благе. 115 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм… С. 330–331. 80 Ведь человек свободен, и нет никакой человеческой природы, на которой я мог бы основывать свои расчеты116. […] И в таком случае нас упрекают, по существу, не за пессимизм, а за упрямый оптимизм. Если нам ставят в упрек наши литературные произведения, в которых мы описываем вялых, слабых, трусливых, а иногда даже явно дурных людей, так это не только потому, что эти существа вялые, слабые, трусливые или дурные. Если бы мы заявили, как Золя, что они таковы по причине своей наследственности, в результате воздействия среды, общества, в силу определенной органической или психической обусловленности, люди бы успокоились и сказали: «Да, мы таковы, и с этим ничего не поделаешь». Но экзистенциалист, описывая труса, полагает, что этот трус ответствен за собственную трусость. Он таков не потому, что у него трусливое сердце, легкие или мозг. Он таков не вследствие своей физиологической организации, но потому, что сам сделал себя трусом своими поступками. Не бывает трусливого темперамента. Темпераменты бывают нервическими, слабыми, как говорится, худосочными или полнокровными. Но слабый человек вовсе не обязательно трус, так как трусость возникает вследствие отречения или уступки. Темперамент – еще не действие. Трус определяется по совершенному поступку. То, что люди смутно чувствуют и что вызывает у них ужас, – это виновность самого труса в том, что он трус. Люди хотели бы, чтобы трусами или героями рождались… Собственно говоря, люди именно так и хотели бы думать: если вы родились трусом, то можете быть совершенно спокойны – вы не в силах ничего изменить и останетесь трусом на всю жизнь, что бы вы ни делали. Если вы родились героем, то также можете быть совершенно спокойны – вы останетесь героем всю жизнь, будете пить как герой, есть как герой. Экзистенциалист же говорит: трус делает себя трусом и герой делает себя героем. Для труса всегда есть возможность больше не быть трусом, а для героя – перестать быть героем. Но в счет идет лишь полная решимость, а не частные случаи или отдельные действия – они не захватывают нас полностью. Итак, мы, кажется, ответили на ряд обвинений. Как видите, экзистенциализм нельзя рассматривать ни как философию квиетизма, ибо экзистенциализм определяет человека по его делам, ни как пессимистическое описание человека: на деле нет более оптимистического учения, поскольку судьба человека полагается в нем самом. Экзистенциализм – это не попытка отбить у человека охоту к действиям, ибо он говорит человеку, что надежда лишь в его действиях, и единственное, что позволяет человеку жить, – это действие. Следовательно, в этом плане мы имеем дело с моралью действия и решимости117. 116 117 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм… С. 331–332. Там же. С. 334–335. 81 Тема 19. Поиск смысла жизни в экзистенциализме Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Экзистенциализм. Периодизация. Основные черты. 2. А. Камю: понятие «абсурда» и пути его преодоления. 3. Сильные и слабые стороны понимания смысла жизни в философии экзистенциализма. Альбер Камю. «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» Абсурд и самоубийство Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно… Как определить большую неотложность одного вопроса в сравнении с другим? Судить должно по действиям, которые следуют за решением. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь умирал за онтологический аргумент. Галилей отдавал должное научной истине, но с необычайной легкостью от нее отрекся, как только она стала опасной для его жизни. В каком-то смысле он был прав. Такая истина не стоила костра. Земля ли вертится вокруг Солнца, Солнце ли вокруг Земли – не все ли равно? Словом, вопрос это пустой. И в то же время я вижу, как умирает множество людей, ибо, по их мнению, жизнь не стоит того, чтобы ее прожить. Мне известны и те, кто, как ни странно, готовы покончить с собой ради идей или иллюзий, служащих основанием их жизни (то, что называется причиной жизни, оказывается одновременно и превосходной причиной смерти). Поэтому вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов. Как на него ответить?118 […] Причин для самоубийства много, и самые очевидные из них, как правило, не самые действенные. Самоубийство редко бывает результатом рефлексии (такая гипотеза, впрочем, не исключается). Развязка наступает почти всегда безотчетно. Газеты сообщают об «интимных горестях» или о «неизлечимой болезни». Такие объяснения вполне приемлемы. Но стоило бы выяснить, не был ли в тот день равнодушен друг отчаявшегося – тогда виновен именно он. Ибо и этой малости могло быть достаточно, чтобы горечь и скука, скопившиеся в сердце самоубийцы, вырвались наружу. Но если трудно с точностью зафиксировать мгновение, неуловимое движение, в котором избирается смертный жребий, то намного легче сделать выводы из самого деяния. В известном смысле, совсем как в мелодраме, 118 Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов / под ред. А. А. Яковлева. М. : Изд-во политической литературы, 1990. С. 223. 82 самоубийство равносильно признанию. Покончить с собой – значит признаться, что жизнь кончена, что она сделалась непонятной. Не будем, однако, проводить далеких аналогий, вернемся к обыденному языку. Признается попросту, что «жить не стоит». Естественно, жить всегда нелегко. Мы продолжаем совершать требуемые от нас действия по самым разным причинам, прежде всего в силу привычки. Добровольная смерть предполагает, пусть инстинктивное, признание ничтожности этой привычки, осознание отсутствия какой бы то ни было причины для продолжения жизни, понимание бессмысленности повседневной суеты, бесполезности страдания. Каково же это смутное чувство, лишающее ум необходимых для жизни грез? Мир, который поддается объяснению, пусть самому дурному, – этот мир нам знаком. Но если Вселенная внезапно лишается как иллюзий, так и познаний, человек становится в ней посторонним. Человек изгнан навек, ибо лишен и памяти об утраченном отечестве, и надежды на землю обетованную. Собственно говоря, чувство абсурдности и есть этот разлад между человеком и его жизнью, актером и декорациями. Все когда-либо помышлявшие о самоубийстве люди сразу признают наличие прямой связи между этим чувством и тягой к небытию. Предметом моего эссе является как раз эта связь между абсурдом и самоубийством, выяснение того, в какой мере самоубийство есть исход абсурда. В принципе для человека, который не жульничает с самим собой, действия регулируются тем, что он считает истинным. В таком случае вера в абсурдность существования должна быть руководством к действию119. Абсурдные стены Начало всех великих действий и мыслей ничтожно. Великие деяния часто рождаются на уличном перекрестке или у входа в ресторан. Так и с абсурдом. Родословная абсурдного мира восходит к нищенскому рождению. Ответ «ни о чем» на вопрос, о чем мы думаем, в некоторых ситуациях есть притворство. Это хорошо знакомо влюбленным. Но если ответ искренен, если он передает то состояние души, когда пустота становится красноречивой, когда рвется цепь каждодневных действий и сердце впустую ищет утерянное звено, то здесь как будто проступает первый знак абсурдности. Бывает, что привычные декорации рушатся. Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том же ритме – вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос «зачем?». Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки. «Начинается» – вот что важно. Скука является результатом машинальной жизни, но она же приводит в движение сознание. Скука пробуждает его и провоцирует дальнейшее: либо бессознательное возвращение в привычную 119 Камю А. Миф о Сизифе… С. 224–225. 83 колею, либо окончательное пробуждение. А за пробуждением рано или поздно идут следствия: либо самоубийство, либо восстановление хода жизни. Скука сама по себе омерзительна, но здесь я должен признать, что она приносит благо. Ибо все начинается с сознания, и ничто помимо него не имеет значения. Наблюдение не слишком оригинальное, но речь как раз и идет о самоочевидном. Этого пока что достаточно для беглого обзора истоков абсурда… Изо дня в день нас несет время безотрадной жизни, но наступает момент, когда приходится взваливать ее груз на собственные плечи. Мы живем будущим: «завтра», «позже», «когда у тебя будет положение», «с возрастом ты поймешь». Восхитительна эта непоследовательность – ведь в конце концов наступает смерть. Приходит день, и человек замечает, что ему тридцать лет. Тем самым он заявляет о своей молодости. Но одновременно он соотносит себя со временем, занимает в нем место, признает, что находится в определенной точке графика. Он принадлежит времени и с ужасом осознает, что время – его злейший враг. Он мечтал о завтрашнем дне, а теперь знает, что от него следовало бы отречься. Этот бунт плоти и есть абсурд120. […] Речь снова идет об очевидных вещах. Повторю еще раз, что они интересуют меня не сами по себе, а с точки зрения тех последствий, которые из них выводятся. Мне известна и другая очевидность: человек смертен. Но можно пересчитать по пальцам тех мыслителей, которые сделали из этого все выводы. Точкой отсчета данного эссе можно считать этот разрыв между нашим воображаемым знанием и знанием реальным, между практическим согласием и симулируемым незнанием, из-за которого мы спокойно уживаемся с идеями, которые перевернули бы всю нашу жизнь, если бы мы их пережили во всей их истинности. В безысходной противоречивости разума мы улавливаем раскол, отделяющий нас от собственных наших творений. Пока разум молчит, погрузившись в недвижный мир надежд, все отражается и упорядочивается в единстве его ностальгии. Но при первом же движении этот мир дает трещину и распадается: познание остается перед бесконечным множеством блестящих осколков. Можно прийти в отчаяние, пытаясь собрать их заново, восстанавливая первоначальное единство, приносившее покой нашим сердцам. Столько веков исследований, столько самоотречения мыслителей, а в итоге все наше познание оказывается тщетным. Кроме профессиональных рационалистов, все знают сегодня о том, что истинное познание безнадежно утрачено. Единственной осмысленной историей человеческого мышления является история следовавших друг за другом покаяний и признаний в собственном бессилии. Действительно, о чем, по какому поводу я мог бы сказать: «Я это знаю!» О моем сердце – ведь я ощущаю его биение и утверждаю, что оно 120 Камю А. Миф о Сизифе… С. 229–230. 84 существует. Об этом мире – ведь я могу к нему прикоснуться и опять-таки полагать его существующим. На этом заканчивается вся моя наука, все остальное – мыслительные конструкции. Стоит мне попытаться уловить это «Я», существование которого для меня несомненно, определить его и резюмировать, как оно ускользает, подобно воде между пальцами. Я могу обрисовать один за другим образы, в которых оно выступает, прибавить те, что даны извне: образование, происхождение, пылкость или молчаливость, величие или низость и т.д. Но образы эти не складываются в единое целое. Вне всех определений всегда остается само сердце. Ничем не заполнить рва между достоверностью моего существования и содержанием, которое я пытаюсь ей придать. Я навсегда отчужден от самого себя. В психологии, как и в логике, имеются многочисленные истины, но нет Истины. «Познай самого себя» Сократа ничем не лучше «будь добродетелен» наших проповедников: в обоих случаях обнаруживаются лишь наши тоска и неведение. Это – бесплодные игры с великими предметами, оправданными ровно настолько, насколько приблизительны наши о них представления. Шероховатость деревьев, вкус воды – все это тоже мне знакомо. Запах травы и звезды, иные ночи и вечера, от которых замирает сердце, – могу ли я отрицать этот мир, всемогущество коего я постоянно ощущаю? Но всем земным наукам не убедить меня в том, что это – мой мир. Вы можете дать его детальное описание, можете научить меня его классифицировать. Вы перечисляете его законы, и в жажде знания я соглашаюсь, что все они истинны. Вы разбираете механизм мира, и мои надежды крепнут. Наконец, вы учите меня, как свести всю эту чудесную и многокрасочную вселенную к атому, а затем и к электрону. Все это прекрасно, я весь в ожидании. Но вы толкуете о невидимой планетной системе, где электроны вращаются вокруг ядра, вы хотите объяснить мир с помощью одногоединственного образа. Я готов признать, что это – недоступная для моего ума поэзия. Но стоит ли негодовать по поводу собственной глупости? Ведь вы уже успели заменить одну теорию на другую. Так наука, которая должна была наделить меня всезнанием, оборачивается гипотезой, ясность затемняется метафорами, недостоверность разрешается произведением искусства. К чему тогда мои старания? Мягкие линии холмов, вечерний покой научат меня куда большему. Итак, я возвращаюсь к самому началу, понимая, что с помощью науки можно улавливать и перечислять феномены, нисколько не приближаясь тем самым к пониманию мира. Мое знание мира не умножится, даже если мне удастся прощупать все его потаенные извилины. А вы предлагаете выбор между описанием, которое достоверно, но ничему не учит, и гипотезой, которая претендует на всезнание, однако недостоверна. Отчужденный от самого себя и от мира, вооруженный на любой случай мышлением, которое отрицает себя в самый миг собственного утверждения, – что же это за удел, если я могу примириться с ним, лишь отказавшись от знания и жизни, если мое желание всегда наталкивается на непреодолимую стену? Желать – значит вызывать к жизни 85 парадоксы. Все устроено так, чтобы рождалось это отравленное умиротворение, дающее нам беспечность, сон сердца или отречение смерти. По-своему интеллект также говорит мне об абсурдности мира. Его оппонент, каковым является слепой разум, может сколько угодно претендовать на полную ясность – я жду доказательств и был бы рад получить их. Но, несмотря на вековечные претензии, несмотря на такое множество людей, красноречивых и готовых убедить меня в чем угодно, я знаю, что все доказательства ложны. Для меня нет счастья, если я о нем не знаю. Этот универсальный разум, практический или моральный, этот детерминизм, эти всеобъясняющие категории – тут есть над чем посмеяться честному человеку. Все это не имеет ничего общего с умом, отрицает его глубочайшую суть, состоящую в том, что он порабощен миром. Судьба человека отныне обретает смысл в этой непостижимой и ограниченной вселенной. Над ним возвышается, его окружает иррациональное – и так до конца его дней. Но когда к нему возвращается ясность видения, чувство абсурда высвечивается и уточняется. Я говорил, что мир абсурден, но это сказано чересчур поспешно. Сам по себе мир просто неразумен, и это все, что о нем можно сказать. Абсурдно столкновение между иррациональностью и исступленным желанием ясности, зов которого отдается в самых глубинах человеческой души. Абсурд равно зависит и от человека, и от мира. Пока он – единственная связь между ними. Абсурд скрепляет их так прочно, как умеет приковывать одно живое существо к другому только ненависть. Это все, что я могу различить в той безмерной вселенной, где мне выпал жребий жить. Остановимся на этом подробнее. Если верно, что мои отношения с жизнью регулируются абсурдом, если я проникаюсь этим чувством, когда взираю на мировой спектакль, если я утверждаюсь в мысли, возлагающей на меня обязанность искать знание, то я должен пожертвовать всем, кроме достоверности. И, чтобы удержать ее, я должен все время иметь ее перед глазами. Прежде всего я должен подчинить достоверности свое поведение и следовать ей во всем. Я говорю здесь о честности. Но прежде я хотел бы знать: может ли мысль жить в этой пустыне?121 Абсурдная свобода Будь я деревом или животным, жизнь обрела бы для меня смысл. Вернее, проблема смысла исчезла бы вовсе, так как я сделался бы частью этого мира. Я был бы этим миром, которому ныне противостою всем моим сознанием, моим требованием вольности. Ничтожный разум противопоставил меня всему сотворенному, и я не могу отвергнуть его росчерком пера. Я должен удержать то, что считаю истинным, что кажется мне очевидным, даже вопреки собственному желанию. Что иное лежит в основе этого конфликта, этого разлада между миром и сознанием, как не само 121 Камю А. Миф о Сизифе… С. 233–236. 86 сознание конфликта? Следовательно, чтобы сохранить конфликт, мне необходимо непрестанное, вечно обновляющееся и всегда напряженное сознание. В нем мне необходимо удерживать себя. Вместе с ним в человеческую жизнь вторгается абсурд – столь очевидный и в то же время столь труднодостижимый – и находит в ней отечество. Но в тот же миг ум может сбиться с этого иссушающего и бесплодного пути ясности, чтобы вернуться в повседневную жизнь, в мир анонимной безличности. Но отныне человек вступает в этот мир вместе со своим бунтом, своей ясностью видения. Он разучился надеяться. Ад настоящего сделался наконец его царством. Все проблемы вновь предстают перед ним во всей остроте. На смену абстрактной очевидности приходит поэзия форм и красок. Духовные конфликты воплощаются и находят свое прибежище – величественное или жалкое – в сердце человека. Ни один из них не разрешен, но все они преобразились. Умереть ли, ускользнуть ли от конфликта с помощью скачка, либо перестроить на свой лад здание идей и форм? Или же, напротив, держать мучительное и чудесное пари абсурда? Еще одно усилие в этом направлении – и мы сможем вывести все следствия. Голос плоти, нежность, творчество, деятельность, человеческое благородство вновь займут свои места в этом безумном мире. Человек отыщет в нем вино абсурда и хлеб безразличия, которые питают его величие. Я настаиваю на том, что это метод упорства. На каком-то этапе своего пути абсурдный человек должен проявить настойчивость. В истории предостаточно религий и пророчеств, даже безбожных. А от абсурдного человека требуют совершить нечто совсем иное – скачок. В ответ он может только сказать, что не слишком хорошо понимает требование, что оно неочевидно. Он желает делать лишь то, что хорошо понимает. Его уверяют, что это грех гордыни, а ему неясно само понятие «греха»; быть может, в конце концов, его ждет ад, но ему недостанет воображения, чтобы представить себе столь странное будущее. Пусть он потеряет бессмертную жизнь, невелика потеря. Его заставляют признать свою виновность, но он чувствует себя невиновным. По правде говоря, он чувствует себя неисправимо невинным. Именно в силу невинности ему все позволено. От самого же себя он требует лишь одного: жить исключительно тем, что он знает, обходиться тем, что есть, и не допускать ничего недостоверного. Ему отвечают, что ничего достоверного не существует. Но это уже достоверность. С нею он и имеет дело: он хочет знать, можно ли жить не подлежащей обжалованию жизнью. Теперь снова пришла пора обратиться к понятию самоубийства, рассматривая его с другой стороны. Ранее речь шла о знании; должна ли жизнь иметь смысл, чтобы ее стоило прожить. Сейчас же, напротив, кажется, что чем меньше в ней смысла, тем больше оснований, чтобы ее прожить. Пережить испытание судьбой – значит полностью принять жизнь. Следовательно, зная об абсурдности судьбы, можно жить ею только 87 в том случае, если абсурд все время перед глазами, очевиден для сознания. Отвергнуть один из терминов противоречия, которым живет абсурд, значит избавиться от него. Упразднить сознательный бунт – значит обойти проблему. Тема перманентной революции переносится, таким образом, в индивидуальный опыт. Жить – значит пробуждать к жизни абсурд. Пробуждать его к жизни – значит не отрывать от него взора. В отличие от Эвридики, абсурд умирает, когда от него отворачиваются. Одной из немногих последовательных философских позиций является бунт, непрерывная конфронтация человека с таящимся в нем мраком. Бунт есть требование прозрачности, в одно мгновение он ставит весь мир под вопрос. Подобно тому, как опасность дает человеку незаменимый случай постичь самого себя, метафизический бунт предоставляет сознанию все поле опыта. Бунт есть постоянная данность человека самому себе. Это не устремление, ведь бунт лишен надежды. Бунт есть уверенность в подавляющей силе судьбы, но без смирения, обычно ее сопровождающего. Мы видим теперь, насколько опыт абсурда далек от самоубийства. Ошибочно мнение, будто самоубийство следует за бунтом, является его логическим завершением. Самоубийство есть полная противоположность бунта, так как предполагает согласие. Подобно скачку, самоубийство – это согласие с собственными пределами. Все закончено, человек отдается предписанной ему истории; видя впереди ужасное будущее, он низвергается в него. На свой лад самоубийство тоже разрешение абсурда, оно делает абсурдной даже саму смерть. Но я знаю, что условием существования абсурда является его неразрешимость. Будучи одновременно сознанием смерти и отказом от нее, абсурд ускользает от самоубийства. Абсурдна та веревка, которую воспринимает приговоренный к смерти перед своим головокружительным падением. Несмотря ни на что, она здесь, в двух шагах от него. Приговоренный к смертной казни – прямая противоположность самоубийцы. Этот бунт придает жизни цену. Становясь равным по длительности всему существованию, бунт восстанавливает его величие. Для человека без шор нет зрелища прекраснее, чем борьба интеллекта с превосходящей его реальностью. Ни с чем не сравнимо зрелище человеческой гордыни, тут ничего не могут поделать все самоуничижения. Есть нечто неповторимо могущественное в дисциплине, которую продиктовал себе ум, в крепко выкованной воле, в этом противостоянии. Обеднить реальность, которая своей бесчеловечностью подчеркивает величие человека, – значит обеднить самого человека. Понятно, почему всеобъясняющие доктрины ослабляют меня. Они снимают с меня груз моей собственной жизни; но я должен нести его в полном одиночестве. И я уже не могу представить, как может скептическая метафизика вступить в союз с моралью отречения. Сознание и бунт – обе эти формы отказа – противоположны отречению. Напротив, их переполняют все страсти человеческого сердца. Речь идет о смерти без отречения, а не о добровольном уходе из жизни. Самоубийство – ошибка. Абсурдный человек исчерпывает все и исчерпывается 88 сам; абсурд есть предельное напряжение, поддерживаемое всеми его силами в полном одиночестве. Абсурдный человек знает, что сознание и каждодневный бунт – свидетельства той единственной истины, которой является брошенный им вызов. Таково первое следствие122. Миф о Сизифе Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадежный труд. Если верить Гомеру, Сизиф был мудрейшим и осмотрительнейшим из смертных. Правда, согласно другому источнику, он промышлял разбоем. Я не вижу здесь противоречия. Имеются различные мнения о том, как он стал вечным тружеником ада. Его упрекали прежде всего за легкомысленное отношение к богам. Он разглашал их секреты. Эгина, дочь Асопа, была похищена Юпитером. Отец удивился этому исчезновению и пожаловался Сизифу. Тот, зная о похищении, предложил Асопу помощь, при условии, что Асоп даст воду цитадели Коринфа. Небесным молниям он предпочел благословение земных вод. Наказанием за это стали адские муки. Гомер рассказывает также, что Сизиф заковал в кандалы Смерть. Плутон не мог вынести зрелища своего опустевшего и затихшего царства. Он послал бога войны, который вызволил Смерть из рук ее победителя. Говорят также, что, умирая, Сизиф решил испытать любовь жены и приказал ей бросить его тело на площади без погребения. Так Сизиф оказался в аду. Возмутившись столь чуждым человеколюбию послушанием, он получил от Плутона разрешение вернуться на землю, дабы наказать жену. Но стоило ему вновь увидеть облик земного мира, ощутить воду, солнце, теплоту камней и море, как у него пропало желание возвращаться в мир теней. Напоминания, предупреждения и гнев богов были напрасны. Многие годы он продолжал жить на берегу залива, где шумело море и улыбалась земля. Потребовалось вмешательство богов. Явился Меркурий, схватил Сизифа за шиворот и силком утащил в ад, где его уже поджидал камень. Уже из этого понятно, что Сизиф – абсурдный герой. Таков он и в своих страстях, и в страданиях. Его презрение к богам, ненависть к смерти и желание жить стоили ему несказанных мучений – он вынужден бесцельно напрягать силы. Такова цена земных страстей. Нам неизвестны подробности пребывания Сизифа в преисподней. Мифы созданы для того, чтобы привлекать наше воображение. Мы можем представить только напряженное тело, силящееся поднять огромный камень, покатить его, взобраться с ним по склону; видим сведенное судорогой лицо, прижатую к камню щеку, плечо, удерживающее покрытую глиной тяжесть, оступающуюся ногу, вновь и вновь поднимающие камень руки с измазанными землей ладонями. В результате долгих и размеренных усилий, в пространстве 122 Камю А. Миф о Сизифе… С. 258–261. 89 без неба, во времени без начала и конца, цель достигнута. Сизиф смотрит, как в считанные мгновения камень скатывается к подножию горы, откуда его опять придется поднимать к вершине. Он спускается вниз. Сизиф интересует меня во время этой паузы. Его изможденное лицо едва отличимо от камня! Я вижу этого человека, спускающегося тяжелым, но ровным шагом к страданиям, которым нет конца. В это время вместе с дыханием к нему возвращается сознание, неотвратимое, как его бедствия. И в каждое мгновение, спускаясь с вершины в логово богов, он выше своей судьбы. Он тверже своего камня. Этот миф трагичен, поскольку его герой наделен сознанием. О какой каре могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на успех? Сегодняшний рабочий живет так всю свою жизнь, и его судьба не менее трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, когда к нему возвращается сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и бунтующий, знает о бесконечности своего печального удела; о нем он думает во время спуска. Ясность видения, которая должна быть его мукой, обращается в его победу. Нет судьбы, которую не превозмогло бы презрение…123 […] В этом вся тихая радость Сизифа. Ему принадлежит его судьба. Камень – его достояние. Точно так же абсурдный человек, глядя на свои муки, заставляет умолкнуть идолов. В неожиданно притихшей вселенной слышен шепот тысяч тонких восхитительных голосов, поднимающихся от земли. Это бессознательный, тайный зов всех образов мира – такова изнанка и такова цена победы. Солнца нет без тени, и необходимо познать ночь. Абсурдный человек говорит «да» – и его усилиям более нет конца. Если и есть личная судьба, то это отнюдь не предопределение свыше, либо, в крайнем случае, предопределение сводится к тому, как о нем судит сам человек: оно фатально и достойно презрения. В остальном он сознает себя властелином своих дней. В неуловимое мгновение, когда человек оборачивается и бросает взгляд на прожитую жизнь, Сизиф, вернувшись к камню, созерцает бессвязную последовательность действий, ставшую его судьбой. Она была сотворена им самим, соединена в одно целое его памятью и скреплена смертью. Убежденный в человеческом происхождении всего человеческого, желающий видеть и знающий, что ночи не будет конца, слепец продолжает путь. И вновь скатывается камень. Я оставляю Сизифа у подножия его горы! Ноша всегда найдется. Но Сизиф учит высшей верности, которая отвергает богов и двигает камни. Он тоже считает, что все хорошо. Эта вселенная, отныне лишенная властелина, не кажется ему ни бесплодной, ни ничтожной. Каждая крупица камня, каждый отблеск руды на полночной горе составляет для него целый мир. Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе счастливым124. 123 124 Камю А. Миф о Сизифе… С. 305–306. Там же. С. 307–308. 90 Тема 20. Философское понимание материи Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Понятие «материя». 2. Движение как способ существования материи. 3. Пространство и время как способ существования материи. В. И. Ленин. «Материализм и эмпириокритицизм» Материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них125. […] «Материя исчезает» – это значит исчезает тот предел, до которого мы знали материю до сих пор, наше знание идет глубже, исчезают такие свойства материи, которые казались раньше абсолютными неизменными, первоначальными (непроницаемость, инерция, масса и т.п.) и которые теперь обнаруживаются как относительные, присущие некоторым состояниям материи. Ибо единственное «свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство быть объективной реальностью, – существовать вне нашего сознания126. Ф. Энгельс. «Антидюринг» Движение есть способ существования материи. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение менее значительных масс на отдельных небесных телах, колебание молекул в качестве теплоты или в качестве электрического или магнитного тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь – вот те формы движения, в которых – в одной или нескольких сразу – находится каждый отдельный атом вещества в мире в каждый данный момент. Всякий покой, всякое равновесие только относительны, они имеют смысл только по отношению к той или иной определенной форме движения. Так, например, то или иное тело может находиться на Земле в состоянии механического равновесия, т.е. в механическом смысле в состоянии покоя, но это нисколько не мешает тому, чтобы данное тело принимало участие в движении Земли и в движении всей солнечной системы, как это ничуть не мешает по мельчайшим физическим частицам совершать обусловленные его температурой колебания или же атомам его вещества – совершать тот или иной химический процесс. Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи. Движение поэтому так же несотворимо и неразрушимо, как и сама материя – мысль, которую прежняя философия (Декарт) выражала так: количество имеющегося 125 126 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 18. С. 131. Там же. С. 275. 91 в мире движения остается всегда одним и тем же. Следовательно, движение не может быть создано, оно может быть только перенесено. Когда движение переносится с одного тела на другое, то поскольку оно переносит себя, поскольку оно активно, его можно рассматривать как причину движения, поскольку это последнее является переносимым, пассивным. Это активное движение мы называем силой, пассивное же – проявлениями силы. Отсюда ясно как день, что сила имеет ту же величину, что и ее проявления, ибо в них обоих совершается ведь одно и то же движение. Таким образом, лишенное движения состояние материи оказывается одним из самых пустых и нелепых представлений, настоящей «горячечной фантазией». Чтобы прийти к нему, нужно представить себе относительное механическое равновесие, в котором может пребывать то или иное тело на нашей Земле, как абсолютный покой и затем это представление перенести на всю вселенную в целом. Такое перенесение облегчается, конечно, если сводить универсальное движение к одной только механической силе. И тогда подобное ограничение движения одной механической силой даст еще то преимущество, что оно позволяет представить себе силу, покоящейся, связанной, следовательно, в данный момент бездействующей. А именно, если перенос движения, как это бывает очень часто, представляет собой сколько-нибудь сложный процесс, в который входят различные промежуточные звенья, то действительный перенос можно отложить до любого момента, опуская последнее звено цепи. Так происходит, например, в том случае, если, зарядив ружье, мы оставляем за собой выбор момента, когда будет спущен курок и вследствие этого совершится разряжение, т.е. будет перенесено движение, освободившееся благодаря сгоранию пороха. Можно поэтому представить себе, что во время неподвижного, равного самому себе состояния материя была заряжена силой, – это и подразумевает, по-видимому, г-н Дюринг, если он вообще что-либо подразумевает под единством материи и механической силы. Однако такое представление бессмысленно, ибо на вселенную в целом оно переносит, как нечто абсолютное, такое состояние, которое по самой природе своей относительно и которому, следовательно, может быть подвержена в каждый данный момент всегда только часть материи127. Тема 21. Природа и общество. Географический детерминизм Рекомендуемые вопросы для рассмотрения: 1. Проблема взаимоотношений человека и природы в истории философии. 2. Теории этногенеза Л. Н. Гумилева. 3. Сильные и слабые стороны концепции Л. Н. Гумилева. 127 Хрестоматия по философии : учеб. пособие / под ред. Радугина. М. : Центр, 2001. С. 212–213. 92 В концепции Л. Н. Гумилева движущей силой (субъектами) исторического процесса являются не отдельные люди, не государства и страны (как в традиционной историографии), не классы (как у К. Маркса), а этносы. Основной движущей силой этноса в истории являются пассионарии – люди с повышенным запасом жизненной энергии. Основные фазы развития этноса: пассионарный толчок, подъем, пассионарный перегрев (акматическая фаза), надлом, инерционная, обскурация. Если этнос выжил и не был добит более жизнеспособными соседями на стадии обскурации, то он переходит в фазу гомеостаза128. Л. Н. Гумилев. «География этноса в исторический период» Пассионарность Для начала отметим один несомненный факт. Неравномерность распределения биохимической энергии живого вещества биосферы за длительное историческое время должна была отразиться на поведении этнических коллективов в разные эпохи и в разных регионах. Эффект, производимый вариациями этой энергии, как особое свойство характера людей, мы называем «пассионарность» (от лат. слова passio – страсть). Пассионарность – это характерологическая доминанта, непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной). Заметим, что цель эта представляется пассионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни и счастья современников и соплеменников. Пассионарность отдельного человека может сопрягаться с любыми способностями: высокими, средними, малыми; она не зависит от внешних воздействий, являясь чертой психической конституции данного человека; она не имеет отношения к этике, одинаково легко порождая подвиги и преступления, творчество и разрушения, благо и зло, исключая только равнодушие; она не делает человека «героем», ведущим «толпу», ибо большинство пассионариев находится в составе «толпы», определяя ее потентностъ в ту или иную эпоху развития этноса129. Вспышки этногенезов СОЦИАЛЬНАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИИ. Предмет социальной истории, согласно теории исторического материализма, – это прогрессивное развитие производительных сил и производственных отношений от нижнего полеолита до научно-технической революции и дальше. Поскольку это – спонтанное развитие, причиной его не могут быть силы природы, которые действительно не влияют на смену формаций, и если протянуть 128 129 Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период. Л. : Наука, 1990. С. 239. Там же. С. 33. 93 плавную кривую от добывания огня трением до полетов космических кораблей, то линия должна отобразить эволюцию человечества. При этом остается непонятным только, во-первых, откуда взялись так называемые «отсталые» народы? и почему бы им тоже не развиваться? Во-вторых, почему наряду с успехами техники и науки фиксируется огромное количество утрат культурных ценностей? И, наконец, в-третьих, по какой причине этносы – создатели многих древних культур – бесследно исчезли с этнографической карты мира, а те, которые ныне конструируют сложные машины и создают для них искусственный спрос, возникли совсем недавно? Видимо, социальная история отражает прошлое человечества односторонне, и рядом с прямой дорогой эволюции существует множество зигзагов, дискретных процессов, создавших ту мозаику, которая просматривается на исторических картах мира. Поскольку у этих процессов есть, как мы уже говорили, «начала и концы», то они не имеют касательства к прогрессу, а всецело связаны с биосферой, где процессы тоже дискретны. Таким образом, социальная и этническая история не подменяют друг друга, а дополняют наше представление о процессах, проходящих на поверхности Земли, где сочетаются «история природы и история людей»130. […] Что же мы можем отметить для этой фазы становления этногенеза? Общество (все равно из кого состоящее: будь то арабы, монголы, древние евреи, византийцы, франки) говорит человеку одно: «Будь тем, кем ты должен быть!» В этой иерархической системе, если ты король – будь королем, если ты министр – будь министром, если ты рыцарь – будь рыцарем и не вылезай никуда, исполняй свои функции, если ты слуга – будь слугой, если ты крестьянин – будь крестьянином, плати налог. Никуда не вылезай, потому что в этой крепко слаженной иерархической системе, составляющей консорцию, каждому человеку выделяется определенное место. Если они начнут бороться друг с другом за теплые места, а не преследовать одну общую цель, они погибнут. И если это случается, то они и гибнут, а в тех случаях, когда они выживают, действует этот же самый императив. Ну, хорошо. А если, скажем, король не соответствует своему назначению? – Свергнуть его, нечего с ним цацкаться! А если министр оказывается глупым и неудовлетворительным? – Да отрубить ему голову! А если рыцарь или всадник оказывается трусоватым и недисциплинированным? – Отобрать лошадь, оружие и выгнать, чтобы близко и духом его не пахло! А если крестьянин не платит налог? – «Ну, это мы заставим, – говорили они, – это мы умеем». В общем, каждый должен был быть на своем месте. Из коллектива с таким общественным императивом получалась весьма слаженная этническая машина, которая либо ломалась, либо развивалась дальше и переходила в другую фазу – акматическую131. 130 131 Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период… С. 45. Там же. С. 90–91. 94 Акматическая фаза ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТИВ. В предыдущей главе мы описали подъем пассионарности, но не ответили на вопрос: а почему этот подъем кончается? Казалось бы, если пассионарность как признак появилась и переносится обычным половым путем, передачей соответственного гена потомству, а пассионарии в силу своей повышенной тяги к деятельности, естественно, оставляют большое потомство, не всегда законное и часто самое разнообразное, то, казалось бы, количество пассионариев должно в данном регионе накапливаться и накапливаться, пока они не сделают великие, прогрессивные дела. Однако ничего подобного не получается. После определенного момента, некой красной черты, пассионарии ломают первоначальный императив поведения. Они перестают работать на общее дело и начинают бороться каждый сам за себя. Причем сначала, скажем, феодалы или какиенибудь византийские купцы, или арабские завоеватели мотивируют это так: «Мы выполняем все обязательства по отношению к нашей общественной форме (халифату ли, империи ли Византийской, к французскому или английскому королевству). Мы делаем все, что от нас требуется, а силы у нас остаются». Поэтому императив меняет свое назначение. Он звучит уже так: «Не будь тем, кем ты должен быть, но будь самим собой!» Это значит, что какой-нибудь дружинник – копьеносец, оруженосец, хочет уже быть не только оруженосцем или копьеносцем своего графа или герцога, но еще и Ромуальдом или каким-нибудь Ангерраном, он хочет иметь свое имя и прославить именно его! Художник начинает ставить свою подпись под картинами – «Это я сделал, а не кто-то». Да, конечно, все это идет на общую пользу, украшает город замечательной скульптурой, но «уважайте и меня!». Проповедник не только пересказывает слова Библии или Аристотеля без сносок, перевирая как попало, не утверждая, что это чужие святые слова; нет, он говорит: «А я по этому поводу думаю так-то», и сразу становится известно его имя. И так как таких людей оказывается весьма большое число, то они, естественно, начинают мешать друг другу. Они начинают толкаться, толпиться, раздвигать друг друга локтями во все стороны и требовать каждый себе больше места. Поэтому повышенная пассионарность этнической, а тем более суперэтнической системы дает положительный результат, иначе говоря, успех, только при наличии социокультурной доминанты-символа, ради которого стоит страдать и умирать. При этом желательно, чтобы доминанта была только одна: если их две или три, то они накладываются друг на друга и тем гасят пассионарные порывы, разнонаправленные так, как бывает при алгебраическом сложении разных векторов. Но даже без такой интерференции может возникнуть анархия за счет эгоистических действий сильно пассионарных особей. Усмирить или запугать их очень трудно; подчас легче просто убить132. 132 Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период… С. 93–94. 95 Пассионарные надломы МЕХАНИЗМ НАДЛОМА. Акматическая фаза этногенеза недолговечна. Пассионарность, как огонь, и греет, и сжигает. Перегревы в акматической фазе сменяются временными спадами, когда правительствам удается навести кое-какой порядок. Но следующая вспышка пассионарности ломает установившиеся нормы, и регион событий опять становится ареной соперничества страстных и отчаянных персон, умеющих находить себе сторонников среди субпассионариев – бродяг-солдат, кондотьеров, вольных стрелков, ландскнехтов, ценящих свою жизнь меньше, чем волю, добычу, успех. Хорошо еще, когда удается «сплавить» таких людей за пределы страны: в Палестину, в Мексику, в Сибирь; тогда пассионарный уровень снижается, народу становится легче, правительство может координировать ресурсы страны и с их помощью одерживать победы над соседями. Внешне этот спад пассионарного напряжения кажется прогрессом, так как успехи затемняют подлинное снижение энергетического уровня. Такое вполне поверхностное наблюдение находит подтверждение в последующем развитии культуры. При невысокой пассионарности и достаточных способностях люди самопроявляются в областях, не связанных с риском: в искусстве, науке, преподавании и технических изобретениях. В предыдущую фазу они бы с мечами боролись за свои идеалы, а теперь они читают лекции о классиках и ставят эксперименты по теории тяготения, как Ньютон и Галилей. А другие жгут женщин, объявленных ведьмами, как Шпренгер и Инститорис, и ученых, как Кальвин… Первая половина этой фазы носила в Европе название «Возрождение», хотя по сути дела была вырождением; вторая – называлась «Реформация», которая была не только перестройкой устарелых воззрений, но и поводом к жуткому кровопролитию и остановке в развитии наук и искусств на многие десятилетия (Лютер и Кальвин категорически не признавали открытий Коперника, потому что об этом ничего не было сказано в Библии). Но страсть охлаждается кровью мучеников и жертв. На местах пожарищ снова вырастает поросль сначала трав, потом кустов и, наконец, дубов. Эта смена фаз этногенеза столь значительна, что уделить ей особое внимание необходимо, хотя бы уже потому, что меняются стереотип поведения, нормы нравственности и идеалы, т.е. далекие прогнозы, ради которых людям стоит жить. Так, например, в былом «Христианском мире» воцарилась «религия прогресса» и суперэтнос превратился в «Цивилизацию». На примере перехода от фазы подъема к акматике мы уже видели, как чутко реагирует этническая система на изменение уровня пассионарного напряжения. Переход от акматической фазы к надлому не является исключением. После акматической фазы характер этногенного процесса 96 резко изменяется… Меняется знак вектора, а иногда система разваливается на две-три системы и более, где различия увеличиваются, а унаследованное сходство не исчезает, но отступает на второй план133. Золотая осень цивилизации ОТ НАДЛОМА К «РАСЦВЕТУ». Фаза надлома, которой мы уделили столько внимания, в Европе хронологически совпала с эпохой Возрождения – временем, которое принято считать «расцветом культуры». Как видно из приведенных примеров (а все прочие им не противоречат), эту фазу снижения пассионарного напряжения трудно считать «расцветом». Во всех известных случаях смысл явления заключается в растранжиривании богатств и славы, накопленных предками. И все же, во всех учебниках, во всех обзорных работах, во всех многотомных «историях» искусства или литературы и во всех исторических романах потомки славят именно эту фазу, прекрасно зная, что рядом с Леонардо да Винчи свирепствовал Савонарола, а Бенвенуто Челлини сам застрелил из пушки изменника и вандалиста – коннетабля Бурбона. Очевидно, широкий диапазон поступков, от подвигов до преступлений, действует на эстетические струны души исследователя и романиста. А поскольку каждому человеку свойственно помнить светлые полосы спектра и забывать темные пятна, потому-то и называют эти жуткие эпохи «расцветом». Чаще всего такой «расцвет» вызывает реакцию – стремление к ограничению распрей и убийств. Этому стремлению способствует и то обстоятельство, что представители популяции индивидуалистов столь интенсивно истребляли друг друга или гибли во внешних войнах, манивших их богатой добычей, что процент их снижается, и тогда один из них, победивший, слегка модифицирует принцип общежития, заявляя: «Будь таким, как я». Возникает общезначимый идеал новой фазы. В некоторых случаях идеал – персона, чаще – это отвлеченный идеал человека, на которого следует равняться и которому надо подражать. В том и другом случаях смысл дела не меняется, а вариации соотношения между физическим и моральным принуждением для этиологического анализа несущественны. В Англии общезначимым стал идеал джентльмена; в Византии был идеал святого; в Центральной Азии – идеал богатыря; в Китае – просвещенного крестьянина, грамотного, читающего философские книги. Римляне сделали идеалом своего первого императора – Октавиана Августа и сказали: «Вот идеал, ему надо подчиняться». А когда Октавиан умер, его заместил следующий, причем было предложено даже переменить название месяцев, первый месяц (июль) они назвали в честь Юлия Цезаря, второй, август – 133 Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период… С. 141–142. 97 в честь Октавиана Августа, третий хотели назвать Тиберий, в честь очередного цезаря (жуткие подхалимы были римляне), но Тиберий был человек сухой, очень деловитый. Он сказал: «А что вы будете делать, когда дойдете до тринадцатого цезаря? Пусть месяц останется сентябрем». Но и Тиберий принял почитание себя как бога. После этого в Римской империи от Тиберия до Константина императоры почитались, как боги, кем бы они ни были, потому что император стал мерой всего, эталоном, на который должен был равняться каждый римский гражданин или подданный империи. Любое отклонение от общепринятого императива, где бы оно ни происходило – в Европе, в мусульманском ли мире, в восточнохристианском, на Дальнем Востоке или у индейцев Центральной Америки, – рассматривается как что-то очень одиозное и неприятное. Если человек говорит: «А я не хочу быть на него похожим», это уже нехорошо, это уже уклонение от нормы, это или лень, или крамола, а то и другое преследуется. А если человек говорит: «Я в общем-то хочу, но у меня не получается, да и некогда» – это небрежение обязанностями, за это положено наказание. Человек должен все время стремиться к достижению идеала, он не должен стремиться быть лучше своего идеала, потому что тогда он претендует на большее, чем ему положено, выше идеала никто не может быть, а если хочет – это дерзость, и это должно быть тоже наказано. Таким образом, это порядок, который обеспечивает возможность спокойно жить и существовать в меру своих обязанностей, никогда не претендуя на достижение решающего успеха. И даже лучше вообще не стремиться к слишком большому успеху. Этот императив является естественной реакцией на те кровавые излишества, на те ужасы, которые люди пережили в предыдущую эпоху, поэтому он встречает большое одобрение основной массы населения: подавляющее большинство предпочитает любую регламентацию, позволяющую надеяться на защиту от произвола сильных, поэтому отличительной чертой инерции является сокращение активного пассионарного элемента и полное довольство эмоционально-пассивного и трудолюбивого обывателя. Склад обывателя встречается во всех стадиях развития этноса, но на ранних стадиях он подавляется рыцарями или индивидуалистами, а здесь его лелеют, ибо он никуда не лезет, ничего не добивается и готов чтить господ, лишь бы они его оставили в покое. И вот эту-то фазу этногенеза мы будем называть осенью, причем «золотой» в отличие от последующей, дождливой и сумрачной134. Когда надвигается тьма СМЕНА ФАЗОВЫХ ИМПЕРАТИВОВ. Характеризуя инерционную фазу, мы уделили много места анализу тех неблагоприятных изменений, 134 Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период… С. 184–186. 98 которые в этой фазе происходят в отношениях этноса с кормящим его ландшафтом. Но еще страшнее, пожалуй, те изменения, которые происходят внутри самой этнической системы в инерционную фазу. Ведь не надо забывать и о субпассионариях. А таковые всегда были. В фазе подъема они были совершенно не нужны и не ценились вовсе. Затем, во время акматической фазы, их использовали как пушечное мясо и ценили очень мало. А вот в инерционное, тихое время начинают возникать теории о том, что всякому человеку надо дать возможность жить, человека нельзя оставить, человеку надо помочь, надо его накормить, напоить, ну а если он не умеет работать, что же – надо научить, а если он не хочет учиться, – ну что ж, значит плохо учим. Словом, самое главное – человек, все для человека… Представьте себе, как люди определенного субпассионарного склада используют такое учение, которое становится этическим императивом. Они говорят: «Мы на все согласны, только вы нас кормите и на водку давайте. Если мало дадите, то мы на троих скинемся». И им находят место, и они размножаются, потому что нам больше делать нечего. Диссертаций-то они не пишут. К концу инерционной фазы этногенеза они образуют уже не скромную маленькую прослойку в общем числе членов этноса, а значительное большинство. И тогда они говорят свое слово: «Будь таким, как мы!», т.е., не стремись ни к чему такому, чего нельзя было бы съесть или выпить. Всякий рост становится явлением одиозным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость. В искусстве идет снижение стиля, в науке – оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция, в военном деле – солдаты держат в покорности офицеров и полководцев, угрожая им мятежами. Все продажно, никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться, и для того чтобы властвовать, правитель должен применять тактику разбойничьего атамана: подозревать, выслеживать и убивать своих соратников. Порядок, устанавливаемый в этой стадии, которую мы называем фаза обскурации – омрачения или затухания, – нельзя считать демократическим. Здесь господствуют, как и в предшествовавших фазах, консорции, только принцип отбора иной, негативный. Ценятся не способности, а их отсутствие, не образование, а невежество, не стойкость в мнениях, а беспринципность. Далеко не каждый обыватель способен удовлетворить этим требованиям, и поэтому большинство народа оказывается, с точки зрения нового императива, неполноценным и, следовательно, неравноправным135. 135 Гумилев Л. Н. География этноса в исторический период… С. 205–206. 99 Учебное издание Воейков Евгений Владимирович ФИЛОСОФИЯ Редактор А. П. Федосова Технический редактор М. Б. Жучкова Компьютерная верстка М. Б. Жучковой Дизайн обложки А. А. Стаценко Подписано в печать 12.05.2021. 1 Формат 60×84 /16. Усл. печ. л. 5,81. Тираж 50. Заказ № 177. _______________________________________________________ Издательство ПГУ. 440026, Пенза, Красная, 40. Тел.: (8412) 66-60-49, 66-67-77; e-mail: [email protected] 100